Читать онлайн Братья бесплатно
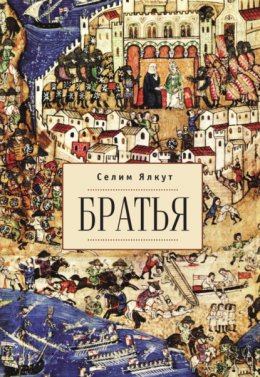
© С. Ялкут, 2015
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2015
Дорога
Франсуа
1
В праздник Святой Троицы Франсуа Дюплесси был тяжело ранен в поединке с заезжими рыцарями из города Брюгге. Тупой конец копья, обтянутый из предосторожности воловьей кожей, скользнул по поверхности щита и ударил Франсуа в горло. Лошадь вынесла раненого к деревянному ограждению, отделявшему трибуну от вытоптанного в камень места поединка. У Франсуа еще хватило сил перебраться через барьер, и тут чувство стыда за поражение, острее, чем боль, поразило его. Франсуа потерял сознание и рухнул к ногам сеньора и благородной публики.
Случилось это в последний третий день турнира. Кроме неудачливого Франсуа, еще один рыцарь из Труа, сражавшийся в шлеме с головой кабана, был тяжело оглушен ударом меча. В тот год сюда съехалось немало храбрецов. Еще много лет спустя герольды, открывая счет схваткам, кричали: – Рубите, рубите канаты, пускайте рыцарей. Пусть сойдутся и покажут себя, как тогда в дни Святой Троицы.
Для Франсуа, однако, турнир закончился печально. Он не слышал прощальных звуков трубы и ударов большого барабана. Не ему достался венок из роз, который сеньора водрузила на голову победителя. Без него потянулись в город усталые всадники, чтобы на пиру уравнять победителей и побежденных. Все это было не для него.
Франсуа не знал мать, умершую во время его рождения и рано потерял отца, павшего при штурме Иерусалима в достопамятный день освобождения христианами Гроба Господня. Он был младшим из трех братьев и не мог рассчитывать на наследство. Но род его был известен и у него был знатный сеньор, которому служил его отец. При его дворе Франсуа провел детство и прошел обучение воина. День посвящения в рыцари стал самым значительным в его жизни. Ночь накануне он провел в часовне, молясь на распятого Спасителя. Утром он возложил на алтарь свой меч, поклявшись посвятить жизнь своему господину во имя утверждения веры Христовой. Он отстоял утреннюю мессу и причастился Святых даров из рук епископа, который крестил его и исповедовал перед смертью его несчастную мать. Его сердце разрывалось от восторга и немедленной жажды подвига. Когда сеньор перепоясал его мечом и, завершая посвящение, хлопнул ладонью по затылку, властное прикосновение этой руки потрясло Франсуа. Во время праздника он сидел во главе длинного стола рядом со своим господином. Товарищи по оружию, с которыми он сравнялся в тот день, приветствовали его радостными возгласами. Он был красивым юношей, но до сих пор смущался, ощущая на себе благосклонные взгляды дам. Он едва касался вина, а рука его сжимала рукоять меча.
Шло время. Он жил жизнью счастливой и любимой собаки. Он не знал липкой зависти, пустых интриг и сомнений, скучал в дни мира, сторонился буйных забав своих одногодков и не искал легких любовных встреч. Он был равнодушен к радостям жизни и хранил свои желания, свою страсть для единственно благородного служения. Тут и подстерегла его беда. Как будто сам Дьявол задумал, чтобы он растратил свои силы впустую, не употребив для высокой цели.
После турнира Франсуа тяжело болел. Сутками он метался в лихорадке, от которой судорогой сводило мышцы, а на губах выступала розовая пена. Он перестал есть, не узнавал лиц, в невидящих глазах стыло предчувствие близкой смерти. След от удара налился багровой синевой, расплылся опухолью. Под мертвой кожей открылась рана, исходящая кровью и гноем. Лучший врач был неотлучно приставлен к Франсуа. Он смешивал козий жир с медом и соком бальзамового дерева, привезенным из Египта. Он растирал больного камфорным маслом, поил мудреными настоями из восточных порошков и трав, прикладывал к ране пергамент с магическими письменами. Все было напрасно. Франсуа не мог глотать. Пена стекала с губ, оставляя на подушке ржавые пятна. Врач пустил кровь. Тяжелые капли падали с бессильной руки. Кровь была черная и неживая.
– Он не встанет. – Сказал врач. – Гнилая желчь разливается внутри и поднимается вверх. Когда она коснется лица, он умрет.
Позвали священника. Тот отслужил службу, крестя насыщенный испарениями больного тела воздух. Он приложил крест к губам Франсуа и возвестил: – Теперь жизнь его в руках Господа.
Франсуа бредил. Черные пузыри всплывали из хаоса помраченного сознания. Они росли, разбухали, взрывались беззвучно, заливая все вокруг липкой жидкой грязью. Из грязи выплывали странные существа с пустыми отверстиями глазниц. Они тянулись щупальцами, брызгали слизью, пытались схватить. Франсуа сопротивлялся, дыхание его прерывалось, мышцы сводило от отвращения. Силы его были на исходе. Он изнемог, тьма была готова поглотить его. Но вдруг клокочущий пузырь взорвался, и Франсуа увидел белую стену, уходящую ввысь посреди залитой солнцем пустыни. Свет сменил тьму. Он увидел себя ползущим по бесконечной лестнице. Всем телом он ощущал жар раскаленного камня. Разбрасывая потоки искр, рядом с ним рушились горящие бревна, кипела смола. Одежда тлела и причиняла нестерпимую боль. Отдалившись от земли, он перестал слышать стоны и крики, он слышал только себя – хриплое клокочущее дыхание, как будто сам стал частью кипящего огня. Потом прямо над ним, заслонив небо, возникла черная от сажи и копоти голова и вместе с пронзительным воплем на Франсуа обрушился огромный камень. Пальцы его разжались, он стал падать, погружаясь спиной, как в реку, в клубы густого дыма. Он падал долго, он запомнил эти мгновения, время тянулось светящейся нитью. Она готова была оборваться и вместе с ней обрывалась жизнь. Но огненный жар стал слабеть и сменился прохладным туманом. Туман замедлил падение, он был тяжелым, как вода. Ему казалось, он открыл глаза, но не мог разглядеть даже собственных рук сквозь плотную и липкую белизну. Он плыл сквозь нее, бессильно лежа на спине. Постепенно мгла истончилась и в просветах просияла небесная синева. Туман уходил. Франсуа увидел женщину, идущую к нему сквозь облачные разрывы. Она была одета просто, но розовый луч пробился поверх ее головы, и зажег венец из солнечного света. Женщина положила на лоб Франсуа прохладную руку. Он узнал Святую Деву.
– Ты выздоровеешь. – Сказала она – Я хочу, чтобы ты служил мне. Оставайся один и не слушай ничьих приказов. Я буду направлять тебя, и, чтобы ты не сделал, это будет во имя мое.
Женщина убрала руку. Она уходила, плыла, рассеиваясь в мерцании света, и вспыхнула совсем далеко, прежде чем исчезнуть. Время замерло. Ни земли, ни неба, ни памяти, ничего…
Франсуа открыл глаза. Он лежал слабый, в испарине, но тело было послушным и удивительно легким. Боль ушла. Наступал рассвет, мгла таяла. Франсуа повернул голову, наслаждаясь свободой движения. Пламя свечи уступало близкому дню. Спала сиделка, уронив с колен моток пряжи. Белый кот встал на скамье, выгнулся дугой. Издалека долетел звук охотничьего рожка. Франсуа вдохнул серебряный воздух осени. Болезнь отпустила его.
2
Прошло время, Франсуа окреп. Как только сеньор вернулся с охоты, Франсуа попросил встречи.
Хозяин обнял его, повел поближе к горящему очагу. – Ты заново родился, Франсуа.
– Так и есть. Заново родился. – Осунувшееся лицо сохраняло бледность. След раны был скрыт под воротником рубахи. – Я пришел рассказать, сама Пречистая Дева явилась мне во время болезни. Она исцелила меня, и я дал обет верности.
Сеньор уселся в кресло и продолжал доброжелательно рассматривать Франсуа.
– Святые отцы объезжают округу и скоро будут здесь. Иерусалимский король Болдуин нуждается в помощи. Я помню его по старым временам и думаю над его предложением. Хотелось бы еще раз взглянуть на те места, но вряд ли смогу осилить дорогу. А люди пойдут, и ты вместе с ними.
Франсуа склонил голову. – Она велела мне быть одному и не слушать ничьих приказов.
– Но стоит ли придавать этому большое значение.
– Господин, это была Ее воля. Я слышал ее, как слышу теперь вас, я видел ее прямо перед собой. Она спасла мне жизнь. И приказала повиноваться, моя новая жизнь принадлежит ей.
Сеньор смотрел на Франсуа из-под прикрытых век, будто засыпая. – Ты принял решение?
– Я ощущал ее ладонь на своем лбу. Она исцелила меня и сказала, как поступить.
Синьор помолчал. – Ты дорог мне. – Сказал он, наконец. – Ты этого не знаешь, но сейчас самое время. Твой отец спас мне жизнь. Я помню тот день, как сейчас. Два дня мы штурмовали город. Мы забросали глубокий ров перед стеной, для многих он стал могилой. Но башню удалось подтащить к стене. Язычники забрасывали нас огнем. Люди бросались вниз, пытаясь сбить с себя пламя, но земля была залита смолой и тоже горела. Казалось, все усилия напрасны, но тут случилось чудо. Язычники вывесили на стену мешки с хлопком, чтобы защитить ее от таранов. Мешки тлели, но налетел ветер, раздул огонь и погнал густой дым им в лицо. Он ослепил их, и этого хватило. Мы навели мост и, когда дым рассеялся, были уже на стене. Они набросились на нас. Башня пылала, нужно было время, чтобы наши успели придти на помощь. Мои руки были обожжены. И твой отец встал рядом. Он ранил одного, другие бежали, но прежде успели поразить твоего отца. Он умер последним в тот день, его глаза видели победу. Он просил заботиться о тебе. Я выполнил его волю, я сам занимался твоим воспитанием и сделал из тебя воина. Ты дал мне клятву, я бы не отпустил тебя, если бы не твой отец. Он умер, оставив меня своим должником, теперь я отдаю этот долг. Ты можешь идти. И сможешь вернуться, если захочешь.
Франсуа встал на колено.
– Нет. – Сеньор убрал руку. – Я не стану благословлять тебя. Довольно того, что я не считаю тебя изменником. Пусть провидение или Святая Дева, которая, как ты говоришь, зовет тебя, укрепит твое чувство долга. Иди.
Из-за кресла выскочил карлик и, приплясывая, прошипел в лицо Франсуа. – Иди, тебе сказано. Иди.
Синьор пнул карлика ногой. Тот ткнулся в лицо Франсуа желтым сморщенным личиком: – Иди. Оставь своего господина. Уходи.
– Постой, – распорядился сеньор. – Возьми. – Он снял с пальца перстень с плоской нашлепкой поверх драгоценного металла, повертел в руке, протянул Франсуа. – Носи, тебе будет впору. Он достался мне в память о Иерусалиме.
Выйдя во двор, Франсуа поднял голову. Стена, как занавесом, была затянута багрянцем осеннего винограда. За окном жила Алиса, которая, как и Франсуа, воспитывалась в замке. Девочкой ее привез с собой сеньор из Италии. Ее родители умерли там от моровой язвы. Болезнь пощадила Алису, но она осталась одна. Они были друзьями, и Франсуа не мог уехать, не попрощавшись.
Она выслушала его, опустив голову. Говорила она медленно. – Я рада, что ты выздоровел. Я молилась за тебя все это время. Хотя, что значат мои молитвы перед заступничеством Святой Девы. Я могла бы ждать, если бы ты ушел в поход. Я ухаживала бы за тобой, если бы ты был ранен. Возможно, когда-нибудь… когда мы станем другими. Но не сейчас. Возьми этот шарф. Я вязала его, когда ты был болен. Мне казалось, пока длится работа, ты не умрешь. Никто не знает прочности нитей, которые связывают нас с жизнью. Но они не должны рваться. Теперь ты выздоровел. Прощай.
Снаружи, в глаза Франсуа, привыкшие к полумраку, резко ударил солнечный свет. Спустя несколько дней в канун праздника Святого Михаила он приехал в аббатство и был принят епископом.
– Я рад видеть тебя здоровым. Поешь. Сытый и голодный не разумеют истины. Она не здесь и не здесь. – Сухая рука поочередно прикоснулась к голове и животу. – Мысли о хлебе и тяжесть в желудке не должны отвлекать от размышлений.
Франсуа рассказал о чудесном исцелении. Епископ подошел к окну и долго стоял молча, спиной к Франсуа. Был виден двор аббатства. За оградой лежали убранные виноградники, за ними на холмах стеной стоял сверкающий золотом осенний лес. Дорога была оживлена. Люди готовились к празднику. Шли принаряженные крестьяне из соседних деревень, тянулись повозки, немало было конных и пеших. Народ сходился, чтобы отблагодарить Господа за прожитый год и завершение осенних трудов.
– Завтра день Святого Михаила, – сказал, наконец, епископ, – покровителя нашего воинства. Тебя воспитали, чтобы ты защищал этих людей и нашу веру. Но ты избрал другой путь. Я знаю, что ты скажешь в ответ, и сам спрашиваю себя. В чем наше назначение? На ответ может уйти вся жизнь. Того, кто задал себе этот вопрос, уже не остановить. Однако, на этом пути Бога можно не только найти, но и потерять. Во время похода в Палестину некоторые гнали впереди гуся и козу, которые, как они верили, исполнены благодати. Возможно, глупость и простодушие – самые распространенные из ересей. Когда я думаю так, то гоню Дьявола молитвой, но он не уходит далеко. Он терпелив и ждет. Ты сам должен пройти свой путь. Куда он заведет тебя? Я буду молиться за тебя. Но я не могу благословить тебя.
Епископ достал из ларца простой металлический крест. Он подержал его на ладони, будто испытывал тяжесть, и протянул Франсуа
– Сто лет назад венгры захватили этот монастырь. Монахи успели укрыться в лесу, спрятав в тайнике реликвии из алтаря. Но венгры схватили отшельника. Он жил неподалеку в пещере и знал про тайник. Его пытали весь день. Братья сидели в лесу, видели, но не могли помочь. Он умер. В его руке нашли этот крест. Сейчас он будет тебе нужен, он убережет тебя…
Франсуа испытывал неведомое прежде чувство. Он был солдатом. Приказ освобождал его от сомнений. Следуя ему, он не знал колебаний. Он был равнодушен к благам, которые манили его товарищей, ради которых они готовы были терпеть голод и лишения. Богатства этого мира не вызывали у него алчного воодушевления. Мечта о волшебной стране, рассказами о которой были полны странники, вернувшиеся из Палестины, оставляла его безучастным. Земля, которой он был лишен – младший безземельный отпрыск, не будила в нем завистливого желания. Он ничего не боялся потерять. Разве его доблесть оправдана дележом добычи и разгулом победителей? Разве его чувство повиновения не отличается от корыстного холопства наемника или рабской лести? Разве не именем Бога освящено его оружие?.. Все это было так просто. Но нечто изменилось, и это нечто стало теперь главным. Он остался один. Никто не приказывал ему, не направлял. Он мог делать, что хотел, и идти, куда хотел. Он стал свободным. Но не знал, что делать с этой свободой, не знал, как быть…
Он провел в аббатстве еще несколько дней. Будто при полном безветрии, он застыл посреди огромного моря. Он ждал того, что должно открыться. Он не знал часа, но в нем жила уверенность, что Голос существует. Однажды, когда он вспоминал родительский дом, темнота сгустилась вокруг пламени свечи. Огонь стал мерцать, и застыл, обозначив ответ. На следующий день он отбыл из аббатства в отцовский замок, где жили его братья.
3
Три дня Франсуа находился в пути. Он ночевал в монастырских гостиницах, которых немало было выстроено вдоль дорог Клюнийским братством. По дорогам шли в Святую Землю паломники, но сейчас гостиницы стояли пустыми. Осень выхолаживала кровь, не располагала к путешествиям. Только самые отчаянные купцы – невольники собственной выгоды продолжали рисковать жизнью. Темное разбойное время – осень.
Четвертый вечер застал Франсуа в лесу. Голые деревья отбрасывали колючую тень, мертво шелестела сухая листва. Франсуа дремал в седле, не рассчитывая найти пристанище для ночлега. Вдруг сквозь мерный шум леса до него донесся крик, за ним еще один, еще. Навстречу ему, отчетливо заметный в свете луны, бежал человек. За ним гнались двое. Завидев Франсуа, беглец заорал во все горло. Преследователи остановились и кинулись в лес. Отттуда раздался пронзительный свист. Еще поворот, замерший обоз и ловко снующие тени. Они застыли, захваченные врасплох, но навстречу Франсуа уже мчался всадник. В полутьме он казался огромным. Черный плащ и ничего больше. Преступление не терпит свидетелей. У разбойника была сильная рука, и Франсуа, еще не оправившийся от болезни, стал уставать. Они сошлись плотно, Франсуа слышал хриплое дыхание. Враг поднял на дыбы лошадь. Лицо Франсуа осветилось все сразу и вместо последнего удара всадник сильно толкнул Франсуа, развернул коня и умчался прочь. Лежа на земле, Франсуа услышал свист разбегающихся разбойников.
Потом из леса стали выходить люди. Благословляя судьбу, они сошлись вокруг Франсуа. Убит был только купец. Он лежал с проломленной головой на уцелевших от разграбления мешках. Даже мертвым, он не расстался с ними.
Франсуа не стал задерживаться. Он защитил этих людей, а его самого спасло великодушие врага. Уставший, без отдыха, к полудню следующего дня он добрался до родных мест.
День был холодный и ясный. Замок стоял на пригорке над деревней. Река, мельница, скошенное поле, лес, закрывший линию горизонта, – все это, будто вернулось издалека, отозвалось ожившим воспоминанием детства. Казалось, ничто не изменилось. Ворота были распахнуты. Мальчик в меховом колпаке кутался в рубаху, протер глаза, рассмотрел гостя, и ударил в колокол. Рослый сутулый человек, тронул рукой седеющую бородку, оглядел Франсуа и заспешил навстречу. Это был старший брат Раймунд. Они не виделись уже несколько лет, с тех пор, как Раймунд в последний раз навещал сеньора. Но Франсуа, обделенный памятью о родителях, хорошо помнил брата. Они были похожи, сравнение полезно для тех, кто хочет поразмышлять над работой времени, переплавляющей юные черты в обличье зрелого мужа. Было видно, Раймунд искренне рад брату. Они обнялись, от души отлегло, сомнения, одолевавшие Франсуа, рассеялись. Он вернулся в дом, издавна хранящий жизнь его рода. Теперь дом был малолюден, большая часть его пустовала, в коридорах тянуло сыростью. За обедом они встретились в огромном зале. Огонь гудел в очаге, но углы были укрыты сумраком. Братья были вдвоем. Раймунд был молчалив, и Франсуа не расспрашивал. Рука болела после ночного поединка, он снял перстень. Раймунд пил много, а Франсуа едва притронулся к вину. Потом в дверях появилась жена Раймунда.
Раймунд привез ее из Иерусалима. Она была одной из немногих тамошних христианок и пережила осаду, когда крестоносцы брали город. У нее было смуглое лицо и настороженный беспокойный взгляд птицы, лишенной сил и неспособной взлететь. Неуверенность проявлялась в медленных запинающихся движениях рук, в остановленном жесте, в виноватой и жалкой улыбке, которой она встретила Франсуа. Они молча продолжили трапезу.
– Она не разговаривает, – пояснил Раймунд. – Несколько лет назад она видела, как молния ударило в дерево. С тех пор она потеряла дар речи. Но и до того она редко пользовалась голосом. Она армянка и не очень хорошо говорит по-нашему.
Женщина закончила есть, улыбнулась Франсуа и, не дожидаясь мужчин, встала из-за стола. Едва она вышла, как появилась служанка. Эта чувствовала себя гораздо увереннее, прислуживая, налегала на Раймунда грудью. Тот заметно повеселел.
– Это – Товита, – пояснил, когда женщина ушла. – Она управляет домом. Карина часто чувствует себя нездоровой и не успевает следить за хозяйством.
После еды братья сели у огня. И Раймунд заговорил.
– Я рад тебе, Франсуа. Хорошо, что ты вернулся. Тебя удивляет, почему я живу так одиноко. Часто я сам задаю себе этот вопрос.
– Ты выбрал.
– Это не слишком утешает. Мы никогда не говорили откровенно. Когда я видел тебя в прошлый раз, ты был еще слишком молод. А мне хочется рассказать. Ведь все это происходило в дни смерти нашего отца.
Раймунд заговорил. Как многие одинокие люди, долго не находившие слушателя, он рассказывал подробно, не избегая малозначащих подробностей. Рассказ был важен для него самого, он часто останавливался, будто заново всматривался в прошлое, и определял ему цену.
Раймунд
1
Я был моложе тебя, Франсуа, когда сопровождал отца в том походе. Мы прошли долгий путь сквозь варварские страны. Наконец, мы пробились к Святому городу. Радости нашей не было предела. Мы плакали от счастья и целовали землю, по которой шли босыми, как когда-то прошел здесь Господь. Святые отцы говорили, что стены падут от звуков наших труб. Мы сразу пошли на приступ, но. язычники легко отогнали нас, смеялись и кричали вслед: – Коран торжествует, а Евангелие плачет. Их было не меньше, чем нас. но мы знали, что войдем в этот город. Плели щиты для защиты от стрел, строили орудия для метания камней и возводили штурмовые башни. По ночам выходили к стенам и забрасывали ров землей, чтобы было легче преодолеть его днем. В этой работе не делали различий для богатых и бедных, трудились все, уповая на милость Божью, ниспосылаемую за усердие. Не было воды. Ручьи пересохли, а колодцы были завалены дохлыми лошадьми. Каждое утро люди слизывали влагу с камней и старых гробниц, пока солнце не превращало землю в раскаленную жаровню.
Когда приготовления были закончены, епископ велел творить милостыню и молиться. За день до приступа крестный ход отправился вокруг Иерусалима. Тысячи босых людей шли, распевая приди, приди, о, Дух Всевиждущий. Если бы язычники догадались сделать вылазку, они легко перебили половину и разогнали остальных. Мы ведь были совсем близко от городских ворот. Но они не решились, и только пытались достать нас стрелами и камнями. Поднялись на Масличную гору, где последний раз молился Спаситель. Город стоял, как остров посреди огромного моря. Отец сказал: – Вслед за победой Господь посылает нам испытание корыстолюбием. Что значит вера без милосердия? Если мы победим, я не хочу, чтобы ты был жесток.
Ночью накануне приступа наши приняли важное решение. Две башни тайно на руках перенесли и установили рядом с воротами Святого Стефана. Так удалось обойти главные укрепления, которые язычники строили, не жалея сил. Ров засыпали уже при дневном свете под сильным обстрелом. Все вышли: женщины, дети, старики, никто не остался в лагере. Башни пошли вперед. В воздухе было тесно от стрел. Потом загорелась земля. Язычники разлили под стенами нефть. Огонь перекинулся на дерево, хоть его укрывали сырыми кожами и постоянно засыпали пламя землей. Горело все вокруг. Когда стало темнеть, башни отвели назад, и сами вернулись в лагерь. Много было обожженных и раненых. Ночью на стенах жгли факелы. Язычники были уверены в победе и боялись не силы, а хитрости. Мало, кто смог заснуть. Утром пошли опять. В этот день все должно было решиться. Лестницы падали вместе с людьми. Башни горели. Знамя Готфрида было изодрано в клочья. Сил не осталось. Наши враги вопили от радости, предчувствуя близкую победу. И тут случилось чудо. Внезапно густой дым рассеялся. Всего на мгновение, и на Масличной горе, там, где возносили молитвы, мы увидели всадника. Он упирался головой в небо, играл щитом, ловил им солнце и посылал знак. Все видели его совершенно ясно. Это был Святой Георгий, который пришел, чтобы вернуть нам силы. Готфрид обратился ко мне. Он просил немедленно объехать стены и известить о чуде.
Я уже подходил к Сионским воротам, откуда штурмовали город люди Сент-Жилля, когда услыхал страшный крик. Крик ужаса и торжества. Наши ворвались в город. Пятница, скорбный день для всех христиан и время – восемь часов с восхода солнца, когда распинали Господа.
Я шел наугад по незнакомым улицам. Впереди вставало черное облако дыма, следуя навстречу ему, я выбирал дорогу к своим. Вдруг передо мной из распахнутых ворот, пятясь, появился один из наших. Жертва ползла на коленях, повинуясь движению его руки. Он обернулся, я разглядел лицо, залитое жирной копотью. Я прошел мимо. Каждый был волен распорядиться добычей по своему усмотрению.
Но сзади раздался крик. Я обернулся. Грабитель стоял, по бычьи склонив голову и держась руками за живот. Его пленница отползала к стене. Мальчишка отступал, держа окровавленный нож. Я не видел, откуда он появился и не могу понять, почему не убил его в первое мгновение. Он был готов умереть. Но я увидел его глаза, страх близкой смерти, и крупные капли пота на белом лице. Если бы он сделал хоть одно движение. Ногой я отшвырнул выпавший нож. Он стоял, не двигаясь, я чувствовал, как острие меча дырявит кожу на его груди. Девушка обхватила мои колени. Она умоляла о пощаде. Я промедлил и этим решил их судьбу. Мальчишка не пытался бежать, и я не смог убить его. Все трое мы втянулись во двор. Раненый ввалился следом. – Чего ты ждешь? – Хрипел он. – Убей собаку. – Он сделал шаг, как слепой, и повалился лицом в землю. Грязные окровавленные пальцы скребли ее, будто пытались удержать, потом медленно разжались.
– Это он? – Я обернулся. Незнакомец с бледным от возбуждения лицом потянулся в сторону мальчишки. Во мне что-то вспыхнуло. Я не смог убить сам и не дам ему.
– Нет.
– Нет? Он убил моего товарища.
– Это не он. – Сказал я твердо. – А этот – мой пленник, и она тоже.
Люди Сент-Жилля, провансальцы. Этот нагнулся над телом, перевернул. Грязное лицо мертвеца исказила судорога. – Ты хочешь сохранить жизнь убийце?
– Говорю, это не он. За них я хочу выкуп. За него и за нее. – Девушка стояла на коленях.
– Отойди, я спрошу сам.
– Повторяю, нет. Они мои. Я пришел первый, а первый получает все. Поспеши, если хочешь успеть. Но не здесь.
– Ты лжешь. – Сказал провансалец. – Идешь против своих. Мы еще встретимся.
Он ушел. Я поспешил захлопнуть ворота. Мы остались одни. Я огляделся. Двор был большой, не похожий на те, что я потом видел в Иерусалиме. Дом в глубине был окружен невысокими деревьями, прямо перед нами был водопой, его каменный желоб был пуст. Но на вопросы не было времени, враги могли вернуться. Снаружи неслись крики, теперь все небо заволокло дымом, горело сразу во многих местах. И еще я услышал колокол. Я не понял, что значили мерные удары – торжество или знак беды. Потом я узнал, язычники не трогали церкви, но запретили звонить. И теперь наши старались во всю.
А что пленники? Мальчишка потерял силы и смотрел, как смотрит собака, ожидая приказа хозяина. Девушка поднялась с колен и стояла, размазывая по лицу слезы. Нетрудно было догадаться, это брат и сестра. Она была молода и очень красива, будто из сказки. И она была живой.
Даже среди нашего войска было много разноязычных. Артенак – товарищ отца, о котором еще пойдет речь, говорил: чтобы исполнить Его волю, Господь вернул нас во времена Вавилона. Я не думал, что они поймут меня. Но девушка вытащила из-под платья крестик и приложила к губам.
– Прячьтесь. – Приказал я. – Не покидайте дом. А его уберите… – я кивнул на убитого. – Дайте краску. Красную краску. – Девушка убежала в дом и вернулась со старухой, та несла краску, которыми красят здесь ткани. И я надписал на воротах большую букву Д. Это был знак. Перед штурмом князья дали друг другу слово. Каждый метит свою добычу, и никто не смеет оспаривать. Люди поклялись не допустить крови среди своих. Я был волен сделать со своими пленниками, что угодно. Убить, продать или отпустить на волю – никто не мог помешать. Знак стерег мою добычу надежнее любой охраны. Но я запомнил угрозы провансальца. Брат, сестра и старуха молча наблюдали за мной, и когда поняли, что я ухожу, заговорили все сразу. Они не хотели меня отпускать. Я глянул в глаза девушки и пообещал вернуться тем же вечером.
2
Город был отдан во власть грабителей и убийц. Солнце плавало в черном дыму. Люди метались. Тот, кто хотел убить, гнал того, кто не хотел быть убитым. Женщины ползали по земле, обыскивая мертвецов, стены были забрызганы кровью. Готовы были поживиться куском окровавленной ткани, даже сандалией с мертвой ноги. Ворота и двери были распахнуты, за ними сновали быстрые тени. Потом хвалились, что лошади ходили в этот день по уздечки в крови. Так было в мечети, где язычники хотели укрыться, и во многих других местах. Была Пятница, третий час пополудни. То самое время и место, где Господь закончил свою земную жизнь.
Я добрался до своих и узнал, что отец убит. Скорбь погасила мои желания. Его похоронили рядом с церковью Святого Гроба, где служат теперь бедные рыцари Христа.
На следующий день грабеж кончился. Толпы отправились на Голгофу дорогой, которой восходил Христос. Пели гимны и сами дивились чуду. Не иначе, Божья воля привела нас под эти стены и помогла преодолеть. Шли все разом. Рыцари, владевшие мечом, крестьяне, отдавшие последние гроши, чтобы собраться в путь и не знающие другого оружия, кроме палок и камней, моряки из Генуи и Англии, разобравшие по бревну свои корабли, чтобы построить из них осадные башни, святые отцы, и простые монахи, как муравьи, взобравшиеся на стену, знатные дамы, терпевшие лишения со своими мужьями, и грешницы, за плату вдохновлявшие солдат, калеки и убогие, потому что Слово служило всем. Шло множество мужчин и женщин, слезы текли из воспаленных от солнца глаз, а души теперь были спасены. Франки, номанны, англичане, итальянцы, фламандцы, немцы, откликнувшиеся на Папский призыв, а вместе с ними греки, армяне, по своему чтущие Христа и примкнувшие к общему делу. Впервые за множество лет свободно били колокола христианских церквей. В прежние дни мира мусульмане изредка позволяли звонить вполсилы, чтобы унизить Евангелие. И те, кто побывал здесь простыми паломниками, клялись, что никогда этот звон не раздавался так торжественно как сейчас. Тысячи ног попирали святые камни, по которым прошел Христос. И когда взошли к церкви Святого Гроба, из дверей был вынесен Животворящий крест, на котором Господь принял муку за грехи рода человеческого. Крест этот был чудесным образом сохранен здешними пастырями, и теперь явился христианскому народу для обозрения.
Служил епископ Адальберт. В первых рядах стояли предводители воинства. Готфрид, Сент-Жилль, Танкред, оба Роберта – Фландрский и Нормандский, а за ними множество других мужей. Никто не уступал другому в доблести, но вели себя по разному. Танкред ужаснул многократными убийствами, язычники сдались ему, надеясь на обещанную милость. А Готфрид, наоборот, только вошел в город, положил оружие, доверив другим добывать победу. И хотя рядом еще отчаянно дрались, снял обувь и первым взошел на Голгофу. Всем, кого пленили его люди, подарил жизнь и не тронул даже пальцем. Граф Сент-Жилль не принимал участия в грабеже, но его рыцари отличились, чему я сам был свидетелем. Говорили, что граф так богат, что может умыть руки и спокойно дожидаться дележа добычи. Впрочем, всегда найдется тот, кто, питаясь собственной низостью, усомнится в чужом благочестии.
Покоренный город разделили между князьями. Каждый мог выбрать место, не стесняя других. Наш лагерь был с северной стороны в районе бывшего Патриаршьего города, где жили прежде бесправно немногие христиане. Между нашими пошли разговоры о близком будущем. Некоторые, выполнив обет, спешили вернуться в родные края, чтобы первыми донести благую весть. Другие собирались остаться в городе и уговаривали сомневающихся.
Ко мне подошел Артенак и предложил разделить с ним кров. Артенак был ровестником отца и слыл среди наших человеком скорее умным, чем деятельным. Он знал больше, чем остальные, и мог дать дельный совет. Герцог Готфрид дорожил его обществом и просил сопровождать его на переговорах. К тому же Артенак вел себя с подобающей скромностью. В его нынешнем жилище не было ничего кроме большой охапки сена, из которого нужно было сделать постель. Артенак оставил меня за этим занятием, а сам поспешил к Готфриду. От него я узнал, как складываются отношения между князьями.
Епископ настаивал, отдать Иерусалим под опеку Папского престола. Его доводы были понятны, ведь Папа воодушевил и организовал этот поход. Но князья справедливо полагали, что Иерусалим придется защищать оружием не менее, чем молитвой, и хотели, чтобы светская власть, по крайней мере, не уступала духовной. Потому верховную власть предложили сначала Сент-Жиллю. Здесь был умысел, граф получил благословение прямо из Папских рук и еще в Испании совершил первые подвиги за веру. Но упрямый кривой старик – так Артенак неуважительно назвал графа – отказался, сказав, что не станет носить лавровый венок там, где на Господа надели терновый. – Гордыни более, чем ума, – сказал Артенак, – но многие вздохнули с облегчением, зная сварливый характер провансальца. И теперь предложили корону Готфриду. Причем от души, заслуги Готфрида были известны, и его чтили все – простые люди не менее рыцарей. Готфрид по примеру Сент-Жилля отказался, но (тут Артенак, усмехнулся и, видно, о чем-то умолчал) потом уступил многим просьбам. И только высказал условие – называться не императором, а защитником Святого города. Он не хотел обидеть подозрительного Сент-Жилля, который решил, что Готфрид показной скромностью заманил его в ловушку. После первой встречи князья расстались не вполне довольные друг другом, и окончательное решение не было принято.
– Я посоветовал Готфриду держаться с Сент-Жиллем, как можно мягче, – сказал Артенак. – Но я буду убеждать его не упустить власть. Если Сент-Жилль станет королем, мы завтра перегрызем друг друга и потеряем город быстрее, чем приобрели. Среди наших только Гофрид обладает холодным умом, только у него хватит мудрости утвердиться и укрепить власть.
На следующий день меня позвал к себе наш сеньор. Пока лекарь делал перевязку, он, кряхтя от боли, рассказал, как мой отец спас ему жизнь. Он спросил, что я хочу. И я не знал, чего желать.
– Ответь, – спросил он. – Знал ли ты такого Редживаля? Есть люди, которые говорят, что этого Редживаля убили на твоих глазах. А ты спас его убийцу, объявив его своим пленником.
Тут я вспомнил наставление Артенака. – Ты не видел, кто убил. – Говорил он мне. – И впредь ты должен говорить только это. И ничего другого. Ничего.
Перед сеньором я повторил. – Когда я обернулся на крик, Редживаль был уже ранен. Он бы не дал себя убить жалкому мальчишке. Тот, кто убил его, скрылся.
– Они говорят, было иначе – Сказал сеньор. – Что ты не помог своему, и теперь защищаешь его убийцу. Сам Готфрид узнал об этом. Что скажешь?
– Только то, что сказал. Люди мои, я сам хочу ими распорядиться.
– Тогда я прошу тебя. Подари их. Готфрид просит тебя об этом. Мы сможем расплатиться, ты будешь доволен.
– После смерти Редживаля я оставил их в доме, который отметил своим именем. Я пришел сюда, и я здесь.
Лекарь закончил перевязку и вышел. Сеньор долго молчал.
– Значит, ты отпустил их. – Сказал он, наконец.
– Я должен был идти. Но дом принадлежит мне. Мой знак стоит на нем. И я собираюсь вернуться.
– Редживаль был одним из людей Сент-Жилля. Теперь, когда идут переговоры о судьбе города, и могут вспыхнуть старые обиды, герцог хочет оказать Сент-Жиллю услугу. Его люди требуют отомстить за убийство Редживаля. Они настаивают на своем, как и ты. Что скажешь?
– Позволь мне вернуться туда и решить.
– Пусть так. Учти, провансальцы злы на тебя. Ты находишься под нашей защитой, но будь осторожен.
Разговор был закончен.
– Я не мог поступить иначе. – Объяснил я Артенаку. – Но почему он не хочет подтвердить мое право?
– Ты имел право не уступать. Он защищал тебя, как в шахматах защищают пешку. Но есть и другие фигуры. Он дал тебе выбрать. И ты должен сам отвечать за этот выбор.
Что я мог ответить? Лицо девушки стояло передо мной. Оно звало меня. – Я вижу, ты действительно хочешь вернуться. – Сказал Артенак, читая мои мысли. – Я пойду с тобой. Не будем откладывать. К тому же, я вижу, тебе не терпится.
На рассвете мы отправились в путь. Нужно было использовать недолгое время, отделяющее ночную прохладу от удушливой дневной жары. Город был прибран. Уцелевших язычников заставили вывезти и сжечь мертвых. Грабеж закончился, теперь убийство наказывалось. Шатались беспокойные пьяницы, не отличавшие дневной свет от ночи. Появились старики, им нечего было терять, остальные еще прятались по убежищам и подвалам. Говорили, под Иерусалимом прорыты подземелья и многие обитают там, дожидаясь, пока остынет наш гнев. Везли в кожаных мешках воду. А чуть в стороне слышались мирные звуки городского базара. Он остался от нас по правую руку. Нам не нужно было таиться, но и не следовало без нужды попадаться на глаза нашим врагам. Улицы здесь представляют сплошные стены и трудно узнать, что происходит за ними. Но сам город лежит на холмах и часто открывается сразу весь. Сверяясь по башне, которую, как я узнал позже, называют Давидовой, я мог быть уверен, что иду правильно. Ближе к цели, я отыскал еще одну примету. Несколько кипарисов, которые здесь редкость, служили хорошим ориентиром. Так мы оказались на месте. Мой знак блестел и был заново наведен. Кто-то позаботился о моем владении. Улица оставалась пустынной, люди только просыпались. Слышались голоса и фырканье лошадей. Отсюда было уже недалеко от городских ворот, и улица стала намного шире и ровней.
Двор был тих, хранилище для воды казалось пустым целое столетие. Место, где лежал убитый, было прибрано. Артенак обошел вокруг, присматриваясь к каждому камню, осмотрел лавки вдоль стен, коновязи и показал мне выбитое над входом в дом изображение корабля.
– Это купеческий дом. – Сказал он. – И богатый.
Внутрь войти он отказался. И не пустил меня. – Хватит для первого раза. – Объявил он громко, взял за руку и вывел на улицу.
Редкие прохожие глядели равнодушно. Артенак высмотрел место, передохнуть. Закоулок уводил в глубокий овраг. Чахлые маслины не давали тени.
– В доме кто-то есть. – Пояснил Артенак. – Они следили за нами, и я не хотел попасть в ловушку. Думаю, это хозяева, они подновили твой знак, прячутся, и теперь, когда мы явились, решают, что делать. На дорогах полно солдат. Бежать трудно и некуда. Я думаю, они где-то рядом и нуждаются в твоей защите. Они боятся. Подождем немного.
– Да, это они. – Сказал Артенак, когда мы продолжили путь. – Та старуха и раньше шла за нами.
Я оглянулся. Солнце слепило глаза – Идем, идем. Она сама найдет тебя. Пора возвращаться.
Старуха провожала нас до дома и устроилась неподалеку. Она, казалось, дремала, не обращая на окружающих никакого внимания. Увидев меня, она встала, приглашая за собой. Я хотел вернуться за Артенаком, но она подняла палец, и я понял, что должен быть один. Она показала рукой в небо, приложила ладонь к щеке и голову склонила на бок, показывая, что спит. Потом она показала себе под ноги. Я должен был быть здесь, когда стемнеет.
– Можешь идти, – сказал довольный Артенак. – Но будь осторожен. А я буду знать, где искать, если ты не вернешься.
3
Вечером стало прохладней. В отличие от северных краев, жизнь здесь не замирает с темнотой, а ищет новые таинственные формы. Городские стены были обведены лунной каймой. Стража перекликалась небрежно, скорее, для вида, и, похоже, сплошь была пьяна. В городе осталось много вина и не меньше желающих выпить его, как можно быстрее. Таких сладких и замечательных вин, как здесь в Палестине, нет даже в Константинополе. От городских ворот доносились крики, люди пытались ночью попасть в город. Это были христиане, сбежавшие перед осадой. Но возвращались и язычники, уцелевшие после избиения. Задерживали всех и пропускали того, кто мог выставить угощение.
Старуха, молча, кивнула, приглашая за собой. Кое-где горели факелы, но дорога была хорошо освещена луной. Мы шли, стараясь держаться в тени. Здесь в северной части города многие улицы перекрыты арками, под ними стояла непроглядная тьма. Приходилось двигаться наощупь с выставленными вперед руками. Из-за оград и оконных решеток слышались тихие голоса. Женщина, неразличимая во тьме, притянула меня к себе, я чуть не упал ей на грудь, она громко рассмеялась вслед. Старуха была настороже. Иногда останавливалась и долго прислушивалась, прежде чем двигаться дальше. Когда я в темноте натыкался на нее, она ворчала, а когда отставал, выговаривала шепотом непонятно и зло. Дорога долго вела между стен, до них можно было дотянуться, разведя руки. Потом вышли на склон холма и в лунном свете стали видны два больших кипариса, застывшие черными свечками на противоположном склоне оврага. Ночью путь кажется намного длиннее, чем днем, но теперь мы были на подходе к нужному месту. И вновь погрузились во тьму. Внезапно старуха насторожилась. Она остановилась, выжидая, ухватила меня за руку, и потянула за собой в щель, откуда с громким писком выскочила крыса. Я услышал голоса. Старуха прижала ладонь к моим губам, призывая молчать. Вскоре пространство улицы, которое угадывалось из нашего укрытия, стало светлеть. Шли с огнем, большой компанией. Пьяные голоса старались перекричать друг друга. Людей было более десятка, и говорили все разом. Возможно, мне не подобало прятаться и обтирать спиной пыль, но выходить было поздно. Старуха вцепилась в меня изо всех сил.
– Далеко еще? – спросил голос. – Не мешает облегчиться. Эй. Мы скоро. Идите вперед. С этим мы справимся в темноте. – Человек громко рыгнул. Они устроились в нескольких шагах от нас и стали освобождаться от выпитого.
– Эй, Хромец, ты скоро? – окликнули издалека.
– Погодите. Успеем. – Парочка устроилась неподалеку, говорили вполголоса. – Пора решать, что дальше. Старый дурак отдал трон из ослиного упрямства. А сам хочет ехать на Иордан обламывать пальмовые веточки.
– Ага. Он думает, веник заменит ему корону.
– Мог иметь одно и другое. Надутый святоша. Ты бы слышал, как он поминал Редживаля. Прямо, белая овечка. Смех и только.
– Сам виноват. Все можно было сделать тихо. Но ему хотелось забежать вперед и перехитрить всех.
– Зеленый петух – не та птица, чтобы сидеть спокойно. А Редживаль хотел успеть. И спугнул птичек.
– Ничего. Завтра они начнут слетаться. – Голос снова набрал силу. – Эй, там. Темно, как в преисподней. Подождите. С моей ногой, не хватало теперь еще сломать шею…
Голоса стихли, мы выбрались из укрытия, Глаза мои привыкли к темноте, и, хотя луну затянуло облаками, света оставалось достаточно, чтобы видеть тропу. Дно оврага было заполнено грудами мусора, колючим кустарником и сотнями камней, но шли мы легко. Деревья застыли прямо над нами, впереди тянулась длинная изгородь, мы подходили к дому с тыльной стороны. Впереди стал различим темный силует, похожий на наконечник копья. Старуха что-то буркнула и перекрестилась. Потом я узнал, это была армянская церковь, выстроенная на месте, где был привязан к дереву Иисус. Рядом с церковью кучно жили иерусалимские армяне, именно здесь я столкнулся с тем, кого звали Редживалем. Так я решил, обдумав подслушанный разговор. Церковь стояла в стороне от улицы, по которой я бежал, и потому осталась тогда незамеченной. Зато теперь она была хорошо видна, замыкая дальний конец оврага.
Здесь мы свернули и стали взбираться по откосу. Старуха отыскала в изгороди невидимую дверцу, и потянула меня за собой. Я оказался на знакомом дворе. Было тихо. Мы зашли в какой-то сарай. Возможно, это был склад, помещение для хранения разных трав и припасов, потому что от пряного запаха я стал чихать. Старуха издала непонятный звук, похожий одновременно на бульканье воды и кудахтанье рассерженной курицы, я догадался, что она смеется. И тут же внизу под самыми ногами появился свет, тонкая полоска, которая становилась ярче, видно, снизу шли с огнем, потом раздался скрежет, запора и под моими ногами открылся вход. Старуха подтолкнула меня в спину. Я спустился в подземелье, и плита над моей головой легла на место.
Светлое пятно плыло впереди, постепенно удаляясь, я следовал за ним, согнувшись, чтобы не разбить голову о каменный свод. Я не чувствовал опасности и шел за невидимым провожатым, коридор вел вниз, постепенно становился шире и выше. Так я оказался в большой комнате. Под стенами густо стояли бочки. Было прохладно.
– Привет тебе. – Человек низко поклонился. Он был моего роста. Темные глаза смотрели пристально. В густой черной бороде проступала проседь. Говорил он медленно и не совсем верно. – Я хочу поблагодарить тебя. Ты спас моих детей.
Я кивнул, а он продолжал. – Ты не должен опасаться меня. Я христианин. Армянский купец, старший среди наших купцов в этом городе. Я знаю многих в Венеции, Генуе, в городах франков. Я говорю на вашем языке. Много лет я веду здесь дела одной торговой компании. Ты мог видеть изображение корабля на дверях дома. Это наш знак. Я говорю, чтобы ты знал, я могу быть полезным тебе. И я в долгу перед тобой.
Я молчал, и он продолжал. – Мы торгуем не только в Иерусалиме, но повсюду в Палестине. Большие склады в Яффе. Наша семья живет здесь двести лет. Мусульмане знали нас и не чинили никаких препятствий. Потому мои дети вели себя так беспечно. Еще раз, хвала тебе. Если бы не ты, они бы погибли от руки насильников.
Купец подошел ко мне и взял за руку. Его лицо было совсем близко от моего. Глаза его блестели и, мне показалось, увлажнены слезами. – Ты больше, чем гость, ты – хозяин. Я пленник в своем доме и должен скрываться. Они охотятся за мной и рыщут, как собаки, которые идут по следу. Они обыскали все вокруг, об этом убежище они не знают. Другие христиане уже вышли из укрытий. Объясни, что происходит. Разве мы не одной веры?
– Твоя дочь с тобой? – Я ощущал, как стучит мое сердце.
– Нет. Я боюсь за нее. Она прячется в церкви. А сына я отослал еще дальше.
– Ты говоришь, они приходят сюда.
– Они рыщут здесь три дня. Сначала я думал, они ищут убитого. Мы отнесли его к церкви. Его похоронили как христианина. Но эти люди приходят снова. Они обыскали весь дом. Мы собираемся бежать, но нужно выждать. Слишком опасно. А сегодня я видел тебя с товарищем. Или это твой родственник?
– Нет, это мой друг.
Он вздохнул. – В такое время за близких болит душа.
Я перевел разговор: – Это ты подновил мой знак на воротах?
– Да. Они должны думать, что ты бываешь здесь, чтобы не утратить право на владение. Хочу сказать, будь осторожен. Дом твой по праву. Но я вижу, как эти люди ведут себя, они злы. Я должен предупредить. Возможно, ты решишь отказаться.
– Ты хотел бы, чтобы я остался?
– Ты – хозяин, твое решение. Я буду рад, когда смогу достойно отблагодарить тебя.
Я вспомнил его дочь и сказал твердо. – Это мой дом, и я останусь. Ты будешь помогать мне. Скажи. – тут я вспомнил подслушанный разговор. – Что ты знаешь о Зеленом петухе?
– Зеленый петух? – Купец удивился. – Есть богатая компания в Марселе. Они торгуют по всему морю. У них свои наемники. Они очень богаты.
– Твоя компания ведет с ними дела?
– У нас не было больших споров. Хотя недавно мы опротестовали их обязательства там, в Венеции. Они продали испорченную пшеницу. Весь товар пришлось сжечь.
– Они враждуют с вами?
– Купцы не дружат между собой. Но мы должны соблюдать правила. К тому же, честная игра много значит для наших клиентов. Венеция защищает наши интересы, с ней должны считаться.
– Только не во время войны. Когда можно ударить, прячась за чужой спиной.
– И еще. – Купец говорил медленно. – Мы не советовали иметь с ними дело нашим клиентам в Константинополе. Те отказали им в большой партии ковров и предложили мне перепродать ее в третьи руки.
– Значит, Зеленый петух мог быть заинтересован в твоем разорении?
– В разговорах между собой мы никогда не употребляем этих слов. Учти, их торговый дом есть в Венеции. И если только известие дойдет туда…
– Но не сейчас, во время захвата города и грабежа.
Купец промолчал. Про себя я решил, что все было именно так. За время осады к нам подоспели десятка три кораблей. Среди них были марсельские. И многие люди Сент-Жилля были родом из Марселя. Если так, вполне можно было подговорить головорезов поживиться, а заодно свести со света неудобных конкурентов. Подходящий случай. Пока я отмолчался. Я хотел посоветоваться с Артенаком. Купцу я сказал. – Я приду завтра и останусь. Я возьму на себя торговые дела компании. Ты хочешь быть полезным мне?
Вместо ответа купец схватил мою руку в свои и прижался к ней щекой. – Я буду служить тебе. Ты спас моих детей.
Я освободил руку. Я был молод, он был старше моего отца. Но я знал, только я могу защитить его. И его дочь. – Завтра я буду здесь. Я возьму вас под защиту. И никто не посмеет угрожать вам…
Старуха проводила меня до дверей моего дома. Артенак не спал и держал на углях горячую еду.
– Ты нажил сильных врагов. – Сказал он, выслушав мой рассказ. – Подумай еще раз, хочешь ли ты бросить им вызов?
– Не сомневайся. Теперь я знаю все, и могу принять решение. Я думаю, на кого положиться. Сеньор хочет остаться в стороне, хотя отец спас ему жизнь. Всего три дня назад.
– Это не так. – Возразил Артенак. – Это он просил сопровождать тебя. И просил в случае опасности сообщить обо всем Готфриду. Нам трудно. Старику Сент-Жиллю приходится угождать. Ему представили смерть Редживаля, как предательство. И это теперь, когда речь идет о власти над городом. Ты понимаешь, как важно быть осмотрительным.
– Дело не во мне. Они добираются до купца. У него в руках дела огромной компании. Видно, он очень богат.
– Их намерения неизвестны. Достаточно, что мы понимаем это. Учти, они готовы оставить тебя в покое, если ты откажешься. А Готфрид позаботится о твоем вознаграждении. Ты получишь его без всяких усилий.
– Завтра я возвращаюсь. Один. И я останусь там.
– Хорошо. – Сказал Артенак – Ты решил. Учти, если я правильно понял, эти люди будут искать ссоры. Так они смогут расправиться с тобой. Ты не должен брать в руки оружие. Твои намерения должны быть мирными. Немедленно созывай всех вокруг. Чужие глаза защитят тебя лучше всего.
Утром я погрузил мешок на осла, которого подарил мне Артенак, и погнал его посреди улицы к своему дому. Я бы удивился, если бы кто-то напомнил мне о недавнем намерении покинуть Иерусалим и ехать домой. С тех пор все изменилось. Небо, земля, воздух – все стало другим. Несмотря на близкую опасность, я находился в восторженном состоянии, и так вступил на знакомую улицу. Время близилось к полудню, жара набирала силу, но было людно. На меня посматривали с интересом. Наши расселились по городу, как пришли, каждый со своими, и знали друг друга в лицо. Здесь я был чужаком. Я уже подходил к дому, как путь мне преградили двое. И явно не спешили уступить дорогу.
– Один осел на поводу у другого. Эй. Подними голову… – Сзади стоял тот, что призывал меня расправиться с купеческим сыном. Лицо его было белым, как зимняя луна. – Вот и ты. – Сказал он тихо, будто боялся растратить раньше времени свою ненависть. – Ты пришел. Кого ты хочешь предать теперь? Трус, на глазах которого убивают христиан.
Он разогревал себя злобой и хотел заразить ею меня. Второй молчал, но глядел презрительно. Он был, пожалуй, опасней первого. Лицо его было перекошено шрамом. Все это я успел заметить. Странно, но я был спокоен. И рассмеялся. Это остановило моего обидчика, как если бы я плеснул воду в разгорающийся огонь. Часто неосознанные движения тела и души спасают нас. Я улыбался. Вокруг стали собираться любопытные.
– Ты не сможешь опять убивать своих. – Закричал мой враг, обращаясь к толпе.
– Слушайте, слушайте. – Отвечал я. – Я шел в этот город два года. От самого Константинополя. Не для того мы брали город, чтобы проливать кровь. Я подчинюсь тому, что решит суд. Пусть передадут Готфриду, что его люди подвергаются оскорблениям. Пусть те, кто готовят расправу, знают, что дела их станут известны.
Видно, эти люди всерьез рассчитывали, что я стану сопротивляться, и они найдут повод для ссоры. – Ведите его к графу. – Подсказали из толпы – Пусть разберется. А мы проследим, чтобы все было справедливо.
Окруженные толпой мы подошли к распахнутым воротам. За ними был устланный коврами двор. Меня вытолкнули вперед. На возвышении у входа в дом под навесом стоял длинный стол, за которым, судя по беспорядку, пировали. Все это я запомнил смутно. Мне предстоял суд.
За время похода я видел Сент-Жилля лишь издали. Граф отправился в поход с благословения Папы. Он первым откликнулся на призыв церкви. Сент-Жилль был намного богаче любого в нашем войске, но все владения в Европе передал взрослому сыну. Сам он поклялся отвоевать восток у врагов Христа и закончить здесь свои земные дни. Многих людей, в том числе весьма знатных, он содержал на собственные деньги. В отличие от многих, графа нельзя было упрекнуть в корысти. Но характер у него был несносный. Он мог обидеть так же незаслуженно, как и приблизить к себе. Потому даже за деньги служили ему неискренне. Покупая новых наемников, он не мог рассчитывать на преданность старых. Обиды, злословие и подозрительность среди его людей были известны. Ранее злейшим врагом Сент-Жилля был Боэмунд Тарентский – хитрейший норман, немало потрудившийся для того, чтобы перессорить наших между собой. Но теперь Боэмунд выторговал себе Антиохию и удовлетворился этим, вместо того, чтобы идти дальше и брать Святой Город. Сент-Жилль перекупил себе на службу его племянника – храбрейшего и вероломного Танкреда, который и не думал скрывать преданности своему дядюшке. В войске смеялись, что Танкред получает деньги Сент-Жилля за то, что слушает его врага. Теперь в Иерусалиме Сент-Жилль капризно отказался от титула первейшего, но перенес свою подозрительность на Готфрида – наиболее достойного, который заслужил эту честь не только знатностью, но мужеством, не только благородством, но и похвальным стремлением к скромности и милосердию. А что Сент-Жилль? Не зря говорили, его невозможно уговорить, но очень просто перехитрить.
На вид Сент-Жилль был стар, с капризным лицом и розовыми губами, которые он постоянно протирал кончиком языка, будто облизываясь. Один глаз был закрыт. Сент-Жилль потерял его в бою с маврами, защищая христианскую Испанию. Заслуги его в этой войне были общеизвестны, даже теперь пели песни, сложенные в его честь. Король Альфонсо отдал за Сент-Жилля любимую дочь, которая годилась графу в дочери. Молодая жена делила со всеми трудности похода. Ее доброта примиряла многих с несносным характером мужа.
Сейчас Сент-Жилль сидел, погрузив расплывшееся тело в глубокое кресло, вынесенное прямо над покрытым ковром ступенями. Он был так близко, что я мог дотянуться до него рукой. Голова графа постоянно находилась в тени, но было заметно, ему жарко. Красное лицо было мокрым от пота. Он постоянно гладил голову, поднимая с висков редкие седые волосы. Он был явно раздражен, я появился некстати. Стражи отпустили руки и застыли по бокам. Сент-Жилль долго рассматривал меня, ворочая головой, как сидящая на ветке птица. Единственный глаз грозно сверкал, словно хотел просверлить во мне дыру.
– Чей ты? – Обвинения были ему, как видно, известны. – Что ты можешь сказать в свое оправдание?
– Я невиновен.
Граф пожевал губами, помолчал и распорядился: – Повтори еще раз, чтобы все слышали.
– Я невиновен. – Повторил я отчетливо и услышал за спиной гул возмущенния.
– Значит, ты сказал – невиновен. – Медленно, цедя слова, повторил граф. – Я понял. Ты позволил мусульманам убить нашего брата. Ты не помог ему. Ты мог схватить убийцу, ты мог лишить его жизни. Ты этого не сделал. Нашим людям ты объявил, что убийца – твой пленник. Ты спас его и, как видно теперь, отпустил. Его не могут найти. А пока ты утверждаешь, что невиновен. – Граф замолчал. Зловещие слова не оставляли сомнений. Лицо его побагровело, кровь, казалось, готова была проступить сквозь кожу. – Что скажешь?
– Невиновен. Я не видел убийцу. Он бежал. Я видел мальчишку и молодую женщину. За что мне было казнить невинных? Я был один. Никто не может опровергнуть мои слова.
– Пусть пройдет испытание. – Подсказали графу из-за моей спины.
Граф думал медленно. – Ну, ты готов? Если невиновен, огонь не тронет тебя.
К этому испытанию у нас, среди людей Готфрида относились с насмешкой, в отличие от провансальцев и других южан, которые верили в него свято. Наши каноники утверждали, что выдумано это испытание по наущению дьявола. Утверждавший невиновность должен был прилюдно миновать огненный коридор, и огонь не смел его тронуть. Недавно такому испытанию подвергся монах Бартелеми, чтобы доказать подлинность священного копья, найденного им в Антиохии. Монах сам вызвался на испытание и прошел сквозь него невредимым, что было признано бесспорным свидетельством его правоты. Те, кто продолжали сомневаться, не поверили бы и Иисусу Христу. А сам Петр Бартелеми скончался через две недели после испытания от ран и ущерба, нанесенного ему восторженными зрителями.
– Господь не даст ответа. – Будто кто-то подсказал мне. – Он будет затруднен в выборе.
– Почему?
– Эти люди – христиане. Те, на которых поднял руку мертвый. Любая овца угодна пастырю.
Сент-Жилль откинулся в кресле и глянул на меня с явным недоверием. Вытянул губы, как обиженный ребенок. Я видел, как быстро меняется его настроение и как трудно доходят до него разумные доводы. Похоже, он привык действовать наугад, и это не сулило мне ничего хорошего. Советчики могли подтолкнуть его к любому решению, а гонор помешал бы его исправить. Пока он размышлял.
Но тут за его спиной появилась женщина. Она была в длинной до пят белой рубахе. Несмотря на свободный покрой, был хорошо заметен большой круглящийся живот. Женщина подошла к графу, двигаясь вразвалку, как ходят, когда плод уже велик и носить его трудно. Это была Эльвира – молодая жена Сент-Жилля, дочь испанского короля Альфонсо. В войске с похвалой отзывались о ее стойкости и доброте. Поистине, она была украшением для своего мужа. Лицо ее, ранее сверкавшее красотой, теперь было бледным, черные волосы перехвачены через лоб широкой золотой лентой. Бегом принесли обитую бархатом скамейку. Эльвира уселась, вытянув вперед ноги, и граф завладел ее рукой. Они выглядели счастливой парой. Непонятно, впрочем, какой. Скорее всего, отцом и дочерью, в войске много злословили на этот счет. Эльвира оглядела меня с веселым любопытством, тронула мужа за руку и зашептала ему в ухо.
Прошло несколько минут прежде чем Сент-Жилль снова обратил взгляд на меня, еще помешкал, как будто вспоминая предмет нашего разговора, пожевал губами и, наконец, спросил. – Ты говоришь, они были христиане. Ты не лжешь?
Я почувствовал, с появлением Эльвиры мое положение улучшилось. Я рассказал историю того дня, как излагал ее прежде, не упомянув, впрочем, что хозяин дома был купцом. Сент-Жилль недоверчиво относился к чужому богатству. Поэтому я закончил просто. – Они христиане. Клянусь в этом.
– Ты думаешь, твоей клятвы достаточно? – проворчал Сент-Жилль и искоса глянул на жену. Я понял, она управляет его настроением.
– Никто не сомневался в моем слове.
– Ты из людей Готфрида? – Сент-Жилль неожиданно сменил тему.
– Да. Готфрида.
– А как оказался здесь? – Подозрительность графа вспыхивала мгновенно.
– Гофрид послал меня. Мы видели знамение. Он приказал обойти стены и рассказать.
Сент-Жилль надолго замолк. Он явно не знал, как поступить. Его сомнения были сомнениями подозрительного человека, и пожар мог разгореться с новой силой. Говорили, графа можно уговорить в чем угодно, а потом также легко убедить взять свои слова назад. Жена подняла глаза. Она явно старалась поддержать меня, хоть взгляд ее тут же погас. Так солнце в ветреный день вдруг выглянет из тучи, мелькнет и исчезнет. Но мгновения достаточно.
– Мне кажется, я уже видел тебя – Сказал Сент-Жилль.
– Ты мог видеть меня везде, где был сам. Я иду от самого Константинополя.
– Ты был под Никеей?
– Да и там. Под Дорилеем. Под Антиохией.
Победа давалась там с большим трудом и мужество Сент-Жилля многое решило. Он тяжело встал и осмотрел всех нас, толпящихся внизу. – Отпустите его. Иди. Ты свободен. – И пояснил, обращаясь к толпе, явно недовольной исходом дела. – Редживаль уже не скажет. А у нас нет оснований не верить этому человеку. Пусть решат между собой, когда встретятся на небесах
– Если он там будет. – Я вспомнил дьявольскую ухмылку.
– Может, ты хочешь присоединиться к нам и занять место Редживаля?
– Там мои друзья. – Сент-Жилль не терпел прямых возражений. На счастье, трудный разговор на этом прервался. Протиснувшись сквозь толпу, к Сент-Жиллю подобрался озабоченный человек, один из скороходов, которых князья держали для срочной связи. Сент-Жилль выслушал и встал.
– Сейчас я должен отправиться на совет. Когда вернусь, придешь еще раз. – Последние слова были обращены ко мне. – Будешь жить рядом, и мы лучше узнаем друг друга. А вы, – он обратился к моим стражам. – Отпустите его. И не пытайтесь остановить. Я хочу, чтобы здесь был мир.
Я ушел, ощущая ненавидящие взгляды. Конечно, мои враги будут думать, как вновь натравить на меня графа. Но несколько дней я мог держаться спокойно и решить, что делать. С этими мыслями я поймал осла, который дожидался так преданно, будто служил мне всю жизнь, и отправился к дому. Некоторое время я бесцельно бродил по пустому двору. Я был осторожен и не пытался среди дня обнаружить укрытие, куда отвела меня старуха. Я знал, что за хозяевами идет охота, и не хотел подвергать их жизнь опасности. Я дожидался темноты. Видеть девушку, было единственным желанием. Мой опыт общения с женщинами был малоинтересен. Два года назад в Константинополе друзья устроили мне посвящение. Я прошел его с любопытством, естественным в моем возрасте, и еще несколько раз посетил некую Леону. Я даже запомнил это имя, хотя к самой обладательнице не испытывал ничего, кроме чувственного порыва в начале и желания расстаться, едва успевало схлынуть плотское возбуждение. Леона вела счет деньгам не хуже процентщика и спешила воспользоваться нашим пребыванием в городе. На благое дело, так сообщила она мне без смущения. Она уже присмотрела дом, где рассчитывала сойти за приличную даму, а пока знала, чем себя занять. Чем более я зависел от чувственных желаний, тем более разделял убежденность наших монахов о том, женщина – сосуд греха. Мы всегда ищем на кого переложить вину за свое несовершенство и непреодолимость искушения. Потом мне пришлось наблюдать, как сарацины испытали на наших это оружие во время многомесячного стояния под Антиохией. С языческих времен в роще с храмом в честь Диониса молодежь и зрелые женщины, жаждущие любовного разнообразия, затевали игры. Теперь сарацины намеренно засылали в эту рощу своих фурий. Остатки языческого храма и близкий ручей (хоть к осени он разбух от грязи) разжигали желания. Коварные сарацины вырезали наших людей, когда на тех не было даже фигового листка, чтобы прикрыть наготу. Так глупо найти свою смерть. Смесь распутства, лжи и корыстолюбия – вот что я вынес, глядя на блудниц. Теперь, однако, было иначе. Все, что неотступно и полно владело мной в эти дни, сплелось в один образ. Я был поглощен этим порывом, а его название еще предстояло определить. Наши увлечения, наши желания, всегда обгоняют расчет и размышления, которые завершают работу чувства.
Сейчас я торопил наступление вечера. Бездействуя, я зашел в дом. Здесь было сумрачно и прохладно. Стоял запах пыли, который замещает воздух жилья с его запахами еды, дыма из очага, сена, коз в загоне. И этот тревожащий дух запустения вдруг напомнил мне о своем доме. Странно, именно там я испытал томление по далекой родине, о которой успел забыть. Все эти годы я жил настоящей минутой, и память о прошлом, о доме, который я покинул почти подростком, истончилась, истлела, как одежда бедняка. Но теперь мне захотелось крыши над головой, постоянства собственного дома. Это не были зрелые мысли, просто ощущение, все, что уже случилось со мной за эти годы, близится к концу, а впереди меня ждет новая жизнь.
В комнате, которую я определил, как контору, царил беспорядок, который сопутствует поспешным поискам. Стол, стулья были разбросаны и перевернуты, сундук отодвинут от стены. Совсем недавно здесь бесцеремонно хозяйничали. Картина разорения напомнила мне об опасности.
Я прошел на другую половину. Странно, грабители оставили все в целости. Здесь, судя по обстановке, жила та, которая поглотила теперь мои мысли. Я замешкался на пороге, потом, преодолев робость, вошел и стал осматриваться. Волшебная игра узнавания. Все здесь принадлежало ей – столик, зеркало, гребень, вещи, которых совсем недавно касалась ее рука, сумеречные формы флаконов, за толстыми стенками которых мерцала таинственная жидкость. Я открыл пробку, и стоял, не в силах оторваться, вдыхая будоражащий аромат, от которого голова пошла кругом. Я замер, не шевелясь. Сладостный дурман подарил причудливое кружево видений. Я смотрел во тьму и в тусклом отраженном блеске зеркала угадывал сплетение теней, равнодушие чужого наблюдающего зрачка, тонкую, но прочную паутину одиночества, ползущую из углов, готовую покрыть эту тьму и пустоту, и подтвердить: люди ушли, время остановилось. Потом я расслышал звук, почти неслышный шорох. Я обернулся. Глаза привыкли к мраку, и я различил на пороге тень. Я был уверен, это лишь призрак, отблеск света, который еще длится в закрытых глазах. Голова моя закружилась. Я шагнул, взял ее лицо в ладони. Я был удивлен, когда ощутил ее дыхание на своих руках. Она не противилась, но и не ответила мне. Она просто замерла в моих руках, как замирает подобранная на дороге птица.
Так оно и было, когда мы очнулись спустя несколько часов, свет померк. Был вечер, почти ночь. Стояла тишина, будто в мире остались лишь мы двое. Я рассказываю обо всем и, преодолевая смущение, хочу сказать, она оказалась женщиной. Робкой, застенчивой, но женщиной, уже познавшей мужчину. Позже она рассказала о своем браке и быстрой смерти мужа. Но и тогда, в ту нашу первую ночь я нисколько не усомнился в ее чистоте. Скажу только, более полного слияния я не испытывал никогда.
Было уже совсем темно, и Карина – так ее звали, принесла свечи. Мы сидели, не размыкая рук, когда вошел ее отец. Казалось, он был смущен, обнаружив откровенные признаки нашей близости. Но я был счастлив и не хотел скрывать этого.
– Мы не сможем здесь жить. – Сказал он, выслушав рассказ о допросе у Сент-Жилля. – Мы устанем прятаться, и они доберутся до нас.
– Сент-Жилль не допустит произвола. Он признал меня невиновным. Теперь я могу требовать заступничества у Готфрида.
Говорил я легко с той самоуверенностью, которая сопутствует удаче в любви. – Пройдет несколько дней, и мы найдем выход. Все время я буду здесь. И вместе решим, как быть.
Купец глянул на меня, и я поразился мудрой печали в его глазах. – Хорошо. Но я думаю, нам будет лучше покинуть этот дом. – И с этими словами он положил свои руки поверх наших.
– Я буду с вами, чтобы не случилось, – обещал я. – Я не отойду ни на шаг. Все, что вы скажете, я приму без колебаний. Вы под моей защитой, никто не посмеет коснуться вас…
Боже, как я тогда ошибался. Как быстро все закончилось. Я проснулся от звука трубы. Он не звучал со времени взятия города, это был сбор по тревоге. Я выглянул на улицу. Трубач и глашатай, покачиваясь в седлах от усталости, объезжали город. Голоса их были сорваны от крика. – Воины Христа. Готовьте оружие и собирайтесь. Время не терпит. Собирайтесь и выходите.
Что-то случилось в эту ночь. Но что? Расспрашивать я не стал. Я надеялся прожить, не привлекая к себе внимания. Но тут во двор зашел Артенак. И принес новости. Египетский султан собрал огромную армию и пообещал отдать Иерусалим на разграбление. Он поклялся не оставить от христианских святынь камня на камне. Сейчас он движется на нас, числом выше сто пятидесяти тысяч. Против наших двадцати. Еще столько же наберется женщин и калек, неспособных носить оружие.
Артенак, как всегда, говорил меньше, чем знал. Это был умный молчун, потому Готфрид советовался с ним перед тем, как принять решение. – Хорошо, что мы успели взять город. Была надежда, что они не решатся напасть. Но они идут сюда. Сейчас они стоят под Аскалоном на морском берегу. Что делать? Оставаться на месте и защищать город, либо выйти им навстречу. Стены сильно разрушены, мы не знаем как пользоваться водой из подземных источников. Мы не выдержим осады. Они заставят нас умереть без боя. Потому Готфрид предложил, а князья подтвердили. Завтра мы выступаем.
– Это время я решил пробыть с тобой, – продолжал Артенак, – поглядеть, как ты обжился на новом месте. Я слышал, ты выдержал экзамен у Сент-Жилля. А старик способен разъярить даже ангела.
– Откуда ты узнал об этом?
Артенак ухмыльнулся. – От графини Эльвиры.
– От жены Сент-Жилля? – я вспомнил беременную, рядом с графом. Ее интерес к моей особе я склонен был объяснять женским любопытством.
– С помощью женщин можно уладить многие дела. Главное, чтобы они успели сговориться, прежде чем их мужья разорвут друг друга на части. Я был представлен Эльвире. Пока ты утверждал перед графом свои права, я объяснил ей, как было дело. К счастью, она легко поняла. Беременность делает женщин чувствительными. Даже жену графа.
Видно, я выглядел несколько разочарованным. Артенак засмеялся.
– Благодари себя. В молодости игра случая помогает свойствам характера. Мы часто переоцениваем себя, и это справедливо, небо покровительствует молодым. Зато потом, когда благосклонность слабеет, мы испытываем разочарование. Греки это понимали. Благословен тот, кто не теряя времени зря, направляет усилия по правильному пути. Но отложим эту беседу до лучшего дня.
– Что мне делать? – Может быть, в связи с учением греков, о котором говорил Артенак, но я стал суеверен. Я даже побоялся назвать Карину по имени, что бы не привлечь внимание злых сил.
– Они дождутся нашего возвращения. Если мы останемся живы. А если нет… лучше не думать об этом. Потому что султан восстановит власть над городом. А пока мы выходим. Не теряя ни часа. Все, и люди Сент-Жилля тоже. Нужно переждать, пока не решится общая судьба. Тогда мы сможем размышлять о будущем. А сейчас собирайся.
Купец нашел мои доводы разумными и обещал не покидать убежища. Уходить было тяжело, и я не стал затягивать прощание. Я должен был вернуться. А сейчас следовало поспешить.
Весь город, птичий, мясной, овощной, рыбный рынки, пространство вдоль торговых рядов, лавок менял, вся Храмовая улица, Скорнячная, Испанская, Цветочная и многие прочие – все они были заполнены народом. Отовсюду стекались вооруженные люди. Собирались с тыла больницы, которую основали странствующие монахи. Свое братство они назвали Иоанновым по имени Иоанна Милостивца – александрийского патриарха, известного деятельной помощью убогим и увечным. Здесь собирались рыцари в черных плащах с белым крестом на правом плече. Это были монахи ордена, предназначенного для защиты христиан в пределах Палестины и для помощи всем, страдающим от ига магометан. Перед ними восседал на лошади их предводитель Геркгард – провансалец с необычно белым лицом. Он еще не оправился от ран, полученных при взятии города. Тут же толпились пешие в доспехах поверх монашеского одеяния. Эти шли за епископом Дагобертом, в дни мира они служили в Церкви Гроба, потому и назывались – рыцари Гроба Господня. Теперь пришло их время. Только чудо могло спасти нас всех. И удивительно, никто ни на миг не усомнился в его силе. Разве не чудо помогло нам пройти сквозь враждебные земли, подобно тому, как нож протыкает мякоть спелого плода, разве не чудо позволило отвоевать наши святыни у стократ превосходящего врага. И сейчас все усилия сокрушить нас будут тщетны. В это верили.
Когда все собрались и протрубили сбор, глашатаи зачитали послание Готфрида. Было приказано готовиться и выступать завтра с утра. И все прокричали троекратно: – Так хочет Бог. А над Гробом Господа ударил колокол. Отныне служба должна была идти непрерывно, вплоть до нашей победы.
Появился Артенак. – Герцог отправляет меня вперед. И еще пятерых. Мы выступаем немедленно, нужно до вечера спуститься на равнину и понять, что происходит. Поспешим.
Мы выехали из города. Приходилось двигаться осторожно, в окрестностях бродили разбойники. Многие жили среди камней, опасаясь возвращаться в занятый нами город, и дожидались язычников. Но были и христианские отшельники. Как ни странно, все эти люди уживались между собой, новости распространялись среди них, как степной пожар. Мы расспрашивали, не обращая внимания на злорадные ухмылки. Войско султана стоит на равнине вблизи Аскалона. Их люди похвалялись, что скоро вывесят нас на стенах и будут сушить живыми, как рыбу. Можно не сомневаться, так и будет, если они победят. Аскалон – город, известный еще со времен священной истории. Там большой порт, и постоянно прибывают подкрепления со всего мусульманского мира. Потому они не спешат, ждут всех, кто захочет насладиться победой. В этом у них нет сомнений.
Поздним вечером мы выехали на равнину. Луна взошла, и мы издалека увидели стены города. Мы спешились. Артенак потянул меня за собой, а остальным приказал оставаться на месте и хорошо укрыться. Хоть стражи на городских стенах были беспечны. Кого им было бояться?
Мы пробирались среди виноградников, рассчитывая каждый шаг. Чуть слышен был ровный плеск моря, а потом над морем и равниной встал ровный мерцающий свет. Теперь стены были совсем рядом, если бы стража добавила огня и осветила подножие, нам бы пришел конец. Но удача была с нами. Судя по запаху нечистот, где-то неподалеку была городская свалка. Мы проскользнули рядом и вновь выбрались на равнину. И остановились. Равнина полыхала пламенем тысяч костров. Их свет сливался с лунным светом, отраженным от поверхности моря, и был похож на сияние громадной морской раковины. Армия покрыла собой равнину, как разлегшийся на отдых великан.
Теперь нас отделало от врага не больше полета стрелы, мы были, как на ладони, зажатые между городом и вражеским лагерем. Ни мы, ни они не щадили шпионов, наши безжалостно рубили голову, а эти – заживо сдирали кожу. Мы затаились, за камнем, завороженные грозным зрелищем. Поверхность равнины была наклонена в сторону лагеря, но яркий свет вставал не прямо, а отраженным, как огромное зарево. Несмотря на опасность, я был заворожен ночью, светом и тайной, которую мы хотели разгадать. Совсем рядом шумело море, и множество звезд смотрели сверху. А потом заржала лошадь, затем еще и стало ощутимо дыхание огромного стада. Это его масса перегородила равнину. Мы подобрались близко, и она закрыла от нас лагерь.
Отходили мы осторожно, со стен нас заметили, когда опасность осталась позади. К счастью, они приняли нас за бродяг. Артенак помахал рукой, показывая, что мы свои. Стрела, рассыпав искры горящего хлопка, полетела вслед, но преследовать нас никто не думал. Артенак молчал, размышляя об увиденном. – Я понял. – Объявил он. – Вот почему они не спешат. Они ждут. Они хотят выманить нас. потом огнем направят на нас обезумевшее стадо. А уцелевших перебьют. Они ждут, чтобы мы оказались здесь, прямо перед ними.
4
Сутки мы дожидались подхода своих. Артенак принял участие в совете, на котором князья утвердили план битвы. Лагерь разбили ввиду городских стен и выслали вперед охранение. Но султан не спешил. Он ждал нашей атаки. Десятка два мусульманских рыцарей, постоянно вертелись, выманивали. Нетерпеливая молодежь рвалась показать себя. Но Готфрид запретил покидать лагерь, нужно было беречь силы. Следующий день должен был решить все.
Вечер посвятили молитве, приводили в порядок оружие, и мало, кто спал, несмотря на трудный переход. Утром стали готовиться. По правую руку встал Сент-Жилль, по левую Танкред и оба Роберта – Нормандский и Фландрский. Готфрид должен был ударить первым, в центре. Перед войском пронесли животворящий крест и сосуд с молоком Богоматери, которым был вскормлен Иисус. Чудом оно сохранилось до наших дней. Вынесли знамена и расставили перед князьями. День обещал быть жарким, потому поспешили двинуться вперед. Множество язычников столпилось на стенах Аскалона и, захлебываясь от проклятий, желали нам смерти. Наши не отвечали, только ближние прикрылись щитами от летящих стрел и камней. Впрочем, жители города особенно не старались, полагая, что султан сделает свое дело. А сами готовились насладиться зрелищем и принять участие в грабеже, когда битва будет закончена. Сверху из пыльных туч слышались их молитвы. Становилось жарко, горло сохло, металл жег тело.
Наступило томительное время, когда все нужное сделано и остается ждать. Я видел, как беззвучно шевелятся губы Артенака. Мы здесь, вы этого хотели, и мы перед вами. Белое знамя с золотой лилией купалось в небесной синеве. Еще недолго, и придется отступить, чтобы не сгореть живьем в собственных доспехах. Вся надежда на то, что султан не захочет упустить случай, когда мы оказались так близко и можно покончить с нами одним ударом. Мы были хорошей добычей, и пришло время разорвать нас в клочья. Ну, давай, чего медлишь?
И вот вся растянувшаяся впереди линия вражеского войска вдруг дрогнула, стала набухать густыми столбами пыли и темного дыма. И оттуда, будто вырвавшись из глубин преисподней, раздался рев тысяч испуганных обезумевших животных и вопли погонщиков. Земля задрожала. Я заметил, как Артенак облегченно вздохнул. Он оказался прав. Язычники начали атаку.
Впереди, над линией наших епископ Монферрантский поднял Святой крест, благословляя войско, и стал торопливо отъезжать в сторону. Готфрид взмахнул рукой, прокричал: – Делайте, как решили. И глашатаи разнесли приказ вдоль линии. Левое крыло войска, вытянутое в сторону гор, стало торопливо забирать назад, строй свернулся, так что оба крыла прижались к морю, а путь между городом и горами оказался открыт. Аскалон послужил защитой от несущегося стада. И налетел ураган. Десятки тысяч обезумевших от огня животных неслись сплошной стеной. Табуны лошадей, стада верблюдов, приведенных из глубины пустынь, черные быки, ревущие от ярости, промчалась совсем рядом. Но смели только пустоту и нескольких безумцев, увязавшихся за войском и не понявших приказ. Их тела остались лежать смятыми комьями плоти, крови и песка. Когда гул стих и улеглась пыльная буря, мы увидели, какой опасности подвергались. Люди закричали от гнева. Пришло наше время. Глашатаи прокричали: – Делайте, как решили. И войска стали строиться заново. Главные силы были на острие, направленном в сердце врага. По малочисленности мы не могли окружить его. В тылу находилась враждебная крепость, которая могла поддержать своих. Расчет строился на силе первого удара туда, где находилось знамя султана. К нему нужно было пробиться во что бы то ни стало. Мусульманское войско собиралось из разных мест, они не смогут долго действовать сообща и станут смотреть туда, где стоит султан. Если упадет его знамя, будет знак остальным.
Два года назад мы сошлись со всех концов Европы, за это время стали единой силой, никто не мог нарушить общего уговора. А они собрались только сейчас – разноликие, разноцветные, говорящее на разных языках, не знающие общих команд. Дикие бедуины на верблюдах, замотанные по самые глаза в белое полотно, полуголые черные эфиопы, блестящие от пахучего масла, с легкими копьями и ножами на длинных бамбуковых шестах, которыми готовились перерезать сухожилия наших лошадей, арабы на сильных скакунах с точными, бьющими наповал луками, сельджуки, обильно красящие лица, чтобы испугать врага, берберы с морского побережья, пираты в поисках легкой наживы, наспех собранное крестьянское ополчение с палками и мотыгами. И среди всех – с десяток тысяч агуланов, личная гвардия султана, закованная вплоть до копыт лошадей в легкую, не стесняющую движения черную дамасскую сталь, настоящие рыцари с саблями, превосходящими по силе удара наши тяжелые, утомляющие в долгом бою мечи. Часто и дробно били сотни малых барабанов, протяжно и тонко завывали трубы, звенели бубны, ухало огромное чудище – барабан, обшитый воловьей кожей, выставленный на возвышении в глубине войска рядом со знаменем султана. Они увидели нас, как только стало расходиться тяжелое облако, и крик злобы вырвался из тысяч глоток. Не так они рассчитывали, и потому еще до боя узнали вкус досады и разочарования.
И снова Готфрид остановил нетерпеливых. Вперед пошла пехота. Много разных людей, безлошадных солдат и просто мужчин и женщин. Мужчины несли пращи, а женщины корзины, полные камней. Так было задумано, чтобы справиться с конными лучниками, разъезжающими впереди мусульманского войска. Эти целили в лошадей и стрелами могли сбить силу атаки. Наши должны были рассеять их градом камней, и стрелы, которые назначались нам, они должны были принять на себя. Все смотрели, как они выходят, не защищенные ничем, кроме божьего благословения. Шли в затылок друг другу, не торопясь, как идут в церковь. Епископ благословлял каждого и давал целовать крест. А потом передал крест монахам, в глубину линий, надел доспехи и взял в руки окованную железом дубину. Ею он собрался крестить неразумных язычников. Готфрид еще раз оглядел всех, поднялся в стременах и помахал рукой князьям. Трубачи пропели готовность. А впереди завязался бой. Наши бросали камни, пытаясь разогнать вражеских всадников. Опустошив запасы, разбегались, открывая дорогу другим, спешили, чтобы не попасть под копыта собственной конницы. Многие падали, сраженные стрелами, и оставались лежать на пути будущей атаки. Живых поспешно оттаскивали, а мертвых оставляли, как есть. Время тянулось бесконечно долго, но таков был замысел. Нужно было выждать, пока первая линия сарацин израсходует стрелы.
– Так хочет Бог. – Прогремел епископ. Голос его сорвался и тут же был подхвачен звуком трубы.
– Так хочет Бог. – Прокричали в ответ тысячи. Готфрид поднял руку. Еще раз прозвучала труба. – Эйа, эйа, эйа. – кричали рыцари, разгоняя лошадей. Пришло время. На плоской, как стол, равнине было легко разгонять силу удара. Путь был открыт. Наверно, так ударяет о землю, сброшенный с небес ангел. Все вокруг наполнилось яростными звуками работы, когда одни люди убивают других. Стоны раненых, пронзительные крики, пугающие лошадей, храп, смертные рыдания, гулкие удары металла о металл, проклятия, кровавая пена над обжигающей страстью битвы, многотысячный вопль, не различимый на отдельные голоса, бьющий в уши и оглушающий до спасительного бесчувствия. Все кричали, но никто не слышал себя, это был общий вызов и мольба небесам, во имя возмездия, во имя веры, во имя победы.
Любой ценой нужно было пробиться, разорвать их ряды, расколоть, подобно топору, врубающемуся в дерево. Только бы не разбиться об эту скалу, не растечься по ней, как растекается дождевая капля. А они должны были задержать, остановить нас, растащить по сотням и тысячам схваток, окружить, задушить грудой собственных тел. Движение постепенно замедлялось, хоть еще шли вперед на шаг, на полшага, на движение вытянутой руки. А штандарт султана по прежнему был далек и также вставали, закрывая его, одна за другой линии смулых лиц с вытянутыми в щелку блестящими глазами. – Аала, алла. – Вопили они. – С нами Бог. – Орали христианские воины.
Теперь, когда ненависть слила воедино, только Бог мог разделить всех нас на победителей и побежденных. Князья или султан были не в силах ничего изменить.
Легкие мусульманские сабли звенели, отскакивая от рыцарских доспехов, но их было больше и жалили они все сильнее. Впереди пошатнулась и стала заваливаться набок фигура епископа. Крик торжества раздался из глоток. А-алла. Идущие впереди исчезали в кипении человеческих тел, но сзади мы подпирали, и тяжело, натужно ползли вперед. А впереди застыли ряды отборных вояк. Они стояли, дожидаясь, сильные молодые воины, живущие ожиданием близкого боя. За ними, далеко впереди лениво колыхалось под ветром египетское знамя. Оно казалось недостижимо.
Так пловец, пытающийся добраться до далекого берега, вдруг ощущает сонное безразличие, и оно заполняет его целиком, до самых кончиков пальцев. Остается равнодушие, механическое повторение усилий и удивление, обращенное к самому себе, как долго это продлится. Но ты еще жив, и тогда возвращается азарт и злоба, и вновь разгорается огонь надежды. Только бы пробиться. Я оказался под толщей, я тонул, вырываясь последним усилием, чтобы проститься с небом, и вдруг услышал со всех сторон. – Христос за нас. Христос за нас… Что-то произошло, но не было сил поднять голову. Я только ощутил, что стянувшая петля стала слабеть. Враги попятились, заворачивая лошадей. Крики становились все громче, все радостнее, пока не слились в рев. И тогда я увидел, что знамя впереди пошатнулось и полумесяц, будто соскользнул с него, как падает, кружа на землю, мертвый осенний лист. Мы побеждали, ряды врагов распадались, охваченные паникой. Действительно, случилось чудо. Неведомая сила вырывала из их рук близкую победу и вручала ее нам. Я въехал на невысокий пригорок, где минуту назад развевалось зеленое знамя. Наши подхватили его и волочили на сломанном древке. Набок был свален громадный барабан, который не стихал ни на минуту, а сам барабанщик лежал, уткнув голову в его разорванный бок. Из раны, отделившей голову от шеи, еще сочилась кровь и стекленела на выбитой в камень земле.
Враги бежали, давя друг друга. Их не преследовали, без сил мы встали передохнуть. Я обернулся. За время боя мы пробились далеко вперед, и теперь я видел, как открытые ворота крепости поглощают толпы беглецов. Там они еще могли спастись.
– Не туда. Не туда. – Прокричал Артенак в самое ухо. – Я перевел взгляд на равнину. Клокочущая стена, достигая вершин близких гор, неслась на нас. Будто легионы всадников спустились на землю и неслись на выручку. Иначе не объяснить, во всей Палестине кроме нас не было ни одного вооруженного христианина.
Все это я охватил взглядом в одно мгновение, до того, как последний отряд египтян бросился на нас. Эти были солдаты, обученные умирать в бою, они должны были задержать нас, выгадать султану время для отступления. Сразу несколько бросились на Артенака, развернули его лошадь, чтобы вернее подставить под удар. Он качнулся в седле, повис мешком. Я перехватил движение нацеленного в него копья и с размаха ударил. Голова сарацина дернулась, из под металлической кисеи, прикрывающей шею, хлынула кровь. Я перехватил бессильное тело Артенака и, осадив лошадь, выбрался из схватки. Враги бежали. Видно было, как наши раскачивают царский шатер, он рухнул под торжествующие крики. Поднимали над головой захваченные знамена, размахивали ими, чтобы все видели – победа у нас. Огромное воодушевление охватило людей. Отовсюду громко славили Христа. Я оглянулся и увидел остывающую в клубах пыли и дыма лавину. В ней не было всадников, лишь море лошадиных спин. Артенак попросил, чтобы я помог ему сесть в седле. С мучительной усмешкой боли он оглядел бегущих врагов, счастливые лица победителей, праздничное сияние неба и моря. Потом поднял руку, показал на равнину. И тут я понял. Это была вторая часть задуманного им плана. Наши пропустили стадо, остановили и погнали назад в гущу битвы. Сарацины приняли его за подкрепление и бросились бежать.
Я отвез Артенака к раненым, как смог, укрыл от солнца, и бросился искать врача. Тут распоряжались греки, помощь оказывали они. Один, стоя на коленях, осматривал епископа. Я не дал ему времени выразить скорбь, которой врачи отмечают собственное несовершенство, и потащил к моему другу. Там он принялись за работу, а я смог оглядеться.
Наши собирали брошенное оружие, делили лошадей. Гнали пленных. Люди кричали и поздравляли друг друга, победа пьянила сильнее вина. Среди толпы разъезжали глашатаи и призывали всех, кто еще мог сражаться, собираться у стен Аскалона. Туда подтягивали отбитые у сарацинов осадные орудия. Их предполагалось направить против Иерусалима, но Бог распорядился по другому. Пользуясь паникой, царящей а Аскалоне, его следовало взять немедленно. Ворота в город были теперь закрыты, на стенах толпилось немало народа, но чудо повергло в уныние почитателей Аллаха. Уже тащили к стенам лестницы, над городом подняли флаг. Я не сразу разглядел из-за бьющего в глаза солнца, но раненый рядом с Артенаком, заорал от возмущения, попытался встать, после чего заорал еще громче. На знамени был красный крест – знак Сент-Жилля. Это значило, защитники города хотят сдаться именно ему. И просят защиты от всех остальных.
У аскалонцев были резоны. Сент-Жилль, не иначе как по просьбе Эльвиры (согласитесь, у меня была причина так думать), отпустил на волю язычников из осажденной башни Давида. Теперь они оказались в Аскалоне и разнесли славу о великодушии провансальца.
Теперь, вместо того чтобы завладеть городом, князья затеяли спор. Только на днях они приняли решение, дать Готфриду право на ведение переговоров, и он потребовал у Сент-Жилля отказаться от предложения в общую пользу. Но тот не желал уступать. Князья ссорились на глазах врагов, взирающих за решением собственной участи. Высокие стены Аскалона были сложены из прочного камня, рассчитанного на века. В основании уложены мраморные колонны со времени, когда город был одной из столиц филистимлян. Отсюда родом были Семирамида и сам Ирод.
Наконец, Готфрид уломал Сент-Жилля и глашатай огласил условия. Наших должны немедленно впустить в город. Взамен мы обещаем не допустить крови. А между тем, пыль улеглась, толпа под стенами оказалась на виду, горизонт оставался чист. Горожане, не веря своим глазам, вдруг обнаружили, насколько малочисленны наши силы. Подобрали посланное для сдачи знамя Готфрила, и разодрали под торжествующие вопли. Также расправились с знаменем Сент-Жилля, которому прежде готовы были уступить. Плевали, мочились, показывали, что утирают им срамные места.
– Они говорят, что отдадут твое знамя женщинам. – Перевел Готфриду смущенный толмач. – Приходи за ним через несколько дней. Получишь кровь и хватит с тебя. Они тебя не боятся.
Язычники упражнялись в непристойностях. Сент-Жилль расхохотался и отправился прочь. Так из-за глупой ссоры мы потеряли город, а вместе с ним удобную гавань. Но нельзя получить все сразу. И без того добыча оказалась огромной. Собирали ее целый день. К вечеру половина войска уже не стояла на ногах, к зависти тех, кто должен был охранять и поддерживать порядок. Готфрид завел строгие правила, хоть мусульмане рассеялись и не думали угрожать. Я постоянно находился при Артенаке. У него была перебита ключица, ранено плечо, он сильно страдал от боли. Лекарь обложил руку дощечками и взял на повязку. Я получил пузырек с белой жидкостью и наставление по лечению. Еще два дня мы простояли под Аскалоном. Было много раненых, которым нужно было помочь на месте. Епископ находился при смерти. Готфрид приказал ждать. Сент-Жилль со своими отправился в город сразу после ссоры, его не стали останавливать.
5
Какое счастье возвращаться победителем. Весь город сошелся навстречу. Звонили во всех церквях. Впереди везли тело епископа. Наших погибло немного, но раненых считали на тысячи. Я оставил Артенака у братьев-иоаннитов. Госпитальный двор был переполнен, и продолжали везти. Монахи падали от усталости, а ведь они сражались наравне со всеми. Велики силы на пути служения добродетели. Многие женщины последовали примеру доброй самаритянки. Я доверил Артенака одной из них, а сам поспешил в известный дом. Двигаться приходилось медленно. Все улицы были заполнены народом. Шла отчаянная торговля – лошадьми, оружием, всем подряд. Сейчас был самый легкий день, когда покупали и продавали, не торгуясь, пытаясь поскорее сбыть трофеи с рук и предаться долгожданному веселью. Сделки завершались быстро и с каждым часом все больше становилось пьяных.
Наконец, я добрался до цели. Здесь было тихо. Уже потом я узнал, что граф не стал задерживаться в городе и днем раньше отбыл на Иордан. Тишина и безлюдье настораживали. Я твердо решил уговорить купца переехать под мою защиту, на север города. Я любил эту женщину и хотел, чтобы она стала моей женой. Только теперь я понял, насколько чувство способно переменить жизнь. Оглядываясь, видишь другого человека и удивляешься самому себе. Кто он, этот незнакомец? О чем он думал, чем жил. И можно ли то, что прежде, назвать жизнью?
Я вошел во двор и застыл. Дом стоял мертвый, храня следы недавнего пожара. Он был еще теплым, как тело только что погибшего человека. От гари было трудно дышать, я закашлялся, и это были единственные звуки. Стояла тяжелая тишина. Поджигали наспех, и внутри дом не пострадал. Огонь не добрался сюда, тем более страшен был разгром. В комнате Карины все было перевернуто, растоптано, осколки стекла хрустели под ногами. Налетчики не церемонились. Я обошел дом. Я открыл кладовку, окно, выходившее во двор, было здесь почти на уровне земли. Оно было заткнуто комом. Я подошел ближе, то, что было похоже на мешок, оказалось человеческим телом. У меня перехватило дыхание. Старуха пыталась бежать, но сделала это недостаточно быстро. Ее раздавили ударом ноги, как давят мышь. Я отшатнулся и вспомнил про сарай. Я нашел его и нашел лаз, он был прикрыт небрежно. Крышка легко подалась. Я захватил с собой свечу, но так волновался, что долго не мог выбить огонь. Потом я обошел подземелье. Сухой запах пыли сопровождал меня. Я не обнаружил никого, люди исчезли. Их не было. Только тут до меня дошла тяжесть потери. Я выбрался наружу. Мысли путались. Артенак – единственный человек, который мог дать совет, был далеко. Как я проклинал себя за то, что оставил их без защиты. Мир распался, рассыпался на куски, разбился, как зеркало в сгоревшем доме. И я стал одним из этих осколков. В висках стучало. Как будто демоны слетелись к несчастной голове, а я не в силах поднять руку, чтобы отогнать их прочь. Потом я понял, что сижу так давно. Быстро темнело. Я еще раз обошел дом, искал следы, знак, оставленный для меня, хоть что-нибудь. Отчаяние захлестнуло меня, как захлестывает море тонущий корабль. Сердце мое разрывалось. И тут ударил колокол. Ударил коротко, звук тут же оборвался. Хоть, может быть, он звонил долго, но я расслышал его только сейчас. И этот последний удар был предназначен мне. Я выбежал на улицу и направился в сторону армянской церкви. Ее острый, похожий на шлем, верх был еле заметен в густых сумерках. В церковном дворе я осмотрелся. В углу стоял большой каменный крест с затейливыми незнакомыми буквами. Церковь была открыта, я вошел. Горело несколько свечей. Было пусто, хоть в глубине со стороны алтаря слышались шаги. Я свернул в боковой придел. Под стеной смутно белели очертания тел. Сюда сносили умерших. В городе не было дерева и христиан часто хоронили без гробов, зашитыми в саван, как мусульмане хоронят своих. Я подошел, их было четверо – длинных вытянувшихся под белыми накидками тел. Отчаяние вело меня, в нем не осталось даже проблеска надежды. Я искал подтверждения тому, что знал заранее. Я приподнял покрывало. Под ним оказалась женщина преклонного возраста с распухшим лицом, в глубине приоткрытого рта виден был язык. Я вернул покрывало на место и взялся за следующее. Молодой мужчина, с крестом, запутавшимся в клочьях черных волос на голой груди. Третьим был купец. Он лежал спокойно, будто спал. На нем была белая чистая рубаха, возможно, кто-то переодел его после смерти. Шея была укутана белым платком. Я приподнял край и увидел страшный след, идущий поперек горла от уха до уха. Кисти рук были замотаны. Повинуясь странному любопытству к мертвому телу, я размотал тряпку. Пальцы были отрублены, так поступают грабители, когда не хотят тратить время и усилий, чтобы снять кольца и перстни. Я заглянул под рубаху. Видно, его пытали, грудь и живот были исколоты ножом. Кровь стерли те, кто обмыл тело. Я натянул простыню. Я испытал странное чувство холодного почти отстраненного равнодушия, я вдруг увидел себя со стороны, откуда-то сверху из под церковного свода. Одинокого, отчаявшегося, застывшего над телами людей, в смерть которых отказывался верить. Следующей была она, сквозь покрывало я угадывал линии ее тела. Рядом с грузным телом отца оно казалось особенно хрупким. Мне показалось, что она смотрит на меня сквозь саван. Душа будто покинула меня и, как чужую, я увидел собственную руку, взявшуюся за край покрывала. Я отдернул завесу. Под ней был незнакомый подросток, он лежал, вытянув вдоль тела тонкие руки и будто спал. Я видел мертвых, недавно пережил гибель отца, но то было иное. Не знаю, что случилось со мной в эти минуты. Меня бил озноб, по спине тек холодный пот. Я стоял среди мертвых, я был пуст и ощущал себя одним из них. Чужой мальчишка, их тех, кто пасет коз за городскими стенами. Какой ценой мы возвращаем себе надежду. Кто-то всегда умирает вместо нас. Прошло время, прежде чем я очнулся. Сзади стоял монах. В полутьме я не мог разобрать выражения его лица. Я не помню, что я спросил. В ответ он повел головой, выказывая непонимание. Я принялся объяснять, приподнял покрывало с тела купца. Я тыкал пальцем в него, потом себе в грудь, я пытался что-то объяснить про девушку и ее отца. Он должен был знать, но стоял молча. Он не понимал или не хотел понять. Я попробовал обойти его и проникнуть в алтарь, рассчитывая найти кого-нибудь, с кем мог объясниться. Он преградил мне путь и движением руки пригласил к выходу. Там он придал лицу выражение участия. Я сел на скамью и показал, что хочу остаться. Он вежливо кивнул и исчез за углом. Я остался. Я решил, что должен быть здесь, рядом с телом купца. Он здесь, и она придет. Не может не придти.
Я сидел долго. Мир погрузился в ночь. Протянув руку, я ощутил камень. Крест еще хранил дневное тепло. Когда-то на этом месте был дом первосвященника. Христа привели сюда после ареста. Его привязали к дереву, пока синедрион принимал решение. Мне казалось, ничто не кончено, все еще длится, буквально у меня за спиной. В воздухе был разлит аромат цветов. Еще недавно, в сумерках церковный двор оставался пустынным, теперь он ожил. Лицом я ощущал движение, не ветер, а легкое прикосновение, будто мир пытается говорить со мной.
В небе горели звезды. Они усыпали все огромное пространство над моей головой. Я давно не ел, от страшных потрясений этого дня голова моя шла кругом. Звезды качнулись и закружились прямо надо мной. Они плыли легко, как падают в наших краях первые хлопья снега, медленно, поднимаясь и оседая в эфирных волнах. Чем больше я глядел, тем более быстрым становилось их кружение, затем все слилось в сверкающее облако. У нас верят, что души умерших переселяются на звезды и общаются между собой по ночам. И я понял. Множество смертей сопровождало нас в походе. А последние дни – осады, покорения и новой битвы добавили новые, будто смерть шла вдогонку и пригорошнями разбрасывала зерна в борозду. И сегодня те, что ушли ранее, встречали пополнение, затевая в его честь восторженный хоровод. Наши смерти веселят звезды. Оспаривая друг у друга землю, мы будоражим мертвецов, и те хохочут над тщетой наших усилий.
Там наверху лопнула туго затянутая петля. Я закрыл глаза, чтобы не потерять сознание. Может быть, я задремал. Потом я услышал шаги. Прямо ко мне, раздвигая мрак, плыла тень. Еще не осознав отчетливо, лишь по колебаниям этой тени, я узнал ее. Когда она приблизилась, я встал, раскрыл руки и обнял ее, застыв так, не двигаясь, не шевелясь, вместе – один и одна на всей земле, согретый принятым в себя светом, неверным пламенем свечи среди могучей обжигающей холодом звездной поступи…
Раймунд договорил отрывисто, будто обжигаясь словами. Видно, что воспоминания растревожили его. Он много пил, постоянно подливая себе вино, но оставался трезвым. Франсуа не прерывал брата он готов был слушать бесконечно.
Никто не побеспокоил их, только в углу у огня ворочалась и повизгивала во сне собака. В комнату вошла хозяйка, улыбнулась братьям и села за стол. Во время еды все трое молчали. И ушла она также молча, кивнув на прощанье.
– Это она?
– Да. Это – Карина. Все объяснилось просто. Они прятались в доме, когда прибыл приказчик из Яффы и сообщил, что их склад разграблен. Так они выманили его из укрытия. Война, постоянное движение людей – все оказалось убийцам на руку. Купец был найден мертвым возле базарной площади. Брат Карины исчез, сама она успела укрыться в церкви.
Было бесполезно искать негодяев. Сент-Жилль разругался с Готфридом и покинул на эти дни город. Обращаться было не к кому и вряд ли бы он захотел помочь. Первым делом я навестил Артенака. Ему стало лучше, руку взяли в лубок. Он принимал лекарство от боли, глаза были затуманены, но голова оставалась ясной. – Здесь тебе нечего делать. Несчастье будет постоянно напоминать о себе. Я знаю, ты не можешь не думать о мести. Но кому? Они действуют из-за угла. Ты ведь хочешь сберечь эту женщину. Уходи. Возможно, когда-нибудь ты вернешься.
После победы и утверждения святой веры в Иерусалиме многие сочли обет выполненным и теперь собирались домой. Найти попутчиков было легко. С тех пор мы живем здесь…
Потом они сидели молча. Видно, Раймунд не привык к долгим рассказам и теперь все еще оставался во власти воспоминаний.
На следующее утро Франсуа осмотрел руку, поврежденную в схватке с разбойниками, вернул на палец перстень и вышел к столу. Беседуя с Раймундом о мелочах сельской жизни, Франсуа глянул на Карину и застыл, не договорив. Глаза ее были широко раскрыты, а взгляд, не мигая, устремлен на его руку. Губы беззвучно шевелились. Потом проявился голос. Похожий на глухое мычание.
Раймунд схватил жену за плечи: – Что? Что с тобой?
– Перстень отца. – Медленно, прислушиваясь к вновь обретенному голосу, выговорила Карина. Она была готова лишиться чувств.
– Где? У него? – Раймунд показал на Франсуа.
– Да. Я узнаю.
– Где ты взял этот перстень?
– Сеньор подарил.
– А откуда у него?
– Из Иерусалима. Он не сказал больше.
Карина вновь заговорила, неуверенно, будто пробуя языком слова. – Погляди на нем должны быть буквы. Армянские, это – инициалы отца. Он запечатывал этим перстнем свои письма.
Франсуа стянул перстень с пальца. Так и есть. – Карина подержала его на ладони, будто пробуя тяжесть, и вернула Франсуа. И что-то сказала мужу.
– Он твой. – Объявил Раймунд.
– Нет, я не могу взять.
Раймунд показал на жену. – Она заговорила, благодаря ему, после нескольких лет молчания. Перстень оказался счастливым. Он твой.
Карина встала и, прежде чем уйти, одарила Франсуа печальной улыбкой.
Днем у ворот ударил колокол. Он отзвучал несколько раз. Во двор медленно втягивался отряд стражников. Братья поспешили навстречу. Командир в красном плаще представился и, не сходя с лошади, обратился к Раймунду.
– Недавно наши люди вернулись из Иерусалима и привезли почту. Сразу два письма – ваши. Мы взяли приятную обязанность, доставить.
Письма перешли в руки Раймунда. – Возможно, вы захотите передохнуть. – Предложил обрадованный хозяин.
– Мы торопимся. Но я хотел бы задать вам несколько вопросов. Мы побывали на месте недавнего ограбления. Возможно, вы о нем слышали. Это недалеко.
Раймунд кивнул.
– Мы осмотрели место. – Стражник сидел на лошади, прикрыв глаза рукой, будто защищал их от света, и внимательно разглядывал Раймунда. – Посмотрите, что мы нашли. – Он порылся в сумке и достал из нее рукавицу. С тыла она была защищена металлической пластиной, выше у кисти был вышит стоящий на задних лапах медведь.
Стражник молчал, глядя, как Раймунд вертит в руках находку. – Это ваша?
Раймунд молчал.
– Мы нашли ее рядом с местом, где прятались грабители. Нам хотелось бы получить объяснения.
– Я могу дать их. – вмешался Франсуа.
– Вы?
– Я – его брат. Это наш герб. Я был там и разогнал грабителей. Расспросите тех, кто уцелел, они подтвердят.
– Прекрасное объяснение. – Хлопнул в ладони стражник. – Значит, это были вы. Люди вспоминают вас, как своего спасителя.
– Теперь, когда есть объяснение, я приглашаю еще раз. – Сказал Раймунд.
– Мы должны ехать. Надеюсь, в письмах хорошие новости.
Расстались дружески. Братья поднялись в дом. Одно из писем было адресовано Карине, за другое Раймунд взялся сам. – От Артенака. – Коротко пояснил он. – Жив. Здравствует. Готов принять, если я надумаю присоединиться.
– А ты?
– Прежде Карина собиралась. Уговаривала меня. Но теперь свыклась. А я, пожалуй, готов переменить место. – Раймунд старался не смотреть на брата.
– Я думаю о том, – сказал Франсуа после паузы, – что мы могли убить друг друга ночью на дороге. Ты узнал меня, но боюсь подумать, если бы я оказался сильнее.
– А сегодня ты спас мне жизнь. И честь. Хотя, что значит честь для разбойника. Всего лишь удобное оправдание для него самого. Идем, я кое-что покажу тебе. – По темной лестнице они спустились в подвал. Раймунд вынул из тайника ключ, открыл дверь, поднял над головой свечу. Под стеной грудой были свалены мешки. Густо пахло пылью. Раймунд небрежно ткнул мешок ногой.
– Я еще не видел содержимого. Ты помешал. Сукно. Или нет. Последнее время они возят шелк. А назад они повезут шерсть. По крайней мере, так было в прошлый раз. А что здесь? – в воздухе распространился дурманящий аромат. – Ага. Гвоздика. Верный товар. Ты знаешь, как различать настоящий бальзам Египта от подделки? Нужно поддеть на кончик ножа и вынести на яркий свет. Настоящий бальзам тает без следа. Чем быстрее, тем лучше. А козье молоко прокисает от капли бальзама. Можно проверить. – Раймунд говорил со злостью. – А что тут? – Он поднял мешок и сунул его в руки Франсуа. – Стоило нам из-за этого драться. Открывай, не смущайся. Только глянь, что сверху. – Он поднес свечу. Франсуа увидел клеймо, четко выбитое на кожаной ткани. Белый круг с зеленым петухом внутри.
– Это они. – Сказал Раймунд. – Процветающий торговый дом в Иерусалиме. Артенак написал прошлый раз, пять лет назад, они занимали там целую улицу. Как раз там, где был дом Карины. Наш дом. Они все прибрали к рукам. – Раймунд говорил яростно. – Когда Карина болела, я часто ездил в город, искал врачей. И наткнулся на них. Потом еще раз. Они везут и везут. Я пытался не думать об этом. Но не мог. Я закрывал глаза и видел, как они ползут, обоз за обозом, я видел их корабли, теснящиеся в портах Марселя, Амальфи, Венеции, я видел разграбленные и отстроенные заново склады в Яффе и Иерусалиме, я видел караваны, идущие сквозь пустыни. Я сжимал голову руками, чтобы остановить видения. Но чаще всего я видел то, что было явью, ночную церковь и растерзанное тело купца. И все беды, которые свалились на нас потом. С тех пор четыре раза я грабил их. Я забирал, что мог, а остальное жег. До сих пор обходилось без крови, люди разбегались, никто не хотел оплачивать головой чужую выгоду. И вот теперь этот безумец. Через месяц, когда волнение стихнет, мои люди перебросят содержимое этих мешков в свои, и отвезут их на ярмарку, куда-нибудь подальше. А мне пора остановиться.
После ужина братья сидели у огня. Дерево постепенно прогорало, рассыпалось и вспыхивало там и тут отдельными огоньками. Они оживали в глубинах жара, завораживая дремлющее сознание. Под пушистым слоем пепла ярко проступил цветок. Он пробился наружу, раскрыл алые лепестки и исчез, подернувшись багровым сгустком. Затем расцвел еще один, они густо покрыли поверхность пепла, и угасли все разом с тихим шелестом, унося в себе последнюю вспышку огня. Пламя ушло, когда из-под золы мигнул таинственный глаз, блеснул тусклым отсветом кошачьего зрачка, выпустил багровую полосу, она проползла, извиваясь, обозначила хищный звериный профиль. Он развернулся навстречу, обозначив маску странного карнавала. Ощеренная полоса огненно белого рта, лихорадка втянутых щек, заросший густой шерстью лоб. Маска с шипением съежилась и исчезла, оставив вьющийся шлейф дыма. Франсуа очнулся.
– Где Михаил? – Спросил он тревожно.
Раймунд глядел сонно, убаюканный коварной игрой огня. – Он ушел с актерами. Сначала давал о себе знать. Редко, время от времени. Но уже несколько лет о нем ничего не известно.
В ту ночь Франсуа долго лежал без сна.
Утром Раймунд сообщил. – Карина получила привет из Иерусалима. Теперь там мир, женщины чувствуют себя спокойно. Она хочет ехать. А я буду рад изменить свою жизнь. Наши желания совпали. Мы выезжаем весной.
– Значит, мы встретимся.
– Где? – Раймунд и Карина глянули удивленно.
– Я отправляюсь туда завтра. – Объявил Франсуа.
Михаил
1
Он знал о себе все, и он не знал ничего. Он не задумывался об устройстве мира, о природе зла, его тяготило перетекание слов, холодная игра ума, лишенная обжигающего страстного опыта. Книжное знание он воспринимал мимоходом, как берут из корзины яблоко. Он не копил премудрость впрок. Его ощущение жизни было сильнее тяги к многодумью, которое само по себе подкашивает ноги, делает человека рассеянным, вгоняет в сон, как осенний холод муху. Ему было четырнадцать, когда он ушел из дома. И никогда не жалел об этом. Все, что осталось там, не тяготило его память. Драгоценные обрывки детских впечатлений, которых кому-то хватает сполна на всю жизнь, возникали перед ним лишь изредка, на пороге сна и длились недолго, засыпал он крепко и быстро. Он был слишком мал, когда его отец примкнул к христианскому воинству и отправился отвоевывать у язычников Святую землю. Тогда он остался в большом доме на попечении слуг, а мать вскоре исчезла навсегда, подарив ему брата и одно из первых смутных воспоминаний. Детский мозг, поглощенный узнаванием, не остановил, не задержал внимание на том, что должно длиться долго, год за годом – на общении с матерью. Он вспоминал ее теперь отдельными проблесками, выхваченными наугад, и сам образ проступал бесплотным, ничем не связанным с реальными событиями, которые определяют достоверность воспоминаний. И вместе с тем было в них нечто, что осталось, закрепилось прочно, как точка отсчета, с которой и началась сама жизнь, как рубеж для других более зрелых и точных впечатлений. С них пошло движение маятника. Скользнувший по лицу лучик света, легкий будоражащий запах дыма, растекшийся в сырости осеннего воздуха, частицы звука, дробящиеся в звоне колокольцев, прохлада руки, замершей на горячем лбу. Это было понятно. Старое, забытое, что было связано с матерью, больше не могло повториться, и потому было убрано, спрятано навсегда среди таинственных образов детства и являлось нераспознанным среди других ощущений, вызывая смутные будоражащие толчки несостоявшегося чуда, беспокойства и тоски. Одно он запомнил. Постепенно круглящийся живот, под которым он стоял, уткнув голову в ее ноги, прислушиваясь к тайне, вызревавающей изнутри и освобожденной на свет ценой ее собственной жизни. Всю ее сразу, отстраненно чужую, вне связи с этими обрывочными воспоминаниями, он увидел уже мертвой. Плита над ее телом, и чуть раньше разрытая яма и были тем завершением, которым отметило его раннее детство, обрывом, над которым застыло неподвижное и белое лицо. И еще отблеск огня, который после отъезда мужчин стали разводить более скупо, так что темнота собиралась под сводами жилья и отзывалась пронзительным писком летучих мышей. Этот резкий звук странным образом слился с неподвижностью мертвого лица.
Именно потому, что смерть матери закрепились в его сознании отчетливее всего, Михаил не любил вспоминать. Был крошечный завернутый в белое комок кричащей плоти, который пришел на смену покойнице, как бы насмехаясь и подчеркивая захлебывающимся плачем всю несправедливость подмены. Михаил случайно услышал, как кормилица Франсуа, удрученная отсутствием аппетита у младенца, поделилась таким рассуждением с подругой, и с тех пор потеря матери навсегда слилась в его сознании с появлением младшего брата. Пришедший в мир Франсуа стал для Михаила источником первого сильного разочарования. Следующим незабытым впечатлением осталась болезнь шестимесячного брата и огорчение, когда она разрешилась благополучно. Тогда он не сумел скрыть недостойных помыслов от своего первого воспитателя монаха Бенедикта. Святой отец заклеймил его мысли, как недостойные, подкрепив проповедь напоминанием о неисповедимости путей Господних и о женском назначении давать новую жизнь любой ценой.
Отец Бенедикт приезжал из монастыря учить маленького Михаила. Мать просила об этом епископа, который и нарек ее сына в честь покровителя Франции и близости даты рождения с днем празднования этого святого, приходящегося на середину осени. Отец Бенедикт с удовольствием проводил время в педагогических трудах вне монастырских стен. Он был не стар, но имел отчетливо краснеющий нос и во время занятий часто находил глазами графин с вином. Графин постоянно пополнялся, благодаря заботам ключницы, питавшей к святому отцу расположение, с которым женщины относятся к людям, которые не колеблются отпустить мелкие прегрешения и не смущаются выставить себя не только примером поучающей добродетели, но и терпимости к слабостям человеческой натуры.
– Богу следует служить в том состоянии, когда способен ощутить его полнее всего. – Благодушествовал отец Бенедикт. – Служить не из страха, а в состоянии умиротворения, которое также достигается по разному. Искренность помыслов может быть омыта мелкой слабостью человеков, которую Господь понимал и принимал, не отвергая. Потому и звал за собой слабых, что бы сделать сильными…
К тому же латынь – язык прозрачной чистоты, выразительности и силы так часто взывала к Бапхусу, что сохранила сходную интонацию для молитвы, а в сравнении крови и вина скрыто не только догматическое тождество обеих жидкостей, но и прямой мистический обряд приобщения к благодати при помощи… гм, гм горячительных напитков. Именно в таком духе наставлял отец Бенедикт маленького Михаила, обучая его латыни не только по требнику, но произведениям куда менее нравственного содержания. Однажды, не без смущения он даже открылся мальчику в приверженности к еретической фантазии, выведенной из рассуждения о природе человеческой натуры. Соображение это состояло в том, что Христова святость была подкреплена незаурядным актерским талантом, посколько для обретения учеников и последователей недостаточно лишь силы убеждения, чудес и личной жертвы, а необходимо вдобавок нечто скрытое, таящееся в человеческой натуре под маской лицедейства.
Отец Бенедикт часто рассуждал на эти и сходные темы, уже отдав должное вину и отложив в сторону ученые книги. Он даже похлопывал по ним рукой, как бы в размышлении, чему в данный момент отдать предпочтение – графину либо продолжению педагогических усилий. В конечном счете, одно удачно сочеталось с другим.
Выслушав признание своего ученика в неприязни к младшему брату, отец Бенедиет был явно смущен, Возможно, он узрел в дерзком заявлении плоды собственного вольного воспитания, смешавшего воедино проповедь и актерский монолог, путающего слова единожды принятой в сердце истины и лицедейские реплики, изрекаемые ради денег, устами соблазна, направленные на смущение душ и языческое веселье. Свят, свят, свят. Уже одно то, что отец Бенедикт попытался пространно рассеять злое колдовство братского недоброжелательства, а не предал его решительной анафеме, не заклеймил, как искушение Сатаны, не вырвал, как гнилой зуб, а лишь попытался урезонить благодушными рассуждениями, было явным следствием его языческой терпимости. Таковы они – плоды чревоугодия и пьянства. Расплывчатость представления о грехе, желание подвергнуть его оправдательным сомнениям и комментариям особенно опасны для незрелого ума. Потому нелепые разговоры сделали из Михаила скептика, хоть и не склонного по свойствам натуры к увлечению пустыми софизмами, но зато готового по любому поводу усомниться во всех и во вся. Про таких принято говорить, что они не желают пускать Господа в душу. Здесь это было правильно лишь отчасти. Скорее можно было говорить об упрямом нежелании доверять кому-либо править в собственной душе от имени Господа, а, значит, настороженности и недоверчивости, так что и сам Иисус, явись он, как Павлу на пути в Дамаск, мог бы остаться неузнанным.
Михаил равнодушно наблюдал, как малыш Франсуа учится ходить. Он не любил развлекать его, несмотря на то, что кормилица часто оставляла младшего брата на попечение старшего. Когда Франсуа исполнилось два года, в замок заглянул епископ. Он провел в доме несколько дней и внимательно ознакомился с воспитанием мальчиков. Хотя Михаил бойко отвечал на большинство вопросов и показал живой ум, нечто в его образовании смутило епископа. Во всяком случае, с тех пор отец Бенедикт перестал появляться в доме, место его занял другой учитель, не склонный рассуждать на отвлеченные темы. А Франсуа отбыл ко двору сеньора для надлежащего воспитания. Тогда же речь шла о Михаиле, и трудно сейчас найти объяснение тому, что он не последовал за братом. Наверно, было решено не разорять вовсе родовое гнездо и оставить дома хоть бы одного из отпрысков. Незадолго до того было получено послание от их отца, который вместе со старшим сыном Раймундом находился на востоке. Письмо оказалось впоследствии утраченным, хоть содержание его было широко известно и обсуждалось в округе. Там подробно описывалось взятие Антиохии, последующие испытания в осажденном городе и чудесное избавление от султана Кербоги, многократно превосходившего христианское воинство во всем, кроме Божьего промысла. Вспоминали из написанного, что найденная после битвы голова одного из сарацин содержала расстояние полфута между глазами. Восторги слушателей мешались с ужасом. Возможно, в послании содержались указания насчет судьбы братьев. К тому времени весть о смерти драгоценной супруги уже достигла автора письма, и сам текст содержал скорбные слова, при зачтении которых лишь немногие могли сдержать слезы.
Итак, Михаил остался дома, предоставленный заботам нового воспитателя. Скажем по секрету от епископа, что этот новый оказался не намного строже предыдущего, и к тому времени Михаил уже сам нашел себе занятие. Подсказанное вначале одиночеством и скукой, оно заполняло все больше времени и стало предметом постоянного увлечения. Стоя перед единственным зеркалом, Михаил часами разыгрывал сценки и монологи, заимствованные из рассказов отца Бенедикта, а после стал повторять увиденное, из которого выделял смешное и забавное, что не было заметно другим. Тут он преуспел и неожиданно обнаружил восторженных зрителей среди слуг. Эти люди были готовы глазеть на его представления часами. С каждым месяцем он совершенствовался, придумывал костюмы, маски, учился раскрашивать свое лицо и проделывать еще многое, из чего состоит ремесло бродячих жонглеров. Более предосудительное занятие для знатного юноши трудно себе представить, будь присмотр и воспитание чуть получше.
Так миновало несколько лет и как-то, вернувшись с прогулки верхом, он увидел, что во дворе разгружается коляска, а за ним с веселым удивлением наблюдает некий бородач. Это вернулся его старший брат. Вести в то время шли медленно, и Михаил сразу узнал многое. Про смерть отца, женитьбу брата. И познакомился с женой – черноволосой красавицей с печальными глазами.
Вскоре прибыл посланец от сеньора с пожеланием забрать Михаила к себе. Но Раймунд переговорил с братом, и Михаил остался дома. Известие о том, что их младший брат Франсуа здоров, живет в окружении сверстников, и, совершенствуясь в рыцарском искусстве, проводит время с гораздо большей пользой, чем он сам, не вызвало в Михаиле зависти. Чувство свободолюбия избавило его от желания подражать кому бы то ни было. Этот краткий визит оставил в нем лишь опасение, что обстоятельства могут измениться и тогда ему не миновать участи Франсуа.
Молчаливая Карина – жена Раймунда наполнила дом печалью, будто привезла с собой призрачных домовых, и они, расселившись в полутемных комнатах, заполнили их тихими вздохами и влагой пролитых слез. Ее присутствие Михаил ощущал более скрыто, чем явно, по легким шагам, теряющимся в глубине коридора, движению воздуха, колебанию пламени свечи, потревоженному открываемой дверью. После сильной грозы она вовсе перестала говорить и, будто даже с облегчением, утратила возможность общаться, погрузилась в одиночество, как в прочную скорлупу. Впрочем, она оставалась одним из самых внимательных зрителей и часто наблюдала за его представлениями. Но и здесь она никак не выдавала своих чувств.
А Михаил уже готовил целые спектакли, которые изрядно скрашивали однообразную жизнь. Он отличался ловкостью, мог ходить на руках, жонглировал, умел подражать голосам животных и птиц, затевая между ними смешные перебранки. Он изготовил несколько масок, расхаживал в них по дому, вживаясь в каждую, придумывая для нее характер и поступки. Он жил теперь странной жизнью – реальной и вымышленной одновременно. К четырнадцати годам он стал актером и сочинителем сюжетов, которые сохранились анонимно и разыгрывались по субботам на базарных площадях в течение многих десятилетий. Для человека его происхождения он совершал несколько предосудительных действий сразу, не овладев толком ни одним из семи искусств, обязательных для светского образования (грамматика, арифметика, диалектика, риторика, астрономия, геометрия, музыка), не говоря уже о знании богословия, юриспруденции, медицины и даже первейшего среди прочих – рыцарского искусства, к которому был вполне пригоден по здоровью и уму. Вместо того, Михаил предпочел использовать плоды образования и навыки на благо собственным прихотям и на потеху простонародью, от тяжких трудов которого сам был избавлен.
Будто было услышано. От сеньора вновь прибыл гонец. Он рассказал об успехах подростка Франсуа. Он вновь подтвердил приглашение сеньора, подкрепленное желанием их покойного отца. Нужно было собираться и ехать. Предстоящие перемены были Михаилу не по душе. Благодаря содействию Раймунда, он выхлопотал последнюю отсрочку на шесть месяцев. Казалось, деятельная натура должна была торопить его в мир, за пределы родного дома. Он часто наведывался в ближайшие городки, поглазеть на незнакомую жизнь. Молодость требовала новых впечатлений. И чем более он искал их, тем более желал иной судьбы, не той, что была уготована ему в силу происхождения. Ведь оно – это происхождение не только награждает привилегиями, но требует исполнения обязанностей и благородного подчинения чужой воле – назначения столь же определенного и будничного, как крестьянский труд и повседневное усердие ремесленника. Его участью можно было гордиться, но заведомая определенность этого будущего казалась ему унылой и однообразной. Он не желал следовать чужим распоряжениям и приказам, он хотел оставаться свободным в выборе решения. Характер его уже сложился, и, хоть намерения не были окончательно определены, они искали лишь случая, подсказки судьбы, чтобы обнаружить и проявить себя.
Как-то раз на поляне близ ворот замка остановился возок бродячих актеров. Вечером они дали представление. Актеров было двое. Мужчина средних лет, густо заросший черной бородой. Он объявлял номера зычным голосом и хлопал в ладони, показывая их публике. Ладони покрывались чем-то красным, похожим на кровь, а, может быть, действительно, кровью, потому что жонглер тут же брал нож и прокалывал себе язык. При этом он тяжело мычал и тряс головой. Косматые волосы его разлетались. Он брал партнершу – хрупкую девочку, одетую в разноцветные панталоны, ставил ее вниз головой на свою и удерживал так, без помощи рук, балансируя корпусом, а потом подбрасывал точным движением, помогая худенькому телу перевернуться в воздухе и встать на ноги. Для здешних обитателей это было редкостное представление, хоть Раймунд и его жена немало повидали на востоке бродячих фокусников. Здешние зрители были щедры на проявления восторга. Стоя верхом на осле, девочка ездила по кругу, перебрасываясь со своим партнером разноцветными палками, потом встала в седле на руки, а мужчина продолжал жонглировать сам. Еще была комедия с масками про неуклюжего медведя, гоняющегося с завязанными глазами за юркой обезьяной, которая в конце концов запрыгнула ему на голову и облила водой. Смеха было много. Потом, когда веселье улеглось, фокусник дал понять, что комическая часть закончена и вынес небольшую виолу. Девочка затянула тонким срывающимся голосом грустную песню: Вот ее слова:
- Давно закончилась война,
- Но всходит белая луна
- Над домом брошенным твоим
- И как усталый пилигрим
- Ползет в те дальние края,
- Где с пеплом смешана земля,
- И тусклый свет льет, роковой
- На холм под старою сосной.
- Там, шумом битвы опьянен,
- Ты спишь. И вечен этот сон…
Публика осталась довольна. Актеры отказались от приглашения Раймунда переночевать в доме и остались у себя. Рано утром они собирались ехать дальше, в городе начиналась ярмарка. Вечером Михаил прокрался к огню. Актер уже отправился в фургон, спать, а девочка еще сидела у костра.
– Ты кто? – У нее было худое узкое лицо, соломенные прямые волосы, схваченные лентой. Без румян в полумраке лицо казалось мертвенно-бледным.
Михаил показал рукой в сторону замка. Она пригляделась, узнала в нем одного из зрителей и кивнула. Михаил приложил палец к губам и вышел в круг, освещенный пламенем. Он встал на руки и обошел костер. Она засмеялась и подправила его ноги, которые сгибались в коленях и заваливались назад. Он ловко перекувыркнулся назад и вперед, почти не коснувшись руками земли, прошелся колесом и, не переводя дыхания, стал жонглировать тремя каучуковыми мячиками. Потом сунул мячики за щеки, оттянул руками уши, вытаращил глаза и уставился на зрительницу. Та смеялась, не переставая. Он натянул на голову капюшон из козьей шкуры с прорезями для глаз и подведенными усами. Он был готов встать на четвереньки, но тут подошел актер.
Расспросив Михаила, актер, казалось, был разочарован, но попросил продолжать представление. Михаила не нужно было долго уговаривать. Когда он выдохся, костер почти прогорел.
– Смотри сюда. – Актер водрузил себе на затылок красный нос, другой приставил поверх собственного, снял чепец, под которым оказалась совершенно лысая голова, приладил на его место знакомый уже черный парик, делающий его похожим на мрачного цыгана, затем подложил под рубаху подушку, оттопырившую спину, подпоясался и, двигаясь взад и вперед, предстал в обличье сразу двух монахов – унылого горбуна и веселого толстяка и обжоры.
Михаил пришел в восторг.
– А теперь иди домой.
– Я хочу остаться с вами.
– Нет. Ты нам не товарищ. Нас поймают, изобьют и посадят в тюрьму.
– У меня только старший брат.
– Все равно я говорю – нет.
– Ладно. Я догоню вас, когда вы будете далеко.
– Нет. Даже не думай. Я сказал.
Девочка помалкивала. Она была огорчена. А Михаил побрел домой, раздумывая, как добиться своего.
Раймунд дожидался его возвращения. – Ты помнишь, что должен скоро отправляться на службу?
Наступила решающая минута. – Я не хочу ехать. Я хочу уйти с актерами.
– А они?
– Они против – боятся, ты будешь преследовать их.
Раймунд помолчал. – Ты знаешь, кто носит островерхие колпаки? – Спросил он, наконец.
– Знаю. Они. Я видел на ярмарке.
– Жонглеры. Еще евреи. Отверженные человеческого рода. Так о них говорят. Евреи и жонглеры. Упоенные гордыней собственного избранничества. И потому презираемые всеми. Ты хочешь стать одним из них?
– Я знаю еврея, который меняет в городе деньги.
– Это одно из их занятий. Потому гнев направлен против них. Хотя в гневе мало общего со справедливостью.
– У жонглеров нет денег.
– В их смехе – легкомыслие. Оно искажает картину мира и отвращает от высоких мыслей. Иисус не улыбался.
– Но ты громче всех смеялся сегодня.
– Я смеюсь так же, как поглощаю пищу. Там для насыщения, здесь для удовольствия. Но разве в этом наше назначение? Расслабляя себя едой и смехом, мы отвращаем душу от более высокого. Наши руки слабеют от смеха.
– Я не согласен с тобой.
– Не спорь. Я говорю о том, что ждет тебя, если ты решишь присоединиться к этим людям. Стать одним из них. Тебе будут хлопать, бросать медяки, но тебя не усадят за стол наравне со всеми, тебя не пустят в дом с парадного крыльца. Слуга сможет безнаказанно дать тебе пинка. Суд откажется защищать тебя, потому что у тебя нет прав. Ты – никто, просто шут. Когда тебя ограбят или убьют, для тебя не найдется места на кладбище. И на небесах с тобой поступят не лучше. Ты будешь изгоем при жизни и останешься таким после смерти. Подумай. Ты этого хочешь?
– Я хочу уйти с ними.
– И еще. Наше происхождение дает нам не только права, но обязанности. Одно немыслимо без другого. Сейчас пришло время исполнять свой долг.
– Я никому не должен. – Отвечал Михаил упрямо.
Несмотря на трудный разговор, в отношениях между братьями ничего не изменилась. Жизнь после отъезда актеров шла, как и прежде.
Спустя несколько дней Михаил отправился в город на ярмарку. Терзаемому сомнениями, ему не хватало последнего усилия воли, чтобы принять решение.
Около въезда в город на земле сидел нищий. Голова его была похожа на тыкву. Когда-то он был солдатом, попал в плен к язычникам, и те отпустили его, отрезав уши. Он стал безумен и шел повсюду за войском, бормоча малопонятные слова, пугающие людей. Потом к ним стали прислушиваться и обнаружили немало таких, которые сбылись. Он предсказал быструю смерть кавалеру Жюни, который находился в полном здравии и наслаждался любовью недавно овдовевшей госпожи Каллисо, родом из Нормандии. Он предсказал ей стать кладбищем мужей, за что был нещадно высечен, а кавалера Жюни спустя два дня лошадь сбросила в пропасть. Потом он помог отыскать тайный колодец близ Иерусалима, который сарацины оставили до лучших для себя времен. И еще немало сбывшихся слов числила за ним молва. Все, кто верил в Дьявола, спешили дотронуться пальцем до его одежды, чтобы отвести от себя сатанинские козни. Когда же епископ Адальберт строго потребовал разыскать бродягу и представить церковному суду, тот исчез и спустя несколько лет объявился в Европе. Легенда шла впереди него. Находились люди, которые утверждали, что черная лихорадка отступала от города, где он находил себе пристанище. Многие готовы были услужить ему, но он продолжал жить милостыней, бродяжничая летом, и коротал зиму на задворках постоялых дворов, заползая, как в нору, в мешок на подстилке из гнилой соломы. Сейчас он сидел, бормоча, возле городских ворот и глядел на мир пустыми глазами. Ранее он не обращал на Михаила никакого внимания. Но тут вскочил, водрузил на голову мохнатую шапку, остановил идущую шагом лошадь. Бездельничающие возле городских ворот стражники, придвинулись поближе. Но нищий махнул на них рукой и увлек Михаила за собой. Там в тени на куске холста были свалены горой куски хлеба, которым одаривали его прохожие. Он потянул Михаила, усадил перед собой и забормотал, тяжело дыша и тыча в юношу грязным пальцем. Выражение его глаз постоянно менялось. Чаще они были отрешенным, устремленным куда-то в пространство, не видя никого рядом. И вдруг этот взгляд обретал точность, будто распознав нечто невидимое, и тогда пронизывал Михаила насквозь, как стрела, пущенная из арбалета.
– Ты будешь таким, как я. – Бормотал нищий, глотая слова. – Луна ложится в море, когда люди начинают свой день. Я видел. Море слизывает куски луны по частям. Она тонет в воде. Морская соль – вот что остается от луны. Каждое утро она отдает свою соль воде, а вечером взбирается на небо, чтобы повторить все сначала. Соль остается на руках и губах. Ты облизываешь их, когда хочешь умерить жажду, но никогда не утолишь ее до конца. Потому что луна – это и есть соль. Ты будешь тяготиться светом луны, и никогда не сможешь напоить себя. Твоя жажда заставит тебя скитаться, уходить все дальше. Солнце – не для тебя. Оно для других, но ты не такой, как они. Ты уже выбрал, хоть не хочешь признаться себе. Следуй своему выбору. Все решено. Ты будешь невиновным попадать в тюрьму. А когда убьешь, останешься безнаказанным. Ты будешь обласкан, ты переживешь потери. И, может быть, ты сумеешь рассказать об этом. Однажды ты войдешь в волшебный город Азгард. Там лунный свет последний раз коснется тебя. И ты останешься один в темноте.
Нищий замолк. Несколько раз, находясь в сильном возбуждении он снимал и вновь надевал грязную шапку. Стриженая голова его была покрыта крупными каплями пота, длинный белый рубец рассекал ее поперек.
Михаил вытащил монету, протянул ее нищему, а тот, тыча пальцем, показал на изображение солнца. – Видишь, ты сам отдал мне. – Он спрятал монету внутрь ветхой рубахи. – Твой выбор сделан.
– Я не могу решиться.
– Ты сильный. – Нищий заговорил рассудительно и спокойно. – За сильных решает судьба. Это слабые не могут преодолеть ее. Ты дозреваешь, как яблоко. Первый порыв ветра сорвет тебя. Ты можешь упасть, чтобы сгнить в траве. Такова общая участь, и они не задумываются над ней. Но ты можешь преодолеть силу падения. Ты просто станешь другим. – Нищий поднес руку к губам, глубоко втянул в себя воздух, долго сидел, качая головой и пристально глядя на Михаила. Взгляд его был полон сочувствия, а потом стал расплываться, как будто там внутри в глубине уродливого черепа медленно гаснул свет. Глаза его стали незрячими. Он медленно встал, вернулся на прежнее место близ дороги и уселся в пыль, подложив под себя шапку.
В городе было время большой ярмарки. Бесконечной чередой товары шли сюда из всех стран запада и востока. Здесь в самом центре огромного пространства Европы легко ощущалась жизнь далеких окраин, почти недоступных для игры воображения, и вместе с тем узнаваемых зримо, наощупь, на вкус. Здесь можно было увидеть персидские ковры и размять руками тончайшую, как пух шерсть армянских коз, упиться темным палестинским вином, объесться до тошноты засахаренными сирийскими фруктами, сравнить достоинства дамасских и миланских клинков, полюбоваться дешевым шелком из итальянской Лукки, контрабандными тканями Византии, запрещенными к вывозу за пределы империи, примерить арабский плащ с золотым орнаментом, ощутить щекой русский мех, полюбоваться прозрачным рисунком фризских кружев, убедиться в прочности брабантского полотна, вдохнуть аромат бальзамических смол, фимиама – высушенного сока дерева, которому до сих пор поклонялись в далекой Аравиии, попробовать и сравнить масло греческой и иорданской оливы, оценить по достоинству кипрский ладан и высушенный сок алоэ, прицениться к китайскому ревеню и камфаре, используемых для лекарственных нужд, насладиться цветом пурпура, добываемого из финикийских улиток, выползающих на берег в часы прилива, надкусить твердый мускатный орех, вздрогнуть от резкого запаха мускуса, добытого из желез тибетского быка, увидеть, прощупать, обнюхать, попробовать немало других невиданных диковин, а заодно присмотреться к товарам своим, каждодневным, без которых в жизни не обойтись – к хлебу, к домашнему скоту, к птице, утвари, да мало ли еще к чему, лишь бы деньги не переводились и звенели в кармане. Все это было здесь открыто, щедро, за распахнутыми дверьми купеческих лавок и складов. Подходи, смотри, выбирай.
Михаил оставил лошадь на постоялом дворе и стал кружить по примыкающим к площади улицам. Толпа жила ощущением праздника. Наконец, он увидел тех, кого искал. Девочка шла по кругу внутри огороженного веревкой пространства. Она только что закончила представление и теперь собирала деньги в плетеную корзинку. Михаил щедро бросил туда монеты, девочка подняла глаза и по тому, как радостно вспыхнули ее глаза, он понял, что узнан, и она рада. Впрочем, она не стала задерживаться, кивнула ему, как всем остальным, и пошла дальше – тонкая, угловатая, как спустившийся по невидимой нити осенний паучок. Михаил отправился в ближайшую харчевню. Она была забита людьми. Нынешний год оказался удачным в череде нескольких предыдущих – голодных, многие поправили свои дела и готовы были теперь воздать хвалу Бахусу. Михаил быстро нашел, кого искал.
– Нет. – Сказал актер. Он доел фасоль, не отрывая взгляда от глиняной миски, допил вино, забросив его одним махом в разинутый рот с несколькими уцелевшими зубами, встал, толкнул ногой табурет и вышел, не оглянувшись. Михаил посидел еще немного – одинокий среди царящего кругом веселья и отправился домой. Место нищего при въезде в город было пусто.
Раймунд отсутствовал. Он отправился к соседу по имени Артенак. Сам Артенак был сейчас на востоке, и Раймунд на правах старого друга наезжал к нему, чтобы присмотреть за домом. Это значило, несколько дней брат будет отсутствовать. Михаил обошел пустые комнаты и вдруг понял, что решение зависит только от него. Выбор он должен сделать сейчас. Именно теперь он должен решить судьбу. Он услышал, как голос сказал ему. Выбирай. Все зависит от твоего решения. Твой выбор не даст тебе преимуществ, не даст тебе славы, не принесет успеха. Ты волен остаться и стать таким, как все. Этот выбор не сделает тебя хуже. Быть таким, как все, не стыдно, так указывает долг. Но ты можешь уйти. Ты порвешь со своим миром, который воспитал тебя и требует выполнения обязательств. Но ты – свободный человек. Ты сам, один, по собственному решению и выбору. Или ты со всеми. Выбирай.
Больше он не колебался. Времени на сборы ушло немного. Он взял с собой лишь одежду и собственные деньги – ничтожную сумму, которой должно было хватить на несколько дней. Он стоял посреди комнаты, где вырос, и медлил, прежде чем переступить порог. Казалось, стены притягивают и удерживают его. Потом он зашел к жене брата. Он не испытывал к ней особой привязанности. Просто он нуждался в человеке, чтобы скрасить последние минуты.
Она сидела, глядя в окно. Был поздний вечер, уже взошла луна. Карина повернула к нему белое от призрачного света лицо. Он сказал, что уходит, просит брата простить его и не разыскивать. Она выслушала молча, потом встала и прикоснулась губами к его лбу. Это было последним воспоминанием, связавшим его с домом.
Несколько часов он бежал, добираясь до города. Он бросил монету сонному стражнику, и тот отворил ворота. По темным улицам бродили кошки. Он нашел постоялый двор и узнал, что актеры уехали несколько часов назад, не дожидаясь закрытия ярмарки.
Хозяин ничего не знал об их планах, но деньги слегка освежили его память. Днем они расспрашивали выезд на южную дорогу. Михаил бросился прочь. Он бежал ночью один по пустынной дороге среди леса, теряя последнюю надежду. Они могли свернуть, затеряться, он мог не заметить место их ночлега. Он потерял их, еще не успев найти. Задыхаясь, он выбежал на пригорок, здесь дорога раздваивалась, растекаясь, как река, в лунном свете. Дальше он двигался наугад, туда, где мерцающий свет был ярче. И, казалось, ошибся. Воздух посветлел. Лес по сторонам дороги, отделившись от тьмы, хранил загадочное молчание. Подступало утро. Он бежал без отдыха всю ночь, и он устал. И когда в отчаянии он уже готов был остановиться, впереди проявилось пятно, будто слепленное из остатков ночи. Он сделал последнее усилие, еще не веря глазам, и пошел рядом, ухватившись за край возка. Верх его был поднят, была видна голова девочки, зарывшейся в одеяло. Она спала. Дремал и актер, доверив дорогу лошади. Некоторое время Михаил шел незамеченным, с трудом сдерживая шумное дыхание. Потом он тронул актера за рукав.
– Я хочу остаться с вами. Ты можешь прогнать меня, но назад я не вернусь. – Объявил Михаил вместо приветствия.
Актер помолчал, размышляя, а потом кивнул на место рядом с собой. Михаил забросил тощий мешок и запрыгнул в повозку.
Пока еще внешние силы распоряжались его судьбой, но как мало нужно, чтобы они изменились, если плод дозрел и готов сорваться с питавшей его ветви. Казалось бы, случайные обстоятельства меняют жизнь, но они не для всех. Они изменяют тех, кто готов, и равнодушны к другим, кто сыт, доволен или малодушен, чтобы принять вызов. Не жалуйся на время, вглядись в себя.
2
В трактире было грязно. Не верилось, что еще длится, склоняясь к вечеру, долгий солнечный день. Маленькое окошко неохотно пропускало свет, из кухни густо тянуло чадом. От дыма слезились глаза. В нише за хозяйским местом скупо тлел светильник, выбрасывая под черный потолок извивающуюся струю копоти. Хозяин принес Михаилу вино и взял деньги вперед. Это правило строго соблюдалось на выезде из города среди бродяг и прочего подозрительного люда. Не зря хозяин прикармливал в своем заведении городских стражников. Двое и сейчас сидели, составив под стеной оружие, и пили, судя по хмельным голосам, уже не первую кружку. Хозяин находился при дорогих гостях неотлучно, пил вместе с ними и громче всех хохотал в ответ на пустые шутки. А Михаил терпеливо ждал, пока они наконец, разойдутся. Нужно было поговорить с хозяином, но сделать это пока не удавалось. Он сидел, уставясь в стену, и размышлял. Прошло более трех лет, как он ушел из дома, и теперь ему вновь предстояло сделать выбор.
Все эти годы он провел с Люэной и ее отцом. Люэна стала его женой. Тогда им было по пятнадцать. Там, где они жили, нельзя было иначе. Слишком плотно соприкасались их тела во время выступлений и руки обнимали, удерживая друг друга. Спали они рядом, укрываясь от холода одним большим одеялом. И главное, они были молоды. Отец отдал ему дочь, не требуя взамен клятв и обещаний. Уже потом, когда Люэна оказалась беременной, бродячий монах сочетал их при свете костра. Когда Люэна избавилась от плода за два золотых у бабки-ворожеи, она вспоминала со слезами свой брачный обряд. Впрочем, она легко переживала неудачи, и слезы на ее щеках высыхали быстро. Не зря Люэн ворчал, упрекая ее в легкомыслии. Даже угрозу, что Михаил бросит ее, она встречала со смехом. Один раз он собрался уходить. Было это, когда он застал ее с бродячим студентом, присоединившимся к ним по дороге на Париж. Студент клялся, что Люэна сама прихорашивалась перед ним и распускала волосы. Михаил избил его и бросил в реку. Он знал за собой вспышки ослепляющего гнева. Но тогда он не ушел. Слишком много времени он провел с ними. Все решил ее отец. Пожалуй, к старому актеру Михаил был привязан больше, чем к его дочери. Тот уговорил Михаила остаться. Михаил был серьезной подмогой. И дело даже не в том, что благодаря Михаилу, их выступления стали гораздо интересней. Путешествия по дорогам и частые стоянки в пути вне городских стен таили серьезную опасность. По лесам бродило немало народа, охочего на поживу. Впрочем, актеров трогали не часто, заставляя расплачиваться даровым зрелищем. Не раз им приходилось давать представления для лихих людей. Но зато актерам могли заплатить щедро, и такое иногда случалось. Помимо опасностей, поиска зрителей и денег, жизнь в постоянных переездах и скитаниях давала ощущение легкости и свободы. Михаил не раз вспоминал предупреждение брата и теперь мог подтвердить его сам. Да они не такие, как остальные – приросшие к месту, связанные обязательствами и привычками, живущие в унылых трудах между церковью, рынком и кладбищем. Они были другими. Не хуже и не лучше, но другими. Жизнь выталкивала их из грязных городов, из сырых землянок и дымных хижин под солнце, под звезды, под холод и дождь, и что же она давала взамен? Способность видеть иначе, думать и даже молиться по-своему, чтобы слова слагались и звучали особо, так, как только они могли увидеть и ощутить этот мир. Природа дала им способность творить.
Они странствовали летом, а зимой въезжали в город и пристраивались на подворье у богатых людей. Пищу и ночлег они отрабатывали своим искусством. За последний год стали появляться свободные деньги. Актер сделал под днищем возка малозаметный ящичек и копил там сбережения. – На случай, – грустно шутила Люэна, – когда муж сбежит от меня. Свойства, присущие гордым натурам, заставляли ее торопить события и искать перемен в ущерб собственному благополучию. Лучше бросить вызов судьбе, чем ждать пока она найдет тебя сама, и запустит когти. Люэна чувствовала, что однообразная жизнь стала тяготить Михаила. Прошлой зимой, еще до истории со студентом, во время зимнего сидения в замке некоего барона, Михаил соблазнился хорошенькой служанкой. Актеру пришлось объявлять выезд прежде обычного, до того, как дороги высохли от весенней распутицы.
Но молодые союзы часто страдают от подобных недоразумений и успешно преодолевают их, есть сумеют набраться терпения и мудрости. За годы совместных странствий, времени лишений и невзгод, за дни и ночи, которые они делили друг с другом, у Михаила появилось ощущение единого целого, ветви, привитой к другому дереву и развившемуся на нем, повадки человеческого младенца, подброшенного к волкам, и ставшего одним из них. Подчиняясь истории, которую часто рассказывали в этих краях, Михаил сочинил представление о трех волках. Из кожаных масок, которые сшил Люэн, одна изображала плутоватую ухмыляющуюся волчицу, а две других – совершенно одинаковых – ее ухажеров, молодого – Михаила и старого – Люэна, проникающих в таком обличье к своей возлюбленной, обманывающих не только ее, но друг друга. В этой волчьей истории, где каждый старался выгадать для себя, обмануть соперника и расчетливую, жестокосердную кокетку-любовницу, оказалось немало поучительного, и зрители, вдоволь нахохотавшись по ходу зрелища, расходились озадаченными и смущенными, будто сброшенные в финале маски позволили им увидеть не только лица актеров, но и самих себя. Теперь эти маски лежали под столом, и время от времени Михаил трогал мешок ногой, как бы желая убедиться, что случившееся – не сон.
Полмесяца назад они впервые подъехали к этим воротам. Тогда они были широко распахнуты. Где были горожане – умерли все до единого или бежали, оставив город пустым? Пока актеры настороженно осматривались, ударил колокол и в воротах появились монахи, несущие крест, а следом одна за другой две крытые телеги.
Ясно, что было скрыто под белым покрывалом. В городе свирепствовал мор. Им повезло, что они не явились раньше. Замечено, что бич божий особенно беспощадно карал горожан после того, как они предавались развлечениям с заезжими скоморохами. И эти не избежали бы расправы. А пока они остановились рядом, в пригородной деревушке. Еды было много, теперь, когда торговля замерла, отдавали ее почти даром. И стояли так, пока один из городских, пережидавший по соседству тяжелые дни, сообщил, болезнь пошла на убыль и за последние дни городская стража не обнаружила новых мертвецов. Окуривали дома, можно надеяться, нынешние похороны станут последними, и смерть, насытившись, отпустит уцелевших восвояси. Самое время для праздника. Люди нуждаются в нем, чтобы отметить избавление и забыть побыстрее о пережитых испытаниях. Стоило задержаться в городе на несколько дней.
Поначалу так и было, городская стража объявилась на своих местах, а сами ворота стали запирать на ночь. Жизнь, как видно, налаживалась. Приехали перекупщики. У горожан появился аппетит. Еще день-два и актеры будут кстати. Но тут их опередили. Они уже укладывались, как в город въехал большой отряд. Одних конных рыцарей Михаил насчитал более ста. А сверх того множество простых солдат и прочего люда, который легко снимается с места. Таким кажется, что жизнь вдалеке легче и мед слаще. Пришли они, видно, издалека, и путь им предстоял неблизкий, что следовало из количества поклажи. Они еще не успели обноситься, и поход не тяготил. Проехали знатные дамы, путешествующие для развлечения верхом, кавалеры, тесня друг друга, развлекали женское общество. Шествие заняло несколько часов. Город отметил прибытие радостным звоном колоколов. Михаил узнал новости от простолюдина, ловившего сбежавшую козу. Герцогиня Миллисента выехала в Иерусалим для соединения с мужем, пребывающим там уже несколько лет. И увлекла за собой немалое число знатных людей, очнувшихся, как от спячки, при будоражащих вестях из христианнейшего Града. Примкнули и другие, жаждавшие посвятить себя службе Господу в Святой Земле, и устроить заново жалкую жизнь, придав ей цель и смысл. Так составился этот поход. Пока, впрочем, обходилось без трудностей. Испытания ждали впереди.
Город ожил. Для актеров это было удачей. Решено было, сначала Михаил отправится в город один, присмотрит места для ночлега и будущих выступлений. Он и сам любил такие вылазки. Теперь, когда Михаил стал сочинять, одиночество увлекало его.
Горожане было поглощены заботами, связанными с размещением паломников. Те собирались задержаться на несколько дней и передохнуть. Это сулило актерам неплохие заработки. Михаил присмотрел место для выступлений, пора было отправляться к своим, возвращаться в город и браться за работу.
Теперь на городской площади возле огромного старого дерева толпились люди. Из ветвей неслись истошные вопли. Зевак было предостаточно, Михаил узнал, что переполох подняла обезьянка – любимица герцогини, сбежавшая из рук фрейлины. Теперь проказница никак не хотела возвращаться и кричала откуда-то сверху, невидимая с земли. Сама фрейлина была тут же. Ее васильковые глаза были заполнены слезами. Принесли лестницу, но обезьянка забралась высоко и спускаться не хотела. Видно, она была испугана собравшейся толпой. Ветви дерева почти ложились на крыши соседних домов, и обезьянка могла сбежать. Понятно, почему плакала фрейлина. Молодой хорошо одетый господин, судя по виду, благородного происхождения, утешал ее, но и сам был растерян, не зная, как поступить.
– Ты знаешь, чей это дом? – Молодого человека не смутила простота обращения Михаила, хоть тот одет был бедно, и лицо – загорелое обветренное походило на лицо крестьянина.
– Дом городского головы. Два этажа он уступил герцогине.
– Если поможешь войти, я готов попробовать снять обезьяну.
Они поднялись на верхний, третий этаж. Узорчатый переплет окна был распахнут, ветви дерева находились всего в нескольких метрах и среди них мелькал рыжий комок. В отличие от многих, Михаил не боялся высоты. Он сбросил веревку и подтянул за нее лестницу. Медленно, выдвигая из окна, он положил ее на ветви дерева и проверил устойчивость нажатием рук. Один конец крепко застрял среди ветвей, другой лежал на подоконнике. Похоже, можно было действовать. Михаил показал молодому человеку, как держать лежащий на окне конец, закрепил его для надежности веревкой и пополз над площадью. Обезьянка была занята собой, не обращая на него внимания. Михаил двигался осторожно, ощущая угрожающие колебания опоры. Наконец, оказался рядом. Медленно и осторожно, чтобы не спугнуть, протянул руку. Он ловил воздух раскрытыми пальцами, но дотянуться не мог. Тогда он попытался втиснуть свое тело между перекладинами, но плечи не пускали. Ветви все ощутимей проседали под тяжестью тела. Он чувствовал безмолвное оцепенение глазеющей снизу толпы. Еще раз проверив устойчивость лестницы, он решился на отчаянный шаг, перекинул тело через боковую перекладину. Лестница шатнулась, а он повис вниз головой прямо над площадью. Обезьянка оказалась совсем рядом, но перескочила на другую ветку, не думая сдаваться. Глаза ее смотрели бессмысленно. – Стоило рисковать. – Подумал он, а вслух попросил. – Ну, иди ко мне. Скорей, скорей. – И обезьянка неожиданно откликнулась. Она легко вскарабкалась по руке ему на плечо, царапнула щеку острым коготком и, перескакивая по перекладинам, заскочила в комнату. Все это он увидел, зависнув головой вниз. Он сделал резкое движение, пытаясь вернуть тело в исходное положение, успел сесть верхом, но тут лестница дрогнула и поползла. Косо мелькнули ахнувшие люди, исчезли искаженные лица за окном. Но он не упал, лестницу вынесло на стену. Он принял удар, ощутив боль в разбитых локтях и коленях, но удержался, повис на стене и теперь мог не торопиться. Он даже помахал на прощанье взволнованной толпе. А сам медленно взобрался по перекладинам и спрыгнул в комнату.
На него смотрели с восторгом. Фрейлина подбежала первой и сжала его руку. Глаза ее сияли. Михаил нашел взглядом молодого человека и кивнул. Удержав лестницу, тот спас ему жизнь. Было шумно, но люди расступились, и Михаил увидел в глубине комнату женщину. Черты лица ее были спокойны, она была бледна, будто давно не видела света. Красота ее скорее отпугивала, чем привлекала, столько надменности и холода было в застывшей улыбке. Светлые волосы были гладко зачесаны назад и перехвачены лентой из сверкающего серебра. Обезьянка сидела на коленях.
Михаил назвал себя. Путешествует в одиночку. Он не назвал свое ремесло. Зачем? Во время будущих выступлений они успеют разглядеть его, как следует. Успех обеспечен. Они узнают, что имели дело всего лишь с жонглером.
Ничто не изменилось в лице герцогини. Она осталась все той же замороженной до бесчувствия куклой.
– Не хочешь присоединиться к нам?
Михаил поклонился, стараясь, чтобы отказ выглядел вежливо. Он никогда не чувствовал себя зависимым от мнения женщины, но тут что-то сковало его волю. Герцогиня приняла его ответ равнодушно. Не оборачиваясь, она протянула руку, и стоящий за плечом дородный мужчина с поклоном вложил в нее кошелек.
– Вот тебе за труды. Ты рисковал жизнью.
Михаил еще раз поклонился.
– Бери. – Приказала она.
Он покачал головой, не сводя взгляда с ее лица. В глубине глаз мелькнул проблеск света, малая искра, заметная лишь ему одному. Внешне она осталась холодна и спокойна. Она откинулась в кресле и связь между ними оборвалась.
– Тогда еще раз благодарю тебя. Ты хочешь уехать из города?
Михаил подтвердил. Он рассчитывал вернуться в самом скором времени, но решил ничего не прояснять.
– Можешь присоединиться к нам, когда захочешь. Я буду рада.
На лестнице Михаила догнала фрейлина. Она была счастлива и красива. Молодой человек, удержавший лестницу, выбежал следом. По тому, как он взял девушку за руку, было понятно, он имеет на нее права, но она вспыхнула и засмущалась, откровенное проявление чувств было ей сейчас не по душе. Отнеся эту досаду за счет собственных достоинств, Михаил выслушал заверения в дружбе и вышел из дома. Толпа уже разошлась. Возвращаться к своим пока не хотелось и остаток дня он с провел в трактире, где его быстро узнали и даже угостили за счет недавних зрителей. К вечеру он не стоял на ногах, а, как следует, пришел в себя только утром. Ночевал он, как и прошлую ночь, в каком-то сарае. Бродячая жизнь сделала его неприхотливым.
Возвращаясь после двухдневной отлучки, Михаил напряженно размышлял, как поступить. Идти в город на представление казалось теперь невозможным. С каким удовольствием те самые люди, с которыми он стоял вровень по праву рождения, станут швырять монеты к его ногам. С какой радостью и издевкой они примут его поклоны. Как будет им сладостно его унижение. До сих пор спесь богатства и знатности не задевала его, он был безлик и безымянен. Он был один из многих людишек, о которых тут же забывали, посмеявшись, отрыгивая после сытной еды, дополнив зрелищем радости чревоугодия. Но теперь он взглянул в лица этих людей, он взглянул в лица их женщин, он назвал себя и вышел на свет из собственной тени. Он стал виден и собственная гордость предъявила ему счет. Тому, кто продолжал жить в нем все эти годы. Кто владел наследием его отца, далеких предков, которые дали ему славную фамилию.
Размышляя, он добрался до знакомой поляны и застыл в недоумении. Актеры исчезли. Михаил не мог ошибиться. Здесь они простояли более двух недель. Каждый куст, каждое дерево были знакомы. Он глядел в черный след от костра, и не мог поверить собственным глазам. Они оставили его, как грозилась Люэна во время недавней ссоры. Ушли тайком. Недавние сомнения были забыты, их сменила обида. Он бросился было к дороге, но за два дня они должны были уйти далеко. Догонять бессмысленно. Полный горечи, он вернулся на поляну. Ощущение предательства было нестерпимым, ничто – ни вновь обретенная свобода, ни желанное еще недавно одиночество не были достаточной платой. По поляне ползли тени, он сел, бессмысленно уставясь в ветви кустарника. И прямо перед собой увидел обрывок яркой ткани. Он поднял его и тупо разглядывал материю, которая еще недавно была одним из платьев Люэны. Он еще раз обвел взглядом поляну. Застывшее молчание казалось зловещим. Он справился с дурным предчувствием. Люэна легко относилась к одежде, могла порвать и выбросить. Он убедил себя и вдруг увидел, след от возка, он тянулся вглубь леса. Земля здесь была песчаная, сухая, следы исчезали быстро и, тем не менее, были видны. Он встал на колени. Теперь он ясно видел сломанные ветви, мятую траву. Он полз по следу вглубь леса, наткнулся на старый туфель Люэна, который сам подшивал, потому что глаза стали подводить актера. Михаил повертел его в руках и отбросил. Двигаться вперед было труднее, лес густо зарос кустарником. След вывел его на край глубокого оврага, внизу густо росла ежевика. Колея оборвалась на краю обрыва, Михаил разглядел внизу торчащий из зарослей задок возка. Зелень поглощала его, как вода. Он спрыгнул, с головой погрузившись в темную яму. Царапая руки, он подобрался к возку и стал обшаривать его почти наощупь, он вел руками, как слепой, и пальцы его ощутили тягучую липкую массу. Он поднес руку к глазам и увидел кровь, много крови. Ветви деревьев сомкнулись над оврагом, было почти темно. Он заполз под днище возка и нащупал обрывки веревки. Тайник, где актер прятал деньги, был пуст. Волосы Михаила слиплись, пот катился по грязному лицу. Он поднял глаза и увидел прямо над собой в сумеречном проблеске неба зацепившееся за ветви тряпье: одеяло, старый занавес для представлений, который Люэн подкладывал на кучерское место. Он выбрался наверх. Город был рядом, лес подходил к нему почти вплотную. Грабители уходили налегке, следы их затерялись, но они были там в городе. Нога его ткнулась в мешок, который, видно, выпал с возка. Он подобрал его, раскрыл и вытащил одну за другой три волчьи маски. Он разложил их рядом, все три. В середине маску молодой волчицы. Белые острые зубы в ощеренном рту, торчащие уши, игривая ухмылка суки – смесь похоти, алчности и полудетского удивленного ожидания. С обеих сторон – морды матерых зверей, готовых перегрызть горло, страшные в злобе и вместе с тем странно тщеславные, глупые, возбуждающие не только страх, но и жалость. Все маски дружно уставились в Михаила дырами на месте глаз. Он долго сидел, оплакивая судьбу друзей, потом очнулся, пришел в себя. Он глянул вокруг с удивлением, будто открывая мир заново, собрал маски в мешок, закинул за спину и пошел к городу. По дороге он спустился к ручью, тщательно вымыл лицо и руки, пригладил растрепанные волосы. В таком виде он зашел в трактир. День угасал, предстояло решить, как быть дальше.
3
Стражники встали, разобрали оружие и отправились на пост. Прямо напротив, через дорогу от трактира, они были видны через распахнутую дверь. А здесь наступила тишина. Тоскливо жужжали мухи. Зашел крестьянин с пустыми корзинами, спросил вина, выпил и отбыл дальше. Должно быть, выгодно сбыл товар в ожившем городе, и теперь спешил домой. Лето – крестьянская пора. Пора было собираться Михаилу. Он прикидывал, стоит ли расспросить трактирщика. Плутоватое лицо не внушало доверия, хоть ясно, тот знал здесь каждого. Нет, сначала нужно было идти в город, осмотреться там. Давно пора, но пустота внутри мешала встать. Вино было кстати, лекарство от боли. Он забылся, как ушедшая в темные глубины рыба.
Тут и зашли двое.
– Что, нет работы? – Спросил хозяин, подавая вино.
– Можем обойтись. По крайней мере, на время.
– Лучше, когда ты сидишь без работы. – Трактиршик подмигнул Михаилу. Или тому показалось.
– Зато у тебя дела всегда идут хорошо. Твой товар сгодится и в праздник, и на поминки.
– Лучше, чтобы на праздник.
– Ага. Каждый из нас найдет, чем угодить другому. Ты налей без денег, а мы похороним тебя так, что жена останется богатой вдовой. – Посетители дружно расхохотались. Они уже были навеселе.
– Тогда мне не будут нужны ваши деньги. Потому платите сейчас. – Рассердился трактирщик. – Ты знаешь порядок. Деньги вперед.
– Заплатим. Держи. Или хочешь еще?
– Ого. С каких это пор? Сколько дадите, много не будет. Если заплатишь вперед, то полюбишь жизнь еще больше. Легко жить, когда уплачено.
– Старый сквалыга. Знаешь нас всю жизнь и боишься доверить хотя бы грош.
– Потому что завтра снова явитесь. Оставим долги до худших времен, а теперь платите.
– Давай, давай. – Один из посетителей достал из-под стола сумку, вытащил хлеб и несколько луковиц. – Лук – лучшее лекарство. Лук и вино. А как же иначе, когда приходится иметь дело с благородными клиентами.
Хозяин и гости дружно расхохотались. Но этого Михаил уже не слышал. Все его внимание было привлечено к сумке. Это была сумка Люэна. Он сам сшил и подарил ее актеру. Даже инициалы актера были видны. Михаил сдержал себя. Вдвоем собутыльники были явно сильнее, да и стража оставалась рядом. Он был здесь чужаком. Казалось, удары сердца разносятся на весь трактир. Но внешне он оставался спокоен.
Могильщики принялись за еду. Пили они много, разговор стал бессвязным. Впрочем, ничего интересного Михаил не узнал. Эпидемия кончилась, и могильщики, не стесняясь, прикидывали, на сколько им хватит заработанного.
Михаил показал хозяину, что хочет заказать еще. Сумка приковывала взгляд. Внезапно один из могильщиков – невысокий широкоплечий с заросшей многодневной щетиной лицом уставился на него, что-то сказал хозяину сумки, и теперь они принялись разглядывать Михаила вдвоем.
– Эй. Иди к нам. Я угощаю. А ты налей. Я как раз рассказывал о тебе. – Могильщик тыкал в Михаила пальцем. – Нужно было видеть, как он снимал с дерева тварь, которую Господь создал по ошибке. Я был уверен, он свернет себе шею. Он чуть не разбился в лепешку.
Его собутыльник, здоровяк с большим голым черепом, навалившись грудью на стол, разглядывал Михаила с явным подозрением. – Ты кто? Актер? Из этих, из жонглеров?
– Что ты? – Михаил сделал удивленное лицо. – Я догоняю своих. Иду со всеми в Палестину. Лошадь сдохла, проклятая скотина. Хочу заскочить в деревню. Может, там удастся найти.
– Здесь нет. Можешь не искать.
– А ты мог бы помочь?
– Нет.
– Ты же вчера спрашивал покупателя. – Подсказал приятель. Считай, что нашел. Так что угощай.
– Я плачу. – Денег у Михаила было в обрез, но разговор того стоил.
– То было вчера. А сейчас нет. Завтра можно поговорить, если у тебя есть чем платить.
Вместо ответа Михаил похлопал себя по бедру. – Будешь доволен.
– Если есть деньги. – Тупо повторил могильщик.
– Он же сказал. – Поддержал Михаила его товарищ. – Чего он станет врать.
– Ладно. Приходи к полдню на рыночную площадь. Там, где вчера. Через дом от ратуши живет мой хозяин. Спросишь дом господина Сабана. Понял? Сабана. Это хозяин. Я буду внизу. Зовут Жак. Там поговорим.
– Как раз напротив дома, где остановилась эта. – Приятель взбил вокруг головы воображаемую прическу и выпятил губы. – Там, где ты ползал за обезьяной.
– А кто такой Сабана? – Переспросил Михаил, будто прикидывая, как лучше запомнить имя.
– О-о, важный человек. – Разговорчивый могильщик вертел головой. – Не пропустит ни одну. Пока жил в деревне, бегал за каждой.
– Не болтай. – Рявкнул верзила Жак.
– Конечно, конечно. Преданная собака всегда защитит хозяина.
– Но у тебя свое ремесло? – Михаил старался расположить к себе слугу господина Сабана.
– Это у меня. – Закричал его приятель, тыча себя в грудь. – Его я уговорил потрудиться, потому что никакая смерть его не берет. Все они. – Он обвел рукой трактир. – Все обходят меня стороной. Кроме одного единственного раза. – Он торжественно поднял палец. – Они знают. Они не обнимаются со мной возле церкви. Но я могу обойтись без них, а они без меня – нет. Придет день, и я являюсь в их дом. Я не гордый…
– Хватит. – Прервал его Жак. – Опять придется тащить тебя домой.
– А я еще думал уговорить его в напарники. – Не унимался могильщик. – Но тут даже покойники против.
– Не болтай. – Жак стукнул приятеля по затылку.
– Эй, – закричал трактирщик, – подраться успеешь на улице.
– Зато мы платим. – Верзила обернулся к Михаилу. – Надумаешь, приходи завтра – И потащил приятеля за дверь.
Михаил выждал. Стояли густые сумерки. Возле городских ворот сидели полупьяные стражи. После захода солнца они пускали чужаков по своему усмотрению. И, конечно, не бесплатно. – В городе и так хватает народа. – Пояснил стражник. – Утром не опоздаешь.
– Я иду к герцогине. – Михаил отвечал спокойно. – Я ее гость.
Стражник расхохотался. – Для такого приглашения ты не слишком торопишься. Не знаю, какой вкус у этой дамы, а потому рассчитываю на свой. Ты будешь сидеть с нами, пока не докажешь, что ты – святой Петр.
– Пропусти его. – Михаил обернулся и увидел недавнего знакомого, кавалера фрейлины. – Возьми, – молодой человек бросил стражнику монету.
– Ну, что же, важная птица. – Стражник поднял монету и посторонился.
Лошадь нового приятеля шла шагом, и Михаил поспевал без труда. – Решил присоединиться к нам?
– Я меня дела в городе. Но думаю пойти с вами.
– Замечательно. – Молодой человек радовался от души. – В городе много пустых домов, но лекарь возражает, чтобы мы занимали места умерших. Поэтому можешь переночевать у меня. Ты – мой гость. А завтра отправимся дальше. Ты когда-нибудь видел море? Нет? И я нет. Говорят, от Венеции плыть не меньше месяца. А до того еще нужно перейти горы. Потому мы спешим. – Все это Альберт – так звали нового знакомого выбалтывал с детским простодушием. Михаил – по виду его одногодок ощущал себя стариком. Наверно, так и было. Он вспомнил погибших друзей и замолчал, что бы не выдать себя рыданием.
Между тем, они добрались. Углы улиц, выходящих на площадь, были освещены факелами, окна ратуши светились. И люди толпились.
– Герцогиня дает прием. Сейчас я покажу тебе комнату, а потом вернемся сюда. – Мати, Мати. – Альберт заметил фрейлину, соскочил с лошади, подхватил девушку под руку, показал на Михаила. – Он идет с нами. Девушка кивнула и убежала. – Мы обручены, – пояснил Альберт, с восторгом глядя вслед. – Свадьба будет в Иерусалиме. Поэтому мы так спешим. Пойдем, герцогиня обрадуется тебе.
Михаил подхватил мешок с масками – единственным своим имуществом и пошел за Альбертом. Знакомство с комнатой не заняло много времени, они вновь оказались на площади. Здесь было шумно. – Среди городских есть желающие присоединиться к нам. – Сказал Альберт. – Дали обет в честь чудесного избавления от мора.
Прислушиваясь к приятелю, Михаил отыскал глазами дом, где могильщик назначил встречу. Увидел у коновязи рядом с распахнутыми воротами грузную фигуру Жака. Они прошли рядом, Михаил постарался остаться незамеченным. Теперь он был охотником – расчетливым и осторожным.
Время было подходящее. Свет мешался с тьмой, делая удобным наблюдение. Множество людей были беспечны и заняты праздником. Ударил колокол. Прошли монахи, сохраняя в ладонях пламя свечей, молиться об облегчении пути. В домах вокруг площади разгорались огоньки.
В зал ратуши стекались горожане и паломники. Герцогиня восседала на возвышении. Городской голова уступил ей свое место, а сам стоял за креслом и представлял именитых горожан. Приятели присоединились к длинной череде желающих выразить почтение блистательной Миллисенте. Она встретила появление Михаила прохладным взглядом, кивком отметила его пожелание присоединиться к походу и отвернулась.
Альберт был огорчен приемом. Он относился к породе юнцов, болезненно переживающих собственную молодость. Такие только и мечтают, как совершить подвиг, чтобы утвердиться во мнении старших. Голова Михаила была занята другим.
Заиграла музыка, в зал понесли вино. Веселье, впрочем, было чинным. Герцогиня не любила пьяных. Михаил поспешно решал, как отвязаться от Альберта. – Сейчас она сядет играть в шахматы. – Предсказал тот. И, действительно, герцогиня выбрала для себя партнера, а возле фрейлин замелькали кавалеры, готовые занять их своим обществом, пока Миллисента станет передвигать фигуры. Мати пользовалась вниманием, Альберт должен был постоянно находиться рядом.
Все решилось, как можно лучше. Михаил выскользнул на площадь. Здесь находилось немало народа, желающего издали поглазеть на праздник. Михаил нырнул в густую темень, отыскал нужный дом. Ворота в нижнем этаже были открыты. За ними был склад или мастерские, там шла работа. Верзила Жак старался успеть сразу во многих местах. Оглядевшись, Михаил проник внутрь и затаился за горой плотно набитых мешков. Жак стоял возле стола на расстоянии вытянутой руки, спиной к нему и был занят. Михаил расстегнул рубаху, вытащил волчью маску, надел. Теплый запах кожи вернул ему спокойствие. Глаза его нашли короткую дубинку, которой мешают варево в котле. Неслышный, он подкрался к могильщику, примерился, ударил коротко и сильно. Голова глухо стукнулась о стол. Найденной веревкой Михаил туго связал руки и ноги, плотно заткнул тряпкой рот. Все это он делал быстро, перебежал к двери, убедился, что остался незамеченным, закрыл ворота и запер их изнутри на засов. Жак лежал, похожий на большую спеленутую куклу. Михаил плеснул водой в лицо. Могильщик замычал, открыл глаза и уткнулся в склонившуюся над ним волчью маску. Он задергался с такой силой, что, казалось, готов был обрушить склад. Михаил взялся было за дубинку, но увидел заготовленный загодя факел. Михаил разжег его и поднес к лицу могильщика.
– Говори, – приказал он, – что ты сделал с мужчиной и женщиной в лесу. – Михаил старался говорить глухо, и сама маска изменяла голос.
Жак попытался уйти от близкого огня, Михаил поднес факел вплотную. – Если закричишь, я сожгу тебе глаза и лицо. – Михаил вытащил тряпку изо рта.
– Я не убивал их.
– Где они?
– В общей могиле. Я хоронил, но не убивал.
Михаилу стало трудно дышать. До сих пор он надеялся найти друзей живыми. – Кто убил их? Кто? – Жак извивался по полу, Михаил прижал тело ногой и поднес огонь. – Кто? Говори.
– Мне дал господин Сабана.
– Что дал?
– Сумку. Немного денег. Еще. Сказал, чтобы я подобрал тела и похоронил. Там, где не будут искать.
– Что он еще говорил? Что? Кто был с ним?
– Не знаю. Он зашел сюда.
– Почему? За что он убил их.
– Я не знаю, кто убил. Я не видел.
– Врешь. Ты не раз убивал вместе с ним.
– Нет. Клянусь. Я работаю на него всего два года. Женщина…
– Что женщина? Ну?
– Я знаю, он становится жесток, когда ему перечат. Он теряет голову от ярости. Я слышал рассказы на этот счет.
– Что слышал?
– То, что говорю тебе. Но он осторожен. Наверно, потому он велел спрятать тела. Я невиновен.
– Ты? Который пользуется награбленным. Говори, как найти твоего хозяина.
– По той лестнице. – Могильщик кивком головы пытался показать дорогу. – Дальше. На третий этаж. Там его комнаты. Но сейчас его нет. Он в ратуше вместе со всеми.
– Дверь к нему открыта?
– Да, да. Слуги поднимаются. Это черный ход. А он заходит с улицы.
– Ты запираешь эту дверь изнутри?
– Да. Иногда я сплю здесь.
– Сегодня останешься со мной. Будешь лежать тихо или я суну тебя лицом в крысиную нору. – Михаил вновь заткнул могильщику рот, для надежности примотал кляп к голове, натянул поверх мешок, проверил крепость веревок, оттащил тело в угол и завалил мешками. Потом обследовал помещение, и нашел, что искал. В глубине склада обнаружилось окошко, забранное железной решеткой. Он открыл его изнутри, выбрался наружу и плотно прикрыл за собой. Окно выходило в тупик. Отсюда можно было проникнуть в дом, не привлекая внимания. Маску он снял еще раньше, тщательно отряхнул одежду, еще раз прошел мимо запертых ворот. И вернулся на площадь.
Людей там и в самой ратуше поубавилось, но прием еще продолжался. Герцогиня была занята шахматами. Михаил устроился в дальнем углу и окликнул Альберта. Тот обрадовался.
– Я все время здесь. Но, пожалуй, собираюсь идти спать. – Михаил зевнул.
– Что ты. Здесь весело.
– А где хозяева? Счастливцы, которые уцелели от болезни.
– Вон тот – городской голова.
– А тот в зеленом?
– Того не знаю. А этот с черными усиками – господин Сабана. Живет через дом от нашего.
– А рядом с ним?
– Откуда я знаю? Они вернулись в город вслед за нами. Прятались по деревням. А с этим Сабана мы пили вчера вечером. За любовь. Какая-то красотка расцарапала ему лицо.
– Ты, видно, был рад выслушать его рассказ. – Михаила захлестнула злоба.
– Нет. – Просто сказал Альберт. – Было скучно. Мати была занята у герцогини. Я случайно попал в их компанию.
– Я слышал, кое-кто из здешних собирается идти с нами. И этот Сабана?
– Нет. Он станет замаливать старые грехи, когда не сможет делать новых. Так он сказал. Зачем он тебе?
– Мне? Это ты начал разговор. Какое мне дело до него?
Между тем, герцогиня встала. Музыка смолкла. Миллисента кивнула всем сразу и двинулась к выходу. Гости потянулись следом. С площади стали расходиться. Часть паломников остановилась в гостинице, заполненной теперь до отказа. Людей помоложе и попроще разобрали зажиточные граждане, бедняки заполнили постоялые дворы. Денег с пилигримов почти не брали, церковь запретила наживаться за их счет. Все делали Божье дело. Опустевшие после мора дома не занимали. Герцогиня отдала на этот счет строгое распоряжение.
Михаил соображал, как ему избавиться от привязчивого Альберта, но тот сам пришел ему на помощь. – Иди спать, мой друг. – Сказал он с тщеславной гордостью юнца, спешащего на свидание. – А меня ждут.
– Очень кстати. Сразу завалюсь. – Михаил притворно зевнул.
Тайком он вышел к знакомому переулку. Несколько раз натыкался в темноте на прохожих, но люди спешили и избегали друг друга. В другом конце площади мелькал свет, это обходил город ночной дозор. Потом из облаков выбралась луна, каменная мостовая заблестела, как рыбья чешуя, дома покрылись туманной пленкой. Нельзя было терять времени. Михаил неслышно распахнул окно, оттолкнулся от земли и заполз внутрь склада. Несколько минут он приучал глаза к темноте. Потом наощупь нашел место, где оставил связанного Жака. Тот не терял времени. Путы ослабли. Михаил достал нож и несколько раз сильно кольнул им сквозь мешок. Могильщик дернулся и замычал. Михаил затянул веревки, добавил новые узлы. Постоял рядом, потыкал ногой замершее тело, показывая, что он здесь. Потом натянул маску, приготовил нож и неслышно отправился туда, где черный ход вел вглубь дома. Нащупывая ступеньки невидимой лестницы, он осторожно поднялся на второй этаж. Запах склада сменился запахом жилого дома, совсем рядом раздавалось сонное мычание, видно, спали слуги. Михаил беззвучно нашел поворот лестницы и, ощупывая ступеньку за ступенькой, двинулся дальше. Сабана должен был находиться где-то здесь. Коридор вел в сторону, вдалеке мерцал квадрат окна. Ковер под ногами скрадывал звук шагов. Неожиданно голос совсем рядом сказал. – Иди. Ты мне не нужен.
– Прислать, согреть постель?
– Нет. Я хочу спать.
Михаил успел свернуть за угол, вжался в стену, человек прошел совсем рядом, спустился по лестнице, которую Михаил только что миновал. Оставалось ждать. Некоторое время он простоял за неплотно прикрытой дверью, чутко ловя тишину, пока не расслышал протяжное, всхлипывающее дыхание спящего. Он потянул дверь на себя и отпрянул, оказавшись в столбе лунного света. Встал на колени и заполз в комнату. Смутно белели простыни, на подушке. Он разглядел голову спящего. Михаил присел на кровать, прижал острие ножа к горлу, другой рукой крепко зажал рот. Сабана замычал. Михаил навалился всем телом. Глаза открылись. Прямо на Сабана в лунном свете скалилась злобная волчья морда. Сабана рванулся, тело его изогнулось, голова заметалась, пытаясь уйти от ножа, коленями он ударил Михаила в спину. Сдернул маску. Страшный крик разбудил дом. Сабана хрипел и дергался, сбивая ногами простыни. Нож проткнул горло, Михаил еле успел уклониться от хлынувшей крови. Сабана затих. Михаил бросился к двери и остановился. На крик должны были подниматься, путь был закрыт. Он метнулся к открытому окну. Выглянув, Михаил увидел карниз и крышу ближнего дома. Он зацепился рукой за выступ, сделал шаг, вжимаясь в стену, и спрыгнул, оказавшись этажом ниже, перебежал через открытое пространство на другую сторону дома, повис на руках, оказался на земле и ушел в глубокую тень подворотни. Прислушался. Пока было тихо. Он быстро прошел к своему дому, и уже входил в комнату, когда услышал крики. Удача сопровождала его, кровать Альберта пустовала. При свете луны он осмотрелся. Рукав рубахи был запачкан кровью. Михаил лег и укрылся, стараясь не касаться постели окровавленной рукой. Почти сразу явился Альберт, наклонился над Михаилом. Помедлив, тот открыл глаза и сонно оглядел приятеля.
– Убили этого Сабана. Которого я тебе сегодня показывал. Помнишь?
– Не помню. Я сплю.
– Идем. Поглядим. Что творится в городе.
Пряча руку, Михаил натянул рубаху и пошел вслед за Альбертом. Под стеной стояла бочка с водой. Их держали полными на случай пожара. – Я догоню. – Сказал он Альберту – Умоюсь, раз встал.
Альберт убежал, Михаил тщательно вымыл руки, застирал рукава, подвернул их до локтя и еще раз внимательно осмотрел себя. Потом вернулся домой и снова лег. Когда Альберт вернулся, он уже спал. Действительно спал, а не притворялся, предыдущий день оказался самым долгим в его жизни.
Утром он был готов к походу. Несмотря на ночной переполох, герцогиня приказала трогаться в путь. Люди садились в седла, смущенные дурным предзнаменованием. Впрочем, задерживаться по такому случаю тоже не хотелось. Михаил был безразличен к слухам. Он видел, как стражники вели Жака – слугу господина Сабана в ратушу. Там велось дознание.
В двенадцать выступили. Прошли через город, провожаемые колокольным звоном, вышли за ворота. Дорога шла вдоль стены. Невысокая часовня из красного камня пряталась среди деревьев. Бил колокол, птицы чертили небо. Шли молча, осеняя себя крестом мимо свежей насыпи.
– Городское кладбище. Тут хоронили всех, кто умер за недавние дни.
Михаил сел на обочину, поправляя обувь. Дождался, пока остался один. Подошел к могиле. Опустился на колени, взял в ладони горсть земли, поднес к губам, подышал на нее и бережно положил назад. – Их похоронили в одной могиле со всеми. – Подумал он. – Их похоронили, как людей. – Он прислушался, чем отзовется в нем эта мысль, и не почувствовал ничего. Только пустоту. Он встал, отряхнул одежду и, уже не оглядываясь, бросился догонять ушедших вперед паломников.
4
После того, как дож Доменико Сельво сочетался браком с дочерью византийского императора, Венеция обрела восточную утонченность и блеск. Обе страны, казалось, устали от многолетнего соперничества и вражды и, наконец, скрепили союз узами достойного брака. Теперь они открыли друг для друга торговые пути, связали жаркие глубины востока и пространства европейского континента. Зависть и злость генуэзцев, марсельцев и других соперников Венеции была бессильной. Им доставались объедки со стола новых союзников. Венецианцы теперь могли без помех придушить амальфийцев – давнего и настырного торгового конкурента, а византийцы – осадить сицилийских норманов – многоликое чудище, превзошедшее по вероломству и жестокости варварские народы.
Роскошь Венеции затмила Константинополь. И понятно почему. Великие христианские воины Востока – так гордо называли себя византийцы – не успевали отбиваться от набегов и нашествий, которые, как тяжелые волны, накатывались на стены города. Они шли с севера – из глубин причерноморских степей и юга – оттуда, где цветущие долины Романии сменялись отрогами малоазийских гор. Год за годом Византия сражалась и побеждала, более преуспевая хитростью, чем мощью, и теряя силы в этой борьбе. А Венеция, не знающая военных угроз, свободно могла распорядиться богатством, возводя все новые дворцы, сбрасывая в море, как ненужную скорлупу, остатки старых стен и одевая в мрамор набережные и пристани. Теперь там разом стояли десятки кораблей со всего Средиземноморья и далее, вплоть до далекого Кавказа. Город рос бурно – надменный он каждый день умножал свое великолепие. Благодарность небу была благодарностью богача, не знающего меры собственному тщеславию. Базилика Святого Марка, вставшая над его мощами, не уступала великолепию византийской Софии, а во многом превзошла ее выставленными напоказ драгоценными реликвиями. Когда-то эти мощи похитили из Александрии и тайно вывезли, прикрыв соломой, венецианские купцы. Их лукавством гордились, разве торговля не та же хитрость. Евангелист Марк стал небесным покровителем, охраняющим Венецию, а его знак – ее гербом. Именно здесь, более чем где бы то ни было на аскетичном христианском Западе, богатство служило утверждению красоты, как понимали ее сами венецианцы – красоты щедрой, пышной, обрамляющей священные реликвии в золото и драгоценности. Бог явился сюда не босым странником, а богатым купцом, заключившим, как удачную сделку, союз неба и земли и освятившим его во имя державного процветания. Для утверждения служило серебро огромных соборных лампад, беломраморные колонны, великолепие вертепа (мыслимо ли?), выложенного россыпями жемчуга и драгоценных камней, блеск мозаик, золото свода с устремленным ввысь сонмом ангелов. Но, переняв у Византии это почти пугающее великолепие, смешавшие воедино Божьи заповеди и авторитет кесаря, Венеция не без лукавства добавила к ним нечто свое, лишив византийский образ надменной чопорности и нерассуждающего повиновения. Не зря благообразие старцев соседствовало здесь с блеском роскошных туалетов, а запах ладана неизменно дополнялся ароматами благовонных смол, вытяжек и растираний, которыми знатные дамы умащали цветущую плоть.
Сладкоголосые напевы с бесшумно снующих лодок, прозрачные тени, скользящие по мостам, серебрянное сияние лагуны и розовое свечение мраморных плит таили в себе чувственную энергию, не желавшую мириться с монашеской аскезой и смирением. И чем более громко звучали здесь призывы к покаянию, тем необузданнее и сильней проявляли себя желания, утверждавшие языческую страсть жить и наслаждаться.
Уже более месяца Михаил жил в Венеции. Они прибыли сюда в начале зимы, когда дальнейшее морское путешествие стало невозможным. Михаил бродил по городу озабоченный, как раздобыть денег для сносного существования. Изношенная одежда еле держалась. Небольшие деньги, с которыми он выходил в дорогу, кончились. Оставались надежды на близящийся карнавал. Тогда, укрывшись под маской, он рассчитывал поправить свои дела. Пока он скрывал актерские способности. Теперь, когда дорога растянулась на несколько месяцев, каждый был занят собой. Из многочисленных попутчиков Михаил сошелся лишь с Альбертом. Но молодой человек утомлял его чрезмерным изъявлением чувств и желанием преданной дружбы. Михаил не любил торжественных признаний. Как актер, он по-своему относился к словам, считая их достойным оружием Януса. Сказать можно, что угодно, высокие слова были нужны для игры, в обычной жизни он предпочитал обходиться без них.
Молодые люди постоянно посещали дом герцогини. Сам Альберт бывал там ежедневно, оказывая знаки пылкой привязанности своей невесте. Михаил присоединялся к нему редко и со скуки. Его никто там не ждал. Герцогиня встречала его равнодушно, не желая простить разочарование, которое он доставил нежеланием следовать в ее свите. Казалось, несколько раз, когда взгляд ее задерживался на Михаиле, в нем можно было рассмотреть неясные огоньки. Они вспыхивали и гасли, как светлячки в глубине темного леса. Спокойное и молчаливое наблюдение за собственным окружением было в характере Миллисенты. Она была не только любопытна, как все женщины, но умна, и пыталась разбавить скромными развлечениями зимнюю скуку. Когда ждешь весны и продолжения путешествия, время тянется особенно долго. Впрочем, жаловаться на невнимание Михаилу долго не пришлось, герцогиня предложила навещать ее регулярно и читать книги, любезно предоставленные самим дожем. Она же доверила ему выбор. До этого Миллисента проэкзаменовала Михаила в искусстве риторики и осталась довольна. Актерское умение придало его голосу выразительность. Перелистывая книгу, Михаил украдкой следил, чтобы ветхость его одежды не бросалась в глаза. Герцогиня никак не обратила на это внимания, но через казначея выдала денег в счет будущего расчета. В новом более достойном виде Михаил стал являться по утрам, когда герцогиня собирала своих фрейлин. Часто он посещал библиотеку дожа, где, пытаясь угадать вкус слушательницы, подбирал книги. Впрочем, большого труда это не стоило, он остановился на старых комедиях и не ошибся. Что касается зрелищ и удовольствий, все женщины одинаковы. Он уносил книги под плащом и стал похож на студента, с чем и поздравил его Альберт.
Если герцогиня была спокойна, ровна и, казалось, почти не обращала внимания на его присутствие, узнавая более по голосу, чем виду, то многие фрейлины проявляли к Михаилу интерес. Он часто ощущал не себе их взгляды. К тому же Михаил оказался единственным мужчиной, допущенным во внутренние покои герцогини. Уж это был повод для пересудов, скрашивающий безделье. Впрочем, сплетни и досужие шутки быстро гасли, как огонь, не имеющий свежего воздуха для горения. Репутация герцогини не знала сомнений, а муж, дожидающийся ее на востоке, известен был вспышками ревности и гнева. Да и сам Михаил – достаточно замкнутый и малообщительный не мог служить хорошей мишенью для двусмысленных намеков.
Так миновала эта зима и приближался весенний карнавал, после которого следовало собираться в путь. За вязанием в покоях герцогини, в паузах, когда Михаил прочищал горло, фрейлины оживленно делились планами. Участие самой госпожи не обсуждалось, она была равнодушна к праздникам, хоть не мешала веселиться другим. Готовился и Альберт. Он советовался с Михаилом по поводу маски. Сам Михаил рассчитывал надеть свою – волчью, а пока давал советы приятелю, из которых тот, впрочем, не мог выбрать наилучшего. О своих планах Михаил умалчивал. Он уже присмотрел место на набережной, где рассчитывал выступить с жонглированием шарами и акробатическими упражнениями. Это то, что он мог делать один, а маска давала возможность остаться неузнанным. На большой заработок он не рассчитывал – на праздник съезжались актеры со всей округи, но все же… Ведь путь предстоял длинный.
Так было, пока жизнь не нарушила его планы. За день до праздника, когда он проходил темным коридором в покои герцогини, женская рука цепко ухватила и притянула к себе. Сама особа находилась за занавесом, которым были прикрыты стены. Сбивчивым шепотом, изменяющим голос, ему назначили свидание. Все было неожиданно, хоть он ощутил на лице горячее дыхание. И тут же, едва договорив, неузнанная обольстительница оттолкнула его и исчезла за скрытой дверью, оставив лишь адрес дома, куда он должен придти на следующий вечер. В день начала карнавала, когда на площади развернется праздник.
Утром Михаил украдкой рассматривал лица фрейлин. Та, что назначила свидание, должна быть среди них. Почти все нетерпеливо ждали наступления вечера. Лишь герцогиня никуда не собиралась, оставаясь с двумя степенными и не склонными к развлечениям дамами. Остальные были взволнованы и не скрывали своей радости. Михаил переводил взгляд, пытался разгадать неожиданную тайну, пока герцогиня не сделала ему замечание за сбивчивое чтение. Только тогда Михаил перестал гадать о своей воздыхательнице и предоставил событиям идти своим чередом. Конечно, он был непрочь пуститься в приключение, махнув рукой на участие в карнавале. Тайное признание разбудило его чувства. Он был готов влюбиться, но не знал в кого, а спокойствие делало его хорошим охотником.
Совсем иначе чувствовал себя Альберт. Он был огорчен. Мати кокетничала и до сих пор не открыла будущего наряда, предпочитая сама отыскать его в толпе. Не раскрывая доверчивому Альберту своих планов, Михаил предложил ему свою маску. Альберт примерил и остался доволен. – У меня есть еще. – успокоил его Михаил и похлопал по мешку, где оставалась маска волчицы. – Клянусь, она другая, нас не спутают. А в этой ты можешь оставаться до конца праздника.
Когда на площади уже гудела праздная толпа, Михаил оделся неприметно, прикрыл глаза черной полумаской, чтобы не слишком выделяться среди возбужденных горожан, и вышел из дома. Теплый воздух дышал сыростью, болотистым запахом стылой воды и близкой весной. Михаил завернулся в плащ и зашагал в глубину улиц. Назначенное место было удалено от карнавальной суеты, дорога была безлюдна. Дом выходил на набережную, было тихо, лишь вода чуть слышно касалась камней. Три раза, как было условлено, он тронул дверь бронзовым молоточком. Она приоткрылась всего на треть, женская рука взяла его за край плаща и ввела внутрь. Сзади лязгнула задвижка, он оказался в полной тьме. Он протянул вперед руки, взял женщину за плечи, почувствовал упор ее рук на своей груди и нашел губами ее лицо.
На рассвете дверь выпустила его обратно, так и не раскрыв тайны. Женщина осталась незнакомкой. Она сама подсказала Михаилу время прощания, когда он поглядывал в угольный квадрат окна, дожидаясь близкого рассвета. Он пытался заговорить, но она молчала, прижав палец к его губам. Так же молча, наощупь, она проводила его и выпустила на улицу. Только так они могут встречаться. Это он понял и не настаивал на большем.
Он вернулся домой, когда начало светать. С площади Святого Марка неслись шум, крики, музыка, по каналу чередой плыли гондолы, заполненные хохочущими полупьяными людьми. Женщины тянули к нему руки. Он возвращал им воздушные поцелуи, любовная удача сделала его – обычно сдержанного – шумным и щедрым. Дома он сразу уснул.
Утром Михаил едва дождался приема у герцогини. Ему казалось, что по лицам фрейлин, он сможет угадать возлюбленную. Не может быть, чтобы она не выдала себя. Первый, кого он встретил по пути во дворец, был Альберт. Михаила поразило его бледное, огорченное лицо.
– Я не смог найти Мати. – Пояснил он. – Я был на том месте, где мы договорились. Но она не пришла. Она сама должна была подойти ко мне. Я показал ей маску. Она знала, а я не мог отыскать ее, если бы даже хотел. Она не открылась мне. Я искал ее повсюду, до самого утра. И не нашел.
Михаил молчал. Мати вышла к ним навстречу, Альберт побледнел еще больше, но она даже не взглянула на него и взяла за руку Михаила. И он тут же узнал. Конечно, это была та самая рука, то самое движение, которым она увлекла его в глубину коридора. Ошибиться было нельзя, сомнений не оставалось. Это Мати назначила ему свидание. И тут же, когда он глянул на ее руку, она, вспыхнув, отдернула ее. Опустила глаза, показывая, что ее тайна раскрыта.
– Что это значит? – Взволнованно спросил Альберт.
Мати глянула холодно. – Тебе следовало вести себя достойно. – И повела Михаила в покои герцогини, оставив позади растерянного, оскорбленного жениха. Потом, когда они повернули за угол, она еще раз улыбнулась Михаилу, приложила палец к губам и пригласила в комнату, где их уже дожидались. Несмотря на праздник, герцогиня соблюдала обычный распорядок.
Михаил был смущен, подавлен и рассеян. Мысль, что он стал виновником несчастья приятеля, привела его в смятение. И вместе с тем, он нисколько не жалел о проведенной ночи. Прелесть объятий Мати, воспоминание о свидании заглушали упреки раскаяния. Он знал, что сегодня вечером вновь будет стоять у знакомой двери. Сейчас его мысли путались.
– Если так пойдет дальше, – сказала герцогиня, прерывая сбивчивое чтение, – мне придется подыскать более выразительного чтеца. Который не запинается на каждом слове. Мати, подойди. Я хочу, чтобы вы оба читали по очереди. Тогда наш декламатор не будет таким рассеянным.
– За скромный нрав свой получил Пелей Фетиду в жены… – неуверенно начала Мати.
– Громче. – Приказала герцогиня. – Неужели всем сегодня отказал голос.
– Теперь его слова. – Мати казалась рассеянной и чуть не плакала. Он ледяного спокойствия, с которым она давала отповедь Альберту, не осталось и следа. На Михаила она не смотрела.
– Значит, ты читай. – Разгневалась Миллисента. – Одна бессонная ночь лишила вас обеих голосов. Будьте внимательны.
– Она ж и бросила его. Сбежала. Был он скромник.
Был увалень. И не умел играть в постели ночью…
– По сердцу женщине наглец. – Запинаясь, Михаил дочитал реплику до конца.
– Теперь ты. – Приказала герцогиня фрейлине. – Не спи. Ты должна подхватывать его слова.
– Когда ж ощиплют там его и сзади редьку вставят, Питомец твой докажет чем, что он не толстозадый.
– А пусть и толстозадый, что плохого в этом? – Торопливо закончил Михаил.
– Хватит. – Приказала герцогиня. – Что за бесстыдство? Кто выбрал эти комедии?
– Их дал смотритель библиотеки. Он сказал, во время карнавала хочется чего-нибудь повеселее. Самое время посмеяться над старой сатирой.
– И все же. – Герцогиня обвела взглядом фрейлин. – Это не для наших ушей. Посмотри на нее. Она с трудом выговаривает слова.
Мати, действительно, покраснела и выглядела смущенной.
– Притворщица. – Думал Михаил – Изображает невинность. А сама назначает любовные встречи, отослав жениха на другой конец города.
Так он думал еще не поверженной окончательно и протестующей частью сознания. А сам нетерпеливо дожидался вечера.
– Сегодня я объяснюсь. Нужно это сделать.
Но объяснение не удалось. Каждый миг их встречи был полон. На каждый поцелуй, каждое объятие его возлюбленная отвечала с такой благодарностью и восторгом, что Михаилу казалось, собственное тело не принадлежит ему, оно лишь сосуд с пробужденным пылающим огнем. Все, что не касалось теперь их обоих, утратило всякое значение. Судьба несчастливого Альберта, казалась малозначащим недоразумением, которое он, не колеблясь, готов был преодолеть.
Когда он хотел объясниться, женщина закрыла ему рот ладонью. Она предпочитала оставить все, как есть. Розовый привкус ее дыхания смирил его. Она приблизила свою грудь к его губам, он ощутил укол и отпрянул от неожиданности. Она тихо рассмеялась и поднесла к его губам невидимое распятие, хранящие тепло ее груди. Драгоценный камень, оцарапавший губы, был вставлен в терновый венец.
Время для объяснений так и не пришло. Еще в темноте она выставила его за дверь. Следующую ночь – последнюю ночь карнавала они должны были провести вместе. Он шел домой, когда с проплывающей гондолы женщина бросила ему букет фиалок и рассмеялась громко и счастливо.
Он повалился на скрипучую кровать, закрыл глаза и погрузился в сладостные воспоминания. Трудно сказать, сколько времени он провел так. Это был не сон, но что-то близкое, что отрывает от привычных повторяющихся картин бытия, каким видится оно из утренней хмурой мглы: поисков хлеба и тепла, и так каждый день, все дальше от начала, ближе к концу. Это было одно из редких воспоминаний, которые не даются умом, которые нельзя предсказать, которые вбирают в себя весь мир и удивляют, потому что само ощущение равно прозрению, рождению заново, пониманию, как и во имя чего дается жизнь.
За дверью раздались крики, топот ног и в комнату ворвались люди. Михаил знал всех. Его попутчики, они и раньше не жаловали его. Михаил – с репутацией любимчика герцогини – не вызывал дружеских чувств. Но теперь лица были налиты тяжелой хмельной злобой. Михаил очнулся от грез и сел на кровати. Один из вошедших схватил его за воротник рубахи и рывком поставил на ноги. Михаил ударил его в лицо и отскочил к стене, пытаясь защититься. Но десяток ударов, сыплющихся со всех сторон, опрокинули его на пол. Очнулся он уже на набережной. Его окатили водой прямо из канала, и он встал, шатаясь и дрожа от холода. Вдалеке над заливом вставал густой белый туман. Руки его были связаны.
– Иди. – Удар в спину, и толпой они отправились к дому герцогини. Его вытолкнули к креслу, на котором восседала Миллисента. Последний удар поставил его на колени. Герцогиня рассматривала, будто видела его впервые – безразлично и холодно. Стояла напряженная тишина. Наконец, Миллисента произнесла, медленно выговаривая слова. – Объявляю тебе и всем, кто слышит меня сейчас. Ты обвиняешься в убийстве кавалера Альберта. Отвечай, правильно ли ты понял мои слова.
Михаил попытался вскочить, но новый толчок бросил его лицом вниз.
– Пусть встанет. – Распорядилась герцогиня. – Не мешайте ему говорить. Пусть защитит себя во имя справедливости.
Стоять было трудно, он шатался. Тяжелый гул стоял в голове, мешал пробиться к помраченному сознанию. Он ощущал за спиной толпу негодующих людей, обернулся и первое, что увидел – оплывшее от слез лицо своей возлюбленной. Мати рыдала, не скрываясь, в голос. Ни капли сочувствия или снисхождения не нашел Михаил в ее взгляде. Только злобу.
– Говори. – Приказала герцогиня. – Тебе, должно быть, есть, что сказать.
– Не знаю. Я не видел Альберта со вчерашнего дня.
Герцогиня, не спеша, оглядела его. – Ты говоришь, нечего сказать. Так? – Михаил молчал. – Кавалер Сальмон повтори свои слова.
– Сегодня, только начало светать, мы обнаружили Альберта без чувств, раненого на ступенях площади Святого Марка. Мы привели его в сознание. Он очнулся только на мгновение, прежде чем умереть. И назвал имя своего убийцы.
– Ты можешь повторить его? – Бесстрастно спросила герцогиня.
– Он здесь. – Михаила толкнули в спину. – Альберт умер, едва мы попытались поднять его.
Михаил протестующе замотал головой и рванулся вперед, будто искал защиты у герцогини, но его держали крепко.
– А что говорит кавалер Дергуа?
– То же самое.
– Ты слышал это со слов Сальмона.
– Нет. Я слышал своими ушами. От Альберта. Раненый прямо указал на Дюплесси. Он назвал его отчетливо.
– И ты готов поклясться, что не ошибся.
– Я готов дать клятву.
– А ты, Вольпик.
– Слово в слово. Я готов подтвердить слова обеих. Альберт назвал Дюплесси. Я слышал своими ушами.
Герцогиня молчала, пристально разглядывая Михаила. – Что ты можешь ответить на слова этих достойных людей? Их трое, они слышали твое имя. Ты можешь опровергнуть их?
– Нет. – Михаил был в отчаянии. Голова его мутилась. – Но я не могу объяснить. Я не видел Альберта со вчерашнего вечера. Мы были приятели.
– Хорошо. Может быть, ты хочешь представить свидетеля в свою пользу?
Михаил склонил голову. Единственным человеком, который мог подтвердить его невиновность, была Мати. Но она молчала.
Герцогиня выдержала паузу. – Итак, в присутствии этих людей я подтверждаю, тебе нечего сказать в свою защиту. – Она подняла руку. Вперед, отодвинув Михаила в сторону, вышел статный мужчина в длинном плаще. На рукаве был нашит лев с вскинутой лапой.
– Передай Совету и правителям Венеции, что мы нашли убийцу. Ты видел сам. Мы накажем его своим судом.
– Я хотел высказать пожелание наших судей, справедливость должна восторжествовать.
– Таково и наше намерение. – Подтвердила Миллисента. – Мы оплатим долг убитому до того, как покинем город.
Венецианец поклонился и, пятясь, отошел вглубь зала. Герцогиня ровным голосом объявила. – Кавалер Дюплесси. От имени всех наших людей объявляю, ты обвиняешься в убийстве кавалера Альберта Персье. Хорошо подумай, что ты можешь сказать в свою защиту. Подготовь эти слова для справедливого и честного суда. После этого у тебя не будет возможности оправдаться. – Она обратилась ко всем. – Кавалер Дюплесси будет заключен в подвале этого дома. Завтра, когда закончится карнавал, мы дадим ему возможность выступить перед судом. Если он не сможет оправдаться, свидетельства этих господ будет достаточно для признания вины. Пусть решит суд. И мы поступим, как подобает поступить.
Толпа ответила герцогине одобрительным гулом. Вслед за коридором, лестница вела в подземелья дворца. Со сводов густо капала вода. Одежда покрылась слоем влаги, обувь промокла. Факелы чадно дымили. Михаил был стиснут стражей. Но он и не думал бежать, он был потрясен и не мог понять, куда его ведут. Его втолкнули в каменный мешок, и двери с грохотом затворились. Наступила глубокая тишина, только капли продолжали стучать, будто шел редкий летний дождь. Михаил нашел лавку, повалился на мокрый камень и забылся в полусне.
Вода попала в светильник, он вспыхнул, зашипел и стало совсем темно. Ни звука не доносилось из-за толстых стен. Он с горечью подумал, как нынешняя тьма отличается от темноты минувшей ночи. Еще раз, чуть успокоившись, он вспоминал недавние события и не мог найти им объяснение. Арест, ошеломляющее известие о смерти Альберта, обвинение в убийстве. Ему хотелось кричать, этого не может быть. Он не был на площади Святого Марка этой ночью. И тут он вспомнил, как еще недавно сжимал в объятиях невесту своего приятеля, как предавал его, как мечтал убрать со своего пути. Порывы, продиктованные страстью, казалось, давали повод для снисхождения. Но для живых. А для него свершилось возмездие. Справедливость восторжествовала. Ценой жизни обманутого приятеля, а теперь и ценой его собственной жизни. Оправдания ему не было. Странно, что в своих размышлениях, он ни разу не вспомнил недавнюю возлюбленную. Он видел перед собой глаза, исполненные скорби по убитому жениху. Он гнал эти воспоминания, чтобы не предаться ярости. Недаром, покойная Люэна любила говорить, каждая женщина рождается актрисой, хоть играет на свой лад и готова превратить самую жизнь в сцену для лицедейства. Какое целомудрие и скромность она разыгрывала, удерживая возле себя несчастного Альберта, и сколь многоопытной женщиной показала себя в его объятиях. Он подумал об этом с внезапной горечью и тут же отогнал эти мысли, утешившись, что свидание оказалось последним. Было ясно, часы сочтены, он не сможет ничего объяснить. Слов умирающего было достаточно, чтобы осудить его. Он вновь забылся и очнулся от звука открываемого замка. Темная фигура вступила в клеть. Безразличный, он поднялся и пошел, ведомый двумя охранниками. На этот раз шли дольше, какими-то другими коридорами, поднялись по лестнице, и тут, к своему удивлению, Михаил узнал покои герцогини. Она сидела в кресле, недалеко от горящего огня. Она была одна, без свиты. Миллисента приказала начальнику караула усилить наружные посты и отправила его, оставшись наедине с Михаилом. Некоторое время герцогиня молчала, рассматривая его, будто впервые, и, наконец, заговорила.
– В течение двух недель ты читал мне, и мне жаль потерять тебя. Но тяжесть твоего преступления слишком велика. – Миллисента сделала долгую паузу, дожидаясь возражений. Михаил молчал, и она продолжила. – Ты говоришь, что не убивал Альберта.
– Нет. Не убивал. – Михаил не узнал свой голос, он хрипел. – Я не видел его этой ночью.
– Как? Тебя не было на площади? Не было? Скажи. Тогда где? В такую ночь невозможно спать. Ты был пьян? Я прикажу отыскать место и расспросить людей. Может быть, они подтвердят твою невиновность.
Михаил молчал, но герцогиня не обращала внимания на его нежелание говорить. – Я, кажется, догадалась. У тебя было свидание. С кем? Пусть твоя возлюбленная подтвердит твои слова. Я хочу посмотреть ей в глаза, когда она будет оправдывать тебя. Может быть я поверю ей, а не твоим недругам.
Михаил вспомнил мокрое от слез лицо фрейлины. Если бы она хотела, могла признаться сама. Но ее отношения с убитым делали происшедшее еще более отвратительным и не вызвало бы сочувствия к ним обоим. Да, Мати была права. Значит, и ему следует молчать.
– Ты ничего не хочешь мне сказать?
– Я сказал все. Мне нечего добавить. То же я скажу на суде. Я не убивал.
Миллисента закашлялась и жестом попросила Михаила подать воды. Пила долго, пристально разглядывала Михаила, будто пытаясь проникнуть в его тайну. Он твердо выдержал взгляд.
– Закрой глаза. – Приказала. Михаил остался стоять, будто заснул на ходу. Потом он ощутил колючее прикосновение к губам и схватил руку, застывшую возле его рта. Это был крест, который он целовал прошлой ночью на груди возлюбленной. Теперь он лежал на ладони Миллисенты, а цепочка обвивала ее шею. Ворот платья, обычно застегнутый наглухо, сейчас был открыт. Он рванулся, но герцогиня жестом удержала его на месте.
– Я бы не открыла тайну, – в глазах ее зажегся ровный теплый свет. – Но я хочу спасти твою жизнь.
– Я не убивал.
– Я знаю. Единственная, кто знает.
– Я невиновен.
– Для меня. А для остальных? Мы должны отыскать тебе замену.
– Но как?
– Не знаю. Твое имя названо под присягой достойными людьми. Они сами слышали его от убитого. Они не могли ошибиться. Скажи, не могло быть сговора, чтобы свести с тобой счеты?
– Нет. У меня не было друзей, кроме Альберта, но не было и врагов.
– Значит, они говорят правду. То, что слышали собственными ушами. Как ты можешь объяснить? Я не смогу помочь тебе, если мы не разгадаем тайну.
Михаил пожал плечами. Некоторое время оба молчали.
– А я думал, что…
– Что? Говори.
– Я думал, что это Мати была со мной. Я узнал ее. Она договаривалась о свидании.
Миллисента рассмеялась, впервые за долгое время. – Ты плохо знаешь, как женщины устраивают такие дела. Нужно думать о своем имени и не слишком надеяться на скромность своего друга. Я попросила ее от имени знатной венецианки, будто бы влюбленной в тебя. Она и сейчас уверена, ты был у нее, прежде чем явился на площадь. Меня учили с детства не доверять женщинам. Тем, кто моложе и кто старше. Кто ниже и выше по праву рождения. Значит, никому.
– Но она невеста Альберта. Может быть, она знает, что не понятно ей самой.
– Я спрашивала. Она грустна и безутешна.
– Но еще вчера они были в ссоре. Я сам видел. Я думал…
– Что ты думал?
– Что это из-за меня. Что она была со мной, и Альберт ей безразличен. Но если нет…
– Они любили друг друга.
– Да. Но она не пришла к нему на свидание. Он сам сказал мне об этом. Он напрасно дожидался ее всю ночь. Где была она? Они ссорились на моих глазах. Мне казалось, я знаю причину. Но если она была не со мной…
Миллисента задумалась. – Пожалуй, стоит спросить. Не уходи. Стань за занавеской. Ты будешь у нее за спиной, а я буду видеть вас обоих. Слушай внимательно… – Она позвонила. Вошел начальник охраны. – Ты приведешь сюда сейчас фрейлен Мати. Будь с ней бережен, она потеряла близкого человека. Успокой ее и, главное, не говори, что у меня кто-то есть.
Охранник поклонился и вышел. – Еще раз прошу, будь внимателен. А теперь укройся и смотри, чтобы она ничего не заметила.
Лицо Мати было заплакано.
– Ты думаешь, этот Дюплесси убийца? – Спросила герцогиня.
– Альберт показал на него.
– Я знаю. А теперь скажи. Где ты сама была в эту ночь? Ведь ты должна была быть с ним? А если была, почему не помешала их ссоре. Может быть, ты знаешь что-то, о чем не говоришь? Скажи. Именем твоего Альберта.
Мати помедлила, и вдруг разрыдалась. Герцогиня терпеливо выждала и приказала. – А теперь скажи, где ты сама была в эту ночь?
Мати с плачем уткнула нос в платок: – Я была одна.
– Одна? Но почему?
– Я думала, он не любит меня.
– Это ложь, – едва не вырвалось у Михаила. Невидимому, герцогиня почувствовала. Она перевела внимательный взгляд с лица плачущей фрейлины на занавес и приказала внятно. – Успокойся. Хватит рыдать. Объясни, почему ты так решила.
– Я видела его с другой. – Запинаясь, выговорила Мати. Она смотрела в пол и терла глаза. – Да, с другой. Он не захотел знать меня.
– Ты говоришь, что была одна…
– Накануне. В день открытия карнавала. Мы договорились, он будет ждать меня. Мне хотелось самой найти и удивить его. Я знала его маску, а он не знал мою.
– Утри слезы и рассказывай. Все подряд. С самого начала.
– Я вышла на площадь, чтобы встретиться с ним. Я знала, где он, он сам назначил мне место. И вдруг увидела его совсем не там. Я случайно заметила. Он обнимал женщину.
– Какую? Где? Ты знаешь ее?
– Нет, нет. Она была в маске. Он поднял ее на руки и посадил в лодку. Я стояла почти рядом, но он не узнал меня, ведь он не знал, как я выгляжу.
– А дальше…
– Они задернули занавеску, и лодка отошла. – Мати громко разрыдалась.
– И после этого ты отправилась домой.
Мати подтвердила кивком головы.
– Но ты пробовала объясниться с ним. Вчера.
– Нет. – Мати гордо вскинула голову. – Он оскорбил меня.
Некоторое время женщины молчали. – Поэтому следующую ночь ты провела в своей комнате? Одна?
– Да. – Подтвердила Мати.
– Ты – гордая девушка.
И тут, будто молния осветила скрытые темнотой лица. Так ясно и отчетливо Михаил увидел разгадку. Он приоткрыл занавес и махнул Миллисенте.
– Иди. – Распорядилась герцогиня. – Закрой за собой дверь, но не уходи далеко. Возможно, я позову тебя. Я должна подумать.
Михаил еле дождался, пока Мати вышла – Кажется, я понял. Спроси, видела ли она лицо Альберта. Она говорит, что знала маску, но лицо. Лицо.
Он укрылся. Герцогиня задумалась, пытаясь понять, потом встряхнула колокольчик, и фрейлина появилась снова. – Ты уверена, что это был он? Альберт.
– Да, это он.
– Ты видела его лицо?
Мати посмотрела удивленно. – Я видела его в маске. Он показывал ее мне накануне. И был в ней. Я рассмотрела ее и не могла спутать.
– Но могла быть еще одна.
– Нет. Так сказал Альберт. Он выпросил ее у кого-то из друзей. Она не из Венеции, она издалека. Только одна. Альберт был уверен в этом. И я видела его в ней.
Герцогиня украдкой перевела взгляд на занавес. Михаил дал знак.
– Иди. – Приказала герцогиня. – Сегодня я ничем не могу помочь твоему горю. Есть один врач – время. И один верный помощник – справедливость. Для всех нас.
Мати подняла на нее глаза. – Да, да. – Подтвердила герцогиня. – Иди. Я сделаю все, чтобы наказать убийцу.
Едва Мати вышла, Михаил бросился вперед. – Я знаю, что случилось, знаю. Была еще маска. – И Михаил рассказал Миллисенте то, что сам хотел забыть. Про исчезновение и смерть друзей актеров. Про то, как нашел их убийцу. Про схватку с городским казначеем Сабана.
– Значит, это ты. – Сказала Миллисента задумчиво. – Я помню, какой в то утро был переполох.
– Маска осталась там. В его комнате. Но у него был сообщник. Он забрал маску с собой. А теперь надел. Он не мог знать, что встретит такую же. Он не знал, кто я. И что я присоединился к вам. А сам он – среди людей, которые шли вместе с нами. И теперь он здесь. Мати встретила его, когда искала Альберта. А Альберт дожидался ее в другом месте и не мог объяснить, почему она не пришла. Поэтому они поссорились на следующее утро. Я был свидетелем. Каждый считал виновным другого.
– А вчера эти маски сошлись лицом к лицу. – Задумчиво сказала герцогиня.
– Да. Так и было. Альберт считал, что я укрываюсь под второй маской. Он не ждал ссоры и нападения. Зато тот, другой решил, что перед ним убийца его друга Сабана. Потому он ранил Альберта и скрылся. Подло ранил, ведь Альберт не ждал нападения. Потому он думал, что под маской был я.
– Теперь понятно. – Герцогиня задумалась. – Но скажи, как мы можем узнать его. Ты говоришь, из того города присоединилось к нам не меньше десятка людей.
– Сегодня последний день. Он не захочет пропустить праздник. Никто не знает его. Возможно, он догадывается о чем-то. Но я сижу в тюрьме и ничего не могу объяснить. Он выйдет в той же маске, он был в ней два дня и будет в третий. Ему ничего не угрожает. Я отыщу его.
– Это невозможно. – Сказала герцогиня, подумав. – Я не могу отпустить тебя из тюрьмы. Но даже если ты найдешь его, как сможешь доказать его вину? Скорее наоборот, твой побег и новая ссора окончательно настроит всех против тебя. Твоя вина доказана и нет ничего, что могло бы ее опровергнуть. Если он убьет тебя, то останется без наказания, потому что убил преступника, если убьешь ты, станешь виновным в двух убийствах.
Михаил молчал, он понимал, Миллисента права. Слуга внес свечи. Наступили долгие весенние сумерки. Рядом за стенами все громче раздавались возбужденные голоса. Пела флейта. Приближалась последняя ночь карнавала.
– Ты сказал, – задумчиво произнесла герцогиня, – что масок было три. Две волчьи, и одна – волчицы. Я хочу, чтобы принесли ее.
На звонок вошел стражник. – Он расскажет тебе, – Миллисента указала на Михаила, – что искать в его комнате.
Дожидались молча. Наконец, мешок принесли, они остались вдвоем, герцогиня вынула маску. Встала, надела ее. Михаил отпрянул. На мгновение ему показалось, прошлое вернулось, сейчас они разыграют привычную комедию, он сдернет маску и увидит смеющееся лицо Люэны. Герцогиня убрала волосы под маску и заговорила. Голос звучал повелительно. – Я отправлюсь на площадь. Я хотела принять участие в карнавале. Быть в Венеции и не увидеть карнавал, я много пропустила… Хоть не жалею. – Последние слова были сказаны специально для него.
– Это опасно. – Михаил говорил взволнованно. – Он узнает. Твоя маска та же, что его.
– Да. Но под ней женщина. Это он увидит. Чем он рискует? Ничем. Неужели он испугается меня, если не испугался Альберта. К тому же он смел и захочет понять, что происходит. Хороший случай рассчитаться со своими врагами. А я буду в его руках.
– Именно так. Он не пощадит тебя, как не пощадил Альберта.
– Я возьму тебя с собой. – Сказала Миллисента. – Но при одном условии. Ни голосом, ни движением не выдашь, не обнаружишь себя без моего приказа. Иначе, я действительно, окажусь в его руках. Ты согласен?
– Да. – Подтвердил Михаил. – Обещаю.
Миллисента позвала стражника. Повидимому, она полностью доверяла этому человеку. Молча, он выдал им плащи и полумаску для Михаила. – Проследи, – приказала герцогиня, – чтобы фрейлина Мати находилась все время здесь. Безотлучно. Я захочу видеть ее, как только вернусь. Открой заднюю дверь. А ты, – приказала она Михаилу, – станешь следовать за мной, не приближаясь ни на шаг. Если ты сделаешь лишнее движение, охота сорвется, добыча ускользнет.
Они вышли с тыла дворца. Миллисента с головой была закутана в плащ. Вот так же, – подумал Михаил, – она спешила к нему на свидание… Сам он держался поодаль, не забывая глядеть по сторонам. Досужий любитель приключений – так он хотел выглядеть. Стоял густой сумрак. От воды поднимался сладкий запах гнили. Площадь была заполнена шумной полупьяной толпой. Гуляющие прибывали непрерывно. Их лица были укрыты масками. Герцогиня сбросила капюшон и стала одной из них. Разогретые вином, крикливые, хохочущие венецианцы искали развлечений и любви. Молодые люди подхватили Миллисенту, она с трудом вырвалась, ее осыпали конфетти, обдали водой, пока она ловко пробивалась сквозь приплясывающих от возбуждения гуляк. Какой-то кутила шутливо схватился за сердце, потянул Миллисенту за собой. Она выскользнула, легкая и манящая, она притягивала к себе взгляды и руки, и так же ловко освобождалась от них. Она прошла над ступенями, которыми обрывалась площадь, она была вся на виду – с берега и подплывающих одна за другой гондол. Горели факелы. Звездные отражения светлячками плясали по темной воде. Кавалеры несли дам на руках под взрывы смеха. Звучали несколько оркестров, заполненные музыкантами гондолы шли вдоль берега. Михаил шел за Миллисентой, не пытаясь приблизиться, следил издали. Пока все было напрасно. Герцогиня ушла с набережной и пошла прямо на толпу. Она пробивалась с трудом, праздник достиг кульминации. Следовало быть поближе, чтобы вовремя придти на помощь. Это требовало усилий, но актерская ловкость Михаила помогала ему держаться, не обнаруживая себя. Он был таким как все – веселым и беспечным гулякой, он даже обзавелся бутылкой, которую держал над головой и отхлебывал по глотку. И тут он увидел ее – волчью маску. На какое-то мгновение человек отрезал его от герцогини, и Михаил мельком глянул под опущенный капюшон плаща. Это была она – маска, знакомая ему до последнего пятнышка, которая была на нем в ночь смерти Сабана. Казалось, оскал стал еще грознее. Маска явно выделялась. Сама она была занята другим, ее владелец увидел Миллисенту. Маска обошла Михаила и теперь вплотную следовала за герцогиней. Приманка сделала свое дело. Даже в толпе Михаил заметил сходство фигуры преследователя с несчастным Альбертом. Тот же рост, ничего другого под плащом и маской было не разглядеть. Неудивительно, что Мати ошиблась. Теперь Михаил подобрался к незнакомцу и почти вплотную следовал за ним. В толчее это было несложно, толпа волновалась, раскачивалась из стороны в сторону и оставалась на месте. Они протиснулись к центру площади, где вовсю кипели страсти. Город сходил с ума. Михаил мог бы коснуться плаща незнакомца. Но тот не замечал, его внимание было поглощено Миллисентой. И вдруг та развернулась навстречу. Всего несколько шагов, и они сошлись вплотную, маска к маске, глаза в глаза. Миллисента намеренно завлекла преследователя в толпу. Туда, где он должен был подобраться к ней вплотную. И сама стала охотником.
Вокруг смеялись, паясничали, плясали и хохотали десятки других масок – обезьян, клоунов, причудливых носов любой формы и цвета, темных кругов вместо глаз, загадочных вуалей, спадающих до подбородка, фальшивых бород и усов, окрашенных кровью клыков, рогов на лбу и затылке, огромных париков, похожих на снопы соломы, шляп размером с журавлиное гнездо, чертей, свиней, лошадей, собак и среди них две волчьи маски, тесно сошедшиеся друг с другом, будто для любовной игры. Миллисента что-то сказала, и они вдвоем стали выбираться из толчеи. Михаил еле поспевал следом. Те – впереди не замечали его. Герцогиня держала своего спутника за руку, а он тянул ее к себе, пытаясь увлечь в одну из стоящих рядами гондол. Михаил подобрался совсем близко. Но герцогиня освободилась от настойчивых объятий и указала вглубь улицы. Она звала следовать за ней. Михаил показалось, что волк хочет столкнуть свою спутницу в воду. Пьяным голосом, прикрыв лицо плащем, он затянул песню. Волк отпрянул, и они пошли дальше. За поворотом очутились на задворках дома герцогини. Отсюда дом был неузнаваем. Миллисента остановилась на пороге, взяла незнакомца за руку и увлекла вглубь. Она манила любовным свиданием. Немного выждав, Михаил пошел следом. Впереди слышны были шаги. Они зашли в комнату, Михаил остался за порогом. Волк потянулся, пытаясь сорвать маску с лица Миллисенты, та отстранилась, будто играя, подожди, жарко, открыла окно и взяла колокольчик. Стражник пробежал в комнату мимо отпрянувшего в сторону Михаила. И следом вошла Мати. Волк метнулся к стене, ближе к окну.
– Альберт. – Закричала Мати. – Это он.
– Сними маску. – Приказала герцогиня. – Карнавал закончился. Еще не понимая, чем грозит ему западня, человек открыл лицо.
Вольпик – один из тех, кто обнаружил Альберта. Взгляд его метался. Он увидел Михаила, и все понял.
– Это ты убил Альберта. – Сказала Миллисента. – Говори. Это ты. Ты заманил его и убил.
Вместо ответа Вольпик еще раз обвел взглядом комнату, ища спасения, вскочил на подоконник и, не раздумывая, прыгнул. Глухо плеснула вода. Герцогиня выглянула и, не давая никому подойти, закрыла окно.
– Все могут уйти. – Объявила она. – А ты останься.
– Я не стала останавливать его. – Сказала она Михаилу. – Чтобы ничего не объяснять. Открыв окно, я подсказала ему путь.
– И он ушел.
– Я гляжу в это окно каждый день. Год назад, как мне рассказали, вода стала подмывать стены, и это место завалили камнем. Они чуть заметны под водой. Потому здесь нет лодок. Когда я выглянула, тело еще было там. Мне не нужно проявлять излишнее любопытство.
– Ты все рассчитала. – Михаил замер.
– Да. – Миллисента пожала плечами. – Мне нужно быть расчетливой. Оставаясь женщиной. А карнавал, действительно, закончился. Погода наладилась, и корабли стоят, готовые тронуться в путь. Пора.
Карина
1
Испытания лишь укрепили мою веру в Господа. Никогда я не позволяла ни слезам, ни отчаянию заглушить Его голос. Он давал мне терпение и надежду. Превратности судьбы и страх перед неизвестностью не смогли поставить меня на колени, а смирение помогло сохранить веру в Его заступничество. Хоть были минуты, когда Дьявол подступал совсем близко. Пока время не заглушило память, я решила перевести на язык письма то, что кажется почти невероятным для устного рассказа. Прочтя, недоверчивый усомнится еще более. Но не для таких я описываю события прошлых лет, которые вижу так ясно, как если бы они случились вчера. Кажется, как много отпущено за жизнь одного человека. Я не хочу развлекать людей равнодушных и черствых. Страдания, как и сочувствие, отпущены каждому своей мерой. Алчные, ненасытные желания, за которыми я вижу страсть к недостойному самоутверждению, и противные этому заботы о спасении для вечной жизни, все они перетекают в сосуде нашей души, подобно песку в часах. Каждая такая песчинка – след исчезающего времени, достойного размышления о цене наших приобретений и наших потерь. Когда я представляю себе глаза, которые будут просматривать эти страницы, пробегать по описанию моей судьбы, я не могу сказать, что отношусь к будущему читателю с безразличием. Я ищу в нем сопереживания и даже оправдания, которое не могу дать себе сама, потому что (и я не боюсь в этом признаться) более всего страшусь Страшного Суда. Уповая на Его милосердие, сама я стараюсь судить себя примерно и строго. Звездочеты утверждают, что есть линия судьбы, записанная в небесах и зависящая от расположения светил при рождении. Но есть, как я убедилась, и линия предназначения, указанная Высшей волей. Внешние обстоятельства в ней – всего лишь знаки, диктующие время и место выбора, а несчастья и испытания – вехи, позволяющие зрячему найти путь. Многое из того, что я описываю, я чувствую более, чем могу объяснить с достаточной степенью убедительности. Здесь следует употребить определение, которое латиняне называют словом юститиа. Оно означает, что любому событию следует давать ту оценку, которое оно заслуживает, и помнить, что нет на свете ничего более достойного, чем любовь к Богу. Живи с ней, молись, не пытайся загадывать, и Он явит свою волю. Так бы я ответила на главный вопрос.
Прожив столько лет на родине моего мужа, могла ли я думать, что вновь увижу родной Иерусалим и множество других городов, лежащих, как острова в море, на пути к нему. Теперь же, преодолев немыслимые расстояния, побывав в странах, которые в детстве давали пищу воображению, преодолев в обе стороны море, которое разделяет народы, я так отчетливо ощущаю участие Всевышнего в моей судьбе, как движение руки, которая переставляет на доске шахматные фигуры. Это знание дает мне мужество.
Я выросла в семье армянского купца, владевшего торговым домом в Иерусалиме. Тогда этот город был под властью мусульман. Хотя они ограничивали нас мелочными запретами, но никогда не ущемляли в делах и тем выигрывали, в сравнении с нашими единоверцами. Прискорбно, но это так. Наша жизнь изменилась, когда христианское войско подошло к Иерусалиму. Мы не знали, радоваться или предаваться печали. Мусульмане потребовали, чтобы христиане носили на шее каменные кресты – символ смирения, многих изгнали из города, а остальных заставляли трудиться на унизительных работах. Потому отец велел нам не выходить из дома и постоянно держал ворота запертыми. Мусульмане не столь любопытны, чтобы лезть в закрытые дома. Сравнивая их порядки с тем, что мне пришлось вскоре пережить, я не могу не признать их вполне терпимыми. Отца они заставили помогать, ум и достоинство сделали его имя известным. Возвращаясь домой, он рассказывал нам, что франки упорно готовятся к штурму и положение города становится все опаснее. Впрочем, отец считал, что мусульмане должны выстоять. Сил у них не намного меньше, чем у франков, а стены города сами по себе служат хорошей защитой. Первый день приступа подтвердил его предсказание. Всем нам отец велел спрятаться в старом складе, который использовали для хранения масла и вина. Вечером, когда поднялись наверх, узнали, что город устоял, а силы нападающих на исходе. Потому на следующий день мы были менее осторожны. Небо над городом было сплошь закрыто облаком из горящей смолы и нефти, которыми мусульмане обильно поливали несчастных франков. Тогда внутри этого облака я отчетливо разглядела черного ангела, который грозил своим мечом. Еще ранее я часто видела такие знаки. Особенно эта склонность усилилась после смерти моего первого мужа. Он скончался от лихорадки спустя всего два месяца после нашей свадьбы. Среди домашних лишь моя служанка Зира понимала эту сторону моей души. Сама она из Египта, мой отец подобрал ее совсем девочкой. Зира предана мне и полна всяких предрассудков, хотя выросла в христианской семье. Она принесла в наш дом кошку. Зира, как все ее соплеменники, осталась язычницей и свято верит, что кошка приносит в дом счастье. С предрассудками трудно спорить, сомнения лишь усиливают их. В тот день кошка вырвалась у меня прямо с рук и выскочила со двора. Я сочла своим долгом отыскать ее, оказалась на улице, где была захвачена злодеем. О том, что случилось дальше, я и теперь не могу вспоминать без дрожи. Если бы не мой будущий муж Раймунд, мы бы погибли оба – мой брат и я.
Тогда в городе погибло немало христиан, крестоносцы, грабя, убивали всех подряд. Едва закончилась резня, которой доблестные (употребляю здесь это слово с насмешкой и презрением) рыцари увенчали свою победу, как отец приказал старухе служанке выйти в город и отыскать нашего спасителя. Отец остался доволен знакомством. Желание было общим, Раймунд влюбился в меня и искал встречи. Такие чувства между спасителем и спасенной служат пищей для рыцарских романов.
Я не осталась к нему безразличной, хотя само чувство питалось благодарностью. Женщины знают ему цену – более надежную и долгосрочную, чем цена безрассудной страсти. В первом случае, в отличие от второго, женщина умнеет, а не глупеет и может достойно управлять своим поведением. Но тут произошли события, которые решают судьбу вопреки нашему желанию. Именно потому, что они были игрой случая и пришли, когда опасность, казалось, миновала. Рыцари вышли из города для решающего сражения, а злодеи выманили отца из его тайника и убили. Судя по следам на теле, его пытали перед смертью. Мысль об этом нестерпимой мукой сжимает мое сердце. Подлым убийцам я шлю вечное проклятие. Вернувшись, Раймунд не смог требовать справедливости. Князья перессорились между собой и не стали бы разбираться. Потому мы покинули город, оставаться в котором было мучительно для памяти и опасно для жизни. Отец считал виновниками франкских купцов, которые наняли головорезов, чтобы устранить соперников по торговле. Они готовы перерезать горло, как только представится случай. Так и вышло. Потом, когда мы проезжали Яффу, я узнала, что и там наши склады разграблены. Убийство отца, исчезновение брата, поджоги и грабежи дома, которым наши предки владели около двухсот лет, не могли не отразиться самым пагубным образом на моем здоровье. Я стала разговаривать, запинаясь, делая остановки между словами, в горле у меня постоянно что-то мешало. Когда я села на корабль, плывущий в Европу, то испытала большое облегчение. Но горе продолжало давить тяжким грузом, я чувствовала, что не могу доставить мужу той радости, которую он вправе от меня ждать. Я постоянно грустила, часто плакала, это было выше моего желания. К тому же, как выяснилось вскоре, я не могла иметь детей. Первый же плод извергся спустя три месяца после зачатия, а дальше оно не наступало вовсе. На то, как видно, были причины, в том числе, упомянутые выше. Сколько раз я молила Господа, чтобы он помог мне стать матерью и укрепил тем самым наш брак. Хоть Раймунд относился ко мне с подобающей почтительностью, я не могла не ощущать себя источником его огорчения.
Единственный человек, который поддерживает меня, служанка Зира. Она выросла рядом со мной и мне не пришлось долго упрашивать ее, ехать. Зира верит в своих богов, чем смущает Раймунда, но не меня. Вразумил моего мужа наш священник странным доводом. Оказывается, Господь, не препятствует слугам оставаться при своих заблуждениях, предоставляя им свободу веры в обмен на усердие в службе. Преданность хозяину отличает многих язычников, и схожа с преданностью собаки. Я вижу в Зире живую душу, и благодарна, что она разделяет мою участь. Все прочее, ее дело.
Минуло несколько лет в чужой стране. Я оказалась не очень хорошей женой своему мужу и не могла роптать, когда узнала, что он уединяется с дочерью нашего арендатора по имени Товита. Связь их со временем перестала быть тайной, и он взял эту женщину в услужение. Их связь длится годами и принесла Раймунду мальчика с именем, сходным с материнским – Товий. Конечно, Товита питает ко мне не лучшие чувства, хотя, видит Бог, я ей не препятствую. У Товия я тоже не чувствую подобающего почтения. Сама я со временем вовсе избавилась от супружеских обязанностей и была не слишком огорчена. По своей природе я отношусь к этой стороне жизни достаточно безразлично, и те удовольствия, которые, как я слышала, ценят в супружестве женщины, оставляли меня равнодушной. Страх потерять Раймунда и остаться совсем одной, затерянной в чужой стране, несколько лет владел мной, но и он перестал пугать. Теперь я отношусь к своей земной участи с полным спокойствием.
Все эти годы мы жили замкнуто, не видя соседей. Брат Раймунда Михаил – юноша безрассудный ушел от нас несколько лет назад. Я относилась к нему хорошо и даже, как мне кажется, понимала его, хотя мне предпочтительнее жизнь созерцательная. От прочего, благодарю Бога, я была полностью избавлена. Даже болезни досаждали мне не слишком часто, хотя постепенно у сгиба левой руки проявилась шишка и несколько раз меня настигала лихорадка, связанная с горлом и животом. Но все разрешалось благополучно, я упоминаю об этом, не жалуясь. Несколько лет назад молния ударила в дерево, что против моих окон. Случилось это у меня на глазах. По странному совпадению, перед этим я несколько дней подряд вспоминала Иерусалим, хотя теперь думаю о нем намного реже. Может, потому, я сильно испугалась, и, глядя на пылающий столб, в который обернулось огромное дерево, утратила дар речи. К тому времени мой муж и я были предоставлены собственной судьбе. Уединение мое стало полным, не вызвав большого огорчения. Все эти годы я и так была достаточно молчалива.
За прошедшие годы Раймунд несколько раз наезжал к сеньору, повидаться с младшим братом. Я счастливо избегала этих утомительных путешествий. Наконец, в прошлом году Франсуа сам приехал к нам. Я видела его однажды малым ребенком, теперь это высокий красивый юноша с внимательным выражением лица, которое можно видеть у музыкантов, когда они настраиваются свои инструменты. Этот Франсуа одержим странной идеей, путешествовать в одиночку, и ездит по стране, подвергая свою жизнь опасности. Недалеко от нас он наткнулся на грабителей и вступил с ними в схватку. Раймунд выезжал тогда же. Я часто не сплю по ночам и размышляю у окна, будучи особо чувствительной к свету луны. Господь лишил меня речи, но оставил зрение и слух, так что потеря первого чувства лишь укрепила два других. По тому, что я вижу, я могу строить разные догадки, но предпочитаю ничего не замечать. Я не устаю благодарить судьбу, за то что она послала мне доброго человека. Чтобы он ни сделал – Бог ему судья, я всегда буду молиться за него.
На следующий день после приезда Франсуа произошло мое чудесное исцеление от немоты. Случилось это, когда я узнала на его пальце перстень моего отца. Это был он. Перстень Франсуа подарил сеньор, а тот, по его словам, обменял его перед возвращением из Палестины. Я оставила перстень Франсуа, хотя он выражал твердое намерение немедленно его вернуть. Отец, я помню, говорил, что этот перстень приносит ему удачу, но он не смог спасти ему жизнь. Зачем тогда он мне? В тот же вечер, как помню, меня особенно взволновал писк летучих мышей, налетевших сквозь окно и рассевшихся под сводом. Их горящие глаза, глядящие из тьмы, взволновали меня так, будто в комнату пробрался сам дьявол. Я ушла к себе и долго не могла успокоиться, потом разожгла свет и стала изучать себя в зеркале, чего не делала давно. На меня глядело испуганное бледное лицо, которое когда-то было красивым. Сердце колотилось. Я услышала шаги в коридоре и, почти сходя с ума от страха, дала себе приказ успокоиться. Товита шла пожелать моему мужу счастливых сновидений. Лежа в постели, я вдруг поняла, что впереди меня ждет быстрая смерть или решительные перемены. Я не испытала страха перед будущим, положившись, как всегда, на Его волю. С тем и заснула.
Два года назад с пилигримами я передала письмо в Иерусалим настоятелю армянской церкви и другу моего бедного отца. Писала я наугад, никак не рассчитывая застать в живых человека, от которого не имела вестей пятнадцать лет. Но, хвала Иисусу, он оказался жив, и именно теперь я получила от него послание. Это могло бы показаться невероятным, если бы я не верила твердо в предназначение, ниспосылаемое свыше. В письме говорилось, что брат мой жив, хотя более подробно о его судьбе сказано не было. Я приложила драгоценное послание к губам, когда вошел Раймунд и сообщил, что с этой же оказией получил послание от господина Артенака. Этому Артенаку я оставалась благодарной все эти годы за книги и свитки, который он оставил у себя в доме, отправившись на Восток. Теперь Артенак извещал Раймунда, что он, как и мой адресат, жив, и будет рад встрече. По причине возраста он не способен сделать шага из города, зато от всего сердца зовет нас. Еще он писал, что Иерусалимский король нуждается в воинах для несения службы и каждый без различия гербов и титула может проявить себя достойней, чем собирая подать с нерадивых подданных. По письму было видно, что Артенак не чужд насмешки, но Раймунд выглядел взволнованным и не в меру серьезным. Тогда я и предложила отправиться в Иерусалим. Я не рассчитывала на согласие, но лицо мужа осветилось, и я поняла, что угадала. Поцеловав меня – еще одна приятная неожиданность, – он пообещал, что начнет новую жизнь. Я вовсе не требовала этого, в нынешней жизни я нахожу немало хорошего, но, не скрою, слушать эти слова было приятно. Пока он, волнуясь, говорил, я еще раз думала о стечении обстоятельств, среди которых – теперь я уверена – не было случайных: приезд Франсуа, отцовский перстень, мое исцеление и два письма, соединившихся для того, чтобы каждый из нас принял решение.
Мы проводили Франсуа и стали с нетерпением дожидаться весны, чтобы отправиться в путь. Раймунд со смущением объявил, что хочет взять с собой маленького Товия и его мать. Одиннадцать лет мальчика – возраст вполне достаточный для долгого путешествия. Конечно, я была задета, но дала согласие. Сама я вижу теперь прошедшие годы, как неволю, к которой привыкают, смиряются и не видят в ней ничего необычного. Я уже присмотрела место в церкви и опускалась коленями на ту плиту, под которую должен был лечь и мой прах. Так я думала еще вчера, а сегодня муж снова удивил меня. Я уже писала, что он оказывает мне подобающие знаки внимания, но супружеских отношений избегает и спит один. При этом я стараюсь не думать про Товиту, которая, почти не скрывая, спешит согреть ему постель. Все это благодаря Товию, которого старается держать поближе к отцу. К счастью, я переношу свое положение легче, чем она, обуреваемая страстями, свое. И вот Раймунд впервые за несколько лет пришел и лег со мной. До сих прохладный темперамент позволял мне с достоинством переносить супружескую неверность. И теперь я была больше удивлена, чем обрадована, его приходом, но решила, если Господь однажды направил его к моему ложу, он сделает это еще не раз. И действительно, спустя несколько дней я вновь обнаружила мужа рядом с собой. Утром я долго молилась о нас обеих. Товита теперь глядит на меня, как побитая собака. Смешно, но я – госпожа отвечаю ей виноватым взглядом, несмотря на то, что именно я вернула себе похищенного мужа. Человеческие страсти захватывают всех одинаково, без различий, и горе побежденному, кто бы он не был. Ведь счастье, дарованное по Его милости, часто бывает оплачено ценой чужих бед.
2
Весной мы отправились в путь. С тихой грустью я простилась с приютившим меня краем, но глаза мои теперь открыты, и не затуманены слезами. Большую часть дороги я ехала в повозке и всего несколько раз садилась в седло. Дорога вызвала появление давних болей в спине и прекращение выделений, о которых я из стыдливости хотела бы умолчать. Двигались мы намного медленнее, чем предполагали, и рано становились на ночлег. Раймунд не торопил. Я люблю наблюдать состояние природы, и это путешествие доставило мне настоящую радость. Мы выехали ранней весной, едва сошел снег, но двигались к югу, так что весна, словно на крыльях, спешила впереди, открывая свои волшебные картины. Деревья покрылись листьями прямо на глазах, цветы распустились, мы ехали по сплошному ковру альпийских фиалок и маков, а, спустившись с южных склонов гор, оказались на больших плантациях цветущих роз. Арабы знают и давно пользуют волшебные свойства этого замечательного цветка, а теперь мода на него пришла в Европу. Голова кружится от наслаждения. К тому же путешествие проходило на редкость спокойно, хотя шли мы небольшим отрядом и могли представить соблазн для всяких грабителей. Но Бог милостив. У одного из слуг Раймунда схватило живот, и мы оставили его в каком-то из альпийских монастырей. Если ему суждено встать, он догонит нас. Лошадь Зиры сломала ногу и досталась местным пастухам. Все остальное было так спокойно, что я при своем вялом темпераменте, живущем предчувствием невзгод, стала волноваться, как бы испытания, не обрушились на нас все сразу, как камни в горах. Следы страшных обвалов мы постоянно встречали.
Вначале мы собирались двигаться по берегу Дуная, чтобы выйти к границам греческой империи. Но встречные предупредили, венгерский король не ужился с буйными немецкими рыцарями и теперь задерживает правого и виноватого по собственной прихоти. Это может коснуться и нас. Не обошлось, видно, без Византии, которая вечно строит козни, чтобы препятствовать движению сквозь свои земли. Они не могут сделать это открыто, зато хитрят на каждом шагу. Когда стало ясно, что путь через Константинополь опасен, решено было двигаться морем. Потому мы перешли Альпы и со временем оказались в Венеции.
