Читать онлайн Повседневная жизнь американцев во времена Джорджа Вашингтона бесплатно
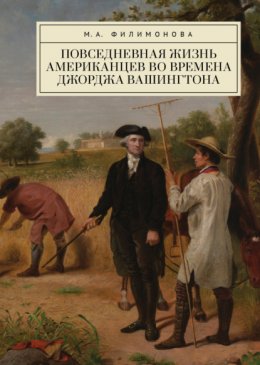
Введение
Первая американская революция XVIII века… Десять лет антианглийских протестов. Восемь лет войны. Наконец, принятие федеральной Конституции 1787 г. и создание стабильной федерации. Эти годы глубоко перепахали Америку. Не только появилось новое государство. Изменилась и жизнь обычных людей.
В глазах современников революция стала началом американской нации. Южнокаролинский историк Дэвид Рамсей подчеркивал, что революция дала начало американской нации: «Местные предрассудки ослабли. Частые контакты смягчили взаимные трения, и было заложено основание для создания нации из разнородных материалов»1. Примерно 2,5 миллиона человек, составлявших население тринадцати британских колоний в 1776 г., начали осознавать себя по-новому. Автор Декларации независимости США Томас Джефферсон рассуждал в переписке с французским активистом Ж.П. Бриссо: «Вы правильно заметили, что нас больше нельзя называть англоамериканцами. Это название теперь описывает только жителей Новой Шотландии, Канады и т.д. Я применил к нашим гражданам термин “федероамериканцы”, поскольку с нашей стороны было бы не очень прилично присвоить себе лестное название “свободные американцы”»2.
Подъем национального самосознания сопровождался своего рода антиглобалистским импульсом. Европейские великие державы, прежде всего, Франция и Великобритания, не только были могущественны в военном отношении, но и могли навязать другим нациям свою культурную повестку, свои модели потребления. Недаром миссис Рэкет, нью-йоркская дама из комедии Уильяма Данлэпа, хвалилась тем, что не уступит самым изысканным европейцам3. Европейское было престижным. Американская революция сделала отказ от импорта одним из своих лозунгов. Дэвид Рамсей заявлял в связи с ратификацией Конституции США: «До сих пор наши нравы, обычаи и одежда регулировались обычаями Европы; но, объединившись под одной властью, наш народ будет иметь нечто свое, оригинальное, чему он сможет подражать и экономить деньги, которые теперь нелепо расходуются на следование моде других стран»4.
Равенство тоже было частью революционной утопии. В воображении современников США представали страной свободных фермеров, где не ценятся пышные родословные и каждый может достичь чего угодно, – ранняя версия мифа об Америке как стране безграничных возможностей. Массачусетский политик, госсекретарь США в 1795–1800 гг. Тимоти Пикеринг уверял: «Если человек обладает добродетелью и способностями, не имея при этом ни шиллинга, он все же может стать президентом Соединенных Штатов. Разве это похоже на аристократию?»5 Это было, конечно же, далеко от реального американского общества XVIII в., где существовала собственная аристократия, хотя бы в лице «набобов» Южной Каролины и «джентри» Верхнего Юга. И все же революция действительно потеснила традиционные политические кланы во власти. Рядовые американцы получили новые возможности политического действия6.
Для представителей элиты все это выглядело как своего рода «восстание масс». Виргинские джентльмены из пьесы Роберта Манфорда «Патриоты» (1777) сетовали на то, что функционеры новых революционных органов власти – наглые выскочки, опьяненные свободой; женщины увлеклись политикой, оставляя свои традиционные роли; слуги вели себя вызывающе7. Консерваторы-тори оплакивали правление «милорда Толпы».
Понятие борьбы за свободу, в революции в XVIII в. было тесно связано с понятием добродетели. Революция мыслилась не только как уничтожение тирании во имя свободы, но и как борьба с пороком и торжество добродетели. Джон Адамс, будущий второй президент США, излагал теорию республики добродетели следующим образом: «Подобное [республиканское] правление должно поддерживаться лишь чистой религией или суровой моралью»8. Республиканская простота нравов должна была распространиться во всех областях жизни – начиная с языка и манер и кончая политикой. Представление о добродетели XVIII в. применительно к другой революции иногда описывается как «суровое счастье Спарты». «Христианская Спарта» – так это сформулировал Сэмюэль Адамс, один из главных идеологов Американской революции. Отказ от импортной роскоши, домотканая одежда, самоотречение во имя родной страны – так мог выглядеть идеальный патриот в 1775 г.
Революция приводила к высокой политизации быта. Повседневное меню, одежда, танец, даже способ лечения болезни могли быть знаком партийной принадлежности, лояльности или нелояльности «американскому делу».
Немалое влияние на американскую повседневность оказывали культура Просвещения и неотделимый от нее на практике классический республиканизм. Индоктринация масс идеями Просвещения была велика9. В повседневности их внедрение могло принимать различные формы, от бойкотов импорта как проявления республиканской добродетели до распространения оспопрививания, тесно связанного с просвещенческим культом науки и прогресса.
И все же американцы XVIII в. жили не только революционной борьбой. Строгость классического республиканизма причудливо сочеталась у них с бытовым консьюмеризмом. Историки говорят о «революции потребления» в середине столетия. Ее выражением служит значительная степень глобализации потребления. Она особенно хорошо прослеживается в ранней Америке, где собственное производство еще не было развито. И как бы пламенно революционная пропаганда ни призывала к «простоте нравов», рекламные блоки американских газет старались завлечь читателей совсем другими приманками. Их любимым словом была «жантильность» (gentility). «Жантильность» была также приметой элитарности. Она превращала потребителей и потребительниц – хотя бы в собственном воображении – в джентльменов и леди. К несчастью для себя, им приходилось сталкиваться не только с новыми идеалами, прививаемыми классическим республиканизмом, но также с законодательными запретами определенных видов жантильных развлечений, излюбленных блюд и напитков и т.п. Свои коррективы вносила и военная экономика с ее безудержной инфляцией и дефицитами.
Простота нравов считалась присущей республике, а жантильность – монархии. Джон Адамс писал своей приятельнице: «Скажите, мадам, вы за американскую монархию или за республику? Монархия – это самое благородное и самое модное правительство, и я не знаю, почему бы дамам не считаться с элегантностью и модой в вопросах правительства, как относительно платьев, бюро или экипажей. Что касается меня, то я настолько безвкусен, что предпочитаю республику»10. И в то же время в молодой американской республике жантильность, джентльменское поведение были важной политической характеристикой. Предлагая кандидатов на нью-йоркский ратификационный конвент в 1788 г., их сторонники не забывали похвалить «обаятельные», «непринужденные» или хотя бы просто «приятные» манеры своих протеже11.
Подытоживая в двух словах, можно констатировать, что Американская революция привела к тому, что современные французские историки называют «тотальной политизацией частной жизни»12. Граница между частным и публичным размывалась. И все же США не превратились в «христианскую Спарту». Американцы охотно проявляли свою республиканскую добродетель при случае, но также они стремились к комфорту и следовали модным трендам. И то, и другое нашло свое отражение в этой книге.
Глава 1. Повседневность армии и армия в повседневности
В оккупации. У Америки появляется армия
Дисциплина барона фон Штойбена. Вэлли-Фордж. В плену
Альянс с Францией. Демобилизация и «цинциннаты»
Две подруги из пьесы виргинца Роберта Манфорда «Патриоты» (1777) так рассуждали о войне:
Изабелла. Прошу тебя, Мира13, отбрось этот скромный вид; когда все вокруг сходят с ума от радости, услышав славную весть с Севера, ты словно египетская мумия – без чувств и движения.
Мира. У меня случаются приступы ужаса, мисс, когда я слышу о битве.
Изабелла. И у меня тоже, если она обернется против нас.
Мира. Победа сопровождается плачем вдов и слезами сирот; я не могу радоваться ничему, что звучит похоронными песнопениями или заставляет радость улыбаться перед лицом скорби14.
Теоретики эпохи Просвещения не одобряли войн. Бенджамин Раш, пенсильванский врач и философ-просветитель, писал: «Война – занятие для дикарей. Во всех цивилизованных нациях она порождает пороки и долги. Она приятна монархам, поскольку они извлекают из нее славу и увеличивают свою власть. Республики заинтересованы в мире»15. А между тем на протяжении восьми лет Соединенные Штаты сражались за свою независимость. Войска, свои и иностранные, союзные и вражеские, были неотъемлемой частью повседневности. Так что с повседневной жизни армии и следует начать рассказ о буднях Американской революции.
В оккупации
Английские оккупационные войска появились в Америке задолго до того, как в Лексингтоне и Конкорде прозвучали первые выстрелы. В 1768 г. они высадились в мятежном Бостоне. И лишь в 1783 г., с освобождением Нью-Йорка, последний английский солдат покинул США. Под контролем Великобритании на некоторое время остались лишь кое-какие форты на Западе.
Английский капитан Джеймс Мюррей не слишком высоко оценивал то, чем занимался: «Варварское занятие в варварской стране»16. Другие офицеры были уверены: «Ничто не образумит этих людей, кроме огня и меча»17. Временами именно огнем и мечом англичане и действовали. Но не всегда. Порой кажется, что у английских военных не было четкого представления о том, как же можно вернуть мятежные колонии. В их действиях можно найти примеры как «войны в кружевах», так и жестокости.
Оккупированные города – а в разное время войска его величества стояли в Бостоне и Нью-Йорке, Филадельфии и Чарльстоне, не считая менее значительных населенных пунктов, – англичане старались поставить под жесткий контроль. Например, заняв в августе 1776 г. Нью-Йорк, англичане ввели в городе военный закон. Полицейскими и правоохранительными функциями занимались британские военные власти. Тут же начинались и репрессии против патриотов. Филадельфийка Элизабет Дринкер рассказывала об оккупации своего города: «Многие горожане арестованы и заключены в тюрьму»18. Стандартной мерой было также перерезание всех возможностей коммуникации между городом и сельской округой. Бостонка Сара Деминг описывала политику английского командующего: «К утру я погрузилась в крепкий сон, от которого мистер Деминг пробудил меня между 6 и 7 часами утра, сообщив, что теперь я узница генерала Гейджа и что все движение в город и из него перерезано. Здесь вновь описание бессильно»19. Разрушение торговых сношений между городом и деревней приводило к дефициту продовольствия и безудержному росту цен. Бостонский торговец Джон Эндрюс остался в оккупированном городе, чтобы англичане не разграбили его склады. В результате ему пришлось хлебнуть горя: «Вчера прошло две недели с тех пор, как прекратилось сообщение между городом и деревней, поэтому наши глаза не были благословлены ни овощами, ни свежей провизией. Как долго мы протянем в этом жалком состоянии – одному Богу известно»20. Порой перебои снабжения били и по самим англичанам. Уже знакомый нам капитан Мюррей не без юмора описывал свой рацион: «Жареная солонина на завтрак, вареная солонина на обед, холодная солонина на ужин»21.
В то же время полностью изолировать оккупированные города не удавалось. Мирные жители, оказавшиеся между двумя воюющими армиями, всеми правдами и неправдами старались кто разузнать о судьбе родных, оказавшихся во вражеском окружении, кто заработать на спекуляции дефицитными товарами. Жизнь такой нейтральной полосы превосходно описана Фенимором Купером в романе «Шпион» (1821)22. Губернатор Нью-Джерси Уильям Ливингстон сетовал на «законченных бандитов», благодаря которым «враг, как мне сообщили, в изобилии снабжается свежей провизией, а взамен привозится такое количество британских товаров, что заинтересованные лица могли открыть магазины для их розничной продажи»23. Нью-Джерси издал закон, запрещающий гражданам штата пересекать вражеские линии без разрешения или паспорта24. Английский генерал Хоу, со своей стороны, тоже старался пресечь контрабанду. Однако ни у одной из сторон ничего не вышло.
Контрабандистскими тропами пользовались не только для перевозки товаров. Темнокожие рабы старались пробраться теми же путями, надеясь при помощи британской армии обрести свободу. Еще в самом начале Войны за независимость, 7 ноября 1775 г. бывший королевский губернатор Виргинии Данмор даровал свободу всем рабам, принадлежащим мятежникам, если только эти рабы помогут усмирить взбунтовавшуюся колонию. Результатом было довольно широкое распространение лоялизма среди темнокожего населения. Американские рабы начали верить, что король Георг III на их стороне и против их хозяев. Если такие «черные лоялисты» попадали в руки американцев, им приходилось солоно.
Рядовой Континентальной армии Джозеф Пламб Мартин описывал случай, когда чернокожий беглец по ошибке вышел не к английскому, а к американскому блокгаузу. Беднягу тут же вернули владельцу25. Более удачливым оказался Генри Вашингтон, раб Джорджа Вашингтона. В августе 1776 г. он сбежал из Маунт-Вернона, чтобы присоединиться к афроамериканскому полку, организованному лордом Данмором. Таких полков было несколько. Наиболее известные из них: «Эфиопский полк» в Виргинии, «Черные первопроходцы» в Нью-Йорке и «Черная бригада» в Нью-Джерси. Генри Вашингтон служил во втором из них. В 1783 г. он покинул Нью-Йорк вместе с британскими войсками. Ему повезло больше, чем многим другим. После освобождения Нью-Йорка, Чарльстона и Саванны – последних крупных американских городов, удерживаемых британцами, – туда направились сотни рабовладельцев, пытавшихся вернуть сбежавшую собственность. Далеко не для всех бывших рабов нашлось место на английских кораблях. Общее число черных лоялистов неизвестно, но ясно, что их были десятки тысяч (внушительная цифра при общем населении США не более 3 млн человек!). Не случайно американский историк Г. Нэш считает участие афроамериканцев в Войне за независимость на стороне англичан крупнейшим рабским восстанием в истории США. Всего англичане в ходе Войны за независимость освободили ок. 20 тыс. рабов. Около половины из них впоследствии переселились в Канаду, Британию или Сьерра-Леоне (в числе последних был и Генри Вашингтон)26.
Английские офицеры старались устроиться в Америке как можно приятнее. Череда приемов, балов, театральных постановок, а также игра в карты и общение с дамами свободного поведения скрашивали их жизнь в чужой стране. Оккупировав Бостон, англичане шокировали горожан, превратив Старую южную церковь в школу верховой езды, а Фанейл-холл27 в театр. Такой же порядок был в оккупированном Нью-Йорке. «Connecticut Courant» сообщала, что «на зиму в Нью-Йорке заведен театр; но хотя город изобилует семьями [высокого] ранга, вкуса и состояния, он (как нам говорили), не может содержать постоянную труппу актеров». Далее следовало ироническое описание того, как английские офицеры в Нью-Йорке преобразились в плясунов и скоморохов, а издатель-тори28 Джеймс Ривингтон продает им скрипки и другие музыкальные инструменты29.
Самый впечатляющий лоялистский праздник состоялся 18 мая 1778 г. в Филадельфии и запомнился надолго. В этот день генерал Хоу покидал пост главнокомандующего британскими силами в Америке и хотел отметить прощание запоминающимся зрелищем. Название торжества «мешьянца», примерно означавшее по-итальянски «смесь», соответствовало сочетанию разных мероприятий. Организацию взял на себя майор Джон Андре30. Приглашены были как британские офицеры, так и богатые филадельфийцы. День начался с регаты на реке Делавэр. Множество судов проходили вверх по реке под звуки музыки и залпы салюта, под приветствия зрителей. Затем на обширной лужайке был устроен стилизованный рыцарский турнир.
Юная филадельфийка описывала эту сцену: «Наше внимание привлекла триумфальная арка в честь лорда Хоу. На ней был выгравирован Нептун со своим трезубцем; две сестры охраняли его с обнаженными шпагами. Они разместились в маленьких нишах, сделанных специально для этого. По обе стороны арки были места для леди: ступеньки, одна над другой, все покрытые коврами. (…) По особой просьбе устроителей четырнадцать юных леди были одеты одинаково: белые мантуи31 в польском стиле, с длинными рукавами, полосатые газовые тюрбаны и кушаки вокруг талии. Семь из них носили розовые кушаки с серебряными полосами, а другие – белые с золотыми полосами. Их газовые платочки были такого же цвета. Девушки в розовом и белом назывались Дамами пестрой розы, бело-золотые – Дамами пылающей горы». Сохранился сделанный Андре набросок костюма. Дама на рисунке украшена тюрбаном, отделанным жемчугом и небольшим плюмажем; ее восточный головной убор образует весьма необычное сочетание с высокой прической во вкусе рококо32. Затем явились герольды, одетые «совершенно в стиле Тысячи и одной ночи». Каждый провозглашал своих дам прекраснейшими на земле. Например, Черный герольд от имени своей партии провозгласил под звуки труб: «Рыцари пылающей горы явились сюда, дабы не словами, но деяниями опровергнуть тщеславные притязания Рыцарей пестрой розы, и вступают в борьбу, дабы утвердить превосходство Дам пылающей горы в красоте, добродетели и совершенствах над всеми во Вселенной».
Выехали рыцари в фантастических одеяниях (среди них был и Андре) и продемонстрировали подобие турнира, то преломляя копья, то обмениваясь пистолетными выстрелами. Когда два предводителя сошлись в поединке, распорядитель объявил, что дамы удовлетворены. За турниром последовали танцы и роскошный обед в зале, раскрашенном под мрамор, а также фейерверк, сияние которого отражалось в сотнях специально привезенных по такому случаю зеркал. Увеселения обошлись англичанам в кругленькую сумму: 3 312 фунтов33. Реакция патриотов была предсказуемо негативной. Некий старый артиллерист-американец припечатал: «Рыцари пылающей горы – дуралеи, а Рыцари пестрой розы – чертовы глупцы, вот и вся разница»34.
Местным жителям не всегда было так весело. Мародерство было бичом европейских армий XVIII в., и английская исключения не составляла. Гессенцы, нанятые Георгом III для покорения Америки, славились еще большей страстью к грабежам, чем англичане. Элизабет Дринкер записывала в дневник: «Гессенцы продолжают сильно грабить»35. Командование время от времени пыталось пресечь бесчинства. Был, например, такой случай: некий английский драгун был убит, когда пытался ограбить дом американца. Хоу приказал вздернуть тело мародера на виселицу, как наглядный пример своим солдатам36. Но это, видимо, помогало мало. Английские солдаты дебоширили, грабили собственность патриотов, давая тем самым благодатную тему для американской пропаганды. Томас Пейн37 не упускал случая рассказать о войсках Хоу: «Что нельзя было увезти, разрушали, и мебель красного дерева намеренно использовалась в качестве топлива, дабы не утомлять солдат рубкой дров»38. Можно было бы заподозрить Пейна в том, что в пропагандистском запале он допустил преувеличение. Но сами англичане свидетельствовали о том, что приведенные им факты – еще цветочки.
В 1780 г. Бенедикт Арнольд39, подойдя к Ричмонду со своим «Лояльным американским полком», требовал от горожан заложников, а также целый список товаров: табак, ром, вино, сахар, черную патоку, парусину и кофе. Жители Ричмонда передали его требования тогдашнему губернатору Виргинии Томасу Джефферсону. Но Джефферсон даже не удостоил Арнольда ответом. Тогда лоялисты принялись грабить и жечь табачные и соляные склады, до которых могли добраться. Закончилась эта история целой «табачной войной». Английские войска вместе с лоялистами методично разоряли Виргинию, уничтожая урожай табака, сушильные амбары и поля, освобождая рабов. В том числе увели тридцать рабов и разорили поля у Джефферсона. На исход войны все это мало повлияло, а вот виргинскую экономику сильно подорвало40.
Женщины тоже становились военной добычей. Английский офицер лорд Раудон писал своему дяде со Стейтен-айленда: «Удивительное несчастье постигло прекрасных нимф этого острова, так как свежее мясо, которое наши люди здесь получили, сделало их буйными, как сатиры. Девушка не может зайти в кусты, чтобы сорвать розу, не подвергаясь самому неизбежному риску быть изнасилованной»41.
К небу поднимался дым сожженных городов. Английский адмирал Грейвз в октябре 1775 г. приказал капитану шлюпа «Кансо» уничтожить массачусетские городки Фалмут и Мачайас и нью-гэмпширский Портсмут, посмевшие сопротивляться войскам его величества. Следовало полностью сжечь и разрушить жилые здания, портовые сооружения, корабли, а заодно, если капитан сочтет нужным, еще и соседние поселения42. Свидетель сожжения Фалмута вспоминал: «Стрельба началась со всех судов со всей возможной быстротой, по всем частям города… ужасный ливень из ядер весом от трех до девяти фунтов, бомб, книппелей43, зажигательных снарядов, картечи и мушкетных пуль.… Стрельба продолжалась, почти не прекращаясь, до шести часов»44. После длительной бомбардировки был высажен английский десант, чтобы поджечь уцелевшие здания. К вечеру город пылал. Более 1000 человек осталось без крова. Город был восстановлен под новым названием Портленд лишь после войны. Трагедия Фалмута потрясла американцев. Абигайль Адамс45 писала: «Неисповедимы пути Неба, которое допускает злую участь города и народа от тех самых рук, которые должны бы их защищать»46. Это несчастье заставило Континентальный конгресс поспешить с созданием военно-морского флота. Провинциальный конгресс Массачусетса распорядился выделить наиболее пострадавшим помощь: 250 долларов и 15 бушелей зерна. В дополнение к этому горожанам скостили половину налогов на следующий год47.
У Америки появляется армия
- Добровольцем-янки быть в дни перебранки
- Счастьем считал любой48, –
так описывала начало Войны за независимость народная песня. В первых сражениях участвовало ополчение – милиция, либо местные регулярные войска, которые набирались на добровольной основе. Поначалу американцев охватил военный пыл. Первые выстрелы еще не успели прозвучать, но слухи о скорой высадке английских войск возникали то здесь, то там. Мужчины брались за оружие. Коннектикутский священник Эзра Стайлз описывал такой эпизод в 1774 г.: «Повсюду были спешившие вооруженные люди, кто пешком, кто верхом. В каждом доме женщины и дети делали патроны, отливали пули, собирали свертки с едой, пекли галеты»49. Когда же боевые действия и впрямь начались, люди массами записывались в ополчение. Например, из 150 взрослых мужчин городка Питерборо (Нью-Гэмпшир) сто записались в армию50. Массачусетец Джозеф Пламб Мартин, сын священника, записался в милицию, когда ему было всего 16 лет. Позже он перешел в Континентальную армию. В своих мемуарах он так описывал начало солдатской жизни: «И вот я сел за стол, получил приказ о зачислении в армию. Я взял роковое перо, обмакнул его в чернила и сделал несколько движений, как будто расписываюсь, и все же не прикасался к бумаге, пока коварный дух, склонившийся над моим плечом, не тронул мою руку и перо не царапнуло листок. “О, он записался в армию, – сказал кто-то, – он оставил роспись”»51.
Такие, как Джозеф, ополченцы начала войны, получили прозвище минитменов – «людей минуты», за то, что могли при необходимости мгновенно выступить навстречу врагу. Они не носили военной формы, вооружались охотничьими ружьями, иногда винтовками. Они не были обучены линейной тактике своего века, зато хорошо знали местность, отлично умели устраивать засады и вести партизанскую войну. Их участие в первых сражениях при Конкорде и Лексингтоне было многократно воспето. Ральф Уолдо Эмерсон славил минитменов своим «Конкордским гимном» (1837):
- Здесь наши предки в ранний час
- Из бревен мост когда-то сбили
- И сотни ружей, грянув враз,
- Весь мир в апреле разбудили52.
Но было очевидно, что для войны с одной из лучших европейских армий тринадцати восставшим колониям понадобятся общие вооруженные силы. 14 июня 1775 г. Конгресс принял решение о создании Континентальной армии. Она объединила 22 тысячи солдат, уже осаждавших оккупированный Бостон, а также 10 отрядов стрелков из Пенсильвании, Мэриленда и Виргинии. Общая же ее численность составляла около 48 тыс. человек. Главнокомандующим был назначен виргинец Джордж Вашингтон. Он получил некоторый боевой опыт во время Семилетней войны, что теперь оказывалось весьма кстати. К тому же конгрессмены надеялись, что виргинский аристократизм нового главнокомандующего привлечет к нему общественное мнение, особенно на Юге. Это было важно, поскольку основные боевые действия первых лет войны шли далеко от южных штатов. «В Виргинии все гуси – лебеди», – ворчал язвительный Джон Адамс.
Континентальная армия не была до конца централизованной: создавались общий военный госпиталь, интендантская служба, связь, но при этом набор волонтеров и комплектование офицерских кадров оставались в ведении отдельных колоний, позднее – штатов (Конгрессу принадлежало лишь право назначать генералов)53. Каждый штат должен был поставить определенное количество солдат, пропорционально численности собственного населения, а также позаботиться об их вооружении и снабжении. Основой комплектования армии был набор добровольцев, отчасти рекрутский набор. С осени 1776 г. каждому новобранцу при вступлении в армию выдавали 20 долларов премиальных и сертификат на получение после войны земельного участка (для рядового его размер составлял 100 акров, для полковника – 500 акров). Обещали также хорошую плату за службу (29 долларов в месяц)54.
Служба в Континентальной армии была краткосрочной – поначалу всего один год. Позже появились трехлетние контракты. Короткие сроки службы были настоящим проклятием. По мнению Вашингтона, это подрывало нормальный порядок службы: «Люди, нанятые на короткий, ограниченный срок, забирают слишком много власти над офицерами. Для достижения определенной степени популярности, чтобы побудить солдат завербоваться на новый срок, в ход идет своего рода фамильярность. Она приводит к ослаблению дисциплины, нелицензированным отпускам и другим поблажкам, несовместимым с порядком и хорошим управлением»55. Чисто военные последствия такой системы бывали печальны. 31 декабря 1775 г. Ричарду Монтгомери56 и Бенедикту Арнольду пришлось штурмовать Квебек посреди сильнейшего бурана. Монтгомери был убит, Арнольд – ранен, а город так и не взяли. Но подождать более благоприятных условий не было возможности: 1 января их солдаты просто разошлись бы по домам.
По своему составу Континентальная армия резко контрастировала с фермерами-минитменами. Уже новобранцы 1777 г. представляли не средний класс, не «йоменов», а различные маргинальные элементы революционного общества: сервентов57, поденщиков, безработных, дезертиров из английской армии, иностранцев. В Континентальной армии служило также некоторое число лоялистов. Нередко местные власти предлагали им завербоваться, чтобы избежать тюрьмы или искупить свою службу Британии. Так, в Морристауне (Нью-Джерси) патриотические суды приговорили к повешению по меньшей мере 105 тори, но лишь в четырех случаях приговор был приведен в исполнение. Остальные были помилованы при условии, что согласятся служить в Континентальной армии58.
В расовом отношении армия была неоднородна. Хотя индейские племена в большинстве своем сражались на английской стороне, у США среди них тоже были союзники. Вождь могавков Жозеф Луи Кук вступил в ряды Континентальной армии еще в 1775 г., прошел и тяготы похода на Квебек, и победное сражение при Саратоге59. Племена онейда и тускарора отправили Вашингтону около 50 воинов. Шестьсот воинов были присланы от племен пенобскотов и пассамакодди. Стокбриджские могикане из Массачусетса даже сформировали собственный полк60. Хирург Альбидженс Уолдо рассказывал об одном из них, умершем в Вэлли-Фордж61: «Без сомнения, он завербовался ради денег, как другие. Но он верно служил своей стране. Он сражался за тот самый народ, который отнял достояние его праотцев… Его память заслуживает большего уважения, чем у тех богачей, которые не дают миру ничего, кроме своих денег и пороков»62.
Чернокожие американцы записывались в Континентальную армию не слишком охотно. Да и белые патриоты не желали давать оружие своим рабам. Так, чтобы рабы не бежали в американскую армию в надежде получить свободу, виргинские власти приняли решение не допускать на службу темнокожих волонтеров, если только они не представят сертификат, что являются свободными гражданами63. Тем не менее, были и черные патриоты, подобные Питеру Сэйлему из Массачусетса. Хозяин дал ему свободу, чтобы он мог завербоваться в милицию. Именно так Питер и поступил. Он сражался при Банкер-хилле, Саратоге, Стоуни-Пойнт64. В конце 1779 г. он вышел в почетную отставку. Дальнейшая жизнь чернокожего ветерана сложилась благополучно: он женился, построил себе домик в массачусетском городке Лестер и зарабатывал на жизнь плетением из тростника. Иным был путь в Континентальную армию для раба Тобайеса Гилмора, уроженца Западной Африки. Он был отдан на службу вместо своего хозяина-рекрута. Тобайес служил в личной охране Вашингтона. После войны он получил в награду свободу, участок земли и даже списанную пушку, из которой устраивал салют каждый год на 4 июля. Считается, что в Континентальной армии служило от 5 до 8 тысяч афроамериканцев, в основном с Севера и Верхнего Юга65. Некоторые штаты, в том числе Нью-Джерси, Род-Айленд, Массачусетс, Пенсильвания, дали свободу чернокожим ветеранам войны. Но на Юге их судьба всецело зависела от доброй воли их хозяев.
Была у Континентальной армии и своя кавалерист-девица, или, вернее, девица-пехотинец – Дебора Сэмпсон из 4-го массачусетского полка. Дебора вынуждена была с детства зарабатывать себе на жизнь. С десяти лет она была законтрактованной служанкой. Ткала, плела корзины, немного плотничала, работала в таверне. Но такая жизнь не устраивала девушку, она мечтала сражаться за независимость своей страны наравне с мужчинами. Впоследствии она вспоминала: «Я разорвала путы, державшие мой пол в подчинении, и ухватилась за возможность, которую мир и традиции отрицали как мое естественное право. В важной драме я стала действующим лицом с несгибаемым решением упорно бороться, пока нам не разрешат наслаждаться свободой и независимостью». В мае 1782 г. она обрезала волосы, переоделась в мужскую одежду, сшитую собственноручно, и явилась на вербовочный пункт в Бостоне. Там она была зачислена в 4-й Массачусетский полк под именем своего умершего брата Роберта Шертлифа. Дебора участвовала в последних схватках с лоялистами на завершающем этапе Войны за независимость, проявила личную храбрость, была ранена. В октябре 1783 г. она вышла в почетную отставку. Газеты прославляли ее, как национальную героиню. Конгресс в специальной резолюции превозносил ее героизм и целомудрие, однако отказывал ей в пенсии вплоть до 1816 г.66
Единой военной формы поначалу не существовало. Солдаты и офицеры щеголяли в охотничьих куртках или донашивали мундиры времен Семилетней войны. К этому добавлялось множество местных вариаций. Например, «Нью-йоркские отважные лесовики» под командованием Александра Гамильтона67 облачались в короткие зеленые куртки. На шляпах у них были латунные пряжки с надписью «Свобода». Ополченцы из Мэриленда, Нью-Джерси, Южной Каролины носили синие мундиры с красными выпушками. При такой пестроте случались недоразумения. Капитан Мюррей рассказывал случай, когда английские солдаты приняли американцев в синей форме за своих гессенских союзников и обнаружили ошибку, только когда в них начали стрелять68. Зато вид у патриотов был бравый, а большего и не требовалось. Пенсильванка Эстер Рид делилась впечатлениями: «Действительно, все в нашем городе носит воинственный характер. Две тысячи человек на поле боя, все в форме, выглядят очень по-военному. Люди из полка, которых называют стрелками, одеваются, как индейцы, и представляют собой очень грозное зрелище»69.
Кроме собственно формы, для различения своих и чужих использовались кокарды на шляпах. Их присутствие должно было скомпенсировать недостаток военных мундиров. Ирландский иммигрант, ветеран Семилетней войны Ричард Монтгомери в июне 1775 г. узнал о своем назначении бригадным генералом Континентальной армии. Он взял черную шелковую ленту и попросил свою жену Дженет сделать из нее кокарду. Молодая женщина с ужасом представила грозящие близкому человеку опасности и не могла сдержать слез. Но он отвечал: «Затронута моя честь. Ты не будешь краснеть за своего Монтгомери»70. Он пал смертью храбрых в декабре того же года, при штурме Квебека.
Поначалу кокарды патриотов были черными, а после заключения союза с Францией стали черно-белыми. Белый цвет символизировал династию французских Бурбонов.
К 1779 г. главнокомандующий добился наконец единообразной формы. Солдаты Континентальной армии оделись в синее. Выпушки мундиров различались у полков разных штатов: у новоанглийцев белые, у ньюйоркцев – желтые, у виргинцев – красные и т.п. Офицеров отличали золотые эполеты. Некоторые старались еще дополнительно украсить свои мундиры. Но Конгресс этого не одобрял: франты, по мнению конгрессменов, были уж слишком похожи на монархистов. Поэтому офицерам запрещалось носить золотое и серебряное кружево, вышивку или велень71, не предусмотренные уставом72.
Вооружение было достаточно традиционным. Стандартным оружием была «смуглянка Бесс» – гладкоствольный мушкет образца 1722 г. со скорострельностью два-три выстрела в минуту и калибром 0,75 дюймов. Прицельно стрелять из него было сложновато: «смуглянка Бесс» была эффективна лишь на расстоянии в 60 ярдов. Но особенная точность и не требовалась: при линейной тактике попасть в линию вражеской пехоты было не слишком трудно. Стрельба из мушкета была трудоемкой операцией, согласно уставу, состоявшей из 15 отдельных движений. Следовало насыпать порох на затравочную полку, предварительно скусив бумажный патрон, в который упаковывались порох и пуля. Затем курок ставили на предохранительный взвод, чтобы мушкет не выстрелил раньше времени, и закрывали полку. Насыпали порох в ствол. Туда же забивали пыж (бумажную обертку патрона) и пулю. Затем заряд утрамбовывали шомполом. Почти всё: можно взвести курок и наконец выстрелить73.
Дань восхищения «смуглянке» отдал Редьярд Киплинг:
- В глаза мужчинам прямо смотрел ее зрачок,
- Хлыщи пред этой дамой склоняли паричок,
- И веским было слово ее кремневых губ,
- Коль смуглый стан дубовый обнимет воин-друг!
- ……………………………………
- Прически и наряды менялись у людей,
- Немало поменялось на троне королей,
- Но только не меняли ни мода, ни прогресс
- Смуглянку Лизу нашу, старушку Браун Бесс74.
Для прицельной стрельбы использовались кентуккийские винтовки, которые, вопреки названию, впервые появились в Пенсильвании, где их выпускали немцы-оружейники. Такие винтовки было несложно починить даже в сельской кузнице, так что они стали любимым оружием фронтира. «Кентуккийки» били на поразительное для того времени расстояние в 200 ярдов. В сражении при Саратоге в 1777 г. снайперы с винтовками выцеливали британских офицеров; красные английские мундиры были для них отличными мишенями. На вооружении у английской армии имелась винтовка системы Фергюсона, более скорострельная и к тому же казнозарядная, а не дульно-зарядная. Правда, широкого применения она не получила, и англичане стреляли все из той же «смуглянки Бесс» (она использовалась в английской армии до конца наполеоновских войн).
Снайперская стрельба не была для американских охотников чем-то новым, а вот премудрость штыковой атаки далась им не сразу. Только на третьем году войны прусский офицер Фридрих фон Штойбен, о котором еще пойдет речь ниже, объяснил американцам, что штыком можно не только копать или жарить на нем мясо, как на вертеле. Благодаря его науке, в 1779 г. американцы смогли одержать победу при Стоуни-Пойнт штыковой атакой, с незаряженными мушкетами.
Артиллерия Континентальной армии была сделана в основном по британскому стандарту. Вес ядер составлял от 1 до 12 фунтов. Двенадцатифунтовка была тяжелой пушкой общей массой в 3200 фунтов. Для ее транспортировки требовалось двенадцать лошадей. Обычно ждали, пока враг подойдет на 500 ярдов, и тогда уже давали залп.
С артиллерией связана одна из легенд Американской революции – о женщине-пушкаре Молли Питчер. Реальные прототипы героини – пенсильванки Маргарет Корбин и Мэри Людвиг Хейс. Обе помогали мужьям-артиллеристам во время боя. Они носили воду, чтобы утолить жажду пушкарей и охладить раскалившиеся от стрельбы пушки. В ноябре 1776 г. муж Маргарет был ранен и не смог продолжать сражение. И тогда она встала к орудию вместо него. То же самое сделала Мэри двумя годами позже, в сражении при Монмуте75.
Самым необычным изобретением Войны за независимость была подводная лодка Дэвида Бушнелла. В 1775 г. Джорджу Вашингтону рекомендовали коннектикутского инженера с проектом нового оружия. Бушнелл искал способ борьбы с английскими военными кораблями. Он изобрел взрывное устройство, способное действовать под водой, а в придачу к нему – подобие деревянной субмарины. Подлодка должна была скрытно подобраться к вражескому судну; затем подводник должен был прикрепить взрывное устройство к корпусу супостата – и вот вам секретное оружие против мощного британского флота! Изобретение Бушнелл испытал на реке Коннектикут. Боевое применение состоялось в бухте Нью-Йорка в сентябре 1776 г. и оказалось неудачным. Сержант Эзра Ли, которому доверили управлять подлодкой, сделал несколько попыток, но то терял управление, то всплывал слишком рано. После этого провала Бушнелл переключился на новый план: он помещал взрывные устройства в бочонки и спускал их вниз по реке Делавэр, чтобы уничтожить английский флот в Филадельфии в январе 1778 г. Но и это не получилось: помешал лед на реке. Вашингтон вспоминал бушнелловское изобретение без всякого восторга76.
Дисциплина барона фон Штойбена
В первые годы Войны за независимость о дисциплине в Континентальной армии говорить не приходилось. Патриотический пыл не заменял выучку и не гарантировал готовность подчиняться приказам. Идеалом Вашингтона были европейские регулярные армии: лощеные офицеры, подтянутые солдаты. А перед глазами у него были колоритные персонажи вроде того, которого вспоминал рядовой Мартин: «Нашим полком командовал полковник Батлер, пенсильванец, – тот самый, я полагаю, который впоследствии стал генералом и был убит индейцами при поражении генерала Сент-Клера77 в бою с майами; но в этом я не уверен. Он был храбрым, но вспыльчивым и суровым. Всякий раз, когда у него возникал спор с собратом-офицером, а это случалось довольно часто, он никогда не прибегал к пистолетам и шпагам, а всегда к кулакам. Я не раз и не два видел его с подбитым глазом и видел других офицеров, которых он удостоил таким же знаком отличия»78. И это были еще цветочки. Как-то Вашингтон был шокирован, увидев, как офицер – в мирной жизни цирюльник – бреет своих солдат. Сам он был убежден: «Дисциплина – это душа армии. Она делает малое число людей грозным, обеспечивает успех слабым и уважение всем»79.
Его усилия принесли некоторые плоды. Массачусетец Уильям Тюдор рассказывал о том, что видел в военном лагере под Бостоном: «С момента прибытия континентальных генералов правила лагеря значительно изменились к лучшему. Раньше дела шли очень плохо. Генерала [Артемаса Уорда] презирали. Среди офицеров было мало соперничества, а солдаты были ленивы, недисциплинированны и грязны. Генералы Вашингтон, Ли и Гейтс80 пользуются уважением и доверием, а их приказы выполняются точно и радостно. И я надеюсь, что скоро мы сможем встретиться с британскими войсками на любой территории»81. Вашингтон также заботился о хорошем имидже своей армии. Он оперативно реагировал на жалобы гражданских, среди которых встречались довольно забавные: например, некие дамы жаловались, что солдаты купаются нагишом у всех на виду.
Но настоящий порядок в Континентальной армии навел пруссак Фридрих Вильгельм фон Штойбен, в Америке для пущей солидности именовавший себя бароном. Еще юношей он принял участие в боевых действиях русско-турецкой войны 1735–1739 гг. Участвовал он и в Семилетней войне и теперь искал новое применение своим знаниям. В декабре 1777 г. он высадился в Нью-Гэмпшире в компании любимого пса Азора, адъютанта, военного секретаря и еще двух спутников. Поскольку на них были красные мундиры, то их поначалу приняли за англичан и едва не отправили в тюрьму. Зато в Вэлли-Фордж бравый военный произвел самое благоприятное впечатление. Один молодой солдат рассказывал: «Никогда, ни до того, ни после мне не представлялся подобный образ древнего сказочного бога войны, как при виде барона. Он казался мне совершенным воплощением Марса»82. Его же впечатление от американцев было совсем не таким благоприятным. Он сообщал: «Я не нашел здесь ни устава, ни регламента, ни системы, ни военного министра, ни прощения, ни награды»83.
Но трудности не пугали достойного пруссака. От Конгресса он получил чин генерал-инспектора и жалованье в 84 доллара, в добавление к обычному жалованью генерал-майора84, после чего энергично приступил к наведению порядка. У него были четкие представления о том, как именно должна выглядеть армия. В частности, Штойбен требовал, чтобы все офицеры были знакомы с полевой службой и при необходимости могли обучать солдат. Новобранцам следовало освоить выполнение военных команд, несколько видов маршировки и перестроений, стрельбу. Свои соображения Штойбен изложил на бумаге. Его «Синяя книжечка» – регламент строевой службы – использовалась в армии США вплоть до 1814 г.
Организовать непосредственное обучение солдат было нелегко. Штойбен не знал английского, американцы не знали немецкого, так что при общении с солдатами приходилось прибегать к сложной системе. Штойбен выкрикивал команды по-немецки, его адъютант повторял их по-французски. Полковник Александр Гамильтон или генерал Натанаэль Грин85 выдавали английский вариант, чтобы солдаты-янки могли, наконец, понять, чего же от них требуют. Но постепенно дело пошло на лад, и к 1779 г. Континентальная армия могла похвастаться должной выучкой86.
Наказания были неизменной частью службы. Вашингтон, как и король Фридрих II, считал, что солдат должен больше бояться палки капрала, чем штыка неприятеля. Главнокомандующий Континентальной армии рассуждал так: «Три вещи побуждают людей к регулярному выполнению своего долга во время боевых действий: естественная храбрость – надежда на награду – и страх наказания. Первые две характерны и для новобранца, и для опытного солдата; но последнее, наиболее очевидно, отличает одного от другого. Когда трус убежден, что если он покинет свои ряды и откажется от своего знамени, свои же покарают его смертью, он попытает счастья в бою против врага»87.
Обычной карой за проступки солдата была порка. Орудием кары была плетка-девятихвостка, число ударов изначально не регламентировалось. О трагическом случае в английском гарнизоне Нью-Йорка сообщали газеты в 1767 г.: солдат был приговорен к тысяче ударов кнутом и предпочел жестокому наказанию самоубийство88. Революция навела в военной юстиции некоторый порядок. Конгресс не отменил телесные наказания в армии, но по крайней мере ограничил число ударов. В начале войны провинившийся солдат мог получить не более 39 плетей, позже их количество увеличили до ста89. Хирург Джеймс Тэтчер записывал в дневник: «Как ни странно это может показаться, часто солдат получает жесточайшие удары, не издавая ни стона, не уклоняясь от плети, даже если кровь потоком льется из рваных ран. Это следует приписать упрямству и гордости. Впрочем, они изобрели способ, который, по их словам, смягчает боль до некоторой степени. Они зажимают в зубах свинцовую пулю и жуют ее под плетью, пока она не станет совсем плоской»90. Телесные наказания в американской армии сохранялись вплоть до Гражданской войны и были отменены (на Севере) в августе 1861-го.
За серьезные преступления – дезертирство, нападение на офицера, бунт – солдата ждала смертная казнь через расстрел или повешение.
Вэлли-Фордж
Вопрос о размещении войск в Америке впервые встал в 1754 г., когда британские солдаты начали прибывать для участия в войне с Францией и индейцами. Лорд Лаудон, главнокомандующий британской армией в Северной Америке, решил, что положения Закона о мятеже, касающиеся расквартирования, применимы только к Англии, а не к ее колониям. Используя свою военную власть, лорд Лаудон постановил, что если не найдется казарм, то владельцы как частных домов должны будут предоставить постой для его людей. Лаудон предоставил местным гражданским должностным лицам принимать необходимые меры и добиваться возмещения расходов от колониальных законодательных органов. После окончания Семилетней войны британское командование приняло решение держать в колониях постоянную армию. Акт о квартировании войск, принятый в 1765 г., а затем реальное размещение английских войск в Бостоне вызвали возмущение колонистов. Акт о квартировании 1774 г. американцы сочли одним из «нестерпимых» актов. Соответственно, когда началась Война за независимость, не могло быть и речи о расквартировании Континентальной армии в частных домах, как это делалось в Европе. Для солдат устраивались палаточные лагеря или, в зимних условиях, временные поселки из наскоро построенных хижин.
Идеальный военный лагерь, по Штойбену, выглядел как строгие ряды палаток – отдельно солдатских, отдельно офицерских. Хирург, казначей и квартирмейстер размещались наособицу. Кухни предполагалось устраивать в сорока футах от офицерских палаток, отхожие места – в трехстах футах91. Офицеры должны были каждый день инспектировать солдатские палатки, проверять чистоту и порядок, а также, проветриваются ли соломенные постели. Мусор полагалось сжигать или закапывать. В палатках запрещалось принимать пищу, если только погода не была слишком плохой92. О том, как все это выглядело в реальности, можно узнать, например, из письма Джона Адамса: «Вместо воинственных, мужественных и изящных упражнений их (солдат. – М.Ф.) заставляют рыть траншеи в земле, в результате они вечно грязны, и, не имея жен, матерей, сестер или дочерей, чтобы заботиться о них и содержать их в чистоте, как это было у них дома, они постепенно пропитываются потом и теряют здоровье»93.
Самым трагическим и прославленным в истории Континентальной армии стал военный лагерь в Вэлли-Фордж94. Здесь Вашингтон и его солдаты провели зиму 1777–1778 гг. Это был третий из восьми зимних лагерей Войны за независимость. В сентябре 1777 г. Конгресс бежал из Филадельфии, спасаясь от захвата города англичанами. После неудачной попытки отвоевать столицу Вашингтон повел свою армию на зимние квартиры. Пенсильванский исполнительный комитет потребовал, чтобы армия осталась в пределах 30 миль от Филадельфии. В противном случае угрожал полностью прекратить снабжение армии95. Более или менее подходящая локация нашлась в 18 милях от города. Это была долинка на берегу реки Скулкилл. В мирное время местные квакеры занимались здесь кузнечным ремеслом, почему местность и получила название Вэлли-Фордж – Кузничная долина.
Военным сразу же не понравилось выбранное место: в глуши, со всеми сопутствующими трудностями снабжения. Но выбора у них не было. Джордж Вашингтон позже писал о марше в Вэлли-Фордж: «Видеть людей без одежды, чтобы прикрыть свою наготу, без одеял, чтобы лечь, без обуви, так что их путь можно было бы проследить по кровавым следам их ног, и почти так же часто без провизии, как и с ней; маршировать по морозу и снегу и на Рождество занимать свои зимние квартиры в пределах дневного перехода от врага, без крова, пока не будут построены хижины, и подчиняться этому безропотно – это знак терпения и послушания, которые, на мой взгляд, едва ли с чем-то можно сравнить»96. Маркиз де Лафайет, добровольцем прибывший в Америку, рассказывал жене: «Не так давно нас отделяла от врага только небольшая река; в настоящее время мы находимся в семи лигах от него, и именно в этом месте американская армия проведет всю зиму в маленьких казармах, которые едва ли веселее, чем подземелья… Все побуждало меня уйти, и только честь велела мне остаться»97.
В этом негостеприимном месте возник целый город с населением в 12 тыс. человек. Это сравнимо, например, с тогдашним Чарльстоном. В Вэлли-Фордж жили не только солдаты. В лагере было от 200 до 400 женщин, последовавших за своими мужьями или возлюбленными. Они приносили солдатам воду, стирали белье, готовили пищу, чинили одежду, вязали шерстяные носки, ухаживали за ранеными.
Жили поначалу в палатках и лишь к Рождеству обзавелись хижинами. Джозеф Пламб Мартин подробно описал эти жилища: низенькие бревенчатые избушки площадью примерно в 16 квадратных футов. Крышу покрывали дранкой. Офицерские хижины отличались от солдатских наличием деревянных полов. В задней части устраивали очаг из камней, глины и палок. Импровизированные очаги нещадно дымили. Порой солдаты предпочитали ночевать вне хижин, у огромных костров, лишь бы спастись от дыма.
В Вэлли-Фордж армии пришлось в полной мере испытать на себе все несовершенство существовавшей системы снабжения. В довершение бед, в сентябре англичане устроили рейд на долину. Они уничтожили кузницу, уже построенные хижины, запасы муки. Они также увезли в качестве трофеев то, что для Континентальной армии в тот момент было ценнее сокровищ: топоры, лопаты, конские подковы. Перспективы Вашингтона пережить зиму сразу стали более сомнительными. Возможностей пополнить запасы почти не было. Континентальный конгресс, а следовательно, и Континентальная армия в вопросах поставок полностью зависели от штатов. Штаты же не спешили выполнять обязательства перед военными, особенно если на их собственной территории враг пока не появлялся. Иногда срабатывал своеобразный шантаж: либо гражданские власти снабжали армию тем, что было ей нужно, либо военные сами конфисковали необходимое. Губернатор Нью-Джерси сообщал Вашингтону, что штат распорядился собрать для нужд солдат тысячу одеял и закупить еще столько же, вместе с необходимой одеждой. Он не скрывал причину такой щедрости: в следующем же предложении он просил отменить военные приказы о конфискации всего этого98. Когда удавалось, фуражиры Вэлли-Фордж заворачивали в свой лагерь фермеров, везших продукты в Филадельфию. Патриотизма фермерам явно не хватало, зато практичности было в избытке: английский гарнизон расплачивался звонкой монетой, а американский – сертификатами со смутной перспективой их обналичивания после войны. Джозеф Пламб Мартин описывал свои занятия фуражировкой: «Мне приходилось разъезжать повсюду, в холод и в бурю, днем и ночью, и каждый раз подвергаться риску жестокого обращения со стороны жителей, когда я грабил их имущество (ибо я не мог считать сам акт изъятия скота, сена, кукурузы и пшеницы против воли владельцев чем-то лучшим, чем грабеж)»99. Иногда помогали добрые души. Жительницы окрестных ферм старались приезжать в лагерь, нагрузив седельные сумки хлебом и пирогами для армии. Марта Вашингтон, присоединившись к мужу в Вэлли-Фордж, набила свою карету различными припасами, как Роксана в «Сирано де Бержераке». Но заменить систематический подвоз одежды и продовольствия этими добрыми поступками было невозможно: не привезешь ведь в седельной сумке припасы на 12 тысяч человек!
Оборванный вид солдат поражал всех, кто приезжал в Вэлли-Фордж. Вашингтон даже предложил премию в 10 долларов тому, кто изобретет замену башмакам. Но умельца не нашлось. И вот караульные натягивали на ноги шляпы и закутывались в одеяла, чтобы как-то утеплиться100. Генерал Энтони Уэйн уверял: «Наша армия выглядит хуже фальстафовых рекрутов101, на целую бригаду не найти и одной не рваной рубашки»102.
С продовольствием дело обстояло еще хуже. Вашингтон распорядился, чтобы солдатский паек включал от одного до полутора фунтов муки или хлеба, один фунт соленой говядины или рыбы, или три четверти фунта соленой свинины, или полтора фунта муки или хлеба, полфунта бекона или соленой свинины, полпинты гороха или бобов и одну бутылку виски или других спиртных напитков103. Но это распоряжение так и осталось благим пожеланием. В дневнике хирурга Альбидженса Уолдо можно найти подлинный крик отчаяния: «Идет снег. Я болен. Есть нечего. Нет виски. Нет фуража. Господи, Господи, Господи»104. Когда еду удавалось достать, из пшеничной муки солдаты пекли «огненные пирожки» (fire cakes). Рядовой Мартин подробно описывает способ их приготовления: «Муку сыпали на плоский камень и смешивали с холодной водой, затем намазывали на камень получившееся тесто и выпекали с одной стороны, пока говядина жарилась на палочке в огне. Это был обычный способ приготовления пищи во время маршей, и мы могли приготовить что угодно»105. Из кукурузной муки стряпали заварной пудинг на скорую руку (hasty pudding), но результат казался неудовлетворительным даже для неприхотливых солдатских желудков.
Вашингтон строго запрещал грабежи, «будь то у тори или нет» и надеялся, что «храбрых американцев, сражающихся за свободу», будут отличать «человечность и мягкость к женщинам и детям»106. Но голод частенько толкал солдат на мародерство. Альбидженс Уолдо признавался: «Мне стыдно это говорить, но у меня есть искушение украсть курицу, если попадется, а то и целого борова. Мне кажется, я съел бы его целиком. Но разоренный край вокруг нас немногое может предложить вору»107.
Ко всему прочему, Континентальную армию преследовали медицинские проблемы. Благодаря массовой инокуляции108 солдат удалось избежать вспышки оспы, но в лагере свирепствовали тиф, дизентерия и цинга. Пытаясь бороться с распространением заразы, Вашингтон приказал солдатам каждый день сжигать смолу или «порох от мушкетного патрона» в хижинах, чтобы очистить воздух109. Это соответствовало медицинским представлениям XVIII в., когда распространение болезней приписывали «дурному воздуху». Но на самом деле такое окуривание вряд ли было эффективным.
От голода, холода, болезней в Вэлли-Фордж умерло от двух до трех тысяч человек110. Еще около 2 000 солдат дезертировало111.
Но даже в этом мрачном месте не всегда царило отчаяние. В жизни армии случались и светлые моменты. Американцы даже находили в себе силы подшучивать над лишениями. Как-то молодые офицеры дали обед, на котором приглашенные должны были доказать, что у них нет целых штанов. Из какой-то сивухи приготовили «жженку» и распевали баллады. Заезжий француз делился впечатлениями: «Столь веселых оборванцев никогда не видывали»112. Очень многое для поддержания бодрости духа делала Марта Вашингтон. Она развила бурную деятельность: следила за закупками продовольствия для главнокомандующего и офицеров, переписывала приказы, которые нужно было разослать в нескольких экземплярах, и просто вдохновляла окружающих своим невозмутимым и жизнерадостным настроением, неподвластным никаким трудностям. Она же была хозяйкой на приемах, которые устраивал главнокомандующий. Пирог, который она испекла на день рождения своего супруга, 22 февраля 1778 г., настолько поразил всех, что стал частью традиции: такие же пироги до сих пор пекут в мемориальном комплексе Вэлли-Фордж на президентский день. Но при всем своем гостеприимстве южанки, Марта не всегда могла справиться с перебоями в снабжении. Иногда ей приходилось предлагать гостям какой-нибудь крошечный кусочек мяса, черствый хлеб и картошку. Бывало и такое, что угощение ограничивалось чашкой чая или кофе113.
Собственные праздники были и у солдат. Правда, на день благодарения им предложили разве что проповедь на текст из Евангелия: «Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите». Джозеф Пламб Мартин комментировал: «Проповеднику следовало бы добавить оставшуюся часть предложения: “И довольствуйтесь своим жалованьем”114. Но это не годилось, это было бы уж чересчур уместно; однако он услышал это, как только служба закончилась, это кричала сотня языков». Угощение же было таким скудным, кто Мартин не мог забыть его даже через много лет. Он писал, не скрывая сарказма: «Перед этим два или три дня у нас не было никакой еды, кроме того, что могли предложить деревья полевые и лесные. Но теперь мы должны были получить то, что Конгресс назвал роскошным благодарением в завершение изобильного года… Так вот, чтобы добавить нечто экстраординарное к нашему нынешнему запасу провизии, наша страна, всегда внимательная к своей страдающей армии, по этому случаю раскрыла свое любящее сердце и дала нам нечто, способное удивить мир. Как ты думаешь, читатель, что это было?.. 1/8 пинты риса и столовая ложка уксуса!!!» С горя солдат попытался стянуть кусок мяса со склада, но и в этом ему не повезло115.
Зато солдаты-ирландцы при случае могли повеселить однополчан боксерским поединком.
В дальнейшем Континентальной армии приходилось переживать не менее суровые зимы, но зимовка в Вэлли-Фордж так и запомнилась всем как единственная в своем роде и самая тяжелая.
- Янки-Дудл был в аду,
- Говорит: прохлада,
- Кто бывал на Вэлли Фордж,
- Не боится ада,
– пелось в популярном куплете.
В плену
Какова могла быть судьба военнопленного в XVIII в.? Это столетие так прославилось своими «галантными» боевыми действиями, что его войны прозвали les guerres en dentelles – войны в кружевах. Враги раскланивались друг с другом на поле боя и предлагали противнику стрелять первым, словно пропускали его вперед в дверях. Но вот насколько церемонные манеры и взаимная вежливость были применимы к Войне за независимость, где противниками английских джентльменов были не французские аристократы, с которыми можно было чувствовать себя на равной ноге, а неотесанные бунтовщики-янки? Участь пленных американцев была очень разной. Иногда действительно в ход шли офицерская честь и изысканная учтивость. Так, американский генерал-майор Чарльз Ли, попав в плен и будучи доставленным в оккупированный Нью-Йорк, не терпел особенных лишений. Видели, как он спокойно прогуливается по Бродвею.
Некоторые обычаи «войны в кружевах» и вовсе могут показаться странными нашим современникам, воспитанным в убеждении, что «это не олимпийские игры». Например, пленного американского офицера могли отпустить под честное слово не воевать против короля, скажем, в течение года. Человека XXI в., вероятно, еще больше удивит, что такое условие обычно строго соблюдалось. Вашингтон как-то самолично приказал своим офицерам, сражавшимся в нарушение данного слова, вернуться в плен116. И это при том, что офицеры, отпущенные под честное слово, нередко не знали, куда себя деть и как теперь прокормиться – особенно, если их штаты были в оккупации. После падения Чарльстона в 1780 г. множество южнокаролинских и джорджианских офицеров попали в плен, но затем были отпущены под честное слово. Они осели в Филадельфии – «в чужом краю, без денег, а некоторые – почти без одежды». По крайней мере, именно так они объясняли свое положение Конгрессу. Конгресс не оставил их в беде: было принято решение выделить им дров для отопления и трехмесячное жалованье117.
Но англичане вовсе не всегда демонстрировали рыцарское уважение к противникам. Питер Идес, бостонец, участвовавший в сражении при Банкер-хилле, вспоминал впоследствии: «Вскоре я попал в плен и имел несчастье оказаться в руках самых бесчувственных и никчемных людей, один из которых, обнаружив меня, воскликнул: “Я нашел проклятого мятежника”»118. По законам Британской империи такие, как Идес, поднявшие оружие против своего короля, были виновны в государственной измене (high treason). За это преступление полагалась особенно жестокая «квалифицированная» казнь. Приговоренного вешали, но вынимали из петли еще живым, ему вырывали внутренности, отрубали руки, ноги и, наконец, голову. Именно такова была участь якобитов, поднявших в 1745 г. восстание против английской Ганноверской династии. В Америке, правда, «квалифицированная» казнь использовалась только два раза, и оба случая имели место еще в XVII в. Тем не менее, если бы Американская революция потерпела поражение, «отцы-основатели» США могли ожидать именно такого приговора. А пока победа не спешила увенчать лаврами английских полководцев. И английские оккупационные власти не спешили судить и казнить попавших в их руки «бунтовщиков»: они опасались, что и без того ненадежная симпатия к ним со стороны лоялистов вовсе иссякнет. Но и без смертной казни существовало множество способов сделать жизнь пленных повстанцев невыносимой.
Около ста пленников были обращены в рабство119 и отправлены в Новую Шотландию трудиться в угольных копях. Этим удалось освободиться в обмен на службу в британском флоте120. Около тысячи были увезены в Англию, Ирландию, на Антигуа. Чаще же всего пленных американцев ждало длительное заключение в поистине убийственных условиях. Для их содержания использовались тюремные корабли, сахароварни, даже церкви. Страшнее всего были плавучие тюрьмы. Обычно под тюрьму переделывали ветхие корабли: забирали решетками пушечные порты и трапы, батарейную палубу использовали под бараки, а на верхней палубе размещалась охрана. Считается, что там погибло больше американцев, чем на полях сражений Войны за независимость. Смертность узников составляла от 50 до 70%121. Тела умерших наскоро закапывали вдоль берега, а то и просто бросали за борт.
Массачусетец Эбенезер Фокс сбежал на военный корабль, когда ему было всего 12 лет. В одном из сражений он попал в плен. Мальчик вспоминал впоследствии: «Одной мысли о заключении в таком месте было довольно, чтобы разум оказался охвачен горем и отчаянием… Там была пестрая толпа, покрытая лохмотьями и грязью, лица бескровные от болезни, изможденные от голода и тревог, едва ли сохранившие следы своего прежнего облика. Здесь были люди, которые некогда наслаждались жизнью, скакали верхом по горным склонам, бродили по прекрасным полям. Теперь они были истощены скудной и нездоровой диетой, мертвенно-бледные от вдыхания нечистой атмосферы, подверженные инфекциям, окруженные ужасами болезней и смерти». Пленным давали галеты, кишащие червями, и нужно было сперва вытряхнуть нежеланную «приправу», постучав галетой по столу, а уж потом есть. Горох им доставался испорченный, мука прокисшая, а вместо свинины они получали мясо дельфина122.
Надо признать, что американцы гуманнее обращались с врагами, попавшими к ним в руки. Вашингтон беспокоился о должном обращении с пленными: «Пусть у них не будет причин жаловаться на то, что мы копируем жестокий пример британской армии в их обращении с нашими несчастными братьями, попавшими в их руки»123. На практике обращение с пленными сильно отличалось от штата к штату и в зависимости от их национальности. Англичан ненавидели больше, чем наемников-гессенцев, лоялистов – больше, чем англичан. Содержались пленные обычно в бараках, на жизнь зарабатывали неквалифицированным трудом в мастерских или на фермах. Нередко они подвергались оскорблениям. Баронесса Ридезель, попавшая к американцам вместе с мужем, брауншвейгским офицером, сражавшимся на стороне англичан, жаловалась: «Особенно отталкивающими были женщины, которые бросали на меня ужасные взгляды, а некоторые даже плевались, когда я проходила мимо них»124. Но в целом судьба их складывалась получше, чем у американцев, попавших в плен.
Альянс с Францией
Коль скоро главным противником США стала их бывшая метрополия, следовательно, Францию, старинного врага этой метрополии, нужно было привечать как союзника. Но для этого требовалось преодолеть укоренившийся страх протестантов перед коварным и всепроникающим влиянием католицизма. Если не считать Мэриленда, где католиков было относительно много, жители бывших английских колоний привыкли к мысли, что папа римский и король Франции – их заклятые враги. Тем не менее, геополитические соображения перевесили. Уже в 1776 г. Джефферсон и Джон Адамс создавали проекты франко-американского договора, а в Париж были направлены американские представители Бенджамин Франклин, Артур Ли и Сайлас Дин. Официальный союз между двумя странами был заключен в 1778 г.125
Франция начала помогать американским патриотам еще до официального альянса. Знаменитый комедиограф Пьер-Огюстен Бомарше отдал все силы и всю душу американскому делу. В 1776 г. по его инициативе была создана компания «Родериг Горталес и Кº». Французское правительство выделило на ее основание миллион ливров, еще миллион дал испанский король, а Бомарше добавил третий миллион из собственного кармана. Вскоре у комедиографа была уже целая флотилия. Первый ее корабль, «Амфитрита», прибыл в Нью-Гэмпшир 30 апреля 1777 г. и произвел сенсацию: это было первое иностранное судно, пришедшее к американским берегам после начала войны. Через голландский остров Синт-Эстатиус «Родериг Горталес и Кº» отправляла в Америку мушкеты, пушки, пушечные ядра, порох, бомбы, палатки и достаточное количество одежды для 30 000 человек. Общая стоимость присланного обмундирования и боеприпасов составила 6 млн ливров126. В сражении при Саратоге американские войска шли в бой в одежде, поставленной Бомарше, и с боеприпасами, полученными от него же. А вот платить за все это Континентальный конгресс не торопился. В ответ на просьбы драматурга президент Конгресса Джон Джей писал следующее: «Конгресс Соединенных Штатов Америки, чувствуя ваши усилия в их пользу, выражает вам свою благодарность и заверяет вас в своем уважении. Он (Конгресс. – М.Ф.) сожалеет о тех неудобствах, которые вы понесли из-за действий, предпринятых в поддержку наших штатов, – несмотря на неблагоприятные обстоятельства, он прибегнет к самым эффективным мерам, какие только в его власти, чтобы погасить долг, причитающийся вам. Великодушие и широта взглядов, которые одни могли бы руководить таким поведением, как ваше, бросаются в глаза в ваших поступках и украшают вашу репутацию – в то время как вы с великим талантом служили своему государю, вы завоевали уважение молодой республики и заслужите аплодисменты нового мира»127.
Кое-какие выплаты за свои поставки Бомарше получил от французского правительства, и это спасло его от полного разорения. Но вот от США он так никогда и не дождался ничего, кроме аплодисментов нового мира. Лишь в 1834 г. американские власти погасили долг перед наследниками знаменитого драматурга, и то частично128.
Бомарше не был единственным французом, сочувствовавшим восставшей Америке. Молодой маркиз де Лафайет; будущий архитектор американской столицы Пьер Ланфан; будущий социалист-утопист Клод-Анри де Сен-Симон и многие другие – все они могли бы разделить чувства А.Н. Радищева, писавшего в оде «Вольность»:
- К тебе душа моя вспаленна,
- К тебе, словутая страна,
- Стремится, гнетом где согбенна
- Лежала вольность попрана;
- Ликуешь ты! а мы здесь страждем!
- Того ж, того ж и мы все жаждем;
- Пример твой мету обнажил.
В 1779 г. 3 000 французских солдат участвовали в неудачной попытке отбить у англичан Саванну (штат Джорджия). В 1780 г. шеститысячный французский экспедиционный корпус под командованием Рошамбо129 высадился в Ньюпорте (Род-Айленд). В Ньюпорте французы оставались почти год, пока не пришло время отправляться к Йорктауну, месту решающей битвы Войны за независимость, где их помощь оказалась неоценимой. А пока Рошамбо занимал своих солдат маневрами, строительством укреплений и мелкими стычками с врагом.
В дневнике Мэри Олми, лоялистки из Ньюпорта, прибытие французов описано как оживший кошмар: «Спустя полчаса мы были повергнуты в глубочайший ужас – по улицам разносились слова – это французский флот. В этот момент все пришли в замешательство… Торговец глядел на свой заполненный товарами склад, как будто там не было ничего ценного. Лавочник с бедственным выражением лица не нашел ничего лучшего как закрыть магазин на замок и засов»130.
Видимо, переполох и впрямь получился немалый. Но уже на следующий день ньюпортцы разобрались, что прибыли союзники, и устроили в их честь импровизированный праздник: иллюминацию и салют из тринадцати больших ракет. Некоторые шероховатости в отношениях все еще оставались. После длительного морского перехода французы жестоко страдали от цинги. Колледж Род-Айленда, баптистский молельный дом и пресвитерианская церковь в Ньюпорте были превращены в госпитали для них. Поначалу ньюпортцы опасались, что французы могли завезти в город оспу. Но когда выяснилось, что это не так, союзникам оказали всю возможную помощь. Сердца практичных новоанглийцев завоевала также готовность союзников платить золотом, а не обесцененными бумажными деньгами. К тому же Рошамбо через газеты заверил род-айлендцев, что «французские войска подчиняются самой строгой дисциплине»131. И это была правда. Не только из Ньюпорта, но и из Бостона, Филадельфии – словом, отовсюду, где проходили союзники, – слышались самые лестные отзывы как об изящных манерах французских офицеров, так и о дисциплине солдат (Континентальная армия, увы, не всегда могла этим похвалиться). Лафайет писал с законной гордостью: «Французская дисциплина такова, что между палатками бродят поросята и цыплята, и их никто не беспокоит. В лагере есть кукурузное поле, и никто не тронул ни единого листочка»132. Когда американцы из любопытства приходили во французский лагерь, их принимали с живейшей радостью и устраивали для них концерт на военных флейтах и барабанах133.
Начавшаяся зима ничем не нарушила согласия между союзниками. Полотняные палатки французов не годились для новоанглийских морозов, и в преддверии холодов Рошамбо решился разместить своих солдат в городе. Шаг был рискованный, учитывая нервную реакцию американцев на расквартирование войск в домах. Но все обошлось как нельзя лучше. Французы и американцы учили друг друга своим языкам, а когда взаимные лингвистические познания заканчивались, преподобный Эзра Стайлз134 разговаривал с Рошамбо по-латыни135.
Альянс с Францией вызвал в США всплеск интереса к французскому языку, модам, кулинарии136.
Демобилизация и «цинциннаты»
Но вот мир заключен; бывшая метрополия признала независимость США. И тут оказалось, что демобилизовать армию немногим легче, чем ее набрать. В разное время в рядах Континентальной армии сражалось около 231 тыс. чел.137 У Конгресса просто не было денег, чтобы хотя бы заплатить им всем недополученное жалованье. 26 мая 1783 г. было принято решение дать отпуск солдатам и офицерам, находящимся в запасе. С прибытием окончательного мирного договора они должны были быть уволены в отставку138. К началу января 1784 г. в армии осталось лишь ок. 700 солдат и офицеров. В Вест-Пойнте стоял гарнизон из 55 человек – все, что осталось от батареи, которой когда-то командовал Гамильтон. Им не хватало обмундирования, а зимой они жестоко страдали от холода139. Денег у демобилизованных солдат не было. Лейтенант Бенджамин Джилберт описывал это так: «Храбрецы… четыре, а то и восемь лет защищавшие свою страну и спасшие ее свободу, теперь демобилизованы и возвращаются с поля брани с радостными лицами, но с пустыми карманами. Даже один из двадцати не располагает хотя бы фартингом, чтобы добраться до своих друзей, и вынужден побираться среди того самого народа, за чью свободу и собственность так долго сражался»140.
Кроме жалованья, которое полностью так никогда и не выплатили, солдат Континентальной армии ждали земельные участки на Западе. Но кто-то предпочел обменять свой земельный сертификат на наличность (рядовой Джозеф Пламб Мартин купил на свои сертификаты новую одежду), кто-то просто не знал, как получить обещанный участок. Тот же рядовой Мартин описывал трудности своих однополчан: «Конгресс действительно выделил земли под названием “солдатских” в штате Огайо, или в каком-то штате, или в будущем штате, но не позаботился о том, чтобы солдаты их получили. Не было назначено никаких агентов, чтобы следить за тем, чтобы бедолаги завладели своими землями; никто никогда не тревожился об этом ни в малейшей степени, кроме своры спекулянтов, которые рыскали по стране, подобно злым духам, пытаясь вырвать у солдат последнее. Солдаты не знали о способах и средствах получения своих земель, и никто не был назначен, чтобы сообщить им об этом»141.
Перспективы офицеров были чуть более радужными. Еще в 1780 г. им была обещана пожизненная пенсия в размере половинного жалованья. Вот только, когда дошло до дела, обещание оказалось не так уж легко выполнить. Опыт взаимодействия с английскими военными до революции и укоренившееся в культуре Просвещения недоверие к профессиональным армиям – все это оборачивалось против Континентальной армии. Массачусетский политик Элбридж Джерри приводил Вашингтону аргументы против половинного жалованья. Он ссылался на существовавшее в США «отвращение к синекурам и пенсионам»142. Его поддерживало общественное мнение всей Новой Англии. Новоанглийские газеты доказывали, что офицерские пенсии незаконны, опасны для свободы и создают наследственную аристократию. В итоге всех дебатов офицерам выдали не половинное, а полное жалованье, но зато только в течение пяти лет, а не пожизненно143. Лишь в 1828 г. ветераны Континентальной армии все же получили пенсию в размере своего жалованья военной поры. В 1832 г. она была распространена на всех, кто прослужил во время Войны за независимость хотя бы полгода. В 1864 г. Конгресс расщедрился для ветеранов еще на дополнительные 100 долларов в год. Выплачивать их оставалось недолго: последний солдат революционной войны скончался через пять лет после этого144.
А пока все было позади: бои, голодные зимовки, лишения и боевое братство. 4 декабря 1783 г. в нью-йоркской таверне «Фраунсес»145 состоялся прощальный обед для офицеров Континентальной армии. На глазах главнокомандующего стояли слезы. Он сказал, поднимая бокал: «С сердцем, полным любви и благодарности, прощаюсь я с вами. Я от всей души желаю, чтобы ваши последние дни были настолько же обеспеченными и счастливыми, насколько прежние ваши дни были славными и почетными. Я не могу подойти к каждому из вас, но буду чувствовать себя обязанным, если каждый из вас подойдет и пожмет мне руку». И он обменялся рукопожатием с каждым из присутствовавших. Вечером он должен был отплыть в Аннаполис, чтобы получить от Конгресса свою отставку.
Идея пришла в голову генерала Генри Нокса: почему бы не увековечить боевое братство? Офицеры Континентальной армии получали собственное сообщество. Своим идеалом они избрали легендарного Луция Квинкция Цинцинната, который спас Рим от вражеского нашествия и после этого вернулся к сельскому труду. Отсюда и название: «Общество цинциннатов». Принципами общества провозглашались защита прав человека и единства Союза, братской дружбы среди ветеранов Войны за независимость. Для вступления в общество требовалось три года прослужить «с честью» (служба в ополчении не засчитывалась). Его символом был орел на сине-белой ленте, с оливковыми ветвями в когтях. На груди орла красовалось изображение Цинцинната, которому сенаторы вручали меч. Девиз гласил: «Omnia reliquit servare rempublicam»146. Председателем общества стал Вашингтон. Для него был сделан особый орденский знак, усыпанный брильянтами. После смерти Вашингтона этот знак унаследовал следующий председатель «цинциннатов» – Александр Гамильтон, и с тех пор он передается от председателя общества его преемнику.
Если офицер-«цинциннат» умирал, членство в обществе переходило к его старшему сыну. Так, когда в 1786 г. умер генерал Натанаэль Грин, «цинциннаты» немедленно предложили почетное членство его 11-летнему сыну. Мальчик должен был занять свое место среди «цинциннатов» по достижении 16 лет147.
Дополнительно было открыто отделение «цинциннатов» во Франции; его членами были иностранные офицеры, служившие в США. Пьер-Шарль Ланфан сообщал из Парижа: «Здесь во Франции больше стремятся заполучить орден Цинцинната, нежели быть украшенными крестом св. Людовика148. Я каждый день получаю соответствующие прошения»149.
А вот как проходил прием новых членов общества в Нью-Йорке. «Цинциннаты» собрались в Городской таверне. Здание украсили фестонами и лавровыми венками. Частью оформления был фригийский колпак – символ Свободы – и девиз: «Мы защитим его». По сторонам зала были воздвигнуты галереи для публики – они были полны народу. Под звуки труб и барабанов был внесен штандарт общества – орел на фоне 13 полос синего и белого шелка, а также значки и дипломы для вновь принимаемых членов. Александр Гамильтон произнес приветственную речь, а затем началась церемония инвеституры. Церемониймейстер подводил посвящаемого к креслу президента местного отделения общества – барона фон Штойбена. Новичок изъявлял желание быть принятым и клялся строго соблюдать устав. При этом он сжимал левой рукой штандарт, а правой вписывал свое имя в реестр. Затем Штойбен вручал ему орденского орла со словами: «Примите этот знак, как вознаграждение за ваши заслуги и в память о нашей достославной независимости». Затем посвящаемый получал диплом. Штойбен при этом говорил: «Это покажет ваше право как члена нашего общества. Подражайте блистательному герою, Луцию Квинкцию Цинциннату, которого мы избрали своим патроном. Подобно ему, будьте защитником своей страны и добрым гражданином»150.
Все эти красочные церемонии, геральдические орлы и наследственный характер общества подозрительно напоминали о ритуалах европейского рыцарства. Строгим республиканцам такое не пришлось по нраву. Филадельфийская газета «Freeman’s Journal» призывала граждан всех штатов не избирать «цинциннатов» ни на какие должности151. Эданус Бёрк из Северной Каролины написал против общества яростный памфлет, в котором говорилось, что оно равносильно патрициату и военной аристократии. Бог знает почему, Бёрк приписывал инициативу создания общества Штойбену и язвительно заявлял: «Имею честь сообщить барону Штойбену, что хотя орден пэров может существовать под властью мелких германских князьков, в Америке он несовместим с нашей свободой»152. Многие офицеры не решались открыто носить значок «цинциннатов»153. Массачусетская легислатура по инициативе Э. Джерри приняла резолюцию о том, что «общество [цинциннатов] не может быть оправдано и… может оказаться опасным для мира, свободы и безопасности Соединенных Штатов в целом и данного штата в частности»154. Род-Айленд запретил «цинциннатам» заниматься какой бы то ни было официальной деятельностью и пригрозил лишить их избирательных прав155.
Вашингтон, встревоженный критикой, посоветовался с Джефферсоном. Тот рекомендовал отменить наследственный характер общества, изменить организацию, не проводить заседаний; словом, практически ликвидировать общество156. Вашингтон совет принял. В 1784 г. он предложил «цинциннатам» убрать наследственность их звания, поставить денежные фонды общества под контроль легислатур штатов, не проводить общенациональных собраний. Публикация этих предложений несколько успокоила пламенных республиканцев, но они не были ратифицированы «цинциннатами» отдельных штатов, так что в силу не вступили157. Общество существует и по сей день в изначальной форме, его штаб-квартира находится в Вашингтоне.
Глава 2. Транзит власти
«Никакого короля в Британской Америке». Комитетчики. Выборы. Конгресс и восемь столиц. Новая Конституция – новая власть
«Никакого короля в Британской Америке»
Одним из популярных «политических» тостов кануна Войны за независимость был: «Король-патриот или никакого короля в Британской Америке!» Американские виги долго не могли расстаться с иллюзией наивного монархизма. Им все казалось, что короля Георга III ввели в заблуждение. Просто какой-нибудь злонамеренный министр или губернатор оклеветал их в глазах монарха. И достаточно донести до королевских ушей свою правду, и всё наладится. Но ничего не налаживалось. Всё новые налоги сыпались из метрополии, как из дырявого мешка. Американские революционеры по мере сил старались оставаться в правовом поле. Беда была в том, что официальные власти за ними права не признавали. И тон по отношению к королю в Северной Америке менялся.
В 1768 г. на страницах вигских газет Георг III оценивался как «наш лучший защитник и всеобщий отец», «величайший правитель на Земле»158. Через шесть лет писали уже иначе: «Неужели вы верите, что наш нынешний король и его министерство – прямые наместники Царя Царей… и что, следовательно, сопротивляться им означает противиться Господу?»159 4 июля 1776 г. наступил логический финал: монархия в тринадцати восставших колониях была свергнута.
В колониальной Америке королевская монограмма «GR» – Georgius Rex160 была повсюду: на кружках для питья, дорожных знаках, юридических документах. Королевские гербы можно было увидеть на вывесках таверн, на стенах церквей и правительственных зданий. Ими декорировали каминные решетки и чаши для пунша. Обычным украшением жилища американских колонистов были гравюры, изображающие короля Георга III или королеву Шарлотту. Теперь всему этому пришел конец.
9 июля 1776 г. толпа ньюйоркцев, и вместе с ними солдаты Вашингтона, отправились на Боулинг-Грин, чтобы низвергнуть конную статую Георга III. Памятник обезглавили, разбили на куски, а потом перелили на пули для Континентальной армии. Вашингтон, впрочем, не одобрил мероприятие. Он объявил, что не сомневается в патриотизме добрых граждан Нью-Йорка и все же считает, что происходящее было слишком уж похоже на массовые беспорядки. На будущее он посоветовал своим солдатам не участвовать ни в чем подобном161. Под крики «ура!» королевские портреты и королевские гербы срывали повсюду, где находили: в присутственных местах и даже в церквях. Самые пламенные виги отказывались принимать деньги с королевским гербом. В Балтиморе чучело его величества протащили по улицам привязанным к телеге, как делали с осужденными преступниками, а затем торжественно сожгли. В Бостоне в костер полетели не только королевские гербы, но и все изображения корон, британских львов и тому подобных символов, какие только нашлись в городе. Такие костры полыхали во многих городах Америки.
Параллельно создавались новые властные структуры. Вначале это были комитеты с неопределенными полномочиями. В 1774 г. собрался Первый континентальный конгресс, в следующем году – Второй. Конгресс стал центральным органом, скреплявшим еще непрочный американский Союз. В себе он объединял все ветви власти, занимался и международной политикой, и ведением войны. И в то же время это была слабая структура, наделенная только правом давать штатам рекомендации. Что касается бывших колоний, превратившихся в штаты, то они начали создавать у себя новую республиканскую власть с 1776 г., и к концу Войны за независимость почти все они обзавелись новыми конституциями. Почти стандартно в них было двухпалатное законодательное собрание (легислатура) и губернатор, чья власть порой ограничивалась исполнительным советом. В 1781 г. была ратифицирована и первая Конституция США – «Статьи Конфедерации и вечного Союза».
Республика в XVIII в. – это не просто свержение короля и уничтожение его герба. Под республикой понимался совершенно особый, во многом утопический мир, где царствует добродетель. Это трудноопределимое качество заключалось в самоотречении и патриотизме, в готовности жертвовать своими удовольствиями и самой жизнью ради свободы. Еще до официального установления республики в Америке виги ожидали от своих сторонников соответствующего поведения. Ярким законодательным воплощением идеала гражданской добродетели стала «Ассоциация», принятая Первым континентальным конгрессом (1774). По условиям этого документа, американцы должны были с 1 декабря 1774 г. отказаться от импорта либо потребления любых товаров из Великобритании, Ирландии или же Вест-Индии. С 10 сентября 1775 г. должен был прекратиться и экспорт из Северной Америки. Кроме этого, американцы обязывались «поощрять бережливость, экономию и трудолюбие… препятствовать любым видам экстравагантности и расточительства». Запрещались азартные игры, театральные представления, вообще фривольные развлечения162. Конгресс, таким образом, сделал серьезную заявку на то, чтобы контролировать американскую повседневность в соответствии со своими этическими нормами.
Комитетчики
Персонажи пьесы виргинца Роберта Манфорда «Патриоты» (1777 г.) рассуждали между собой:
Трумэн. Что, комитет сегодня собирается, Минвелл? Ненавижу эти мелкие демократии.
Минвелл. Берегитесь, сэр, и имущество, и репутация находятся во власти этих трибуналов163.
«Эти мелкие демократии», «трибуналы» были неотделимы от повседневности накануне Войны за независимость. Постепенно комитеты становились настоящим теневым правительством колоний. Современные историки говорят даже о «правлении комитетов» в предреволюционной Америке164. Комитетов стало так много, что для современников «комитетчик» стал воплощением революционера-вига.
Прежде всех появились комитеты связи – удачное изобретение Сэмюэля Адамса165. Адамс рассуждал так: «Давайте поступим мудро: спокойно осмотримся вокруг и подумаем, как лучше всего поступить. Давайте вместе поговорим на интереснейшую тему и свободно откроем друг другу свои умы. Пусть это будет темой для разговоров в каждом светском клубе. Пусть соберется каждый город. Пусть повсюду будут созданы ассоциации и объединения для консультаций друг с другом и восстановления наших справедливых прав»166. Первый такой комитет был организован в Бостоне в 1764 г., чтобы координировать оппозицию парламентскому акту, запрещавшему Массачусетсу выпускать собственные деньги. Усилиям комитетов отчасти способствовали политические традиции, процветавшие в североамериканских колониях. В Новой Англии для решения политических вопросов всегда использовались городские собрания, а сотрудничество, необходимое для распространения новостей и информации, уже заложило основу для создания комитетов. Комитеты формировались из почтенных горожан: священников, юристов, успешных бизнесменов и т.п. Однако первоначальные комитеты существовали недолго, только до отмены того закона, против которого они боролись. К началу 1770-х гг. стало ясно, что Парламент не ограничится тем или иным законом: попытки ввести налогообложение в колониях были частью определенной политики. Это потребовало новых организационных форм для протеста.
В 1772 г. бостонцы создали постоянный комитет связи с целью «заявить о правах колонистов вообще и нашей провинции, в частности, как людей, как христиан и как подданных»167. Комитет сообщал вигам других колоний свое мнение о текущих событиях и просил поделиться своей точкой зрения на происходящее. В Виргинии такой же комитет появился несколько месяцев спустя, так что впоследствии два штата спорили за приоритет в этом вопросе168. К 1774 г. комитеты связи были уже во всех тринадцати будущих штатах США. Только в Массачусетсе действовало 80 таких организаций.
В Американской революции долго не было единого координирующего центра. Координация действий вигов в разных колониях обеспечивалась за счет активного обмена информацией. Комитеты связи пересылали единомышленникам последние новости из метрополии, наиболее удачные образцы патриотической пропаганды и сведения о том, как можно противодействовать мерам Парламента. Пользоваться королевской почтой было бы неосторожно, да к тому же патриоты считали почтовые сборы неконституционными. Поэтому их корреспонденцию доставляли добровольные курьеры.
Девизом «комитетчиков» могли бы стать слова Сэмюэля Адамса: «Мы не можем создавать события. Наше дело – мудро их улучшать»169. Эта сеть помогла создать единство между различными городами, соединяя их с соседями и включая в сферу их повседневных интересов общеколониальные и даже общеимперские проблемы. Когда в сентябре 1774 г. появилась идея Континентального конгресса, взаимосвязанные межколониальные комитеты стали необходимой инфраструктурой для выдвижения делегатов. Готовились к возможной обороне от английских оккупационных войск. Резолюции графства Саффолк (Массачусетс, 1774 г.) предусматривали организацию целой системы оповещений. В случае приближения врага местный комитет связи должен был отправить курьеров в близлежащие городки, а те – распространить информацию дальше, чтобы быстро собрать помощь170. После создания Континентальной армии комитеты связи стали снабжать ее актуальной информацией. Дэвид Рамсей, один из первых историков Американской революции, восхищался: «То, чего Демосфен не смог добиться от греческих государств своим красноречием и талантами, оказалось возможным при помощи столь простого средства, как комитеты связи»171.
Со временем система комитетов усложнялась и приобретала новые функции. Менялся и их состав. Всякая революция – своего рода восстание масс, и Американская не была исключением. Возмущенный губернатор Джорджии описывал местный революционный комитет как «кучку людей низшего сорта, главным образом плотников, сапожников, кузнецов и т.д. во главе с евреем»172. Работа в комитетах давала большому числу людей возможность попробовать себя в политике, обрести голос в общественных делах. «Народ почувствовал свою силу», – констатировал губернатор Массачусетса Ф. Бернард173.
Бойкоты импортной продукции, с помощью которых виги надеялись одновременно продемонстрировать свою гражданственность и оказать экономическое давление на метрополию, вызвали к жизни новые типы комитетов. Задачей наблюдательных комитетов было обеспечение соблюдения бойкотов. Вместе с комитетами безопасности они постепенно брали на себя повседневные функции управления делами на местах. Они проводили расследования, выявляли лоялистов и требовали для последних «гражданской анафемы» (формула северокаролинского комитета безопасности). Они следили за соблюдением требований «Ассоциации». В Виргинии, например, торговцам запрещалось продавать свои товары без сертификата от комитета графства, удостоверявшего, что продукция ввезена без нарушения «Ассоциации». Комитеты собирали средства для блокированного Бостона. В Бостоне специальный комитет пожертвований распределял помощь среди нуждающихся, снабжал плотников деревом, а ткачей – льном, создавал рабочие места, организуя ремонт мостовых и строительство кирпичного завода174. Комитеты старались пресекать недостаточно добродетельные, с их точки зрения, развлечения. Так, в Нью-Йорке местный комитет закрыл кукольный театр как «оскорбительный» для патриотических чувств175. Комитеты добывали порох, свинец для пуль, кремни для мушкетов. Уилмингтонский комитет в Северной Каролине разжился даже небольшой пушкой176. Они же занимались набором рекрутов в местную милицию (ополчение) и в Континентальную армию.
Если прочитать лоялистские памфлеты, в изобилии выходившие накануне Войны за независимость, можно подумать, что комитетчики жестко контролировали повседневную жизнь людей. Комитеты сравнивали с инквизицией. Нью-йоркский лоялист Сэмюэль Сибери разражался патетическими сентенциями. Он описывал деятельность патриотических комитетов, призванных наблюдать за соблюдением «Ассоциации» и публиковать в газетах списки ее нарушителей. И, конечно же, разворачивал мрачные подробности мифа о революционном терроре: «Их (нарушителей «Ассоциации». – М.Ф.) будут считать людьми вне закона, недостойными защиты со стороны гражданского общества, отданными на милость беззаконной, неистовой толпы. Их будут обваливать в смоле и перьях, вешать, топить, четвертовать и сжигать. – О, дивная американская свобода!»177 А ведь власть комитетов была по сути призрачной. Силовые структуры, суды, тюрьмы – все это было под контролем их противников. Если бы комитетчиков не поддерживала значительная масса населения, им не удалось бы сделать ничего. Наказания, которые они могли применить, либо носили моральный характер, либо требовали вмешательства рядовых горожан.
Как же работала эта власть без полномочий? Важнейшим оружием комитетов был моральный авторитет, и авторитет они старались по мере сил поддерживать. Комитеты старались воспроизводить привычный парламентский декорум, чтобы хотя бы символически поднять свой престиж. Например, комитет графства Роуэн (Северная Каролина) завел у себя привратника, как в английском Парламенте. (Традиционная функция привратников в Парламенте заключается не только в том, чтобы открывать и закрывать двери, но также приносить известия от Парламента монарху и следить за порядком в зале. В данном случае привратник, видимо, служил для связи разных вигских организаций.) Комитет графства Сарри в той же колонии постановил, что любой из его членов, который явится на заседания пьяным, позволит себе сквернословить или хулиганить, будет оштрафован178. Комитетчики могли защищать и свою личную честь, и свою политическую деятельность привычными для джентльменов средствами. В июле 1774 г. нью-йоркский комитет связи принял резолюции, призывавшие к солидарности с блокированным Бостоном и к созыву Континентального конгресса179. Некому Джону Морину Скотту, хотя он и сам был «сыном свободы», резолюции не понравились. Разглагольствуя о политике в кофейне, он заявил, что эти решения направлены на разобщение колоний. Джон Джей, один из авторов документа, счел такие слова пятном на своей чести и потребовал от Скотта публичных объяснений180.
Самым мощным оружием в арсенале комитетчиков было давление местных сообществ на провинившихся. В маленьких американских городах, где все друг друга знали, это действовало безотказно. Некий Дэвид Уордроб из Виргинии попал в поле зрения местного комитета едва ли не случайно. В письме к своему другу из Шотландии Уордроб описал некоторые действия вигов, в том числе повешение чучела министра лорда Норта. Как это иногда делали в XVIII в., его письмо было перепечатано в шотландской газете. Ничего особенно оскорбительного для вигов в письме не было, но комитет решил иначе. Было решено, что Уордробу откажут в аренде здания, где он организовал школу, а родителям учеников будет рекомендовано забрать своих детей из идеологически сомнительного класса. Боясь остаться без средств к существованию, Уордроб на коленях просил прощения за проявленный недостаток патриотизма. В другой раз комитет призвал прихожан не ходить на проповеди священника, у которого нашли лоялистские памфлеты181. В большинстве случаев от нарушителей не требовалось ничего, кроме публичного покаяния и корректировки поведения. В январе 1775 г. комитет безопасности графства Чоуэн (Северная Каролина) обнаружил нарушение «Ассоциации». Организаторов заставили опубликовать в газетах свое «сердечное и искреннее» раскаяние, а также пообещать соблюдать решения Конгресса в будущем. Комитет Уилмингтона счел необходимым известить трактирщиков, что в соответствии с «Ассоциацией» будут запрещены балы и танцы. Когда в марте 1775 г. миссис Остин из Уилмингтона все же вознамерилась устроить бал, она получила такое письмо: «Комитет, назначенный для проведения в жизнь решений Континентального конгресса в этом городе, информирует Вас о том, что бал, который должен был состояться в Вашем доме сегодня вечером, противоречит указанным решениям. Поэтому мы предупреждаем Вас о необходимости отказаться от бала и сообщить заинтересованным сторонам, что Ваш дом не может быть к их услугам, в соответствии с благом Вашей страны»182.
Если нарушитель упорствовал, его могли приговорить к обваливанию в смоле и перьях. Тут уже действовала городская толпа. В Чарльстоне, например, обваляли в смоле и перьях солдата, который во всеуслышание ругал Америку и «всех ее комитетчиков»183. О похожем случае в своей родной Виргинии сообщал будущий четвертый президент США Джеймс Мэдисон184. Путешествующая шотландка Дженет Шоу описывала ситуации, когда северокаролинские комитетчики не только использовали моральное давление на лоялистов, но и откровенно запугивали их. В начале Войны за независимость за ними уже стояли ополченцы, что позволяло комитетчикам чувствовать себя более уверенно. В марте 1775 г. уилмингтонский комитет формально принял континентальную «Ассоциацию» и потребовал от северокаролинцев подписать документ под угрозой бойкота. Когда упрямые лоялисты спросили, по какому праву их заставляют подписывать эту бумагу, офицер-виг показал на своих солдат и ответил: «Вот мои полномочия. Оспаривайте их, если сможете!»185
После провозглашения независимости пестрая и хаотичная стихия комитетов постепенно уступила место более регулярным властным институтам. Но в свое время они были не только проводниками вигской политики на местах, но и своего рода культурным феноменом. Какая же революция без конспирологических мифов? С точки зрения лоялистов, система комитетов подтверждала существование заговора, задуманного кучкой бостонских республиканцев с целью развалить Британскую империю. Массачусетец Дэниэль Леонард клеймил их: «Говорят, это изобретение плодовитого ума одного из наших партийных агентов. Это самая подлая, коварная и ядовитая змея, какая только вылупливалась из яиц мятежа»186. Ну, а виги пользовались комитетами как своеобразной социальной сетью, позволявшей обменяться мнениями и информацией, скоординировать действия. К тому же, комитеты во многом формировали коллективное самосознание вигов. Джон Адамс отвечал Леонарду, сравнивая комитеты с ихневмоном, «весьма трудолюбивым, деятельным и полезным животным, которому поклонялись в Египте как божеству, потому что оно защищало их страну от губительных нападений крокодилов. Все занятие этого маленького существа заключалось в том, чтобы уничтожать этих коварных и прожорливых чудищ»187.
Выборы
И в колониальной, и в революционной Америке выборы были важным, а иногда и весьма бурным мероприятием. Так случилось в 1742 г. в Филадельфии. В это время пенсильванская политика определялась столкновением двух сил: правящей партии квакеров и оппозиционных англикан. В 1742 г., на выборах в колониальную ассамблею, политическая борьба между ними обернулась мордобоем. И квакеры, и англикане были настроены на победу. Правящая партия привезла голосовать в Филадельфию немцев-мигрантов (прием, известный и в наши дни!). А оппозиционеры наняли вооруженных моряков, чтобы то ли контролировать избирательные участки, то ли запугивать всех, кто голосует «неправильно». (Голосование было открытым.) 1 октября 1742 г., в день голосования, после небольшого спора о том, кто именно должен быть наблюдателем на выборах, моряки пустили в ход дубинки. Немцы начали отбиваться чем попало и в конце концов загнали противников на корабли. Дубинки не принесли англиканам и электоральной победы: шокированные избиратели в массовом порядке проголосовали за правящую партию188.
Революция расширила сферу выборов. Выборными стали, например, должности губернаторов, которые до 1776 г. в королевских колониях назначались королем, а в собственнической колонии Пенсильвания – семейством Пеннов. Расширилось избирательное право. Традиционные имущественные цензы уже не воспринимались как нечто естественное. Франклин, по слухам, однажды рассказал такую притчу: допустим, у человека есть осел стоимостью 50 долларов, и он имеет право голосовать; но накануне следующих выборов осел умирает. Его хозяин, быть может, за это время набрался опыта и знаний, но осел мертв, и человек голосовать уже не может. А теперь, джентльмены, прошу вас, скажите, кому было предоставлено избирательное право? Человеку или ослу?189 Отменить у себя имущественные цензы в это время смог только Вермонт, но их снижение произошло почти во всех штатах. В 1787 г. избирательное право для всех мужчин-налогоплательщиков существовало в Нью-Гэмпшире, Делавэре, Джорджии, Северной и Южной Каролинах, Пенсильвании. После революции до 90% белых мужчин имели право голоса190. Нью-Джерси изумлял современников тем, что дал избирательное право женщинам191.
Неудивительно, что избирательные кампании требовали от политиков много времени и внимания. При этом традиционная «охота за голосами» (electioneering) была рассчитана на ограниченный круг избирателей. В середине XVIII в. виргинские графства в среднем располагали 350 избирателями, редко их число достигало тысячи. Джеймстаун, старейший город колонии, и вовсе превратился в «гнилое местечко»: он по старинке выбирал своего представителя в Палату бургесов, но там было только 25 человек с правом голоса192. Соответственно, колониальные предвыборные кампании были камерными. Кандидат мог навещать наиболее влиятельных жителей своего округа. Небогатым избирателям он помогал добраться до избирательного участка. Центром пиар-кампании было угощение избирателей. Существовала даже особая выпечка для таких случаев. Избирательный пирог – массивный, сладкий, с изюмом, инжиром и специями – был распространен во всех колониях с 1660-х гг. Деликатес со временем стал ассоциироваться прежде всего с Хартфордом, где им угощали избирателей, приехавших в коннектикутскую столицу издалека. И конечно, рекой лилось спиртное: ром, виски, пиво.
Угощение было обычной практикой, но на него рано начали смотреть косо. Письмо, опубликованное в 1769 г. в «Boston Evening-Post», звучало безапелляционно: угощение избирателей – низко и подло и заслуживает презрения каждого человека. Ужасно «продавать голоса за глоток пунша»193. Некоторые колонии еще до революции пытались искоренить «покупку голосов». В 1751 г. выборы в графстве Балтимор (Мэриленд) были оспорены на том основании, что кандидат «раздобыл столько крепких напитков для раздачи народу, что многие из них (избирателей. – М.Ф.) были пьяны и не могли отдать свои голоса благоразумно и осмотрительно или согласно с тем, что они бы сделали, будучи трезвыми»194. Виргинский закон 1705 г. запрещал кандидатам угощать избирателей, дарить им подарки и даже делать предвыборные обещания195. Однако закон не соблюдался. Кандидаты обходили его ограничения, например, устраивая угощение не от собственного имени, а от имени какого-нибудь приятеля или собственной супруги. И Вашингтон, и Джефферсон избирались в Палату бургесов, обильно угощая избирателей. Вашингтон даже устраивал для своих сторонников балы.
В больших (по американским меркам) городах кандидаты организовывали предвыборные парады. В колониальном Нью-Йорке это могло выглядеть так: во главе колонны шли трубачи и скрипачи, за ними – фригольдеры196 со знаменами, на которых красовалось имя короля Георга и девиз «Свобода и закон». Далее следовал кандидат, а дальше – три сотни всадников. По окончании парада все они направлялись в близлежащую таверну, где им было приготовлено угощение. В адрес соперников выкрикивали предвыборные лозунги вперемешку с оскорблениями197.
Революция предприняла новую попытку устранить из избирательного процесса манипулятивные технологии. Пенсильванцы внесли соответствующее условие даже в конституцию своего штата. Избиратель, получивший за свой голос «какой-либо дар или вознаграждение в виде мяса, питья, денег или иным образом», лишался права голосовать на соответствующих выборах. Кандидат, обещавший вознаграждение избирателям, на год отстранялся от выборных должностей198. Насколько это действовало, сказать трудно.
Так или иначе, «отцы-основатели» сознавали, что манипуляция выборами может превратить их республику в фарс. Поэтому идеальный кандидат на должность в революционной Америке старался подчеркнуть отсутствие стремления к власти. Он мог, например, заявить, что выдвинул свою кандидатуру, только уступая уговорам друзей. Довольно типичным было поведение Роулинса Лоундеса, избранного в 1778 г. губернатором Южной Каролины. Он театрально умолял отдать голоса кому-нибудь более достойному и лишь после того, как вторичное голосование вновь принесло ему большинство, согласился стать губернатором199. Разумеется, кандидат ни в коем случае не мог голосовать за себя самого.
В избирательных кампаниях 1790-х гг. наметились определенные изменения, связанные с расширением круга избирателей и формированием двухпартийной системы. Все чаще партии брали на себя выдвижение кандидатов, организацию предвыборных митингов и прочих мероприятий, которыми прежде занимался сам претендент на должность. Все чаще к предвыборной агитации подключались газеты.
Голосование в ранней Америке было целым церемониалом. Невозможно было просто забежать на участок, получить бюллетень и бросить его в урну. Голосование было менее обезличенным, чем сейчас, и превращалось в ритуал, включавший общение между избирателем и кандидатом.
Для большинства день выборов начинался с поездки, возможно, длительной: в каждом графстве было только одно место, где проводилось голосование. При этом формального запрета голосовать сразу на нескольких избирательных участках не существовало: избиратель мог голосовать где угодно, лишь бы только у него было все в порядке с избирательными цензами – в частности, была собственность в том графстве, где он вознамерился отдать свой голос (в Виргинии это условие сохранялось до 1851 г.). От «каруселей» защищало расстояние и плохие дороги: добраться от одного избирательного участка до другого достаточно быстро было непросто. Но у некоторых получалось. Говорили, что один виргинский избиратель XIX в. поставил рекорд: за день он проголосовал в четырех графствах сразу. Провернуть такую авантюру он смог, нещадно загоняя лошадей и меняя их в заранее приготовленных местах200.
Избиратели съезжались в место проведения выборов из ближних и дальних городков, с плантаций и ферм. В Нью-Йорке, например, кандидаты и их сторонники арендовали таверны и устраивали масштабные пьяные вечеринки. Как уже говорилось, кандидаты заботились о транспорте, и поездки к месту голосования часто принимали вид нового шумного парада, сопровождаемого драками, насмешками и восхищением зрителей. Предвыборная «обработка» избирателей продолжалась. Кандидаты и их сторонники уговаривали и запугивали каждого, кто шел на избирательный участок. Аплодисменты и крики, казалось, только усиливали праздничное настроение.
Подача голосов осуществлялась открыто. Во время Войны за независимость предпринимались лишь первые робкие попытки ввести тайное голосование. Обычный же ритуал был таким: «Когда подошел следующий избиратель, шериф спросил: “За кого вы голосуете, мистер Бьюкенен?” “За мистера Клоп-тона”, – был ответ, и Клоптон, сидящий в конце стола, откликнулся: “Мистер Бьюкенен, я сохраню этот голос в памяти. Он навсегда станет для меня знаком отличия”»201. Вся процедура затягивалась на несколько часов, а иногда и в один день не укладывались. Победившего кандидата приветствовали криками «ура!», а то даже устраивали в его честь фейерверк. Кандидат, в свою очередь, должен был еще раз угостить избирателей – и тех, кто голосовал за него, и тех, кто был против.
Хотя чернокожим американцам не всегда и не везде разрешалось голосовать, они тоже участвовали в выборах. «Негритянский день выборов» – праздник, распространенный в Новой Англии с середины XVIII по середину XIX в. Черные новоанглийцы избирали своего собственного «губернатора» и шествовали с ним по улицам. «Губернатор» ехал впереди процессии с «короной» на голове, с «адъютантами» по бокам. Затем он руководил общей пирушкой и танцами, подобно «бобовому королю» европейских праздников202.
Конгресс и восемь столиц
В 1783 г. «Boston Evening Post» не скрывала иронии: «Высокое, могущественное и всемилостивейшее величество К[онгрес]с, не будучи звездой первой величины, но скорее обладая природой светил низшего порядка или блуждающих комет, вновь следует своей эксцентричной орбитой, выбирая различные направления»203. Местопребывание Континентального конгресса менялось довольно часто, и виной тому обычно была война. Конгрессменам не раз приходилось срочно эвакуироваться, спасаясь от наступающих англичан. Город Вашингтон стал, собственно, девятой по счету столицей США. До него в этой роли успели побывать восемь городов: Филадельфия, Балтимор, Ланкастер, Йорк, Принстон, Аннаполис, Трентон и Нью-Йорк.
Но начиналось все в Филадельфии. Именно здесь в 1774 г. собрался Первый континентальный конгресс. Среди конгрессменов возникла небольшая дискуссия: где заседать. Пенсильванские власти готовы были уступить Конгрессу свой собственный элегантный стейтхаус204, и на этом варианте настаивал консерватор Джозеф Гэллоуэй. Однако Первый континентальный конгресс предпочел более скромный Карпентерс-холл, где собиралась гильдия плотников. Увидев его, делегаты дружно закричали, что помещение прекрасное, и без дальнейших прений проголосовали за него205. Двухэтажное здание из красного кирпича само по себе было намеком на такие добродетели, как умеренность и трудолюбие. Второй континентальный конгресс заседал уже в пенсильванском стейтхаусе. Именно там была принята Декларация независимости, откуда и современное название здания – Индепенденс-холл. Там конгрессмены задержались примерно на полтора года: уже зимой 1776 г. пришлось временно эвакуироваться в Балтимор.
Самой короткой оказалась «столичная» жизнь Ланкастера (Пенсильвания)206. 19 сентября 1777 г. конгрессмены получили предупреждение от Александра Гамильтона, тогда адъютанта Вашингтона. Гамильтон сообщал, что англичане пересекли реку Скулкилл и могут быть в Филадельфии со дня на день, так что Конгрессу нужно уезжать, не теряя времени. Конгрессмены последовали доброму совету. Джон Адамс, например, записал в своем дневнике, что уехали они уже за полночь207, но перспектива попасть в плен была еще менее привлекательной, чем ночная дорога. Нью-йоркский делегат Джеймс Дуэйн ворчал на вынужденное странствие: «Я утешаю себя удовольствием повидать большую часть страны в этом долгом путешествии»208. С собой конгрессмены забрали самое ценное: оригинал Декларации независимости и Колокол свободы (последний, правда, до места не довезли, и его пришлось припрятать в одной из церквей по дороге). Место новой встречи было выбрано заранее: городок Ланкастер в 65 милях от Филадельфии. 27 сентября конгрессмены собрались на заседание в местном здании суда. Но почти сразу выяснилось, что жить в маленьком городке им будет негде, да и появление английских разъездов было более чем вероятно. Чтобы разместить самих конгрессменов и технический персонал, не хватило всех домов маленького Ланкастера. Так что городок был столицей в течение ровно одного дня. На следующий день Конгресс переехал в близлежащий Йорк. В Йорке было 210 домов и центральная площадь с недостроенным зданием суда (оно так и оставалось недостроенным до 1841 года!). Зато между Конгрессом и англичанами текла широкая Саскуэханна, так что федеральная власть готова была ютиться в городишке до освобождения Филадельфии. В июне 1778 г. конгрессмены получили известие о том, что Филадельфия освобождена, и с облегчением вернулись в большой город. Оккупация не лучшим образом сказалась на пенсильванской столице. Конгрессмен Джозайя Бартлетт писал: «Конгресс собирается в зале колледжа, поскольку стейтхаус оставлен врагом в самом грязном и отвратительном состоянии, как и многие общественные и частные здания в городе. Некоторые из жантильных домов использовались под конюшни, в полах гостиных проделаны дыры, а навоз сгребали в подвалы. Местность к северу от города на протяжении нескольких миль представляет собой сплошную пустошь, дома сожжены, фруктовые и другие деревья порублены, заборы снесены, сады и огороды уничтожены»209.
В 1783 г. пришлось бежать снова. Эта эвакуация была еще более унизительна для Конгресса, чем предыдущая, поскольку спасаться приходилось от собственных солдат. Конгресс перебрался в Принстон, затем в Аннаполис и Трентон, чтобы наконец обрести более-менее постоянное пристанище в Нью-Йорке. Мятеж произошел 17 июня 1783 г. Солдаты требовали платы за свою службу во время войны. 20 июня 400 солдат взяли в кольцо Индепенденс-холл, где шли заседания. Делегат Бенджамин Хокинс не скрывал растерянности: «При таком положении вещей, что может Конгресс, не имея средств для выплаты долгов… ответственный за все и неспособный что-либо сделать?»210 Опасались, что бунтовщики разграбят Банк Северной Америки. Конгресс просил пенсильванские власти вмешаться, но получил унизительный отказ. Солдаты потрясали кулаками и глумились, а то и целились в окна из мушкетов. Во второй половине дня местные владельцы таверн, пытаясь успокоить и подбодрить солдат, раздавали напитки – тактика, которая заметно нервировала Джеймса Мэдисона, находившегося в «осажденном» здании211. Через три часа делегаты все же смогли уйти, пробираясь сквозь толпу буйных солдат. После отъезда Конгресса из города мятеж затих сам собой. Но событие помнилось долго; в частности, именно из-за него Конституционный конвент принял решение создать столичный округ, где федеральная власть могла бы распоряжаться по своему усмотрению и в тяжелых ситуациях не зависеть от милости какого-либо из штатов.
Сама структура американской Конфедерации ставила Конгресс в уязвимое положение. Делегат Уильям Генри Дрейтон объяснял: «Конгресс не имеет власти сам по себе: его власть проистекает из поддержки народа. Пока у него есть эта поддержка, он держит бразды правления; в тот миг, когда он ее потеряет, в то же мгновение он перестанет руководить делами континента»212. Так оно и было. Конгресс мог взять на себя ответственность за организацию Континентальной армии, но набором солдат занимались штаты. Конгресс мог вводить налоги (они назывались «реквизициями»), но сам не мог собрать ни цента – он получал лишь то, что ему пересылали штаты (ну, или печатал ничем не обеспеченные доллары).
Поначалу Конгресс держался на всеобщем энтузиазме. Одна из американских газет позже впадала в ностальгию: «Во время недавней войны стоило Конгрессу только порекомендовать сделать или не сделать что-нибудь, и все легислатуры были сама покорность и немедленно слушались, и все (кроме коварных тори) говорили “Аминь!”»213 Делегатов, едущих в Филадельфию, всюду ждал радушный прием. Джон Адамс вспоминал, как в Нью-Хейвене встречали массачусетскую делегацию, направлявшуюся на Конгресс: «Когда мы въехали в город, зазвонили все городские колокола, и мужчины, женщины и дети столпились у дверей и окон, как будто хотели увидеть коронацию… Ни с одним губернатором провинции, ни с одним генералом никогда не обращались так церемонно, как с нами»214.
О том, как проходил обычный день конгрессмена, можно узнать из письма делавэрского делегата Джорджа Рида: он брился, умывался, завтракал, затем часа полтора тратил на ожидание цирюльника и сложный ритуал ухода за париком. После этого Рид шел на заседание и работал до трех часов. После заседания его обычно ждало приглашение к кому-нибудь на обед215. Когда была возможность устроиться со всеми удобствами, Конгресс выделял каждому из делегатов кресло, письменный стол, а также вдоволь перьев, чернил и бумаги. Для делегатов также печатались журналы с рабочими материалами Конгресса и выписывались газеты (до семнадцати в неделю – не шутка!)216.
Американская революция так и не определилась с концепцией внешних проявлений власти. Должны ли должностные лица вести подобающий их статусу жантильный образ жизни? Или же им пристала скромность, достойная «христианской Спарты»? Верх брало то одно, то другое убеждение. В 1765 г. резолюции митинга в Плимуте (Массачусетс) рекомендовали депутату в Генеральной ассамблее «соблюдать во всех случаях подобающую умеренность и экономию в государственных расходах», ведь люди и так задавлены тяжелыми налогами217. В мае 1775 г. делегаты Конгресса из Нью-Джерси и Джорджии так и поступили. Они явились на заседание в патриотических домотканых костюмах218. Кажется, этот случай так и остался исключительным. Дочь Сэмюэля Адамса рассказывала забавную историю. Как-то, когда семья Адамсов сидела за обедом, раздался стук в дверь. Нежданным гостем оказался известный бостонский портной, который учтиво просил сообщить ему мерки м-ра Адамса, но при этом упорно отказывался признаться, по чьему поручению это делает. Когда портной получил необходимые мерки и ушел, столь же нежданно появился шляпник, за ним – сапожник и мастер по изготовлению париков. Никто из них не ответил на вопрос, чьи распоряжения выполняет. Через несколько дней к дверям Адамса доставили большой баул, в котором обнаружился полный костюм, две пары туфель с серебряными пряжками, шелковые чулки, новый парик, шляпа-двууголка и трость с золотым набалдашником. Отправитель был неизвестен, но Адамс мог не опасаться какой-либо провокации: на пуговицах нового костюма красовался символический фригийский колпак, эмблема вигов. И действительно, впоследствии выяснилось, что подарок пришел от бостонских «Сынов Свободы». Сэмюэль вечно пренебрегал элегантностью, и друзья хотели, чтобы он достойно смотрелся на заседаниях Конгресса219.
Время от времени и сам Конгресс пытался определить, в каком костюме следует появляться его делегатам. В октябре 1775 г., например, прозвучало предложение конгрессменам одеться в «дорогие кожаные жилеты и бриджи», чтобы ввести их в моду и тем поощрить их производство220. Еще было предложение ввести особый дресс-код, без которого нельзя было появляться на заседаниях: «простое пурпурное одеяние с открытыми рукавами, со складками на локте»221. Из этой инициативы, кажется, ничего не вышло. Пейн Уингейт, конгрессмен из Нью-Гэмпшира, подсчитывал со всей скрупулезностью бережливого янки: «Меня не выставят из-за отсутствия кружев, так как многие делегаты одеты так же просто, как и я, в то время как некоторые молодые джентльмены одеваются очень ярко. Моя лысая голова очень хорошо выглядит, когда покрыта [париком], что стоит мне шесть пенсов в день. Стирка обходится в полдоллара за дюжину больших и маленьких предметов вместе взятых. Я считаю, что это недорого»222.
Часть расходов брали на себя штаты, и стоило это по тем временам немало. Так, в штате Нью-Йорк содержание правительственных чиновников, депутатов легислатуры и делегатов Конгресса составляло самую большую статью расходов. В 1784 г. на них было потрачено более 15 тыс. фунтов223. Но конгрессмены-ньюйоркцы все же жаловались. Один из них сетовал: «Позвольте заметить, что маленький штат Нью-Джерси выделяет своим делегатам по двадцать долларов в день, Виргиния – сорок. Массачусетский залив оплачивает стол и все другие расходы. Нью-йоркский делегат не может обеспечить себе обед и чистую рубашку за свои двенадцать долларов по нынешнему обесцененному курсу наших денег»224.
С течением времени авторитет Конгресса падал. Виной тому были не слишком скромные или же слишком роскошные одеяния конгрессменов. Скорее длительная война, галопирующая инфляция и неспособность Конгресса справляться с текущими проблемами. Попытки укрепить центральную власть разбивались о стойкое сопротивление штатов. Американский Союз после Войны за независимость многим казался «веревкой из песка». Чтобы подчеркнуть свою значимость хотя бы символически, Конгресс задумал масштабную пиар-акцию. Поводом послужило возвращение главнокомандующего Джорджа Вашингтона к частной жизни. В декабре 1783 г. он явился в Аннаполис, где заседал в это время Конгресс, чтобы официально просить об отставке. В Аннаполисе Вашингтона встретили со всей возможной любезностью. Конгресс устроил в его честь торжественный обед в таверне Манна, а мэрилендский губернатор дал бал, где присутствовало шестьсот гостей. Превосходный танцор, Вашингтон поразил всех своей грацией в менуэте. Церемония в Конгрессе состоялась 23 декабря. Мероприятие планировал комитет из трех конгрессменов, включая Томаса Джефферсона.
Местом действия стал старый сенатский зал мэрилендского стейтхауса (его интерьер ныне воссоздан в том виде, в каком он был в 1783 г.). Президент Конгресса сидел на небольшом возвышении, фланкированном ионическими колоннами. С балкона смотрели зрители. Сцена была тщательно выстроена. О прибытии Вашингтона должен был оповестить гонец Конгресса. Затем генерал входил в зал заседаний в сопровождении своих адъютантов. Он должен был ждать, пока президент Конгресса от лица Соединенных Штатов заявит о готовности его выслушать. Тогда Вашингтон должен был подняться и отвесить конгрессменам поклон. Те не кланялись в ответ, а лишь вежливо снимали шляпы. Главнокомандующему вначале предложили сесть (адъютанты стояли по бокам), но свою речь он произносил стоя перед сидящими конгрессменами. Вашингтон принял предложенную ему роль. Он демонстративно начал с признания верховенства власти Конгресса. Он сказал: «Теперь я имею честь выразить свои искренние поздравления Конгрессу и предстать перед ним, чтобы передать в его руки то, что он мне доверил, и попросить дозволения уйти со службы моей стране». Президент Конгресса в ответ превознес мудрость и силу, проявленную главнокомандующим во время войны, и заявил: «Вы удаляетесь с большого театра военных действий, сопровождаемый благословениями ваших сограждан, но ваша слава, слава ваших добродетелей не прекратится вместе с вашей общественной жизнью»225. После этого Вашингтон удалился, чтобы встретить Рождество у себя в Маунт-Верноне. Церемония вышла предельно эмоциональной. Главнокомандующий не скрывал волнения. Листок с речью дрожал в его руках, голос временами срывался. Растроганные зрители плакали. По наблюдениям Джеймса Макгенри, «едва ли нашелся бы конгрессмен, который не ронял слез»226.
Если Конгресс надеялся этой церемонией поднять собственный престиж, то цели он не добился: внимание США и Европы было приковано к Вашингтону. Главнокомандующий, сложивший полномочия по первому требованию гражданских властей и даже не попытавшийся установить собственную диктатуру, удивлял всех. Ведь был уже Кромвель, обращавшийся с Парламентом совершенно иначе! По воспоминаниям художника Бенджамина Уэста, подвизавшегося при английском дворе, король Георг III, узнав об отставке Вашингтона, объявил, что этот поступок представляет американского главнокомандующего «величайшим человеком в мире»227.
Континентальному конгрессу осталось работать менее пяти лет. В мае 1787 г. в Индепенденс-холле собрался Конституционный конвент, разработавший для США их нынешнюю федеральную Конституцию. В течение лета 1787 г. «отцы-основатели» заставили добрых граждан США разрываться между надеждами и страхами. Заседания Конвента были строго закрытыми, делегаты свято блюли секретность своих дебатов. Что могло выйти? Какая-то новая, еще невиданная республика? А вдруг монархия? Ходили слухи, что Конвент уже готовит престол для второго сына короля Георга или для принца Генриха Прусского. Утопии не случилось, но страхи тоже не оправдались: итогом работы Конвента стала новая форма правления – федеративная президентская республика. В 1789 г. федеральное правительство приступило к своим обязанностям в Нью-Йорке. 30 апреля того же года в нью-йоркском Федерал-холле состоялась инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона. Перед новыми властями встала проблема вписывания себя в повседневную жизнь США.
Новая Конституция – новая власть
4 марта 1789 г. пушечный салют и звон всех колоколов Нью-Йорка приветствовал открытие первой сессии федерального Конгресса. Федерал-холл еще не был готов к приему конгрессменов, так что депутатам обеих палат пришлось собраться в зале заседаний Сената. Впрочем, тесно им не было: большая часть конгрессменов еще не приехала. Присутствовало восемь сенаторов и тринадцать представителей. Так что они просто послушали колокольный звон и разошлись228. Здание Федерал-холла было к тому времени уже довольно старым. Оно было построено для нью-йоркской ратуши в 1703 г., причем для строительства использовали камни из разобранных городских стен. Здесь проходил известный процесс печатника Питера Зенгера229. Здесь в 1765 г. работал Конгресс гербового сбора230. Здесь же в 1785 г. обосновался Континентальный конгресс. Но для новой федеральной власти решили сделать что-то более грандиозное. Под руководством П.Ш. Ланфана, будущего архитектора города Вашингтон, Федерал-холл был перестроен в модном неоклассическом («федеральном») стиле. Через подвал на уровне улицы был проложен арочный променад с четырьмя тяжелыми тосканскими колоннами, поддерживающими балкон. На уровне балкона были установлены четыре высокие дорические колонны, поддерживающие фронтон с изображением американского орла с тринадцатью стрелами. Современники были восхищены талантом Ланфана. Свидетельством тому шуточное стихотворение, опубликованное в нью-йоркской газете:
Увы, сейчас на Уолл-стрит уже нельзя увидеть творение Ланфана. К 1830-м гг. прежний Федерал-холл показался тесным и неудобным, и на его месте построили новое здание в неогреческом вкусе. В качестве памяти сохранили только часть пола и перил балкона, на котором проходила инаугурация Дж. Вашингтона. Присягу у новоизбранного президента принимал канцлер Нью-Йорка Роберт Р. Ливингстон. Библию, на которой клялся Вашингтон, позаимствовали из местной масонской ложи. Наблюдательные современники приметили, что раскрылась книга на стихе из Бытия: «Завулон при береге морском будет жить и у пристани корабельной, и предел его до Сидона»233. Протестанты любили предсказывать будущее по таким вот случайно открывшимся страницам Писания, так что последовали разнообразные толкования, что мог означать загадочный текст. Вашингтон клялся добросовестно исполнять свои обязанности и защищать Конституцию. Когда присяга была зачитана, Ливингстон воскликнул: «Да здравствует президент Вашингтон!» Ему отвечали восторженные крики толпы и орудийный салют. На этом церемония, собственно, завершилась. Инаугурационную речь Вашингтон произнес не на открытом воздухе, как делают современные президенты, а в зале заседаний Сената. Инаугурационного бала не было вообще.
В Нью-Йорке федеральное правительство задержалось ненадолго. Уже в 1790 г. столица переместилась в Филадельфию. Там для Конгресса было построено по проекту Сэмюэля Льюиса двухэтажное здание. На первом этаже расположилась Палата представителей, на втором – Сенат. Со временем в зале заседаний нижней палаты разместилось 106 представителей от 16 штатов. По сравнению с расположенным рядом Индепенденс-холлом место заседаний Конгресса смотрелось и тесным, и невзрачным – своего рода архитектурный комментарий к соотношению федеральной и местной власти в ранней республике. Президенту был выделен особняк Роберта Морриса – он находился там, где сейчас павильон с колоколом Свободы. В этом особняке жил вначале Джордж Вашингтон, а затем – его преемник Джон Адамс. Но, несмотря на столь достойных обитателей, судьба особняка оказалась бесславной. Уже в 1800 г., после перемещения столицы, он был превращен в гостиницу, позднее там разместились меблированные комнаты для сдачи внаем. В 1830-х особняк был снесен, и на его месте построили магазины. Были и другие замыслы. Предполагалось построить в Филадельфии новые здания для президента, Сената и Палаты представителей. Чтобы Конгрессу не пришлось заседать посреди толп торговцев и механиков, новые здания планировали разместить подальше от городского шума234. Особенно роскошным должен был стать президентский дворец на 9-й улице (сейчас это территория кампуса Университета Пенсильвании), на который из пенсильванской казны было потрачено 110 тыс. долл.235 Стоит заметить, что Конгресс надеялся за сто тысяч долларов обустроить целую федеральную столицу236. Виргиния потратила на перенос столицы из Уильямсберга в Ричмонд 20 тыс. фунтов237. Целью масштабного проекта было убедить Конгресс сделать Филадельфию постоянной столицей. Многие верили, что такое вполне возможно осуществить. Ведь Филадельфия, бесспорно, была первым городом США по элегантности зданий, чистоте и ухоженности улиц, по богатству и политическому влиянию. А место на берегу Потомака, облюбованное под будущую столицу, представляло собой всего лишь болото между двумя холмами.
Пару лет строительство шло довольно бодро, и рабочие радостно отмечали завершение каждого этажа в ближайшей таверне «Желтый кот». Но затем деньги закончились. Пенсильванской легислатуре пришлось еще дважды выделять на строительство дополнительные средства. Работы продолжились, но уже без торжеств и угощения для рабочих. Президент Вашингтон проект не одобрил, и не было никакой гарантии, что его или его преемника удастся уговорить занять дорогостоящее здание. Вашингтон всячески лоббировал перемещение столицы поближе к его собственному штату и его собственному поместью Маунт-Вернон238. Так или иначе, дворец был завершен к марту 1797 г. Трехэтажное кирпичное здание было отделано мрамором и увенчано небольшим стеклянным куполом с горделивой фигурой американского орла. Впечатляющий фасад был украшен коринфскими пилястрами и двойными палладианскими окнами. Внутри были просторные помещения для официальных приемов, два бальных зала и даже овальный кабинет. В оформлении интерьера соседствовали листья аканта, украшенные орлами вазы, гирлянды фруктов и цветов, рога изобилия и тому подобное. Губернатор Томас Миффлин предложил второму президенту, Джону Адамсу, переселиться туда. Зная новоанглийскую бережливость Адамса, губернатор не забыл упомянуть, что за дворец будет стребована арендная плата, но не выше, чем за любой другой подходящий особняк239. Адамс, однако, от предложенной чести отказался, сославшись на отсутствие санкции Конгресса240. Так и стоял в городе президентский дворец, в котором никогда не жил ни один президент. Какое-то время, меланхолично отмечает историк Д. Кёрджек, там никто не селился, «кроме призраков несбывшихся грез»241. В 1800 г. пустой дворец выкупил университет, там проходили занятия и заседало студенческое филоматейское общество. Но в 1829 г. его было решено снести и выстроить на его месте два новых здания, более удобных для университетских нужд.
Вернемся немного назад и зададимся вопросом, почему не осуществились надежды филадельфийцев на столичное будущее. В июле 1788 г. Континентальный конгресс занялся вопросом о том, где будет располагаться постоянная федеральная столица. Были предложены Нью-Йорк и Филадельфия, но оба города были отвергнуты. Федеральное правительство должно было поработать в обоих, но лишь временно242. Впрочем, Нью-Йорк и Филадельфия не отчаивались раньше времени и надеялись на то, что сумеют у себя превратить временную столицу в постоянную. Многие вообще считали, что постоянная столица не нужна. Виргинский антифедералист Уильям Грейсон рассуждал: «В монархии резиденция правительства находится там, где заблагорассудится монарху. А как должно быть в такой республике, как наша? Сегодня в одном месте, а после – в другом, там, где это лучше всего подойдет для удобства людей»243. Споры, тем не менее, кипели. Один из современников насмешливо комментировал: сторонники разных городов спорят с такой горячностью, «словно это олимпийские игры»244.
Судьба постоянной столицы была решена в 1790 г. за обеденным столом, где беседовали трое: министр финансов Александр Гамильтон, его вечный противник госсекретарь Томас Джефферсон и Джеймс Мэдисон, ведущий джефферсоновец в Конгрессе. По рассказу Джефферсона, в то время министр финансов был в отчаянии: южные штаты упорно блокировали его программу экономических реформ. Джефферсон вспоминал: «Как-то, направляясь к президенту и подходя к двери, я встретил Гамильтона. Он казался невыразимо мрачным, изможденным, подавленным. Даже его одежда была неряшливой и запущенной». За обедом удалось все уладить: кто-то из собеседников предложил подсластить южанам пилюлю. Два влиятельных виргинца согласились поддержать гамильтонов-скую программу в обмен на то, что федеральная столица будет построена на Юге, между Мэрилендом и Виргинией, на берегу реки Потомак245. Там она и находится с 1800 г. Столицу, понятное дело, назвали в честь первого президента США. А сам он в масонском облачении заложил первый камень в основание здания для законодателей – Капитолия.
Как складывалась повседневность федеральной власти в Нью-Йорке и Филадельфии? Заседания Конгресса были открыты для публики (Палата представителей – с самого начала, Сенат – с 1795 г.). Для желающих следить за дебатами устраивались специальные балконы, куда мог прийти любой. Позже, когда конгрессмены обсуждали Миссурийский компромисс 1820 г., южане порой одергивали северных ораторов, пытавшихся цитировать Декларацию независимости. Как можно было говорить, что все люди созданы равными, в присутствии слушателей? Как знать, ведь на галереях могли присутствовать рабы – а ну как они примут слова Джефферсона на свой счет? О том, как выглядели галереи в 1790-х гг., рассказала Джудит Сарджент Мюррей, одна из первых американских феминисток: «Взгляните на галереи, заполненные респектабельным, любопытным и очень довольным людом. Мужчины и женщины сидят вперемешку. Джентльмены первого ранга располагаются в центре комнаты. Красивые и удобные места за барьером заполнены блестящим кругом дам, богато одетых, с самыми прелестными личиками, какие только может подарить Природа в порыве щедрости. Миссис [Марта] Вашингтон с достоинством и непринужденностью занимает свое место – элегантные женщины составляют ее свиту, а по обе стороны от нее сидят ее внук [Джордж Вашингтон Кастис] и внучка [Элеонора Кастис]»246.
Относительно спокойное обсуждение текущих вопросов могло переходить в жаркие баталии, и не только словесные. Партийные разногласия зародились уже в Континентальном конгрессе. В 1790-х гг. первая двухпартийная система в истории США оформилась окончательно. Власть до 1800 г. была в руках партии федералистов. Джефферсоновские республиканцы (демократические республиканцы, джефферсоновцы) представляли оппозицию. Их дебаты формировали политический пейзаж ранней республики. В 1798 г. джефферсоновец Мэтью Лайон оскорбил федералиста Роджера Грисуолда, во всеуслышание намекнув на то, что оппонент предпочитает собственную выгоду интересам избирателей. Федералист в ответ припомнил кое-какие эпизоды в прошлом самого Лайона (во время Войны за независимость тот был с позором изгнан из армии). Джефферсоновец не нашел ничего лучшего, чем плюнуть табачной жвачкой в лицо оскорбителю. Оба затаили злобу, и на одном из следующих заседаний Конгресса Грисуолд начал бить ненавистного противника тростью по голове и плечам. Лайон не растерялся и принялся охаживать обидчика каминными щипцами, к вящему восторгу карикатуристов, запечатлевших позже эту сцену в самом комическом виде.
В том же зале проводились церемонии, связанные с заключением международных договоров, здесь же принимали делегации индейских племен. Уже знакомая нам Джудит Сарджент Мюррей описывала церемонии, сопровождавшие заключение мирного договора между США и племенем криков: «Внезапно раздаются грубые и шумные звуки, они сильно вибрируют в ушах. Ужаснейшие вопли то звучат устрашающе, то отзываются беспрестанным буйством и вольным весельем. “Что это за звуки?” – кажется, спрашивают все. Это хвалебная песня, которую поют короли, вожди и воины нации криков. Вот они вошли в здание, звенящее от их безыскусной радости. Они занимают свободные места. Они в синей форме с красной отделкой… Головы повязаны платками, у других украшены гирляндами из перьев и т.д. и т.д. Все они причудливо раскрашены и украшены серьгами и драгоценными камнями в носу. Вот появляется прославленный президент Соединенных Штатов. За ним следует его свита, он облачен в одеяние из густо-пурпурного атласа. Все взгляды устремлены на него, а он обводит всех доброжелательным взором и с неподражаемой грацией склоняется перед присутствующими. Он садится, царит благоговейная тишина, и секретарь читает статьи договора… Крики, в своей собственной манере, громко согласились с каждым предложением, и подписание договора увенчалось успехом. Президент подарил полковнику [Александру] Макгилливрею247 нитку бус в знак вечного мира и пакет табака, чтобы раскурить калюмет248. Макгилливрей, облаченный индейским суверенитетом, принял дары, произнес короткую речь и в ответ преподнес президенту вампум249. Вот короли, вожди и воины один за другим продвигаются вперед. Они приближаются величественно, с природным достоинством… Макгилливрей прибегает к общепринятому рукопожатию, и несколько индейцев следуют его примеру. Но большинство, схватив президента за локоть, сплетают руки с его руками, горячо выражая таким образом свое удовлетворение, и еще одна индейская песнь мира завершает эту трогательную, важную и достойную церемонию»250.
Неизвестный автор. Боксеры из Конгресса. Карикатура 1798 г.
На карикатуре изображена первая драка конгрессменов в истории США.
Перед спикером нижней палаты несли церемониальную булаву, сделанную по образцу римских фасций. Вопреки названию, она представляла собой связку из тринадцати эбеновых палочек, связанных серебряной лентой и увенчанных американским орлом. Сама идея такого символа была заимствована из английской традиции, но в Великобритании булава служит эмблемой королевской власти251. В США она превратилась в зримый знак достоинства законодателей. При обсуждении, где должна находиться булава во время заседаний Палаты, возникла некоторая заминка. Массачусетец Джордж Тэтчер заявил, что булава – всего лишь заостренная палка, над которой будут смеяться мальчишки. Так не все ли равно, будет она во время заседаний лежать на столе или под столом?252 Но большинство с ним не согласилось. Во время заседаний булава ставится справа от спикера. Она служит и для дисциплинарных целей. Если конгрессмены разбуянятся, как это произошло в 1798 г., пристав снимает булаву с подставки и многозначительно демонстрирует ее нарушителям спокойствия. Эта булава была деревянной и впоследствии погибла при сожжении англичанами Капитолия в 1814 г. Та, что используется сейчас, сделана в 1841 г. Со временем она стала настолько неотъемлемой деталью образа спикера, что Нэнси Пелоси, занимавшая эту должность с 2019 до 2023 г., носила брошь с ее изображением.
Труд конгрессменов с 1789 г. оплачивался из федеральной казны. Ставки были определены тогда же. Спикер Палаты представителей и председатель Сената получали по 12 долларов в день, рядовые депутаты и сенаторы – по шесть. Интересно, что эта сумма была пересмотрена только в 1855 г. Невзирая на инфляцию и дороговизну столичной жизни, оклад конгрессменов не индексировался десятилетиями. Кое-кому эта сумма казалась чрезмерной, ведь депутат получал ее и в том случае, если не участвовал в заседаниях. Массачусетец Теодор Седжвик позволил себе отлучиться на несколько дней из-за болезни своей жены и тут же удостоился язвительной эпиграммы:
- Мария милая, как ты любима другом!
- О право, как мы им восхищены!
- Ведь в день за драгоценную супругу
- Шесть долларов заплатят из казны253.
Все же центром политической жизни был при новой Конституции не Конгресс, а президент. Джордж Вашингтон пользовался колоссальным авторитетом как победоносный военачальник и как политик безупречной честности. Современники сравнивали его с идеальными героями античности. Каждое его появление на публике было событием. Юная виргинка записывала в дневник: «Сегодня вечером мы сидели за чаем, и вдруг что же мы увидели? Карету мистера Вашингтона! Я была в восторге, это уж точно»254. Предтеча латиноамериканской независимости Франсиско де Миранда наблюдал въезд Джорджа Вашингтона в Филадельфию: «Дети, мужчины и женщины выражали такой восторг, словно это Спаситель въезжал в Иерусалим!»255 Всеобщее внимание и забота о первом президенте проявлялись во всем. Случилось так, что президенту во время жизни в Нью-Йорке потребовалась хирургическая операция. Чтобы не беспокоить больного шумом дорожного движения, горожане перекрыли Черри-стрит, где он жил, цепями, а примыкающие переулки засыпали соломой, чтобы колеса не гремели по мостовой256.
В какой-то мере образ Вашингтона строился как республиканизированная версия «короля-патриота». Иногда это было видно даже на символическом уровне. Так, в губернаторском особняке в Уильямсберге (Виргиния) висел портрет Георга III во весь рост. Его заменили портретом Вашингтона того же размера и в той же позе.
Много думали о проблеме титулования. Джон Адамс пророчил, что без должной титулатуры «американского президента скоро введут в какой-нибудь фарс на половине театров Европы и выставят на посмешище»257. Уже во время революции Вашингтона стали величать «отцом своей страны»258 – очевидная калька с Октавиана Августа («отец отечества»), а также с Георга III («отец своего народа»). Долго думали о титуле президента. Сенат обсуждал такие варианты, как «его выборное величество», «его превосходительство» и в итоге остановился на конструкции «его высочество президент США и протектор их свобод». Однако Палата представителей отвергла чрезмерно высокопарную риторику, и после долгих дискуссий главу государства было решено именовать просто «господин президент»259.
Повседневная жизнь первого президента была расписана чуть ли не по минутам. Не случайно некоторым исследователям политика ранней республики напоминает хорошо отрежиссированный спектакль, с жестко ритуализованными президентскими приемами и торжественными процессиями260. Пока что «актерам» недоставало сыгранности: исполнительная и законодательная власть притирались друг к другу. Такой эпизод передавала Абигайль Адамс: «Палата представителей снизошла до того, чтобы в полном составе обратиться к президенту с ответом на его речь, хотя многие горячо возражали. Сенат во главе с председателем это уже сделал, так что было непонятно, как здесь вывернуться. Но все сенаторы ехали верхом, а представителям пришлось бы идти пешком, а за ними хлюпала по грязи толпа. Возражение было устранено одним из конгрессменов, предложившим послать за наемными экипажами для тех, у кого не было собственных карет. И потом, идти к президенту – “это так по-монархически”… Президент отвечал, что, поскольку Сенат пришел к нему, он не считает нужным проводить различие, кроме того, в определенных штатах принято отвечать на речи, произнесенные губернаторами, и он не хотел бы вносить новшества… Так что гора пошла к Магомету, и к тому же с шиком. Перед каретой спикера шел пристав со своей булавой. Конгрессмены следовали за ними, кто верхом, кто в экипаже»261.
Собственно, еще до вступления в силу федеральной Конституции началось формирование этакого «республиканского двора» вокруг фигуры президента Континентального конгресса. Для него за счет федеральной казны с 1778 г. снимали дом, заботились о его столе, экипаже и прислуге262. Президент Конгресса Сайрус Гриффин давал один-два обеда в неделю для узкого круга приглашенных. Его супруга Кристиана («президентесса», как ее называли современники) устраивала более многолюдные приемы по пятницам. Джордж Вашингтон и его супруга тоже давали обязательные приемы. В Филадельфии местом действия был особняк Роберта Морриса, о котором уже говорилось, а в Нью-Йорке президентским особняком служило здание на Черри-стрит, 3. Там обитали четыре последних президента Континентального конгресса, а в 1789 г. туда же въехал президент Вашингтон (особняк не сохранился до наших дней). Здание было арендовано за счет Конгресса и обходилось казне в немалую сумму: 845 долл. в год. Перед вселением Вашингтона его обставили заново, потратив на это восемь тысяч. В остальном, по отзывам современников, дом мало чем отличался от жилья зажиточного джентльмена. Одна из посетительниц оставила описание того, как он выглядел перед приездом Вашингтона: «Утром перед приездом генерала я пошла посмотреть на особняк. Лучшая мебель в каждой комнате и самое большое количество посуды и фарфора, которые я когда-либо видела; весь первый и второй этажи оклеены обоями, а полы покрыты богатыми турецкими и уилтонскими коврами»263.
Прислугу для того, чтобы содержать особняк, президент привозил со своей плантации. Прислуживали Вашингтону семеро рабов, что сопровождалось некоторыми проблемами, раз уж обе столицы, где ему довелось президентствовать, располагались в северных штатах. В Нью-Йорке в 1790-х гг. рабство еще существовало, а вот Пенсильвания уже успела его отменить. Государственным служащим с Юга дозволялось брать с собой прислугу, но если раб оставался в Филадельфии дольше полугода, он должен был получить свободу. Несмотря на просьбы Вашингтона, исключения для него не сделали264. Каждые шесть месяцев президент устраивал своей черной прислуге небольшое «турне» за пределы штата. Таким образом, требования закона удавалось обойти. Большинство рабов президента приняли этот порядок, но не все. Неприятная для Вашингтонов история произошла с горничной первой леди – 22-летней Оной Джадж. Девушка пользовалась доверием и расположением хозяйки. Ей даже была обещана свобода. Но потом Вашингтоны передумали. Горничную решили подарить на свадьбу приемной дочери президента. Узнав об этом, Она обратилась за помощью к свободным афроамериканцам Филадельфии, и ей помогли бежать. Кто-то из знакомых Вашингтонов встретил беглянку в Нью-Гэмпшире, и президент попытался вернуть пропажу. Но власти штата отказали ему в содействии. Тогда Вашингтон решил действовать неофициально и направил в погоню за Оной своего племянника Беруэлла Бассетта. Но Бассетт имел неосторожность за обедом с нью-гэмпширским губернатором рассказать о своем поручении. Губернатор предупредил Ону, и ей снова удалось ускользнуть. Она так и жила в Нью-Гэмпшире до самой смерти265. Другая похожая история произошла с поваром Вашингтона по имени Геркулес. Он славился на всю страну своими кулинарными талантами и строгим порядком, который навел на кухне. Ему даже позволялись маленькие поблажки: он мог свободно гулять по улицам Филадельфии и распродавать в свою пользу остатки от официальных обедов. Вот только удержать уникального специалиста при себе президенту не удалось: в 1797 г. Геркулес сбежал. Он жил в Нью-Йорке в статусе беглого раба, пока официально не получил свободу по завещанию Вашингтона. Его дети остались в рабстве. Будущий король Франции Луи-Филипп во время своего визита в Маунт-Вернон решил спросить маленькую дочку Геркулеса, не скучает ли она по отцу. Но девочка ответила: «Сэр, я очень рада, ведь он теперь свободен»266.
Но вернемся к президентским приемам. Они отличались довольно сложным тайм-менеджментом. Во вторник принимали иностранных дипломатов или иных выдающихся посетителей. В четверг давали официальные обеды, а в пятницу Марта Вашингтон принимала друзей и знакомых. Александр Гамильтон, к которому новоиспеченный президент обратился за советом, уверял: «Общественное благо безусловно требует поддерживать достоинство этой должности… Люди ожидают от главы исполнительной власти довольно надменного поведения»267. За образец для главы молодой республики принимался протокол королевских дворов Европы. Само название президентских приемов (levées) было заимствовано из практики французского королевского двора. Гамильтон тщательно расписал протокол. Вашингтон должен был появиться перед гостями всего на полчаса, обменяться с тем или иным из них несколькими словами на какую-нибудь не слишком важную тему, а затем исчезнуть. Он не должен был принимать ничьих приглашений268. Во вторник угощения не подавали. Приглашенные к Марте Вашингтон в пятницу могли рассчитывать на кусок пирога, мороженое и лимонад, чай или кофе. Ставился также ломберный столик для игры в вист. Визитеры приходили между тремя и четырьмя часами, кланялись хозяину дома, а затем предавались светской болтовне. Джентльмены блистали куртуазными манерами, дамы – своей красотой, как нельзя более выгодно подчеркнутой светом свечей. Здесь находилось место для «модных поединков». Юная и легкомысленная Фейт Трамбулл как-то «с ужасом отметила, что в комнате нет ни одной леди, которая так же хорошо одета и так же хорошо выглядит», как она сама269 270. Визитерам не позволяли задерживаться: расходились в девять вечера, неслыханно рано по меркам XVIII века.
В особняке на Черри-стрит не было достаточно просторных залов для президентских приемов, так что усадить многочисленных гостей было негде, и им приходилось стоять. К тому же и потолки были низковаты, что могло приводить к печальным казусам. Внук президента Джордж Кастис вспоминал один случай, когда модница в гостиной Марты Вашингтон задела страусовыми перьями в прическе низко висящую люстру, и перья загорелись. К счастью для красавицы, адъютант президента поспешил к ней на помощь и погасил пламя собственными ладонями271.
Неудобства никого не смущали. Президентские приемы быстро стали частью столичной жизни. Если, например, по болезни президента прием отменялся, это сразу замечали. На приемах внимательно следили: кто кому поклонился или не поклонился, кто беседовал или не беседовал с Вашингтоном. Сам Вашингтон примечал, много ли было посетителей, и когда однажды по случаю плохой погоды на прием пришел только вице-президент, сделал в дневнике особую запись272. Популярность этих мероприятий была такова, что президент вынужден был объяснять знакомым, что физически не в состоянии устраивать приемы более часто и что он лично предпочел бы общаться с одним-двумя друзьями в Маунт-Верноне, чем принимать должностных лиц и дипломатов в столице273.
Кроме этих еженедельных ритуалов, устраивались особые церемонии по праздникам, например, на День независимости или на Новый год. Дни рождения президента отмечались как официальные праздники274. К 1791 г. даже самые маленькие городки США устраивали в этот день бал или банкет в честь Вашингтона. «Federal Gazette» восторженно описывала день рождения Вашингтона, отпразднованный в 1791 г. в Филадельфии. Праздник состоялся, по всей видимости, на втором этаже пенсильванского стейтхауса, где обычно проводились официальные церемонии. По такому случаю власти разжились портретом виновника торжества и украсили его гирляндами лавра и цветов, в знак военных и мирных заслуг героя. В числе приглашенных были вице-президент с супругой, конгрессмены, депутаты пенсильванской легислатуры, а также «блестящее сборище иностранцев и американских граждан»; по мнению автора статьи, все это свидетельствовало «о быстром росте и развитии изысканных и светских удовольствий в Америке». Президент появился в военной форме, и газета особо отмечала «его здоровый вид, обещающий долгую и столь желанную череду благ, получаемых от его мудрого и благоразумного управления»275.
Президент, всю жизнь обожавший лошадей, особенно заботился о своем выезде. По субботам он, бывало, выезжал за город со всей семьей в экипаже шестерней. Бока лошадей блестели, как шелк, копыта были отполированы и выкрашены в черное, а попоны были из леопардовых шкур276. А иногда, устав от церемониала, Вашингтон просто отправлялся на прогулку. Тогда его можно было видеть прогуливающимся по улицам Нью-Йорка или Филадельфии в компании своего адъютанта.
Выезды, приемы и церемонии, конечно, требовали расходов. Жалованье главы исполнительной власти Конгресс определил в 25 тыс. долл. в год. На поддержание должного блеска этого не хватало, и Вашингтон был вынужден ежегодно прибавлять к назначенной сумме около 5 тыс. долларов из собственного кармана277.
Чета Вашингтонов заложила основы президентского этикета для последующих глав исполнительной власти в США.
Глава 3. Жизнь в городе
Пространство города. Время колоколов. Символическая политика: столпы свободы, деревья свободы, памятники. Городские службы. Свет, вода, тепло. Пространство дома
Пространство города
Америка XVIII века была сельской: в городах жили всего 5% ее обитателей. И города эти были невелики: не сравнить с «миллионниками» той эпохи, такими, как Лондон. К 1775 г. первенство держала Филадельфия с населением 40 000 человек, за ней следовали Нью-Йорк (25 000), Бостон (16 000), Чарльстон (12 000) и Ньюпорт (11 000). Но в событиях второй половины XVIII в. города играли ведущую роль. Именно они стали центрами антианглийских протестов в 1765–1775 гг., ратификационной кампании 1787–1788 гг. Словом, политика Американской революции делалась именно там.
Каждый, кто изучал в школе английский язык, помнит, что есть два термина для обозначения города: city и town. Традиционно считается, что в city больше населения, есть городское самоуправление и кафедральный собор. Так сложилось в Англии с XVI в. Но определение нужно уточнить: на самом деле статус city невозможно было получить автоматически, даже если в наличии имелся собор, городское самоуправление и достаточное число жителей. Нужна была еще хартия от официальных властей. Филадельфия, например, получила статус city в 1701 г. от Уильяма Пенна. Новый Амстердам превратился в город-city одновременно с переходом под власть англичан и переименованием в Нью-Йорк в 1664 г. А вот Чарльстон и Бостон получили тот же статус лишь после провозглашения независимости: Чарльстон в 1783 г., Бостон еще позже, в 1822‐м.
Английские города в средние века имели самоуправление в виде собрания фрименов278, городского совета и городского суда. Со времен Тюдоров самоуправление передавалось в руки городских советов и мэров. Примерно такие же структуры действовали и в колониях. Лишь в городах Новой Англии возникла новая политическая организация – городское собрание. Этот институт был более восприимчив к социальным требованиям, чем аристократические корпорации, созданные в Америке по образцу английских муниципальных властей. Расходование государственных средств и принятие гражданских постановлений передавалось в руки тех, кого это непосредственно затрагивало. Поэтому городские собрания эффективно решали общественные проблемы279. В годы революции они чутко отзывались на требования быстро меняющейся обстановки.
Центром городской жизни была ратуша (city-hall, townhall). Первоначальная городская ратуша Филадельфии, построенная еще при жизни Уильяма Пенна, находилась недалеко от реки Делавэр на Второй улице. В 1790 г. она была заменена на здание в федеральном стиле280. На первом этаже находилась тюрьма. Рынок под открытым небом раскинулся на запад от ратуши, на несколько кварталов вдоль Хай-стрит (нынешняя Маркет-стрит). Наверху находились кабинет мэра и городской суд. Двойная лестница вела на балкон на втором этаже. Именно на балконе проходило голосование в дни выборов. Возле ратуши собравшаяся толпа слушала чтение Декларации независимости, здесь проходили митинги. И здесь же совершались казни.
Привыкшим к масштабам современной бюрократии покажется странной компактность органов власти XVIII в. Стейтхаус Пенсильвании – величественный Индепенденс-холл – был одновременно местом заседаний легислатуры штата и Континентального конгресса. В 1787 г. к ним на несколько месяцев «подселился» Конституционный конвент. В филадельфийской ратуше, как и в Индепенденс-холле, местные власти должны были делить пространство с федеральными: в 1791–1800 гг. там же заседал Верховный суд США.
Помимо выделяющихся своим внешним обликом различных общественных зданий, архитектурной доминантой городов служили церковные сооружения с высокими шпилями.
Наиболее полное представление об облике американских городов XVIII столетия дает Уильямсберг – город-музей, оказавшись в котором, посетитель в буквальном смысле попадает в 1755 год. В нем сохранилось 88 подлинных колониальных построек. С 1699 по 1780 гг. город был столицей Виргинии. Поэтому здесь находилась резиденция губернатора колонии. Трехэтажный губернаторский особняк, увенчанный башенкой с флюгером, выглядит величественно и роскошно, с великолепной государственной символикой на воротах: львом, единорогом и короной. За домом расположился уютный, ухоженный сад. Немного напоминает суровую крепость с двумя массивными круглыми башнями здание колониальной ассамблеи (бургесов). Оно было возведено в 1704 г. и сохранило свой исторический облик. Внутри находились помещения нижней и верхней палат, где депутаты обсуждали насущные вопросы жизни колонии. Из административных зданий большой интерес представляет здание суда. Его сразу можно признать из-за позорного столба и колодок, служивших в XVIII в. для наказания за легкие преступления.
Вдоль довольно широкой главной улицы герцога Глостерского располагались торговые лавочки-мастерские. На каждом доме висят вместо вывесок опознавательные знаки принадлежности к той или иной профессии. На сапожной мастерской это, конечно, сапог. Если вывески нет, то зайдя внутрь можно сразу же определить занятие хозяина. Вот неполный перечень ремесленных профессий: типографы, аптекари, кондитеры, каретники, плотники, оружейники, кузнецы, парикмахеры, флористы… Везде наглядно воссоздана соответствующая историческая обстановка281.
Грозно ощетинился стойками с ружьями местный арсенал, в XVIII столетии американцам все еще приходилось думать о безопасности своих поселений.
Чарльстон, подобно европейскому средневековому городу, был укреплен: стены, рвы, подъемные мосты. Изначально фортификации предназначались для защиты от испанцев и французов, а также пиратов. Стены Чарльстона смогли на какое-то время задержать англичан во время войны, но серьезно пострадали от английских пушек. Так что после войны их предпочли просто снести. А вот нью-йоркская стена, давшая имя Уолл-стрит, была снесена еще в 1699 г. В 1776 г. город защищали наспех выстроенные форты: форт Вашингтон на северо-западе Манхэттена, форт Ли на Гудзоне. Заграждения между ними перекрывали реку.
Уже в XVIII столетии в Нью-Йорке появились особняки состоятельных горожан, правда, большинство из сохранившихся до наших дней представляли двухэтажные дома в георгианском или палладианском стиле. Некоторые из особняков возводились за пределами города, где можно было наслаждаться близостью к природе и сельскими пейзажами, наезжая в город, как только требовали дела. Такие довольно скромные особняки построили себе известные участники Революции – Александр Гамильтон в 1802 г.282 и Руфус Кинг в 1805283.
Роскошным особняком выглядел дом Морриса–Джумеля или Дом Морриса в северной части Манхэттена. Он был построен в 1765 г. Роджером Моррисом, британским военным офицером. В архитектуре особняка гармонично соединились георгианский и палладианский стили. Двухэтажный дом имеет портик с четырьмя коринфскими колоннами, балконом и треугольным фронтоном с полуовальным окном.
В период с 14 сентября по 20 октября 1776 г. генерал Вашингтон использовал особняк в качестве своей временной штаб-квартиры после того, как его армия была вынуждена эвакуироваться с Бруклинских высот в результате поражения в битве при Лонг-Айленде. До сих пор бытует неподтвержденная легенда, что Вашингтон выбрал этот дом не только из-за его расположения, но и потому, что когда-то испытал романтические чувства к тогдашней хозяйке особняка Мэри Филипс.
После эвакуации Континентальной армии из Нью-Йорка дом стал штаб-квартирой британского генерал-лейтенанта сэра Генри Клинтона и командующего гессенскими войсками барона Вильгельма фон Книпхаузена. Поскольку семья Морриса относилась к лоялистам, дом был конфискован революционными властями. После революции в нем была таверна «Calumet Hall», а затем дом приобрел французский торговец Стефен Джумел284. В этом доме бывали А. Гамильтон, Дж. Адамс, Т. Джефферсон. После смерти С. Джумела его вдова вышла замуж за А. Бэрра285. Правда, незадолго до его смерти она с ним развелась.
Филадельфия славилась правильностью своей планировки. По распоряжению Пенна были проложены прямые продольные улицы, тянущиеся к реке Делавэр. Другие улицы шли параллельно реке, образуя регулярную сетку. Неудивительно, что Джон Дикинсон286, уроженец Филадельфии, был шокирован кривыми, часто узкими лондонскими улицами и чувствовал себя в столице империи, словно в самом глухом лесу287. Совершенно иное впечатление производил Нью-Йорк. Шведский путешественник рассказывал: «Улицы здесь не такие прямые, как в Филадельфии, а иногда и совсем кривые. Тем не менее, они очень просторны и хорошо застроены, и большинство из них вымощены, за исключением высоких мест, где это было сочтено бесполезным. На главных улицах высажены деревья, которые летом придают им прекрасный вид, а во время чрезмерной жары дают прохладную тень. Мне было чрезвычайно приятно гулять по городу, потому что он казался садом»288. Совсем не похоже на современные улицы Манхэттена, зажатые между небоскребами!
Городские улицы становились сценой для политического церемониала, карнавализованных шествий, праздничного ликования. Вот как описывал день св. Таммани289 в Филадельфии немецкий пастор: «В первый и второй день месяца мая в Филадельфии устраивают общее веселье, в нем участвуют главным образом холостяки и незамужние девушки. Все развлекаются играми, танцами, стрельбой, охотой и тому подобным. Холостяки-уроженцы здешнего края украшают голову кусочками меха какого-нибудь дикого животного… Молодые люди проходят по городу с криками “Ура! Ура!” Но никто не может прикрепить такой знак на шляпу, кроме рожденных в здешнем краю, и их называют “индейцами”»290.
Существовали и особые места для прогулок. В 1634 г. бостонцы выкупили ферму некого Уильяма Блэкстона, чтобы организовать там общинный участок – Бостон-Коммонс. Земля использовалась для выпаса городских коров, но там же прогуливались местные франты со своими «мармеладными мадам», как назвал их современник291. Как они делили пространство с пасущимися животными? Щеголи XVIII в. предпочитали гулять по бостонскому Моллу, чтобы «насладиться восхитительной эластичностью воздуха»292. А Коммонс стал местом массовых мероприятий. Здесь же стояли лагерем английские солдаты во время оккупации города.
Филадельфия могла похвастаться своими скверами. Еще Пенн, предвидя быстрый рост своего города, приказал освободить пять площадок под зеленые насаждения. Так было положено начало американской парковой системе293.
А еще «город братской любви»294 обрастал слободами – liberties (этимология здесь та же, что и в русском «слобода»). Северная слобода так же стара, как и сама Филадельфия. Она располагалась к северу от первоначальной городской границы. В XVII и XVIII веках здесь весело журчали ручьи, бегущие к реке Делавэр. Они давали ход колесам мельниц, моловших зерно или приводивших в движение станки текстильных мануфактур, и сделали слободу привлекательным местом для ранней американской промышленности. К югу от города лежала еще одна слобода – Холм Общества (Society Hill; между современными Уолнат-стрит и Ломбард-стрит). Эту территорию Пенн пожаловал Обществу вольных торговцев, откуда и название. Благодаря удобному доступу к реке Делавэр и гражданским зданиям Филадельфии, включая Индепенденс-холл, этот район быстро стал одним из самых густонаселенных. Несколько торговых залов, таверн и церквей были построены рядом с кирпичными домами богатых филадельфийцев.
Особенностью Бостона были «концы», точно в средневековом Новгороде. Мельничный ручей делил город пополам. Жители Северного и Южного концов, совсем как новгородские «кончанские», враждовали друг с другом. Кульминацией их стычек становился Папский день 5 ноября (так в Новой Англии называли день Гая Фокса295). В этот день весь Бостон приходил в движение. Даже мальчишки мастерили «пап» с головами из картофелин и ходили с ними по домам, выпрашивая сладости. Взрослые делали большие платформы (каждый конец свою), на которые водружали чучела папы римского, дьявола и непопулярных местных политиков. С севера и с юга процессии с платформами двигались к Мельничному мосту, где и встречались. В предвкушении схватки «кончанские» чернили или белили себе лица, в зависимости от естественного цвета кожи. Другие надевали «визарды» – овальные маски из черного бархата, похожие на венецианскую моретту и полностью закрывавшие лицо. С собой прихватывали палки и обломки кирпичей. И начиналась яростная схватка. Победители отбирали у соперников их «папу» и сжигали трофей вместе с собственной платформой. В 1765 г. противников примирила общая необходимость бороться против гербового сбора. Северный и Южный концы объединились и отпраздновали Папский день вместе296. Но судя по тому, что местные власти вынуждены были после этого принимать новые постановления против буйных развлечений «кончанских», гармония между ними продлилась недолго.
Время колоколов
Исследователи давно уже отметили, что время средневековой Европы – субъективно, конечно, – текло иначе, чем сейчас. В средние века жизнь соразмерялась с ритмом церковных служб и звоном колоколов. Различали «колокол жатвы», «колокол тушения огней», «колокол выгона в луга»297. Иное дело городское время. Бой часов на ратуше регулировал темп жизни города – то, что Жак Ле Гофф называл «временем купца», в противовес «времени церкви», отмеренному церковными колоколами298.
В Америке дело обстояло немного иначе. Немец Готлиб Миттельбергер удивлялся американской сельской местности, где ни одна церковь не имела колокольни: «Люди целый год не слышат колокольного звона или боя часов, и вновь прибывшим это кажется весьма унылым, особенно по ночам»299. Колокола были «привилегией» городов. Похоже, не имело особенного значения, были ли это церковные колокола или колокола на здании местного суда, ратуши либо стейтхауса. В газетах иногда писали обо «всех колоколах города», звонящих по тому или иному случаю. В Филадельфии это мог быть знаменитый Колокол Свободы, висевший в Индепенденс-холле. Он был выписан из Лондона для пенсильванской провинциальной ассамблеи. Колокол украшала гордая надпись: «Объявите свободу на земле всем жителям ее»300. Увы, он треснул при первой же попытке в него ударить и был заново перелит местными мастерами. Здесь тоже не обошлось без конфуза: перелитый колокол звонил глухо и неприятно, так что его пришлось переливать еще раз. Только в 1753 г. исправленный колокол торжественно занял свое место на колокольне стейтхауса.
Колоколами вообще дорожили. При приближении врага их старались увезти или спрятать. Континентальный конгресс особо беспокоился о том, чтобы филадельфийские колокола не достались англичанам301.
Колокольный звон сопровождал жизнь американских городов чуть ли не с момента их основания. Городские власти Бостона в 1664 г. приказали звонить в колокол в одиннадцать часов утра каждого рабочего дня, чтобы созвать торговцев на встречу «в течение часа» в комнате под ратушей302. По утрам по звону колокола открывались городские рынки, а вечерний колокол звал домой «мармеладных мадам» и их кавалеров. В Филадельфии, согласно распоряжению Пенна, по звону колокола можно было узнать часы работы и питания рабочих303.
Те же колокола звонили в неурочный час, рассказывая о радостных или печальных событиях. Колокол Свободы в 1760 г. радостным звоном оповестил филадельфийцев о коронации Георга III, а через 16 лет – о том, что США стали независимым государством. На голос колоколов выходили горожане в печальный день «бостонской бойни»304. Траурный, приглушенный звон встречал прибытие в Америку гербовых марок305 или выражал скорбь по умершим.
В сигналах колоколов иногда было нелегко разобраться. Новоанглийский издатель Джереми Белкнап под колокольный звон, отмечавший ратификацию федеральной Конституции, философствовал: «В подражание Джону Буллю мы шумим, как только можем, когда чувствуем радость. Я думаю, что колокольный звон – это северный способ выражения радости. Англия и Россия им славятся. Но какой неопределенный звук у колокола! [Он оглашает] пожар, смерть, радость, ужин, публичное богослужение, городские собрания и все, что бы ни происходило, и мы часто недоумеваем, для чего это. Когда во вторник на прошлой неделе в Мэриленде начался трезвон, люди побежали посмотреть, где горит! Так было, когда Коннектикут ратифицировал Конституцию»306.
Символическая политика: столпы свободы, деревья свободы, памятники
С началом антианглийских протестов изменилось и пространство, и время города. Общинные земли – Бостон-Коммонс или нью-йоркские «Поля» – превратились в место проведения митингов. Патриоты могли облюбовать для своих собраний и какое-нибудь здание. В Бостоне, например, это был Фанейл-холл, построенный на деньги торговца Питера Фанейла в 1742 г. На первом этаже шумел рынок, а на втором проводились танцевальные ассамблеи и звучали пламенные речи Сэмюэля Адамса и других защитников американских прав.
Центром притяжения для патриотов становились деревья свободы или столпы свободы. Пространство города структурировалось по-новому. Одним из символов организации «Сынов Свободы» и шире – символом антибританской борьбы – стал роскошный вяз в Бостоне. Это дерево было посажено в 1646 г., через 16 лет после основания колонии Массачусетского залива, в период Английской революции, что также имело особое значение для американских революционеров. Вяз стоял на единственной дороге, ведущей в Бостон, так что любой путешественник проезжал мимо него. В августе 1765 г. на его ветвях повесили чучело ненавистного сборщика гербового налога Эндрю Оливера. В руки чучела вложили табличку с рифмованной надписью: «Видела ли Новая Англия большую радость, чем гербовщик, повешенный на дереве!»307 Рядом болтался башмак с зеленой подошвой (намек на инициатора гербового сбора Дж. Гренвилла), из которого вылезал дьявол с вилами наперевес и текстом одиозного закона в лапе. В базарный день крестьяне, ехавшие в Бостон со своими товарами, должны были получать от чучела пародийный гербовый штамп. Позже чучело протащили по улицам города и сожгли вместе с новым домом Оливера308. Тори, конечно же, фыркали. С их точки зрения, поклонение «вязу, бесчувственному, бесплодному растению», призванному представлять богиню Свободы, было чистой воды идолопоклонством, сходным с поклонением Диане Эфесской309.
Виги же поместили на старый вяз медную табличку с лаконичной надписью золотыми буквами: «Древо свободы». Был назначен специальный комитет для ухода за растением. Изображения вяза распространялись по всей Новой Англии и даже за ее пределами.
Со временем «деревья свободы» появились и в других местах, от Род-Айленда до Южной Каролины. Это не обязательно были вязы, могли фигурировать деревья любых пород. В Аннаполисе, например, «древом свободы» стало тюльпанное дерево (оно достигало 124 футов высоты и было самым высоким из себе подобных), в Нью-Джерси – белый дуб. В Чарльстоне на эту роль выбрали «благороднейший дуб», формально посвященный Свободе группой городских ремесленников310.
Пространство под ветвями вяза получило у бостонцев полушутливое название «Зала свободы». Возле «древа свободы» весьма удачно располагалась винокурня; там в маленькой комнатке собирались бостонские «сыны свободы».
Там же патриоты могли искать спасения от преследований со стороны английских солдат. Под вязом они могли надеяться встретить единомышленников и найти помощь. Подобный случай описан в дневнике хирурга Дж. Тэтчера. Фермер, заподозренный в скупке оружия, был схвачен англичанами, обвалян в смоле и перьях и высечен. К счастью для него, солдаты провели его мимо «древа свободы», а там толпа патриотов отбила у англичан их жертву311.
После оккупации Бостона вяз был показательно срублен англичанами и пущен на дрова. Местная газета горевала: «После долгих стонов и ругательств, с пеной у рта, с дьявольской злобой они срубили дерево, потому что оно носило имя “Свободы”»312. Со временем сложилась легенда, что падающий ствол убил британского солдата313.
Та же участь, что и бостонский вяз, постигла южнокаролинское «древо свободы». Его срубили в 1780 г., во время британской оккупации Чарльстона. Вообще бóльшая часть подобных живых символов была со временем утрачена, хотя некоторые дожили почти до наших дней. Так, аннаполисское «древо свободы» – великолепное тюльпанное дерево – было уничтожено ураганом «Флойд» относительно недавно. С ним прощались торжественно, точно с национальным героем, под 13 ударов колокола, символизировавших 13 первых штатов. В продолжение традиции местные краеведы вырастили около 200 саженцев – прямых потомков мэрилендского «древа свободы» – и рассадили их по всему штату314. «Древо свободы» в городке Рэндольф (Нью-Джерси), вероятно, является одним из последних живых символов Американской революции.
В американской революционной символике «деревья свободы» соседствовали со «столпами свободы» (Liberty Poles). Обычно это были высокие сооружения (иногда выше самых высоких зданий в колониальных городах), сделанные из ствола дерева или из корабельной мачты. Как и «древо свободы», такой «столп» становился центром различных политических ритуалов, местом встреч, символическим объектом, за сохранение которого следовало бороться с местными английскими властями. На нем клеили политические листовки, возле него устраивали митинги.
Наиболее известный «столп свободы», вернее, ряд таких «столпов», сменявших друг друга, находился в Нью-Йорке. Первый из них был воздвигнут на Чемберс-стрит в честь отмены гербового сбора и украшен надписью «Король, Питт и свобода»315. Верноподданническая эмблема не защитила «столп» – через несколько месяцев его срубили солдаты английского гарнизона. Та же участь постигла второй и третий «столпы», воздвигнутые ньюйоркцами. В 1767 г. «сыны свободы» создали на редкость прочное сооружение, укрепленное железными обручами. Англичане попытались срубить, а затем и взорвать «столп», но конструкция выдержала. Американцы выставили вокруг «столпа» стражу, несколько ночей отбивавшую нападения солдат гарнизона. Затем губернатор постарался утихомирить страсти, велев гарнизону оставить «столп» в покое. Три года прошло вполне мирно, но 19 января 1770 г. развернулись события, известные как «битва на Голден-хилл». За несколько дней до этого солдаты вновь предприняли несколько попыток уничтожить «столп свободы». На третью ночь им это удалось: «столп» спилили у основания и распилили на части. Обломки разбросали перед таверной Монтаньи на Бродвее, где любили собираться «сыны свободы». В ответ на оскорбление 3 тыс. ньюйоркцев собрались на общинном лугу и приняли резкие резолюции против гарнизона. Наконец, 19 января нью-йоркский радикал Айзек Сиэрс и «сыны свободы» попытались помешать солдатам расклеивать лоялистские листовки. Они взяли в плен нескольких солдат; остальные англичане пытались укрыться в казармах. По пути их окружила толпа; это случилось на Голден-хилл. Офицер приказал солдатам примкнуть штыки и прорубиться сквозь толпу. В последующей потасовке несколько человек было ранено, один из них смертельно316. 6 февраля на старом месте торжественно водрузили новый «столп свободы». Он представлял собой корабельную мачту в 12 футов высотой и был на две трети укреплен железными обручами. Позолоченная табличка на верхушке гласила: «Свобода и собственность»317.
Простодушный герой «Контраста» (1787) Джонатан пересказывал свои впечатления от памятников Нью-Йорка: «О! Там прекрасных зрелищ прямо силища. Я пошел посмотреть на двух мраморных людей и свинцовую лошадь, она там стоит на улице в любую погоду. Пришел я туда, а у одного не было головы, а другого вовсе не было. Говорили, будто свинцовый человек был проклятым тори и будто он разозлился да уехал во время смуты»318. «Свинцовый человек», «проклятый тори» – это не кто иной, как его величество Георг III, чья конная статуя какое-то время высилась в парке Боулинг-Грин. Ньюйоркцы, собственно, хотели воздвигнуть памятник Питту-старшему (и воздвигли). Но городские власти решили политически неправильным ставить статую королевского министра в городе, где не было статуи короля. И Нью-Йорк получил сразу два монумента. Оба были созданы английским скульптором Джозефом Уилтоном. Король был представлен по образцу конной статуи Марка Аврелия в Риме. Но, на его беду, 9 июля 1776 г. в Нью-Йорк пришла весть о провозглашении независимости США. По приказу Вашингтона Декларация независимости была прочитана собравшимся солдатам и горожанам. Сотни людей слушали пламенные слова Джефферсона: «История правления ныне царствующего короля Великобритании – это набор бесчисленных несправедливостей и насилий, непосредственной целью которых является установление неограниченного деспотизма»319. Ньюйоркцы свергли Георга III с пьедестала и обезглавили статую. Кто-то из присутствовавших цитировал слова Мильтона о Люцифере: «Ты ль предо мною? О, как низко пал!»320 Позже статуя была перелита на пули для Континентальной армии. Отрубленная голова короля демонстрировалась в одной из таверн Манхэттена, а потом лоялисты отослали ее в Англию321.
Не менее драматичной была история памятника Уильяму Питту, который во времена «Контраста» красовался без головы. Уильям Питт-старший, «Великий коммонер», заслужил благодарность американцев, заступившись за них во время конфликта вокруг гербового сбора. В 1770 г. его статуи появились в Нью-Йорке и Чарльстоне. Обе они пострадали в ходе Войны за независимость. Флаг над чарльстонской статуей был украшен девизом «Питт и свобода»; надпись на пьедестале возвещала о заслугах Питта перед Америкой. Колониальная ассамблея приняла решение воздвигнуть статую на перекрестке самых длинных и широких улиц Чарльстона, рядом с церковью, рынком и стейтхаусом. Во время революции вокруг пьедестала организовывали протесты против Чайного акта, празднование Дня Пальметто (отмечающего местную победу над британскими войсками). В 1774 г. у ног Питта была устроена сцена с изображениями папы римского и дьявола; там подвижные фигуры кланялись униженным лоялистам322. Статую и сейчас можно видеть в городском музее. Отбитые руки мраморного коммонера – память об английской бомбардировке Чарльстона в 1780 г. Статуя Питта-старшего в Нью-Йорке стояла на перекрестке Уолл-стрит и Уильям-стрит. В 1776 г. англичане, оккупировавшие город, обезглавили памятник и отрубили ему руки в отместку за защиту колонистов.
Со временем появлялись и другие памятные места, связанные с революцией. Маркизе де ла Тур американские друзья устроили целую экскурсию по Бостону. Ей показали гавань, где происходило «чаепитие»; «красивую лужайку», где состоялось первое сражение Войны за независимость, а также монумент на Бикон-хилл, воздвигнутый в честь патриотов, – дорическую колонну, увенчанную золоченым орлом323. Маркиза не уточнила, понравилась ли ей колонна – творение архитектора Чарльза Булфинча. По мнению массачусетского торговца Натаниэля Каттинга, памятник напоминал «грошовую свечу в большом подсвечнике на алтаре какой-нибудь римско-католической церкви»324.
Городские службы
Проблемы, с которыми приходится сталкиваться властям любого города, не слишком изменились с XVIII в.: ремонт мостовых, вывоз мусора, освещение улиц, борьба с пожарами. Жалобы горожан на состояние коммунального хозяйства тоже изменились мало.
Настоящей головной болью было состояние мостовых. Бостонские власти бдительно следили за тем, чтобы тяжелые подводы не разбили дорожное полотно. В 1727 г. особый указ запретил въезд на улицы повозкам длиной более шестнадцати футов или с шинами шириной менее четырех дюймов. Груз не мог превышать тонны. В Нью-Йорке дорожные работы возложили на самих горожан. В 1731 г., в соответствии с новой хартией, мэр и общий совет приняли постановление, требующее, чтобы все жители мостили дорогу перед своими домами и содержали свои улицы в хорошем состоянии325.
Непролазная грязь была частым явлением. Конгрессмен от Нью-Гэмпшира Мэтью Торнтон не скрывал сарказма, приглашая коллегу в Балтимор: «Приезжайте в этот город, где человек в сапогах имеет очень большое преимущество перед человеком в туфлях, экипажи увязают в болоте посреди улицы, а дамы в шелковых платьях и туфельках выглядят смешно»326. Развалившаяся в луже посреди дороги свинья тоже никого не удивляла. По крайней мере, Хартфорд (Коннектикут), а также Фредериксберг и Урбана в Виргинии были вынуждены принять специальные постановления, запрещавшие свиньям свободно бродить по городским улицам327. Американские города XVIII века не так уж сильно отличались от гоголевского Миргорода!
На общем фоне выделялась Филадельфия. Делегат Конгресса из Нью-Йорка восхищался: «Мы ходим здесь без малейших затруднений в чистой обуви по тротуарам, чистым, как пол в доме»328. Уборка улиц в пенсильванской столице началась по инициативе неугомонного Бенджамина Франклина. Он нашел бедняка, готового работать дворником дважды в неделю за плату в шесть пенсов с дома. Затем напечатал статью о выгодах подметания улиц и принялся агитировать соседей. Возле рынка, где жил тогда Франклин, воцарилась чистота. Место было бойкое, и вскоре в других районах города тоже начали вводить у себя новую систему329.
В 1762 г. подключились местные власти, приняв специальный акт о состоянии улиц330. Было постановлено избирать специальных чиновников, которые наблюдали за качеством мостовой и чистотой улиц. Более того, каждую пятницу (если не мешали дождь и снег) по городу проезжала телега, собиравшая и вывозившая мусор. Трудно сказать, насколько этот акт работал. Как уже говорилось выше, многие хвалили чистоту Филадельфии. Но, возможно, были некоторые основания и у сатирика, поместившего в «Pennsylvania Gazette» юмористический диалог Пса и Кота. Простодушный Пес удивлялся: «Уверен, что есть закон об уборке и мощении улиц Филадельфии. Для этой цели собирают довольно высокий налог. Помню, хозяин проклинал все на свете, когда его платил. Куда только идут эти деньги?» Саркастический Кот отвечал: домохозяева выбрасывают на улицу мусор, кости, перья, устричные раковины, так что мостовые покрыты трех-четырехдюймовым слоем грязи. Зато экипажи плавно катятся по мягким отходам и не беспокоят горожан стуком колес!331 Традиционно для стока нечистот в Филадельфии служил ручей Док-крик, уносивший их в реку Делавэр. Ручей этот поначалу был облюбован Уильямом Пенном под гавань, но ее так и не построили. В 1763 г., по отзывам горожан, Док-крик представлял собой «вместилище для трупов мертвых собак, а также другой падали и нечистот различных видов, которые, будучи выставлены на солнце и воздух, разлагаются и становятся чрезвычайно неприятными и вредными для здоровья жителей»332. В заболоченном устье ручья гнездились москиты, пока в 1784 г. он не был закрыт кирпичным сводом.
Современный вид ручья Док-крик в Филадельфии. Фото автора В XVIII в. ручей Док-крик служил для стока городских нечистот
В темное время суток зажигалось городское освещение, но только в самых крупных городах. Дженет Шоу шла по улицам Уилмингтона (Северная Каролина) при свете фонаря, который несла чернокожая служанка. Уличное освещение в Филадельфии было введено тем же Бенджамином Франклином. Уличные фонари той эпохи представляли собой свечи, помещенные в стеклянный сосуд, чтобы не задуло ветром. Франклин предложил делать стеклянную часть четырехгранной, с четырьмя отдельными стеклами, так что, если одно стекло разбивалось, фонарь не нужно было полностью заменять. За их постоянной работой следили фонарщики. За повреждение фонарей вводился внушительный штраф в 40 шиллингов333. Более прогрессивные виды освещения стали появляться в США на рубеже XVIII–XIX вв. Нью-йоркский Воксхолл, открывшийся в 1793 г., освещался английской новинкой – полутысячей газовых ламп334.
Грязные и темные улицы могли создавать неудобства, но пожары грозили обернуться катастрофой. Пожарная служба появилась в Америке довольно рано. Бостон завел ее у себя в 1678 г. Город назначил группу пожарных, каждый из которых отвечал за эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования, закрепленного за определенным районом города. Дед и прадед писателя Германа Мелвилла служили в бостонской пожарной охране. В 1799 г. впервые был использован кожаный пожарный шланг, импортированный из Англии. Филадельфия немного отстала от новоанглийцев. Объединенная пожарная компания (франклиновская ведерная бригада) была образована 7 декабря 1736 г. после серии публикаций Франклина и других неравнодушных граждан, печатавших на страницах «Pennsylvania Gazette» призывы более эффективно бороться с огнем.
Увы, примитивная техника была бессильна перед действительно серьезным пожаром, вроде того, какой опустошил Бостон в марте 1760 г. «Maryland Gazette» отзывалась о событии как об «ужаснейшем пожаре, какой только случался в этом городе, а возможно, и в любой другой части Северной Америки»335. 17 марта огонь повредил несколько зданий, в том числе деревянный молельный дом, который стоял на месте нынешней Старой западной церкви. На следующий день пожар вспыхнул в здании, занимаемом Королевской артиллерией на пристани Гриффина, и вскоре распространился на запасы пороха и оружия. Последовал взрыв, который разрушил здание и ранил четыре или пять человек. Около двухсот двадцати семей − более тысячи человек − остались без крова. Имущественные потери в размере 53 334 фунтов стерлингов сильно ударили по городу, который уже «понес чрезвычайные расходы» в результате продолжающейся Семилетней войны. С другой стороны, человеческие жертвы в результате пожара были относительно невелики, никто не погиб и было лишь несколько раненых. Письмо из Бостона, опубликованное в «Maryland Gazette», передавало ужас и беспомощность горожан: «Пламя восторжествовало над нашими машинами, нашим искусством и нашей многочисленностью. Несчастные, чьи дома пожирал огонь, едва знали, где укрыться от быстро распространяющегося пламени»336.
Свет, вода, тепло
О городском освещении мы уже немного поговорили. Освещение домов не предусматривало высоких технологий. В домах американцев горели свечи либо лампы со спермацетовым маслом или ворванью. «Лучшие спермацетовые свечи, гарантированно чистые» можно было купить у Джона Лэнгдона на бостонской Флит-стрит. Он же продавал сальные свечи и свечи из восковницы337. Дженет Шоу рассказывала: «Они дают очень приятный свет и, помещенные в серебряный подсвечник, выглядят очень красиво»338.
Свечи использовались не только для освещения. Непременным атрибутом любого торжества были транспаранты (transparencies, букв. «прозрачные») – изображения популярных политиков или аллегорических фигур. Они делались на промасленной бумаге и подсвечивались сзади. Это могли быть довольно крупные и эффектные сооружения, но их использование было небезопасно. По случаю завершения Войны за независимость в Филадельфии была воздвигнута арка в таком стиле. Стараниями художника Чарльза Уилсона Пила339 она была расписана революционными сценами и подсвечена изнутри. Среди прочих изображений было дерево с тринадцатью плодоносными ветвями; Вашингтон в образе Цинцинната, идущего за плугом; храм Януса, запертый, как и полагалось при заключении мира, с девизом: «Numine favente magnus ab integro saeculorum nascitur ordo»340 341. Предполагалась также торжественная процессия и фейерверк. К несчастью, зрелище завершилось катастрофой. Фейерверочные ракеты взорвались все сразу, ранили нескольких зрителей и подожгли арку. Пил, находившийся в это время на верхушке своей конструкции, упал, сломал несколько ребер и получил серьезные ожоги342. Говернер Моррис343 довольно зло издевался над всем этим: «Представление оказалось бы смехотворным, если бы не смерть одного из зрителей и раны других… Если те, кто его планировал, намеревались поджечь город, их изобретение было гениально. Только представьте большую деревянную конструкцию, возведенную посреди улицы, с натянутым на нее холстом, несколькими фонарями внутри, и никаких предосторожностей против огня»344.
Прогуливаясь по Филадельфии вечером 4 июля 1777 г., Джон Адамс отметил, что на окнах всех домов горят свечи, освещая революционный праздник; лишь несколько мрачных зданий оставались неосвещенными345. Темными оставались окна лоялистов, у которых не было повода отмечать годовщину независимости. Такой демонстративный нонконформизм, впрочем, был чреват неприятностями. Квакерше Анне Роул пришлось натерпеться страху в тот день, когда Филадельфия праздновала капитуляцию Корнуоллиса346. Ее темные окна привлекли внимание взбудораженной толпы. Хулиганы сломали ставни, разбили стекла и начали ломиться в дом. Дело могло принять дурной оборот, но случившиеся кстати доброжелатели посоветовали Анне зажечь свечи в окнах. Толпа тут же успокоилась, и звон разбиваемых стекол сменился троекратным «ура!»347
Воду для питья, приготовления пищи и всего прочего брали обычно из колодца или помпы. Об этих важных усовершенствованиях обязательно упоминалось при рекламе дома для продажи или сдачи в аренду. В Бостоне в одном из домов, «приятно расположенных» близ «древа свободы», был колодец даже с двумя помпами348. В отличие от европейских современников, американцы не жаловали речную воду, тем более что в реки стекали городские нечистоты.
Хорошей водой славилась Филадельфия. А вот в Нью-Йорке вода городских помп и колодцев была скверного качества. По впечатлениям шведа Петера Кальма, ее отказывались пить даже лошади приезжих. Накануне Войны за независимость возник проект создания резервуара свежей воды, из которого можно было бы снабжать несколько улиц при помощи помпы с паровым двигателем и деревянных труб. Однако война помешала реализации амбициозного замысла349. На фоне остальных славилась «помпа с чайной водой» в нижнем Манхэттене. Считалось, что на ее воде получается самый лучший чай. Специальные водовозы развозили воду по городу и продавали по три-четыре пенса за хогсхед (140 галлонов). Такая система укоренилась в Нью-Йорке после серии разрушительных пожаров 1741 г., в которых винили темнокожих рабов. Доктор Гамильтон350 пояснял: «Специальные люди были назначены продавать на улицах воду, которую привозят на санях в больших бочках из лучших источников в городе, потому что именно тогда, когда негры ходили за водой для чая, они строили свой заговор. Так что теперь есть закон, что ни один негр не должен появляться на улицах без фонаря после наступления темноты»351.
Наконец, отопление. В XVII–XVIII вв. проходила третья, наиболее холодная фаза малого ледникового периода. Зимы были суровыми, замерзала даже Адриатика. Северная Америка мерзла не меньше. По расчетам Бенджамина Франклина, в Пенсильвании приходилось отапливать дом семь месяцев в году, то есть с начала октября до конца апреля, а иногда отопительный сезон захватывал часть сентября и мая352. Колонисты английского происхождения предпочитали большие открытые камины, хотя они дымили и не обеспечивали равномерного поступления тепла. Если вы сидели возле огня, один бок у вас поджаривался, а другой замерзал353. Голландцы и немцы привезли с собой в Америку железные печи наподобие российских «буржуек». Такие приспособления требовали меньше топлива и лучше прогревали комнату, но Франклин их забраковал. В этих печах огонь горел за закрытой дверцей, и, как отмечал философ, «по этим причинам голландская печь не получила большого распространения среди англичан (которые любят смотреть на пламя)»354.
Хитроумный Франклин предложил потребителям собственное детище – компактный чугунный камин, сконструированный таким образом, чтобы уменьшить потери тепла. По утверждению изобретателя, его камин грел так хорошо, что отныне можно было читать или шить у окна, а не жаться к огню. Тяга здесь не была такой сильной, как в старомодных каминах с прямым широким дымоходом, так что потери тепла были меньше355.
Последнее было немаловажно. Казалось бы, в Америке, с ее бескрайними чащобами, не должно было быть недостатка в топливе. Но на самом деле леса вокруг городов были сведены уже в первой половине XVIII в. Зимой 1726 г. в Бостон ежедневно привозили более пятисот телег дров. Они продавались по 51 шиллингу за вязанку356. Во второй половине века цены еще повысились, и баронесса Ридезель суровой зимой в Нью-Йорке просто не знала, как согреть дом: «Конечно, мы получали купоны на дрова, но какой от них толк, если взять дрова было неоткуда? Часто нам приходилось одалживать дрова у генерала Трайона357 на субботу и воскресенье и отдавать их в понедельник, если мы получали какие-то свои. Холод был таким жестоким, что я часто оставляла детей в постелях, и зачастую дров было не купить ни за какие деньги, а когда они продавались, то стоили по десять фунтов за корд358… Бедняки жгли свиное сало, чтобы согревать руки и на нем готовить»359.
После 1730-го богатые бостонцы перешли на отопление углем, подражая лондонцам. Этот уголь, как подсказывают рекламные объявления, привозили из Ньюкасла, Суонси или Уэльса. В 1735 г. Новая Англия импортировала 1 700 мер360 английского угля, большая часть которого шла в Бостон361. Бостонские власти старались завезти уголь на продажу в летнее время, когда его цена была ниже.
Пространство дома
Типичная застройка XVIII в. – т.наз. «рядные дома» (row houses), имеющие общие боковые стены, но отдельные входы. Первые образцы такой застройки – ее называют также блокированной – появились в Лондоне после Великого пожара 1666 г. Такие же городские дома строились и в Новом Свете. Самые ранние рядные дома около 1691 г. составили Баддс-Роу в Филадельфии. В них использовалась средневековая полудеревянная конструкция, которая позже была запрещена из-за своей пожароопасности. Простейший из них – дом-«коробка» (bandbox). Он обычно не превышает шестнадцати футов в длину и ширину, с одной комнатой на каждом этаже, которых два или три. Этажи соединяет закрытая винтовая лестница. Уборные, или «надобности» (necessaries), обычно находились в задней части двора. Рядные дома, но уже георгианского и федерального стиля, сложенные из кирпича, до сих пор можно видеть в исторической части Филадельфии или Бостона. Историческая часть Нью-Йорка не сохранилась, но о ней можно составить представление по описаниям вроде того, какое оставила в начале XVIII в. путешественница-новоанглийка: «Здания, как правило, очень величественные и высокие, хотя и не совсем такие, как у нас в Бостоне. Кирпичи в некоторых домах разноцветные и уложены в шахматном порядке; они покрыты глазурью и смотрятся очень приятно. Внутри дома восхитительно аккуратны»362.
Наглядное представление о типичном каменном доме на Юге XVIII столетия дает Старый каменный дом (Old Stone House), сохранившийся в Джорджтауне, в то время процветающем торговом городе Виргинии, позже слившемся с Вашингтоном. Он заложен в 1765 г. представителями среднего класса семейством Чью (Chew). Дом построен из местного камня, добытого недалеко от реки Потомак. Толщина стен колеблется от двух до трех футов (60–90 см). Дуб, использовавшийся при строительстве, был срублен в лесах, росших когда-то в Джорджтауне. Крыша покрыта черепицей. Стены кухни и камин выложены из камней неправильной формы, которые скреплены раствором, состоящим из песка, извести, золы и воды. Очаг на кухне достаточно большой, чтобы обогревать весь дом. Кухня располагается на первом этаже.
Рядная застройка начала XIX в. в Филадельфии. Фото автора
Архитектура второго этажа значительно отличается от первого, поскольку Чью могли позволить себе строительный материал более высокого качества. Внутренняя лестница предназначалась для членов семьи и гостей, внешняя – для слуг и мелких торговцев-поставщиков. На этом этаже расположены три комнаты: столовая, спальня и гостиная. Коридор между столовой и двумя передними комнатами имеет высокий потолок, обеспечивавший достаточно воздуха жарким виргинским летом. Стены второго этажа были оштукатурены и покрашены. В столовой был устроен кухонный лифт, скрытый встроенным сосновым шкафом, чтобы доставлять еду из кухни внизу. Третий этаж был частным помещением. Он был завершен около 1790 г. Он намного проще, чем второй этаж, с незаконченной обшивкой панелями и неокрашенными стенами. На этом этаже три комнаты, предположительно детские спальни и кладовая. К спальне на третьем этаже примыкает шкаф-купе, что является необычной особенностью колониальных домов XVIII в. Говорят, что в британской Северной Америке существовал «налог на шкафы», и поэтому колонисты старались обходиться без таковых. На самом деле нет никаких свидетельств того, что колониальные правительства взимали подобный налог. Редкость шкафов была в значительной степени обусловлена тем, что у большинства людей того времени было не слишком много одежды, а значит, меньше потребность в специальной мебели для ее хранения.
Возле дома – небольшой сад с розами и многолетними растениями, окруженный белым штакетником363.
Внутреннее пространство типичного дома имело вертикальное членение. Кухня, погреба, ледник для хранения продуктов располагались в подвальных помещениях. На первом этаже – столовая и гостиная, а на верхних этажах – спальни. Кухня противопоставлялась гостиной как наименее престижное помещение. Нарушать границу между ней и «господскими» комнатами без веской причины не разрешалось. Когда в романе Х.Г. Брекенриджа «Современное рыцарство» (1792) слуга Тиг забирается в спальню и самовольно укладывается на перину, да еще под пологом, его хозяин считает такое поведение «бесстыдством»364.
Гостиная в зажиточном доме не предназначалась для семейного времяпровождения. Сюда приглашали гостей для чаепития, беседы, игры в карты. Здесь же устраивали свои приемы хозяйки салонов (настоящих салонов в американских домах не было). Гостиная принадлежала к официальной части дома, отделенной от приватной части, где обычно и жила семья. Наличие в доме такой комнаты само по себе было признаком статуса и частью жантильного образа жизни. Таким же публичным пространством мог становиться сад. Готлиб Миттельбергер живо описывал американскую гостиную и одновременно комментировал непривычный для него обычай пожимать руки всем, кто находился в комнате: «Такое приветствие пожатием рук обыкновенно при встрече с незнакомцами, как и среди самых близких друзей. Они обращаются друг к другу: “Как поживаешь, добрый друг?” И отвечают: “Так себе”»365. Совсем не похоже на заученные улыбки современных американцев!
Спальня, напротив, была самым приватным помещением в доме. Здесь можно было спокойно привести себя в порядок, выпить первую утреннюю чашку чая, написать письмо – ну, и выспаться, конечно. Для большей интимности можно было поставить у постели выгородку с дверцами, как сделал Джефферсон366. Войти сюда без спросу было предельной наглостью. Недаром нью-йоркский антифедералист, стараясь напугать сограждан ужасами неограниченной власти, завершал так: «Эта власть… будет входить в дом каждого джентльмена, следить за его погребом, прислуживать его повару на кухне, следовать за слугами в гостиную, председательствовать за столом и записывать все, что он ест или пьет; она будет сопровождать его в спальню и наблюдать за ним, пока он спит»367.
Стены обивали тканью или, по самой свежей моде, оклеивали обоями. Недаром именно бумажные обои выбрали для президентского особняка в Нью-Йорке. Такие начал выпускать после революции Джозеф Хови из Бостона.
Элегантная мебель делалась из красного дерева и черного ореха. Во второй половине XVIII в. городские дома стали более комфортными, и это отразилось на интерьерах. Жантильная обстановка Фрэнсиса Бернарда, продававшаяся с аукциона летом 1770 г., включала среди прочего турецкие ковры и три стола, образующие подкову, чтобы зимой можно было поставить между ними жаровню368. Обстановка дома джентльмена, описанная в другом объявлении, включала мебель из красного дерева, превосходные часы с восьмидневным заводом, элегантные картины, фарфоровую посуду, книги лучших авторов369.
Эдвард Лэмсон Генри. Черновик письма. Не позднее 1913 г.
Виден характерный для XVIII в. интерьер: кровать с пологом, комод «ящик-на-ящике», окна со ставнями. На даме модное платье со «складкой Ватто». Она нагревает на свече сургуч, чтобы запечатать письмо.
На меблировку влияли и региональные различия (например, комоды были популярны на Севере, но почти не встречались на Юге), и политические. Лоялисты более внимательно, чем патриоты, отслеживали последние европейские тренды. Так, нью-йоркские ремесленники удовлетворяли лоялистские симпатии своих заказчиков, воспроизводя английские формы, такие как высокий комод «ящик-на-ящике» или ломберный столик с пятью ножками. У такого столика задняя ножка сдвигалась, открывая ящичек для карт. Гнутые ножки отделывались листьями аканфа и опирались на когтистые «лапы», сжимающие шары. Напротив, мебель в собственно американском вкусе делалась в Ньюпорте (Род-Айленд). Под руководством семей Таунсенд и Годдард ньюпортские краснодеревщики разработали особый местный стиль блочно-корпусной мебели, не имевший европейских аналогов. Шкаф или бюро визуально членились на три части, средняя из них часто оформлялась аркой, а боковые – резными раковинами. В таком стиле делались комоды, бюро, книжные шкафы, напольные часы и т.п.370
С победой революции в интерьере восторжествовал т.наз. «федеральный» стиль. На него повлияли работы шотландского мастера Роберта Адама, который, в свою очередь, вдохновлялся образцами из Помпей и Геркуланума. Изящные завитушки рококо были уже не в моде. Изделия в федеральном стиле отличались резко геометрическими формами, прямыми, а не изогнутыми ножками, контрастным шпоном и геометрическими узорами инкрустации на плоских поверхностях. Живописные мотивы, когда они использовались, включали федеральные символы, такие, как американский орел или портрет Дж. Вашингтона. Русский путешественник П.П. Свиньин писал в начале XIX в.: «Надобно знать, что изображение Вашингтона всякий американский житель почитает священным долгом иметь в своем доме не менее как образа угодников Божиих! Он любит видеть перед собою образ того, кому обязан своею вольностию, счастьем и богатством»371.
Американцы вообще охотно помещали в своих домах вещи, напоминавшие о победоносной войне и революционном обновлении страны. Свидетельством их вкусов может служить сохранившийся с 1785 г. хлопково-льняной полог для кровати, известный под названием «Апофеоз Франклина и Вашингтона». Изображенного там Франклина увлекают за собой Минерва и Свобода, а Вашингтон представлен в триумфальной колеснице. На заднем плане – сражение при Банкер-Хилле, а сбоку – «древо свободы» с прикрепленной к нему потрепанной, перевернутой копией ненавистного Гербового закона. Декоративный узор изображает переплетение дубовых и сосновых ветвей. Дуб представляет «древо свободы», которое было центром революционных демонстраций в Бостоне (хотя на самом деле это был вяз). Сосна – еще один часто используемый символ в Массачусетсе, появляющийся как на монетах штата, так и на ранней версии его флага372. Курьезная подробность: полог был сделан… в Англии. Политический контроль над бывшими колониями был потерян, но английские мануфактуристы были полны решимости не упускать хотя бы американский рынок. И старались учесть вкусы потребителей, даже если для этого нужно было воспроизводить символику недавних врагов. Никакой политики – это бизнес!
Говоря о пространстве дома в век Просвещения, нельзя не сказать и о технической новинке эпохи – о громоотводе, изобретенном Бенджамином Франклином в 1752 г. Для пропаганды изобретения газеты охотно писали о последствиях удара молнии, которых отныне можно было избежать. Не отставала и реклама. «Электрические стержни» всех сортов можно было купить на Саммер-стрит в Бостоне373. В 1790-х гг. путешественник уже видел громоотводы на большинстве американских домов374. Полезное усовершенствование дошло и до Европы. Но конфликт восставших североамериканских колоний с бывшей метрополией затрагивал самые неожиданные сферы. Например, вопрос о том, какова оптимальная форма громоотводов. Король Георг III использовал изобретение Франклина у себя в Букингемском дворце. Но ведь Франклин – лидер тех самых американских бунтовщиков! Как же может английский король пользоваться его наработками? Георг вышел из положения: он приказал вместо «острых, как иголка» американских моделей поставить закругленные375. Острые на язык лондонцы встретили инициативу своего короля эпиграммой:
- Не разобравшись в таинствах природы,
- Но в пику главарю мятежных сил,
- Георг, ты притупил громоотводы,
- Тогда как их Бен Франклин заострил.
- Для Англии провал тут вышел полный;
- Американец был мудрее нас:
- Он заострил их для отвода молний,
- Ты притупил их для отвода глаз376.
Апофеоз Вашингтона и Франклина. Полог для кровати. Англия, ок. 1785 г.
Полог сделан в Великобритании, но рассчитан на американского потребителя. Вашингтон едет в триумфальной колеснице. Франклин в сопровождении богини с фригийским колпаком – символом свободы – идет к храму Славы.
Глава 4. За пределами городов
Такая разная сельская Америка. Сельские дома. Маунт-Вернон. Индейские войны. Фермеры бунтуют
Такая разная сельская Америка
Какими бы крошечными ни были американские «мегаполисы», все же они обладали чисто городским обаянием. Здесь кипела жизнь, здесь открывались ворота в большой мир. Но философски настроенные авторы XVIII в., как один, искали свой идеал за пределами городов. Америка, с этой точки зрения, была к идеалу близка. Характерна фраза М.Г.Ж. Кревкера, француза, осевшего в Нью-Йорке: «Европеец приехал на новый континент: ему предлагается лицезреть новейшее общество, подобного коему он никогда доселе не видывал. Оно не состоит из господ, которые владеют всем, и людского стада, которое не владеет ничем, как в Европе… От Новой Шотландии и до Западной Флориды, за исключением нескольких городов, мы все – землепашцы»377. Самодостаточные, энергичные, независимые фермеры-«йомены» – именно в них «отцы-основатели» видели главную опору республики. Сельская жизнь считалась источником гражданской добродетели. К этому добавлялось восхищение близостью к природе, которую можно найти только в сельском уединении. Джон Адамс посвящал своей ферме в Брейнтри прочувствованные строки: «Думаю, никогда не было большего контраста, чем я вижу между шумом и суетой Куин-стрит и сладостным уединением, которым я наслаждаюсь здесь. Никакие клиенты не донимают меня, политики не мешают мне, тори не раздражают, тираны не правят мной. Я чуть не сказал, что никакие дьяволы меня не соблазняют и не мучают»378. Те же чувства разделяла скромная уроженка Нантакета Фиби Фолджер Коулмэн. В юности она вела записную книжку. Девушки XVIII столетия вносили в такие книжки все подряд: рисунки, сердечные излияния подружек, строчки любимых поэтов. Фиби же записывала стихи собственного сочинения, воспевая прелести одиночества:
- От оживленной сцены мира
- Вдали ищу уединенья.
- И улыбается природа
- Над скромною моею сенью.
- Я черпаю в ее покое
- Восторги тихого мечтанья,
- В поэзию я погружаюсь
- И древних мудрецов писанья379.
Такие писатели, как Томас Джефферсон и Кревкер, восхищались фермером-йоменом за его честное трудолюбие, независимость, дух равенства, способность наслаждаться простым изобилием. Сам же фермер в большинстве случаев стремился зарабатывать деньги, и та самодостаточность, которой он действительно располагал, обычно была навязана ему отсутствием транспорта и рынков или необходимостью экономить наличные деньги для расширения своей деятельности.
Типичным фермерским регионом была Новая Англия. Ее каменистые, малоплодородные почвы не позволяли развернуться крупным землевладельцам. Новоанглийская ферма была семейным хозяйством. Фермер и его домочадцы возделывали землю, разводили скот, занимались огородничеством, сбором лесных ягод и лекарственных трав, бортничеством, рыбной ловлей, охотой. На фермах побогаче мог использоваться труд кабальных слуг-сервентов. Жизнь на ферме начиналась до восхода солнца. Обязанности по хозяйству были многочисленны и разнообразны: рубка дров, кормление животных и птиц, расчистка земель, уход за посевами, строительство заборов и подсобных строений, изготовление мебели и инструментов, сбор яиц, прядение, ткачество, пошив и починка одежды, изготовление свечей и мыла, пивоварение и приготовление сидра, готовка еды, кипячение и стирка белья, уборка и уход за детьми.
В особых случаях, когда одной семье было не справиться, на помощь приходили соседи. Тогда устраивали что-то вроде русской толоки. «Всем миром» рубили деревья, расчищая новое поле, строили амбары, мастерили стеганые одеяла, лущили кукурузу. Очень близки к таким толокам и прядильные посиделки революционной эпохи. Совместный труд носил название «посиделок» (bees) или «забав» (frolicks) и сочетал в себе работу с развлечениями. Маркиза де ла Тур описывала «забавы», которые устраивала у себя на ферме в штате Нью-Йорк: «Прежде всего подметают пол в амбаре так тщательно, словно собираются задать там бал. Потом, с наступлением вечера, зажигают несколько свечей, и собравшиеся, человек тридцать чернокожих и белых, берутся за работу. Кто-то один постоянно поет или рассказывает истории. В середине ночи каждому подают кружку вскипяченного молока, в которое перед тем влили сидра, чтобы оно свернулось. Туда добавляют еще пять или шесть фунтов сахара-сырца, если хозяева особенно щедрые, а если нет, так патоки, и пряности: гвоздику, корицу, мускатный орех и прочее. Наши работники употребили этой смеси, к большой нашей славе, огромный котел, используемый обычно для стирки белья, заели гренками и ушли от нас в 5 часов утра в уже довольно сильный холод, приговаривая: “Famous good people, those from the old country!” (Очень славные эти люди из старой страны!)»380 Если кому-то попадался кривой початок, раздавался общий смех, а тот или та, в чьем початке оказывались красные зерна, могли потребовать поцелуя от любого из присутствующих.
Большим событием становилась сельская ярмарка. Женщины устраивали конкурс на лучший пирог, варенье или стеганое одеяло. Мужчины состязались в стрельбе из лука или борьбе, а также определяли, кто сумел вырастить самую упитанную свинью или самую большую тыкву. Были и другие традиционные затеи: залезть на смазанный маслом шест, поймать свинью или быстрее всех съесть пирог. Большинство ярмарок проводились в конце лета или в начале осени после сбора урожая.
Сельское хозяйство среднеатлантических штатов основывалось на крупнотоварном производстве. Типичной для региона фигурой был предприниматель-лендлорд, владелец манора, земли которого обрабатывали его арендаторы и сервенты. Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания были известны в XVIII в. как «хлебные колонии». Основной их экспортной продукцией были пшеница и мука. Выращивались также рис, техническая конопля, лен. Пенсильванские сельские хозяева, особенно немцы, восхищали современников своей аккуратностью и готовностью к любому труду. В 1796 г. пенсильванец Томас Чейни писал британским родственникам: «Я знаю многих людей, которые стоят тысячи фунтов, и они косят, жнут и сгребают сено и зерно в свои амбары так же ловко, как наемные работники. На тех, кто способен к труду, но не работает, смотрят с презрением. В нашей стране такими пренебрегают, и никто не составляет им компанию»381. Сельскохозяйственный цикл включал множество видов работ. В пенсильванском графстве Честер, например, в марте сеяли яровую пшеницу и рожь, в апреле – лен и коноплю, в мае – кукурузу и овес, в июне-июле – гречиху. В июне-июле проходил еще и сенокос, и теребление льна. С конца июня начиналась уборка озимых. В августе пахали под озимь. В сентябре поспевали кукуруза и гречиха, в октябре – яровые злаки. Обмолотом зерна занимались до самого февраля. Зимой поправляли изгороди и расчищали новые участки.
По-своему текла жизнь в нью-йоркских манорах, напоминавших европейские феодальные поместья. Например, лорд манора Моррисания имел право сеньориальной юстиции, назначал в пределах своих владений приходских священников и сборщиков налогов, установленных колониальной ассамблеей. (Последняя привилегия имела наибольшее практическое значение.) Взамен он должен был ежегодно в день Благовещения платить английской короне квит-ренту в 6 шиллингов382. Во время революции квит-ренты эти были отменены штатом Нью-Йорк. Владетель манора Ренсселервик заставлял своих арендаторов работать на господской земле – фактически ходить на барщину. Средневековые повинности были ликвидированы в Ренсселервике только после восстания антирентистов, происшедшего в 1839–1845 гг.
Дальше на юг тянулись рабовладельческие плантации, табачные по берегам Чесапикского залива, рисовые на болотистых землях Южной Каролины. Хлопок в южных штатах стали в массовом порядке выращивать только в XIX в. Как правило, каждый из южных штатов специализировался на одной культуре. Диверсификацией увлекались только отдельные экспериментаторы вроде Джорджа Вашингтона. В его хозяйстве в Маунт-Верноне, кроме табака, выращивали кукурузу, пшеницу и табак. Пшеничную муку экспортировали в Вест-Индию, получая взамен сахар, кофе, фрукты, ром. Из той же муки пекли галеты для морских путешествий.
Освоение плантаций требовало огромного труда. В Южной Каролине, например, поля создавались после невероятно трудоемкого осушения приливных болот, где росли огромные кипарисы и камедные деревья. Болота были полны аллигаторов, змей и комаров, переносящих болезни. Сначала срубали и сжигали деревья. Если для расчистки почвы использовали волов, то их приходилось снабжать специальной обувью, иначе животные утонули бы в грязи и не смогли выбраться. Затем вокруг поля строили насыпь для защиты от заболачивания и рыли ирригационный канал. По свидетельствам археологов, такие насыпи были высотой шесть или более футов и шириной пятнадцать футов.
Табачная культура в Виргинии тоже была трудоемкой. Табак высевали в питомнике после Рождества. В марте саженцы переносили на поле. Это был тяжелый труд. Плантатор Лэндон Картер считал, что каждый раб должен посадить тысячу саженцев в день383. Растения требовали постоянного ухода: прополки, обрезки, чтобы подстегнуть рост ценных нижних листьев, «всасывания» (т.е. удаления побегов, прорастающих на стыке листьев и стеблей) и борьбы с вредителями. Нашествие червей могло уничтожить урожай менее чем за неделю, так что нужно было ежедневно осматривать каждое растение. Время для сбора урожая наступало в августе или сентябре. Здесь были свои тонкости. Если растение было собрано до полного созревания, оно стоило гораздо меньше. С другой стороны, если табак слишком долго оставался в поле, существовал риск того, что мороз уничтожит весь урожай. Поэтому важным навыком виргинского земледельца была способность точно определять, когда следует собирать табак. Опытный табаковод обращал внимание на цвет (желтовато-зеленый), текстуру (толстая, грубая и пушистая) и податливость (лист ломался, когда его клали между пальцами). Когда приходило время, листья собирали (каждый лист срезался вручную), подвешивали в табачном амбаре и просушивали. Наконец, плантатор и его работники оценивали высушенный табак, сортировали, спрессовывали в пачки и упаковывали. Процесс сушки, ферментации и упаковки табака продолжался до ноября. Затем урожай инспектировали представители местных властей.
По закону, принятому еще в 1619 г., если табак оказывался некачественным, его сжигали в присутствии владельца384. Если же все проходило нормально, то крупный плантатор мог отправить свой урожай в Лондон, Эдинбург или Глазго. Выращивание качественного табака было очень важно в колониальном обществе: от этого зависела репутация плантатора. У мелких фермеров не было прямых контактов с Англией и Шотландией. Готовые табачные листья с небольших ферм уходили на централизованный склад. Оттуда оптовики отправляли собранный груз в Великобританию. Фермер же получал табачную квитанцию, которая в Чесапикском регионе заменяла деньги. Как же платить налоги тем, кто занимался не земледелием, а, скажем, седельным или кузнечным ремеслом? Ремесленники в колониальный период старались завести хоть маленькую табачную деляночку, чтобы получить вожделенные табачные квитанции. После провозглашения независимости ситуация изменилась: в Виргинии и других «табачных» штатах появились бумажные деньги, как собственные, так и континентальные.
Табачная плантация в Маунт-Верноне. Современная реконструкция
Декабрь на плантациях был отведен под починку инвентаря и обмазку сушильных амбаров глиной: они должны были быть по возможности герметичными. Табачная культура отличалась тем, что не оставляла ни работнику, ни плантатору свободного времени. За уборкой урожая следовал длительный и сложный процесс сушки и ферментации, требовавший хозяйского пригляда. Так что, по выражению историка Т. Брина, если бы Джордж Вашингтон оставался приверженцем монокультуры табака, у него не было бы возможности охотиться на лис385. И веселых коллективных работ, какие отмечали уборку кукурузы, на табачных плантациях не было.
Табак создал состояния виргинских и мэрилендских джентри, но еще больше обогащал их шотландских и английских контрагентов – «табачных лордов» из Глазго и Эдинбурга, лондонских купцов. Цены на экспортные товары были нестабильны, и плантаторы, пытавшиеся создать у себя ориентированное на рынок производство, нередко разорялись или залезали в долги. К тому же «табачные лорды» из метрополии старались занижать закупочные цены. «Ножницы цен» оказывались более чем эффективным средством держать виргинцев в долговой кабале. Джефферсон сокрушался: «Эти долги передавались по наследству от отца к сыну на протяжении многих поколений, так что плантаторы были своего рода собственностью, прикрепленной к определенным торговым домам в Лондоне»386. Он знал, о чем говорил: перед Войной за независимость его долги «табачным лордам» составили почти 10 тыс. фунтов387. Была еще одна серьезная проблема с табаководством: эта культура сильно истощала почву. Наиболее дальновидные хозяева пытались диверсифицировать производство, вводя новые культуры, такие как пшеница.
До революции рабство было законным и на Юге, и на Севере. Но в 1774–1784 гг. рабство было отменено во всех штатах Новой Англии и в Пенсильвании. В 1799 г. за ними последовал Нью-Йорк, в 1804 г. – Нью-Джерси. Современники надеялись, что со временем рабовладение исчезнет и на Юге. Но этого не произошло. Максимум того, на что готовы были пойти белые южане для темнокожих, – это облегчить отпуск рабов на волю. В соответствующем духе был составлен виргинский закон 1782 г. Этим законом воспользовался, например, Джордж Вашингтон, освободивший по завещанию 124 раба388. И действительно, число свободных афроамериканцев в штатах Верхнего Юга заметно возросло, хотя ликвидировать рабовладение таким способом не удалось ни в одном из штатов. В Виргинии в 1780–1810 гг. их число выросло с трех до тридцати тысяч. В Мэриленде в 1755 г. проживало менее 2 тыс. свободных цветных, в 1790 – 8 тыс., в 1800 – 20 тыс.389
Рабы, случалось, бежали. Были даже поселения беглых в огромном болоте Грейт-Дисмал между Виргинией и Северной Каролиной. Путешественник описывал: «Беглые негры живут здесь по двенадцать, двадцать, тридцать лет и более. Они питаются зерном, мясом свиней и птицы, которых разводят в местах, не всегда скрытых под водой… В таких местах они построили жилища и расчистили маленькие поля»390.
Особым миром была западная граница поселений – фронтир. Вольнолюбивые покорители Запада надолго вошли в американский фольклор. Именно здесь жили милые сердцу Джефферсона независимые фермеры. В 1790-х гг. французский путешественник описывал жителей Запада следующим образом: «Эти люди – по большей части торговцы, искатели приключений, охотники, гребцы и воины, невежественные, суеверные и упрямые, привыкшие к тяготам и лишениям. В своих предприятиях они не останавливаются ни перед какой опасностью и обычно добиваются успеха»391. Им приходилось быть самодостаточными: покупка импортных товаров и продажа собственной продукции была здесь почти невозможна из-за бездорожья. Жизнь на фронтире была опасна. Жители долины Вайоминг описывали свое положение: до ближайшего поселения было 60 миль по реке Саскуэханна, зато воинственные могавки и сенеки жили всего в нескольких часах путешествия по притокам той же реки. Так что когда житель Вайоминга шел на свое поле, он нес в одной руке мотыгу, а в другой винтовку392. Бедность тоже была неизменным признаком жизни на фронтире. Уильям Купер (отец писателя Фенимора Купера) оставил яркое описание одного из фермерских поселений на западе штата Нью-Йорк: «Более всего обескураживала меня крайняя нищета этих людей: каждый был в состоянии расчистить лишь небольшой участок в чаще высоких и толстых деревьев, так что их хлеб вызревал главным образом в тени. Маис не вызревал, пшеница была подпорчена, и то немногое, что они собирали, невозможно было смолоть на месте, ибо на 20 миль в округе не было ни одной мельницы»393.
В XVII в. фронтир защищали от индейцев длинные бревенчатые палисады. Грандиозное сооружение такого рода, построенное в 1634 г., прикрывало Срединную плантацию (позже Уильямсберг) в Виргинии. Стена тянулась на шесть миль от реки Джеймс до реки Йорк. В XVIII в. западная граница ощетинилась линией деревянных фортов. Но после провозглашения независимости эти форты давали весьма сомнительную защиту; значительная их часть на протяжении всей войны и позже, до второй половины 1790-х гг., была в руках англичан, а не американцев.
Две особенности были, пожалуй, характерны для всей сельской Америки. Прежде всего, в отличие от европейских современников, американцы XVIII в. не знали голодных лет. Петер Кальм передавал свои американские впечатления: «Много пожилых шведов и англичан… сказали, что они не могли припомнить такого плохого урожая, чтобы люди хоть в малейшей степени страдали, не говоря уже о том, чтобы кто-то умер от голода, пока они были в Америке… Главное – это большое разнообразие зерновых. Люди сеют разные сорта в разное время и в разные сезоны, и хотя один урожай получается плохим, все же другой хорош»394. При этом второй особенностью американской аграрной экономики была примитивность используемых технологий. Плодородные почвы Нового Света позволяли почти не думать о севооборотах, удобрениях и механизации хозяйства, хотя на побережье уже замечалось истощение полей. Шотландка Дженет Шоу была откровенно шокирована обработкой земли в Северной Каролине: «Когда мы прибыли сюда, стебли прошлогоднего урожая еще оставались на полях. Я очень удивилась: время года было уже такое, что я ожидала найти поля, по крайней мере, полностью вспаханными, если уж не засеянными и не боронованными. Но насколько возросло мое изумление, когда я обнаружила, что здесь неизвестны орудия земледелия – не только различные плуги, но и прочие машины, используемые у нас с таким успехом. Единственным инструментом является мотыга, с помощью которой одновременно вскапывают почву и ведут посадку. Чтобы это сделать, несколько негров целый день следуют друг за другом по пятам, выполняя дневной урок. Требуется по меньшей мере двадцать человек, чтобы сделать работу, с какой справились бы две лошади с мужчиной и мальчиком»395.
Томас Джефферсон уверял: «Если бы указания о том, когда нам надо сеять и когда – жать, поступали из Вашингтона, то мы вскоре остались бы без хлеба»396. Но еще со времен Первого континентального конгресса американские власти и общественность пытались так или иначе регулировать сельское хозяйство. Принятая Конгрессом «Ассоциация» призывала всячески развивать овцеводство, причем запрещалось экспортировать овец в Вест-Индию, а также осуждался забой ягнят на мясо. Таким образом пытались поощрить производство шерсти. После революции в разных штатах начали действовать сельскохозяйственные общества. Они предлагали награды за внедрение высокотехнологичных травопольных севооборотов, сеялок, плантажного плуга, глубоко рыхлившего почву, и т.п. Кое-какие изобретения действительно появлялись. В 1789 г. Леонард Харбоу из Балтимора представил вниманию Конгресса механизмы для уборки пшеницы и обмолота зерна397. Но в целом новые технологии приживались плохо. Даже такой поклонник усовершенствований, как Джордж Вашингтон, столкнулся с трудностями. Например, он ввел в Маунт-Верноне ротерхэмский плуг, прочный, легкий и снабженный металлическими отвалами. Если традиционный английский плуг тащили четыре вола и требовался погонщик в дополнение к пахарю, то для ротерхэмской модели было достаточно пары лошадей и одного человека. Проблема состояла в том, что в Виргинии некому было починить изнашивавшиеся металлические части398. Использование европейских достижений в этой сфере, и уж тем более собственные успехи в техническом прогрессе были для Америки делом будущего.
Сельские дома
Самые ранние дома Джеймстауна и Нового Плимута делались по принципу мазанки (из палок, соломы и глины). Крыши без затей покрывались соломой. В большинстве подобных домов была только одна комната с примитивным очагом, земляными полами и не застекленными окнами, так как стекло было очень дорогим. Для защиты от дождя использовались шторы, а в качестве средства от насекомых развешивались различные травы, такие как тысячелистник. Взрослые спали на кроватях из досок и соломы, а дети – на циновках на полу. В таких мазанках жили представители сельского низшего класса на протяжении всего колониального периода.
Настоящим символом сельской Америки стала бревенчатая хижина (log cabin, log house). Считается, что секрет ее строительства попал в Новый Свет вместе со шведскими и финскими поселенцами. Путешественник описывал шведские дома в Нью-Джерси: «Целые деревья раскалывают посередине или распиливают на брус и нагромождают друг на друга до такой высоты, какой они хотят иметь дом; концы бревен врублены друг в друга, примерно в футе от концов, половина одного в половину другого. Таким образом, вся конструкция выполнена без единого гвоздя. Потолок и крыша не отличаются тонкой работой, разве что у самых рачительных хозяев потолок обшит досками и окно застеклено. Двери достаточно широкие, но очень низкие, так что вам придется нагнуться, чтобы войти. Эти дома довольно тесные и теплые»399. Из Нью-Джерси бревенчатые хижины распространились по Пенсильвании, а затем и по внутренним районам. Они были дешевы: барону Ридезелю строительство такой хижины обошлось в 5–6 гиней400. Внутренняя обстановка была самой простой. Один из регуляторов – участников фермерских протестов – вспоминал впоследствии, что в его время во внутренних районах Северной Каролины невозможно было найти дощатых полов или пуховой перины401.
Немецкие поселенцы предпочитали прочные каменные дома с толстыми стенами и черепичными крышами. Голландцы старались строить в Нью-Йорке кирпичные домики с мансардами, как на их европейской прародине.
Традиционный новоанглийский дом-«солонка» (saltbox) отличался асимметричной скатной крышей. В таком доме был только один этаж с одной его стороны, зато два этажа с другой. Конструкция получила свое название из-за сходства с деревянной коробкой, в которой хранилась соль. По легенде, асимметричные строения появились из-за того, что при королеве Анне (правила с 1702 по 1714 гг.) был введен налог на дома выше одного этажа. «Солонку» нельзя было назвать двухэтажным зданием, так что налогом она не облагалась. Но эта красивая версия не вполне справедлива, поскольку дома-«солонки» строились в Новой Англии еще до правления Анны. Чаще всего в них было две комнаты с массивным камином. Лестница вела на чердак или, в домах побогаче, в спальню на втором этаже.
О том, как могла выглядеть зажиточная ферма в северных штатах, можно судить по рекламным объявлениям. В 1785 г. близ Йорка (Пенсильвания) продавалась «элегантная ферма» с претенциозным названием «Сельское блаженство», «подходящая для джентльмена». Там был двухэтажный дом с «превосходным подвалом», большой хлев, способный вместить 40 голов скота, подсобные помещения. При доме был сад с «лучшими фруктами», 25 акров луга, клеверные поля. В объявлении особо упоминался родник недалеко от дома, а также ручей, в котором плескалась рыба и куда прилетали дикие утки. До церкви было восемь миль, что также особо оговаривалось. «Немногие места могут похвалиться столькими преимуществами», – заключал гордый владелец402.
Характерной особенностью местного строительства на жарком Юге было выделение отдельных строений под кухню, прачечную, маслобойню и т.п. Благодаря этому, в жилых помещениях было прохладнее.
Маунт-Вернон
Дом Джорджа Вашингтона в Маунт-Верноне дает хорошее представление о жизни южного джентльмена XVIII в.
Во время войны Маунт-Вернон не пострадал. Управляющий, дальний родственник хозяина Лунд Вашингтон, проявил больше прагматизма, чем патриотизма, и предложил англичанам снабжать их суда провиантом. В итоге плантацию не тронули; только 17 рабов ушли с англичанами, надеясь получить свободу за службу английской армии. Лафайет писал Джорджу Вашингтону: «Это определенно произведет дурное впечатление по контрасту с героическими ответами некоторых соседей, чьи дома сожгли»403. Вашингтон в свою очередь корил управляющего: «Мне было бы не так больно услышать, что вследствие вашего неповиновения мой дом сожгли, а плантация в руинах»404. Так или иначе, особняк уцелел и до сих пор бережно сохраняется в качестве национального исторического памятника. Еще в 1860 г. Маунт-Вернон открыл двери посетителям в качестве музея405.
Особняк был окружен роскошным садом, которым восхищался путешествующий поляк Юлиан Урсын Немцевич: «Тропинка обегает кругом лужайку для боулинга и обсажена тысячей разновидностей деревьев, трав, кустарников. Над ними царят два огромных испанских ореха, посаженные собственноручно генералом Вашингтоном»406. В саду росли смородина, малина, крыжовник, а также персики и вишни, на которые слетались птицы и которые потихоньку таскали рабы407. Саду уделялось много внимания. Вашингтон старался залучить к себе умелых садовников и готов был даже закрывать глаза на их маленькие слабости. Управляющий был в этом солидарен с хозяином: «Что касается Бейтмэна (старого садовника), то… позволяйте ему время от времени напиваться, и он будет счастлив. Он лучший огородник, какого только можно встретить»408. Рядом с садом расположился аптекарский огород, где Марта Вашингтон разводила лекарственные травы.
Река Потомак обеспечивала плантации транспортную доступность и одновременно придавала окрестностям романтическую прелесть. Вот как выглядел осенний день в Маунт-Верноне в описании того же Немцевича: «Солнце садилось за синеватыми холмами, за густыми зарослями дуба и лавра. Его лучи косо падали на гладь Потомака. Легкий ветерок ерошил листву, уже наполовину желтую»409. На реку выходила обширная веранда, с которой открывался чудесный вид.
Планировка и архитектура особняка напоминали об английских поместьях. Палладианские окна410 и купол-«фонарь» с золотым флюгером придавали ему особенную элегантность. Дом был просторен. В описи завещания Вашингтона указано более 30 различных помещений, включая шесть спален только на втором этаже. Как и следовало по английским традициям, первый этаж был отдан под парадные комнаты. Самым большим помещением здесь была столовая, при необходимости превращавшаяся в бальный зал. Здесь же располагались гостиные и кабинет хозяина дома. «Новая комната» на том же первом этаже служила Вашингтону чем-то вроде салона. Она была оклеена зелеными обоями, а для меблировки были заказаны в Филадельфии шкаф и стулья в федеральном стиле. Подобно грандиозным «салонам» модных английских усадеб XVIII в., эта комната предназначалась для выполнения нескольких функций. Это было место приема посетителей; ее высокий потолок, большой объем и симметричное оформление делали пространство по-настоящему впечатляющим. Одна эта комната была больше, чем большинство домов в колониальной Виргинии. Она же служила Вашингтону картинной галереей. Свет, струившийся из величественного палладианского окна, выходившего на север, был идеален для картин. И здесь же накрывали угощение для особенно почетных гостей. Благодаря высокому потолку и двум дверям, выходившим наружу, вентиляция была достаточно хорошей, чтобы здесь было приятно находиться в жаркие летние дни.
В передней гостиной Марта Вашингтон царила за чайным столом и предлагала угощение гостям. Здесь висели семейные портреты. Стулья и софа в комнате были обиты роскошным голубым шелком и камвольным дамастом411. Цвет стен, саксонский синий, получался из незадолго до того изобретенного красителя: смеси серной кислоты и индиго. Это был ярко-синий оттенок, переходящий в зеленый. Свечи горели в жирандолях неоклассического стиля. Технической новинкой была масляная аргандова лампа, изобретенная в Швейцарии в 1780-х гг. Благодаря особой форме, такая лампа освещала в 10–12 раз эффективнее, чем свечи, и при этом меньше дымила. Та, что принадлежала Вашингтону, была сделана в форме римских светильников из Помпей. В этой же комнате стоял самый элегантный чайный столик во всем Маунт-Верноне. Камин был украшен гербом Лоуренса Вашингтона, жившего в XVI в., – именно к нему хозяин поместья возводил свой род.
Каждое утро между четырьмя или пятью часами Вашингтон спускался в кабинет из спальни. Здесь он писал письма (а это занятие отнимало немало времени в XVIII в.) или просматривал хозяйственные отчеты до завтрака. Здесь же он мог переодеться или принять ванну. После завтрака он объезжал свои владения. Вечером, если не было гостей, в кабинете можно было почитать. Обстановка была деловая: книжные шкафы, секретер.
Спальни на втором этаже предназначались не только для членов семьи, но и для самых почетных гостей. На третьем, мансардном, было еще две комнаты для визитеров попроще.
Вашингтон старался организовать свою жизнь в Маунт-Верноне так, чтобы ему не слишком мешали посетители – а их было много даже по меркам южного гостеприимства. По подсчетам историков, в 1768–1775 гг. у Вашингтонов побывало около двух тысяч гостей412. В последующие годы, когда хозяин Маунт-Вернона стал обожаемым лидером молодого государства, поток еще возрос. Один из посетителей Маунт-Вернона вспоминал: «Когда из любопытства сюда заглядывают путешественники, их принимают вежливо. Но они никогда не нарушают домашнего распорядка или распределения времени генерала, которое соблюдается столь же строго, как в бытность его во главе армии или в президентском кресле»413. Много времени у хозяина отнимало управление большим имением, а также сельскохозяйственные эксперименты, которыми он увлекался. Он пробовал разводить мулов, сравнивал разные сорта навоза, вспашку разными видами плугов. Не забывал и о досуге. Вашингтон педантично отмечал в дневниках все свои занятия. Благодаря этому мы можем представить себе времяпровождение виргинского плантатора во всех деталях. Например, в 1768 г. будущий президент 49 дней провел на лисьей охоте, 15 раз побывал в церкви, посетил два бала и три театральных представления. Он принимал много гостей и ездил в гости, играл в карты414.
В Маунт-Верноне любили музыку и много музицировали. Правда, сам Вашингтон сознавался: «Я не могу ни спеть ни одной песни, ни издать ни одной ноты ни на одном инструменте»415. Но в доме звучал спинет его падчерицы Марты Кастис, а позже и клавесин его внучки Элеоноры. По воспоминаниям Джорджа Вашингтона Кастиса (внука президента), бедняжка Элеонора не получала удовольствия от музыки: «Несчастная девочка играла и плакала, плакала и играла долгие часы под пристальным взглядом своей бабушки, сторонницы строгой дисциплины во всем»416. На клавесине могли быть ноты сонат Баха, «Ифигении в Авлиде» Глюка или «Песни русалки» Гайдна, а могли быть и патриотические американские мелодии вроде «Президентского марша». Зато Немцевич был очарован результатом: «Это была одна из тех небесных картин, какие природа создает редко и на какие нельзя смотреть без экстаза. Ее (Элеоноры. – М.Ф.) нежность равняется ее красоте, и это создание, столь совершенное по внешности, обладает всеми талантами: она играет на клавесине, поет, рисует лучше, чем любая женщина в Америке или даже в Европе»417. Еще одна посетительница, Элизабет Каррингтон рассказывала о женском мирке Маунт-Вернона: «С одной стороны сидит горничная с вязаньем. С другой – цветная малышка учится шить. Достойная старушка за своим столом ножницами кроит зимнюю одежду для негров. А добрая пожилая леди руководит ими всеми, не прекращая вязать»418.
Все это хозяйство обслуживали около трехсот рабов. Они трудились в полях, ухаживали за скотом, ловили рыбу (у Вашингтона была небольшая рыболовецкая флотилия), ткали, ковали, плотничали, готовили пищу, убирали в доме. Немцевич описывал хижины рабов в Маунт-Верноне: «Они более жалкие, чем самые бедные избушки наших крестьян. Муж и жена спят на тощих соломенных тюфяках, а дети – на полу. Есть плохонький очаг, кое-какая утварь для готовки, но посреди этой нищеты – несколько чашек и чайник». Рабы держали кур, на неделю им выделяли галлон маиса, на месяц – 20 селедок. Полевые рабы во время сбора урожая могли полакомиться солониной. Они трудились на своего господина шесть дней в неделю, отдыхая лишь в воскресенье. Поляк оговаривал: «Генерал Вашингтон обращается с рабами намного гуманнее, чем его виргинские сограждане. Большинство этих джентльменов дают черным лишь хлеб, воду и побои»419.
Индейские войны
В начале Войны за независимость Конгресс надеялся заручиться нейтралитетом индейских племен. Конгрессмены обращались к ирокезским вождям: «Мы любим мир и желаем, чтобы цепь дружбы между нами и вами не заржавела. Со своей стороны, мы сделаем все возможное, чтобы она была яркой и крепкой. Но если на нас нападет какое-нибудь племя индейцев в лесу, мы надеемся показать, что сможем с легкостью отразить нападение. Однако дружба с вами – вот чего мы искренне желаем»420. И все-таки частью повседневной жизни белых американцев был не мир, а война с индейцами. Постоянная экспансия пионеров на запад, отнимавшая у племен все новые земли, не могла не приводить к конфликтам. Предпринимавшиеся иногда попытки местных властей как-то ограничить поток поселенцев не встречали понимания в американском обществе. Вообще, американцы того времени часто совершенно искренне воспринимали западные земли как «пустые», «незанятые» (таково их обычное наименование в политической риторике эпохи). Обитатели Юго-Запада (будущие штаты Кентукки и Теннесси) в своей петиции Конгрессу подчеркивали: «Мы – первые поселенцы и аборигены этого края»421.
Такими вот «аборигенами» были «пакстоновы парни» – группа жителей пенсильванского фронтира с берегов Саскуэханны. Они всплыли на поверхность общественной жизни в обстановке Семилетней войны и восстания Понтиака422, стычек с враждебными индейцами. Правительство Пенсильвании контролировалось квакерами, которые предпочитали поддерживать с соседними племенами мир. «Пакстоновых парней» это не устраивало, и они решили строить отношения с индейцами на свой манер. В пределах Пенсильвании жило маленькое племя конестога, поселенное там еще Уильямом Пенном. Индейцы плели корзины на продажу, ловили рыбу в ближайшей реке и совсем никак не были связаны с Понтиаком или какими-либо воинственными племенами. Они оказались легкой жертвой. Как позднее комментировал Франклин, «единственным преступлением этих несчастных, по-видимому, было то, что у них была красновато-коричневая кожа и черные волосы; а некоторые люди такого же облика, похоже, убили кого-то из нашего народа»423. На рассвете 14 декабря 1763 г. «пакстоновы парни» ворвались в деревню конестога, палили из мушкетов, врывались в хижины и убивали томагавками всех без разбору. Белые скальпировали всех убитых, разграбили и сожгли хижины. Правительство пыталось укрыть нескольких случайно уцелевших индейцев в тюрьме городка Ланкастер, но «пакстоновы парни» добрались и туда. Разыгралась кошмарная сцена резни. Очевидец вспоминал: «О, какое ужасное зрелище предстало моему взору! У задней двери тюрьмы лежали старый индеец и его скво. Он был особенно хорошо известен и почитаем жителями города за спокойное и дружелюбное поведение. Его звали Уилл Сок; поперек тел его и его скво лежали двое детей примерно трехлетнего возраста, их головы были расколоты томагавком, а скальпы сняты»424. Власти Пенсильвании назначили награду в 600 долларов за каждого из «пакстоновых парней», но, видимо, искали их не слишком усердно. Ни один из виновных так и не предстал перед судом и не понес никакой ответственности.
Неудивительно, что индейцы не слишком верили Конгрессу. Позже, в начале XIX в., вождь сауков Черный Ястреб рассказывал об опыте взаимоотношений с белыми: «Тогда я еще не был знаком с повадками американцев, пришедших на нашу землю. Они охотно давали обещания, но никогда не выполняли их! Англичане же, наоборот, не спешили с посулами, но на их слово мы всегда могли положиться»425. Во время Войны за независимость США племена разделились. Так, племенной союз ирокезов оказался разделенным между враждующими сторонами. Могавки, кайюги, онондаги и сенеки сохранили верность англичанам; онейды и тускароры поддержали американцев.
Для защиты от враждебных индейцев на фронтире создавались форты. Их строили всем миром. Элиэзеру Блэкмену из Вайоминга426 – спорной территории между Коннектикутом и Пенсильванией – было всего 11 или 12 лет, когда индейцы напали на его долину. Он был слишком мал, чтобы держать мушкет, но уже принимал участие в строительстве форта Уилкс-Барре, призванного защищать Вайоминг. По его описаниям, укрепления форта представляли собой траншею, в которую воткнули заостренные бревна427. Такой форт был не слишком надежной защитой, и с нападением лоялистов и союзных им ирокезов 3 июля 1778 г. долина Вайоминг превратилась в ад. «Казалось, что вся долина в огне; дым и пламя поднимались отовсюду», – вспоминала об этом дне местная жительница428. Кревкер меланхолически подводил итог: «Так погибли в один роковой день здания, усовершенствования, мельницы, мосты и прочее, возведенные с такими затратами и такими усилиями»429. Сражение продолжалось 45 минут. Американские ополченцы не смогли сдержать натиск лоялистов и индейцев и обратились в паническое бегство. Их убивали прямо на бегу. После сражения насчитали 227 скальпов430.
Типичной была история семьи Блэкмен. Глава семьи остался защищать форт, а его жена и дети укрылись в лесу. В панике они не взяли с собой провизии и питались черникой, которую смогли собрать по пути. На третий день, изголодавшиеся и измученные, они вышли к немецким поселениям Пенсильвании, где им дали кров и еду. Затем, побираясь по дороге, беженцы смогли добраться до Коннектикута431. Участь попавших в плен была незавидной. Один из выживших рассказывал: «Поле боя представляло печальную картину. Кольцом вокруг скалы лежали 18 или 20 искалеченных тел. Пленники, захваченные в бою, были помещены в круг среди индейцев, и некая скво собиралась их зарезать. Лебеус Хэммонд, впоследствии уважаемый гражданин графства Тайога (штат Нью-Йорк), был одним из обреченных. Видя, как один за другим падают под кровавой рукой, он вскочил, прорвался через круг врагов, опередил своих преследователей и спасся»432. Так, как Хэммонду, повезло немногим. Спасшихся пленников было лишь пятеро.
Стоит подчеркнуть, что индейская война на фронтире была жестокой с обеих сторон. На резню в долине Вайоминг американцы ответили карательной экспедицией Салливэна, который сжег сорок индейских деревень и вынудил ирокезов бежать на территорию Канады.
Фермеры бунтуют
В неспокойной бунтующей Америке фермеры не могли оставаться в стороне. Нередко они брались за оружие, чтобы сражаться за собственные чаяния. Крупное протестное движение регуляторов развернулось в Северной Каролине в 1764–1771 гг. Причиной восстания стали обременительные для фермеров налоги, злоупотребления чиновников и коррупция губернатора колонии Трайона. В частности, возмущение вызвало строительство роскошного губернаторского дворца в городе Нью-Берн.
С официальной точки зрения, движение регуляторов было «самым грозным и опасным мятежом», какой когда-либо возникал в Северной Америке433. Губернатор Трайон предложил за захват лидеров восстания награду в 1000 акров земли или 100 долларов434. В конечном итоге, движение регуляторов было подавлено при помощи войск в сражении при Аламансе. Губернатор колонии собрал против регуляторов большую по колониальным меркам армию в 2 тыс. чел. Численность регуляторов оценивалась в 2 300 чел.; говорилось также об ожидаемом ими подкреплении. Согласно комментарию официальной «North Carolina Gazette», повстанцы вели себя «самым дерзким и отчаянным образом». Зато у губернаторских сил была артиллерия. Они обстреляли лагерь регуляторов из пушек; те отвечали выстрелами из ружей. Непрерывная перестрелка с обеих сторон шла в течение часа и трех четвертей. Со стороны регуляторов был убит один из их лидеров. С лоялистской стороны потери были незначительны (благодаря вмешательству божественного Провидения, уверяла все та же «North Carolina Gazette»). Правда, были захвачены в плен два офицера, которых били кнутом и вроде бы хотели убить. Однако их спасло вмешательство лидера регуляторов Хоуэлла. В целом, сражение закончилось бегством восставших. Лоялисты даже захватили трофеи в виде скромной одежды фермеров, пороховых рогов, лошадей и т.п. Двенадцать захваченных регуляторов были осуждены за государственную измену и приговорены к «квалифицированной» казни, которая включала последовательно повешение, вырывание внутренностей и последующее их сожжение, четвертование, отрубание головы. Правда, в итоге эта варварская казнь была заменена повешением, а шестерых приговоренных король помиловал. Более мягкие наказания включали 500 ударов кнута, а также конфискацию земель и скота435.
Действия регуляторов во многом напоминали методы протеста, принятые у городских «Сынов Свободы». Они направляли петиции губернатору, отказывались платить налоги, которые считали незаконными. Они протаскивали коррумпированных чиновников по улицам (обычный в колониальной Америке ритуал публичного унижения), разгромили здание суда в Хиллсборо, сожгли дом местного судьи, повредили даже колокол городской англиканской церкви436. Городские виги сочувствовали фермерам. Их рупор, «Boston Gazette», рассказывала об огромных штрафах и завышенных налогах, которые взимали северокаролинские шерифы во внутренних районах колонии. Вывод был очевиден для массачусетских вигов: «Возможно ли, чтобы человек, если только у него не душа людоеда, желал успеха администрации настолько коррумпированной, настолько лишенной гуманности и христианских добродетелей, как администрация Северной Каролины!»437
Новая независимая Америка оказалась не намного добрее к фермерам, чем колониальная. Реакция вигов была уже совершенно иной, когда в 1786–1787 гг. на западе Массачусетса вспыхнуло восстание Дэниэля Шейса. В 1780-х фермеры штата страдали от послевоенной рецессии, падения стоимости земли, сокращения спроса на сельскохозяйственную продукцию и английского эмбарго на торговлю с Вест-Индией. Многие из них – прежде всего, сам Шейс, получивший именное оружие от Лафайета в награду за храбрость, – сражались в Войне за независимость. Но после войны они получили от своего штата новые налоги и тюремное заключение за долги. Именно о таких, как Шейс и его соратники, писал Филипп Френо:
- Не для гостиных вид его убогий,
- Просить, как нищий, гордость не велит,
- Сражался раньше он под Саратогой,
- Теперь – на деревяшках инвалид.
- Он вспоминает битвы, кровь и пламя,
- Другим – награды за его труды,
- Его же кормят только похвалами
- Среди лишений горьких и нужды438.
29 августа 1786 г. около пятисот фермеров под военную флейту и барабан промаршировали к зданию суда в Нортхэмптоне. Они силой прекратили судебные заседания, конфискацию собственности за долги и коллекторские операции. На протяжении осени шейситы точно так же закрыли суды в ряде других городков штата. Местное ополчение не слишком охотно защищало судей, а то и просто присоединялось к повстанцам. В Спрингфилде триста вооруженных фермеров окружили здание суда и вручили судьям уведомление такого содержания: «Мы просим достопочтенных членов суда не открывать заседания, назначенного на этот срок, и не приступать к каким-либо делам, а оставить все так, как если бы никакого заседания не назначалось». Судьи были вынуждены уступить силе439. В январе 1787 г. шейситы даже напали на арсенал в Спрингфилде, несмотря на жестокий мороз и более чем метровый слой снега. Однако они столкнулись с серьезным сопротивлением и бежали.
Шейситы отличали друг друга по зеленым веточкам на шляпах. Они организовали свое сопротивление способами, знакомыми им по предреволюционным выступлениям вигов. Они созывали митинги, чтобы выразить свои требования и координировать свои действия. В ход шли петиции, насильственное закрытие судов и – как крайнее средство – вооруженная борьба. Используя опыт «комитетчиков» начала революции, шейситы пытались создать общее руководство – Комитет семнадцати. Правда, командиры отдельных отрядов ему не подчинялись.
Власти Массачусетса распорядились арестовать Комитет семнадцати и назначили награду за поимку шейситских лидеров. Бостонские купцы пожертвовали на подавление восстания 40 тыс. фунтов за один только день440. Протест, направленный против революционных властей, не воспринимался ими как реализация законного права на восстание. Напротив, опасались, что шейситы подорвут стабильность США. Ходили слухи, что Шейс собирается идти на Бостон и провозгласить себя диктатором. Джордж Вашингтон озвучивал распространенный страх перед нарастанием протестов: «Волнения такого рода, как снежный ком, набирают силу по мере того, как они катятся, если нет противодействия на их пути»441.
В феврале восстание было подавлено. Шейс и еще кое-кто из вождей повстанцев бежали в Вермонт (бывший тогда независимой республикой). Остальных отдали под суд. Двоих повесили за государственную измену; остальные отделались штрафами. Легислатура Массачусетса пошла на снижение налогов и ввела временный мораторий на сбор долгов, что немного облегчило положение фермеров. Впоследствии Шейс был помилован, поселился в Нью-Йорке и даже получал пенсию за свою службу в Континентальной армии.
Глава 5. Закон и порядок
Охрана порядка. Суды и судьи. Смертная казнь и «псалом висельника». «Жестокие и необычные» наказания. Образцовая тюрьма в Филадельфии. Смола и перья: репрессивная политика
Охрана порядка
Полиция появилась в США (в Бостоне) лишь в 1838 г., чуть позже – в Нью-Йорке. В XVIII в. охраной порядка в Америке занимались шерифы и констебли.
Слово «шериф» неизбежно вызывает красочные ассоциации. Кто не помнит шерифа Ноттингемского из легенд о Робин Гуде! Не менее известны шерифы Дикого Запада из вестернов. Их коллеги в Америке XVIII в. не были ни тем, ни другим. Они отвечали за соблюдение законов, сбор налогов, надзор за выборами. Некоторые из их обязанностей, такие как обеспечение правопорядка, совпадали с привычными функциями английского шерифа. Другие, такие как надзор за тюрьмами и работными домами, были новыми. Еще одно отличие американских шерифов от английских заключалось в том, что в Америке их работа оплачивалась, а в Англии – нет. В отличие от современных полицейских, шериф не патрулировал район, но должен был реагировать на поступавшие сообщения о преступлениях.
Полномочия констеблей были аналогичными. Они могли производить аресты и давать показания в суде. Констеблей выбирали сами горожане. Шерифов назначал губернатор. И те, и другие действовали преимущественно днем.
С наступлением темноты на городские улицы выходила ночная стража. Это были не должностные лица, а обычные горожане. Констебль составлял список всех мужчин, способных носить оружие. Каждую ночь те из них, кому выпал черед, выходили на дежурство. Такая практика существовала в Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии и Чарльстоне, хотя только Нью-Йорк платил за эту службу. Города поменьше, как, например, Ньюпорт, обходились одним ночным сторожем442. Обязанностью стражи было окликать прохожих: «Чу! Кто идет?» Если возникала необходимость, подозрительных задерживали до утра, когда их мог допросить мировой судья. Ну, а если преступник пускался наутек, били в деревянные трещотки, чтобы поднять горожан в погоню. Война и введенный в связи с ней усиленный контроль за перемещениями граждан добавляли работы ночной страже. Например, в Коннектикуте ночные сторожа должны были вылавливать лиц, путешествующих без сертификата лояльности443
