Читать онлайн В некотором царстве… Сказки Агасфера бесплатно
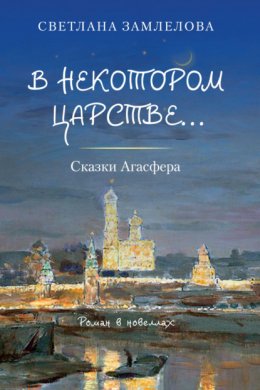
© Замлелова С.Г., 2024
© Оформление. Московская городская организация Союза писателей России, 2024
О романе Светланы Замлеловой «В некотором царстве…»
Роман Светланы Замлеловой «В некотором царстве…» представляет собой яркое и самобытное явление современной русской литературы. Творчество писательницы хорошо известно отечественным читателям, её прозу отличает, прежде всего, бережное отношение к русскому литературному языку во всём его стилевом и лексическом многообразии. Наследие национальной традиции Светлана Замлелова подвергает творческому осмыслению в контексте разных исторических эпох, событий и человеческих характеров, стремясь увидеть в разрозненных эпизодах русской жизни единое, преемственное и необъятное пространство российского бытия. Такая масштабная задача требует широты взгляда, художественной добросовестности и, разумеется, истинного вдохновения. Для Светланы Замлеловой при создании литературного произведения не существует незначительных мелочей. Степень достоверности при описании реалий той или иной эпохи всегда чрезвычайно высока, создание речи персонажей в соответствующем языковом дискурсе осуществляется искусно и органично, характеры героев словно списаны с жизни. Все эти качества в их совокупности делают прозу Светланы Замлеловой подлинным явлением литературы, сообщают ей непреходящую художественную ценность.
Роман «В некотором царстве…» в определённом смысле обобщает творческие наработки, осуществлённые автором в предыдущих произведениях, таких как «Гностики и фарисеи», «Посадские сказки», «Исход» и др. Замысел выразить непрерывность русской московской жизни в её духовной полноте, социальном многообразии, бытовой и общественной динамике потребовал от автора значительной предварительной работы, результаты которой, рассредоточенные по предыдущим творческим этапам, являются подступами к обобщающему труду. Главным инструментом этой работы, определившим её успех, является литературный язык. Описывая сюжеты и ситуации в период от начала XIX до конца XX вв., Светлана Замлелова с потрясающей достоверностью воссоздала ментальную линию, скрепляющую и объединяющую эти эпизоды в своего рода художественный портрет нашего народа – портрет, не претендующий на завершённость, но выражающий главные черты. Русский язык на протяжении всего романа пульсирует стилистически, в зависимости от исторического и социального контекста, оставаясь при этом всё тем же великим и универсальным русским языком – средством общения, выражения глубоких мыслей, описания больших исторических событий, малых бытовых эпизодов и сложных психологических состояний.
Роман «В некотором царстве…» – текст многоплановый, но обладающий строгой концептуальной структурой, имеющей в мировой литературе богатую традицию. Среди его предшественников можно назвать «Декамерон» Д. Бокаччо, «Серапионовы братья» Э.Т.А. Гофмана, «Мост на Дрине» И. Андрича и др. Речь идёт о цикле отдельных произведений (новелл, рассказов, даже небольших повестей), имеющих отдельные сюжеты, художественные и содержательные концепции, стилевые особенности, но в то же время объединённых общей идеей, по отношению к которой все эти произведения являются составными элементами, в своей совокупности воплощающими творческий замысел автора. Задача это непростая, поскольку требует от писателя, прежде всего, максимальной осознанности масштаба замысла, на осуществление которого он претендует. Каждое отдельное произведение, входящее в состав романа, выполняет свою конкретную задачу и является законченным художественным миром. Интегрировать множество художественных миров в единую концепцию, притом чтобы эта концепция была живой, концентрировала единое духовно-эстетическое послание к читателю – для этого требуется большая творческая работа и большой писательский талант.
Главная суть концепции романа «В некотором царстве…» – единство и непрерывная преемственность, онтологическая цельность русской жизни. Роман охватывает, как уже говорилось, период от начала XIX до конца XX вв. В историях, рассказанных в романе, действуют представители разных возрастов, социальных слоёв, профессиональных групп, национальностей. Ситуации, лежащие в основе сюжетов, характеризуют живую напряжённость русского бытия, его внутренние противоречия, выливающиеся зачастую в весьма драматичные коллизии. Но все эти ситуации происходят на фоне неотвратимого хода Истории, в процессе которого, порой в муках и дерзновениях, творится великий синтез, формирующий образ Русского народа – в высшем духовном смысле этого понятия.
Новейшая история, объективно свидетельствующая о глубоком кризисе человеческого духа, причём в общемировом масштабе, реанимировала многие архаичные мифы и иллюзии, ввергнув современное человечество в духовную и нравственную смуту, заставляя людей повторять ошибки прошлого, оплаченные великими жертвами и уже по одной этой причине, казалось бы, невозможные. Нарушенная преемственность духовного развития человечества выразилась и в глубоких искажениях русского бытия как неотторжимой части единого мирового бытия. Кризис современного гуманизма, признаки нравственного заболевания человечества выражаются, прежде всего, в отсутствии твёрдых нравственных основ, в агрессивном признании относительности всего и вся и т. д. Своеобразная шизофрения духа, охватившая сегодня страны и народы, ставит под угрозу будущее человеческой цивилизации. В то же время, инстинкт самосохранения диктует необходимость незамедлительного поиска выхода из сложившейся ситуации. Одним из направлений этого выхода для нашего народа представляется своего рода возврат на позиции, с которых начинался процесс ослабления традиционной российской государственности. Роман «В некотором царстве…» заканчивается сюжетом из 90-х годов прошлого века. Именно в те годы история России и Русского народа (во всём его исторически сложившемся внутринациональном многообразии) сбилась со своего великого, драматичного, но исполненного высокой духовной логики пути и устремилась в онтологический тупик, из которого в последние годы с переменным успехом старается вывернуть на прямую дорогу к светлому осмысленному будущему. По этой причине в своём романе Светлана Замлелова не идёт дальше – всё то, что происходило с нашей страной после великого обмана «перестройки», пошло вразрез с исторической направленностью русской жизни и для своего художественного воплощения требует иной концепции, иной тональности и иных критериев (отчасти решению этой задачи автор посвятила роман «Блудные дети», выдержавший несколько переизданий).
Для скрепления историй, составляющих роман, в единое произведение автор использовала образ Агасфера – Вечного Жида, по христианскому преданию, оскорбившего Христа, когда Он шёл к Голгофе, и за это обречённого скитаться до Второго пришествия. Но этот образ писательница выразила в гротескной форме его перевоплощения в личность московской старухи Домны Карповны. Именно из уст этой старухи (т. е. из уст Вечного Жида) звучат истории, представляющие фрагменты русской жизни в её многообразии и полноте.
На поверхностный взгляд может показаться, что обобщённость эта произвольна – слишком отличаются герои по своим характерам, по своим целям и стремлениям, по своим чаяниям и фантазиям. Но продвигаясь по тексту, от сюжета к сюжету, читатель невольно начинает улавливать волну русской московской жизни, её не выразимую в чётких формулировках преемственность и, используя выражение К. Леонтьева, «цветущую сложность». Единство и цельность – в мироощущении, в экзистенциальности порывов, в парадоксальной амбивалентности стремлений героев романа. Независимо от того, в какой исторический период происходит действие того или иного повествования, – «там русский дух, там Русью пахнет…»
Главным элементом художественной концепции является Москва – как центр русской жизни, русского бытия, системообразующий фактор русского национального синтеза. Именно в Москве происходит действие всех историй и сюжетов романа. Внимательный читатель обратит внимание на то, что многие персонажи из более ранних глав встречаются в более поздних на втором плане, выполняя функции внутренних скреп художественного единства текста. Не будет преувеличением сказать, что именно Москва – главный герой романа, выраженный через посредство многих персонажей и жизненных обстоятельств.
Художественный язык прозы Светланы Замлеловой осуществляет живую преемственность по отношению к русской классике, оставаясь при этом современным, отражающим развитие русского литературного языка в нынешнюю эпоху. В современной литературе (особенно так называемого «магистрального направления») активно используется приём стилизации, предназначенный для того чтобы более достоверно воссоздать колорит того или иного времени. Следует сказать, что зачастую этот стилевой приём, используемый механически и не имеющий подлинной творческой мотивации, не даёт ожидаемых результатов, привнося в текст фальшивые интонации и девальвируя написанное. В романе «В некотором царстве…» мы видим пример того, как в языке прозы современного автора оживает атмосфера давних времён, воссоздаётся речевой строй легендарной старины. Тонкое чувство языка, его оттенков и полутонов, позволяет писательнице пользоваться языком старины как собственным, как если бы она была современницей описываемых событий. Это крайне редкое в нашей литературе качество, которое уже одно, взятое само по себе, делает роман «В некотором царстве…» уникальным для литературы нашего времени.
Необходимо подчеркнуть ещё и следующую особенность стиля Светланы Замлеловой. По мере осуществления, от главы к главе, временных переходов от одного исторического периода к другому, в соответствии с этими переходами неуловимо, но осязаемо меняется образ языка, и эти перемены происходят органично и естественно, не создавая сбоев в читательском восприятии. Благодаря этому качеству, в процессе прочтения романа в сознании читателя стремительно, но ярко запечатлевается образ русской истории в его речевой полифонии. Стилевая метаморфоза совершается бесконфликтно, повышая достоверность художественной правды в отношении описываемых событий. Вообще, художественный язык Светланы Замлеловой соответствует самым высоким критериям оценки, являясь одним из главных факторов её прозы. Иначе говоря, писателю, владеющему художественным языком на таком уровне, подвластны творческие задачи любого масштаба.
Не секрет, что, создавая художественное произведение на историческую тему (особенно на тему истории в её преемственности), писателю сложно бывает избежать тенденциозности. Описывая исторические события, писатели зачастую высказывают свои идейно-политические предпочтения, делают оценки, порой весьма категоричные, и таким образом, вольно или невольно, навязывают читателю свою, авторскую точку зрения. На это обстоятельство можно было бы смотреть как на нормальное и естественное явление, если бы оно во многих случаях не снижало планку, перемещая художественную прозу на уровень публицистики (т. е. другого жанра, со своими законами и критериями оценки). Светлана Замлелова тщательно избегает подобных смещений, ориентируя читателя исключительно художественными средствами в системе традиционных духовно-нравственных координат и, естественно, предоставляя ему возможность самостоятельно прийти к выводам по поводу того или иного вопроса, поставленного автором в контексте повествования.
Персонажи романа «В некотором царстве…», при всех своих различиях, остаются типичными представителями Русского мира (даже если принадлежат к другой национальности и другому вероисповеданию). Глубокая погружённость в русское бытие, взаимосвязанность с жизненными процессами русской московской жизни и многие другие факторы осуществляют синтез зачастую разнородных явлений, формируя Русский народ не в узкоэтническом, а в высоком духовном смысле – на основе принадлежности к русской культуре, русскому языку, русским государственным и общественным делам. И стольный град Москва выступает здесь как символ России в её духовной полноте и человеческом многообразии. Герои романа – люди, своими помыслами и поступками создающие русское мировоззренческое, общественное и бытовое пространство, на котором находит себе место полнота бытия. В этом идея романа, в этом его осуществлённая задача. И о ком бы мы ни читали – будь то вздорная купчиха Кокорева, закрывшаяся в своём герметичном мире и не желающая видеть подступающей реальности; блаженный Макарушка, противопоставляющий безумному миру экзистенциальное юродство; злосчастный русский еврей Аарон Шнеерсон, испивший чашу страданий при столкновении с неотвратимой силой судьбы и людских предрассудков и лишь чудом нашедший правду; Никанор Ильич Покровский, сделавший отчаянный и страшный шаг в безнадёжном стремлении исправить жизненную ошибку; или кто-то из других персонажей, встающих перед читателем во всей красе своих дерзновений, – каждый из них будет ярким всплеском одной из неисчислимых волн бушующего русского людского моря, за которым стоит в сияющей чистоте невыразимая и недоступная окончательной разгадке душа России. И читатель скользит по волнам этого моря, сопереживая его персонажам – всем вместе и каждому в отдельности. Русским духом наполнен текст романа, духом свободным и неукротимым, который дышит там, где хочет.
В последние годы в благонамеренных кругах много говорится о необходимости возврата к истокам. Зачастую в этот призыв вкладывается установка на возрождение архаики, восстановление традиций, отмерших ещё в прошлом веке или существующих по инерции, но проявивших свою нежизнеспособность в современной системе бытийных координат. Возврат к истокам следует понимать только как действительное, а не декоративное возвращение к традиционным религиозным ценностям и к основанному на этих ценностях светскому гуманизму. Роман «В некотором царстве…» убедительно показывает, что неизбежная и неотвратимая эволюция внешних форм русской жизни не наносит ущерба национальному самосознанию, а наоборот, даёт ему живые импульсы к развитию в условиях добросердечной открытости в отношении всего жизнеспособного, приходящего из внешнего мира, и к формированию здорового иммунитета к тенденциям вырождения и угасания, нередко прорывающимся из того же источника. На этом пути герои романа делают свой жизненный выбор, за который держат ответ перед собой и своей совестью.
В заключение хотелось бы сказать ещё об одном качестве романа «В некотором царстве…» – качестве, присущем всей прозе Светланы Замлеловой: роман удивительно благоприятен для чтения. Занимательность историй обогащена художественными достоинствами языка, драматичность сюжетов не переходит в столь модную сегодня «чернуху», добрая ирония далека от вульгарного цинизма. Внимание читателя не спотыкается о проявления современного «новояза», неизбежно присутствующие в творчестве многих модных писателей современности. Читая роман, словно приникаешь к чистому роднику русской речи, не осквернённой тлетворным воздействием массовой культуры и политических тенденций. Роман обладает той степенью универсальности, которая делает его достоянием самого широкого круга читателей. Здесь нет нравоучений и наставлений, сама авторская мысль, оформленная художественно, выводит читателя на широкую дорогу понимания и обобщений. Следуя традициям русской классической литературы в современных условиях, проза Светланы Замлеловой осуществляет преемственность по отношению к этим традициям, становится полноценным звеном в неразрывной связи этих традиций. В этом её значение, в этом её ценность для современной отечественной словесности.
На этом я хочу завершить свои краткие заметки о романе Светланы Замлеловой «В некотором царстве…». Книга пришла к читателю, и это хорошо. И если продолжить разговор о возвращении к истокам, то можно сказать, что данная книга является важным шагом на этом пути – возвращением к призванию русского писателя в его классическом понимании, представление о котором за прошедшие три постсоветских десятилетия было во многом утрачено или искажено.
Иван ГОЛУБНИЧИЙ
критик, литературовед,
кандидат филологических наук
– Вы любите Москву?
– Очень.
– Какой замечательный, таинственный город.
Кого здесь только нет: и гении, и подонки, художники, преступники, пророки и чародеи всех мастей. Мы с вами здесь живём…
Из х/ф «Часы без стрелок» (2001)
Часть первая
В одном из старых московских дворов можно встретить необычайную старуху. Вообще-то старух в Москве очень много, и с каждым годом их становится всё больше и больше. Куда бы вы ни направились, вы встретите десятки, сотни старух. Но эта старуха совершенно иного рода.
Автору самолично доводилось слышать от одного московского обывателя, будто бы родилась она в тот день и час, когда Наполеон повелел возжечь Москву. И что будто бы вся сила этого пламени, охватившего древний город, вошла в новорожденную и даровала ей мафусаилов век. Ну да мало ли о чём на Москве болтают…
Ведь додумался кто-то сказать, будто Домна Карповна, а именно так и зовут эту старуху, не кто иной, как Вечный Жид. Пробовали возражать, что Вечный Жид был мужеского полу, о чём достоверно известно. На что было сказано, что вот то-то оно и есть, что «был». Да и, право, какие пустяки – ссылаться в наше время на пол той или иной особы. Но главное: неужели кто-то всерьёз думает, будто человек, способный жить вечно, не способен к такой малости, как обновление своего существа. Смешно даже подумать! Если человека в 1575 году видели в Мадриде, в 1599 – в Вене, в 1601 – в Любеке, Ревеле и Кракове, а в 1604 – в Париже, то почему бы, например, в 1850 ему не объявиться в Москве? Или если человека на протяжении тысячелетий называли то Агасфером, то Картафилом, то Бутадеусом, а то даже Исааком Лакэдэмом, почему бы однажды ему не объявить себя Домной Карповной? В конце концов, никто и не утверждает, будто Домна Карповна безвылазно сидит в Москве. Возможно, что, странствуя, она принимает другие имена и другие обличья. Это в Мадриде или Ревеле Вечный Жид зовётся Агасфером, а в Москве его называют Домной Карповной. И вообще, это его личное дело и его право. Что же тут удивительного? Удивляется только тот, кто предпочитает оставлять права для себя, для ближних приберегая обязанности.
Однажды, толкнув Христа, идущего к Голгофе, Агасфер, бывший в ту пору Иосифом, услышал: «Я уйду, но ты дождёшься моего возвращения». Когда же Наполеон, имевший славу Антихриста, двинулся на Москву – Третий Рим, – вполне естественным выглядело ожидание конца света и притом именно в Москве. Но ожидать второе пришествие в Москве, имея на себе лиловую куртку с блестящими пуговицами и белые шерстяные чулки, да ещё и прозываясь при этом Бутаде-усом или Лакэдэмом, было бы, согласитесь, странно. И совсем другое для Москвы дело – Домна Карповна.
Впрочем, Вечный Жид или Ангел Хранитель – кто же разберётся в таких тонких материях! Наше дело не рассуждать, а припомнить кое-что из рассказанного Домной Карповной. А истории, здесь предложенные, слышаны в разное время разными людьми от неё самой. И это ещё одно подтверждение смелой догадки о сверхъестественном происхождении Домны Карповны. Потому что охват историй таков, что делается совершенно очевидным: обычному человеку знать столько попросту не под силу. А то, что Домна Карповна знакома с каждым, о ком пойдёт ниже речь, в этом нет никаких сомнений. Каждая новая глава нашего достовернейшего повествования названа именем очередного знакомца Домны Карповны, потому что Домна Карповна никогда ничего не выдумывает и рассказывает только о том, что видела или слышала сама.
Но читатель и сам рано или поздно во всём разберётся. В том числе, поймёт, правомерна ли наша догадка относительно Домны Карповны или следует искать другого ответа на вопрос о её происхождении. Ведь может статься, что она только сродни Ангелу Хранителю или Вечному Жиду, с той разницей в последнем случае, что не таскается по белу свету, а предпочитает жить в Москве. И не знает наверняка о долготе своих дней.
Зато сколько она всё-таки знает! Поистине, миру не вместить написанных книг, если записывать всё, что может порассказать Домна Карповна. Приведём лишь одну такую историю… Хотя только соберёшься рассказать одну какую-нибудь историю, как тотчас вспоминаешь ещё что-нибудь исключительное и уже нипочём не можешь удержаться, чтобы не облегчить душу новым рассказом. На самых последних словах память, как загулявший купчишка сторублёвку, непременно выбросит новый анекдот.
Так что начнём по порядку. Уж лучше рассказывать, пока память не утомится и не надоест излагать, чтобы потом не жаловаться и не мучиться сознанием того, что вот-де самого главного и не рассказали.
Начнём же, как и положено, с зимы.
Марфа Расторгуева
Как обычно в канун Рождества, ангелы уже начистили звёзды до блеска. А в тот год звёзды горели так ярко, что смотреть на них не было никакой возможности. Стоило только поднять голову кверху, как глаза тотчас начинали слезиться. Звёзды так плотно, так густо расположились на небе, что даже луна терялась среди них и казалась каким-нибудь звёздным сгустком. И, наверное, только один человек на всей Москве мог смотреть, не мигая, на небо даже в такую необыкновенно яркую ночь.
Фома Фокич слыл человеком странным. Кое-кто даже называл его колдуном, потому что никто не знал, чем живёт Фома Фокич. А кроме того, жил он уединённо и не где-нибудь, а в Лефортово. Говорил он мало, болтовне с соседом предпочитал беседы с живностью, обильно населявшей его двор. Разномастных кошек было такое множество, что когда иные из них уходили и возвращались вновь, никак нельзя было разобрать, те же самые это кошки или вовсе другие. Два чёрных пса, огромных и лохматых как лешие, сторожили двор. И стоило остановиться кому-то на улице рядом с воротами, как псы поднимали такой страшный лай, что замешкавшемуся прохожему хотелось только одного: поскорее убраться восвояси и никогда уже более не оказываться рядом со страшными воротами дома Фомы Фокича Расторгуева.
А уж птиц рядом с домом было и вовсе несметное количество. Зимой к воронам, воробьям и галкам присоединялись снегири, синицы и свиристели. Снегири скромничали и, нахохлившись, жались друг к дружке на голых, растопыренных от мороза ветках. Синицы, хоть и не такие наглые, как воробьи, но всё же оказывались побойчее и, присаживаясь на наличник, заглядывали в окно, как бы напоминая, что пора подсыпать зёрен и вывесить новый кусочек сала, потому что прежний вороны уже третьего дня утащили в неизвестном направлении.
Весной появлялись грачи и скворцы, залетал зяблик, а то и жаворонок, переливчатая песня которого порой доносилась до слуха. Рассыпались по веткам дрозды, и откуда-то из зарослей черёмухи и бузины, сплетшихся в непролазную чащу в самом дальнем углу двора, вылетала соловьиная песня – да, да, та самая, с посвистом и прищёлкиванием.
Говорили даже, что видели, как прилетала на двор к Фоме Фокичу сорока, и слышали, якобы, её глупую трескотню. Но это уже совершенно невозможное измышление, ведь всем известно, что сорока не живёт на Москве после того, как украла у постника просвиру.
Что уж говорить о неугомонных курах, кудахтавших без умолку и разбредавшихся по двору, как блохи по старой, немытой рубахе…
Но в ту Рождественскую ночь тишина по всей земле стояла страшная – мороз всем завязал рты, так что даже собачьего брёха не было слышно окрест. Носа не хотелось высовывать на улицу, и все твари попрятались по своим углам, какой у кого был. Только Фома Фокич стоял на крыльце своего дома, выходившем не на улицу, а во двор. Выставив вперёд свою короткую широкую бороду, похожую на щётку из швейной мастерской в Зарядье, он смотрел на звёзды, блиставшие ярче обыкновенного. Одет он был в белый тулуп с огромным чёрным воротником, скроенным, должно быть, из целого ягнёнка, так что казалось, что в этот воротник без труда можно завернуть младенца.
Небо искрилось, и снег кругом искрился. Искрились в воздухе редкие снежинки, застывшие между небом и землёй и похожие на маленькие звёздочки. Искрились и те снежинки, что опустились на воротник или застряли в бороде Фомы Фокича.
Долго смотрел Фома Фокич ввысь, точно читая небо как раскрытую книгу. И долго ещё в ту ночь горел огонёк в его окошке. Предательский огонёк, готовый рассказать каждому, кому вздумалось бы пройти мимо расторгуевского дома, что хозяин не спит, а занят каким-то важным и неотложным делом.
* * *
Младший брат Фомы Фокича, Фока Фокич, купечествовал. А жил он у церкви Рождества Богородицы, что на Кулишках. Человек это был весёлый и разговорчивый, но легкомысленный и податливый сверх всякой меры. Так что сманить его на любое почти дело не составляло никакого труда. Стоило только расписать красноречиво новое предприятие, как Фока Фокич уже загорался и готов был следовать чуть не за первым встречным. Разбираться и вникать в разные мелочи было не в его натуре. Но Бог, должно быть, хранил его, и он не успел в молодые годы наделать много глупостей. Тем более и отец, приметив в младшем сыне известную черту, не давал ей развития, держа Фоку под неусыпным надзором и находя занятия тут же.
Долго Фока Фокич оставался холостым, так что родители уж забеспокоились и принялись искать ему невесту. Сорока лет Фоку Фокича женили, но скоро он овдовел. К тому времени один за другим ушли и родители.
Жена оставила Фоке Фокичу сына, которого, правда, по настоянию второй жены, пришлось отправить в Вологду к родственникам покойной. Второй брак оказался бездетным, к тому же суждено было Фоке Фокичу и второй раз овдоветь. Он стал подумывать, чтобы вызвать к себе повзрослевшего сына, но тут пришла сваха Анфиса Мокиевна со Вшивой горки и, земно поклонившись, сказала зычным голосом:
– Здравствуй. Здравствуй, батюшка. Не всё тебе куковать, горе мыкать. Ты человек небедный, молодой ещё. Да ведь не век же таким останешься…
И шестидесятилетний Фока Фокич женился в третий раз на девице двадцати лет отроду. Девица, именем Марфа, была из бойких красавиц и за Фоку Фокича пошла с удовольствием, предвидя, что из молодых в хороший дом едва ли кто возьмёт бесприданницу – уж так свет устроен. А возьмут в бедный, чтобы извести работой и попрёками. Теперь же ей решительно всё нравилось. И, войдя хозяйкой под кров Фоки Фокича, она тут же освоилась, бегала по двору и дому, отдавала распоряжения, а в комнатах скоро завела новые, небывалые прежде порядки. Не было такого в расторгуевском доме, чтобы жена с мужем по разным углам ночь ночевали. А Марфа, сославшись на шумный сон Фоки Фокича, повелела очистить от хлама дальнюю комнату, что выходила окнами на цветник, и устроила там собственную, отдельную от мужа опочивальню. В комнату свою Марфа никого не допускала, кроме разве каких-то подруг, изредка навещавших её. Да ещё девицы Феодоры, неуклюжей и рослой, появившейся в доме недавно и неизвестно откуда. Девица Феодора вела себя тихо и была почти незаметна, несмотря на свои внушительные формы. В дом она являлась, чтобы помогать хозяйке, а время от времени оставалась на ночь в её комнате.
Фока Фокич только покрякивал, глядя, как вьётся Марфа над его опустелым было гнездом, как ворошит старый сор и тащит новые веточки и пушинки, обустраивая всё по-новому.
А уж как бывало любовался Фока Фокич молодой женой вечерами, когда девица Феодора вносила в столовую самовар и ставила его на край стола. Следом в столовую входила Марфа и присаживалась к самовару, возвышаясь над подносом с чашками, над пирогами и прочей снедью, как наседка над только что вылупившимися птенцами.
Очень был доволен Фока Фокич новой своей женитьбой, и щедро отблагодарил он Анфису Мокиевну, отослав на Вшивую горку фунт чаю и красного ситцу с набивными цветами. Наверное, отсылал он и деньги. Но об этом нам ничего не известно.
* * *
Филипповки уж подходили к концу, когда Фома Фокич вдруг получил из Вологды письмо:
«Добрый дядюшка!
Не имея возможности лично поздравить Вас с Рождеством Христовым и Новым Годом, радуюсь возможности в письме пожелать Вам всяческого благополучия. Праздник не стал бы праздником для меня, если бы не смог я засвидетельствовать моё к Вам почтение и безграничную благодарность. Ибо и до сего дня памятно мне, как приезжали Вы попроведать меня в Вологду, как баловали сироту московским гостинцем.
Спешу, дядюшка, сообщить Вам добрую весть. Не так давно получил я письмо от батюшки, в котором призывает меня к себе батюшка. Так что к Пасхе, должно, прибуду в Москву и уж тогда, наконец, смогу обнять Вас, добренький дядюшка. А пишет мне батюшка, что новая матушка хочет меня видеть и хочет, чтобы жил я с ними, то есть в батюшкином доме. Чтобы стал батюшке помощником, потому он стар уже.
А я уже по девятнадцатому году, а в батюшкином доме десять лет не бывал. Спасибо новой матушке – счастье такое.
Молю Бога о сохранении благоденствия батюшки и новой матушки, а наипаче о Вашем, дядюшка, спокойствии и благоденствии. Ваше расположение ко мне, милый дядюшка, превыше и дороже для меня всего на свете. И не могу пожаловаться на худое обращение, а всё же ласку за всю жизнь от Вас только и видел. И в дальнейшем, смею надеяться, не утрачу Ваше благорасположение.
Берегите себя и своё здоровье ради любящих Вас.
Жду, когда смогу обнять Вас, дядюшка, и прижать к самому сердцу.
Почитающий Вас и покорный племянник Ваш Данила».
В самом деле, Данила, высланный родным отцом из Москвы, был, пожалуй, единственным существом, кого Фома Фокич искренне жалел и к кому питал подлинную привязанность. Мальчишка был болезненный, робкий и, казалось, появился на свет для того только, чтобы мешать всем и всех раздражать. Как ни старался Фома Фокич оставить у себя Данилу, но уж очень хотелось первой же мачехе отослать подальше пасынка, и Даниле суждено было уехать в Вологду. Однако письмо племянника, возвращавшегося спустя столько лет домой, не вызвало в Фоме Фокиче радости. Напротив, прочитав письмо дважды, он помрачнел и впал в напряжённые раздумья. А уже через два дня, в ночь, описанную нами в начале повести, Фома Фокич составил ответ племяннику. О чём он писал, достоверно неизвестно, поскольку само письмо не сохранилось. Вероятнее всего, письмо было порвано Данилой, потому что в шкатулке его много позже нашли два клочка бумаги с неровными краями. На одном клочке мелким, почти без наклона почерком было написано: «…только о том никому не сказывай, даже и отцу. А в том, так оно или нет, не сомневайся, а исполни всё по-моему, в том греха нет и труда тебе тоже. А я жизнь знаю и человека знаю и много чего…» На другом же сохранились только две строчки в несколько слов: «Любящий тебя дядя. 25 декабря 18…» Почерк, бумага словно кричали о том, что клочки принадлежат одному письму. Дата отметала всякие сомнения, что это именно то письмо, имеющее отношение к тому делу.
Достоверно известно, что Данила пообещал дядюшке во всём его слушаться и всё исполнять в точности. А кроме того, посетовал в письме на виденный им дурной сон. Будто бы змея заползла на дуб, под сенью которого отдыхал сам Данила, и что будто бы капли змеиного яда падали на грудь Данилы и прожигали её. Отчего сердце сжалось, и спёрло дыхание.
Уже потом, когда всё раскрылось, многие только находили в этой истории подтверждение слухам, ходившим о Фоме Фокиче. Но были люди, утверждавшие, что не колдовская сила двигала Фомой Фокичом в его суждениях и делах, а жизненная опытность и знание человеческой природы, до скуки, до оскомины однообразной и неизменной.
* * *
Когда на Святой неделе Данила появился в доме Фоки Фокича на Кулишках, радость встречи отца с сыном оказалась омрачена. Фока Фокич вдруг с ужасом и удивлением обнаружил, что сын его нем и что на этом основании добиться от него хоть слова решительно невозможно. О чём бы ни заговаривал Фока Фокич с сыном, тот только молчал да кланялся как деревянный троицкий медведь.
Пять лет назад, по приезде Фоки Фокича в Вологду, сын его был совершенно здоров и разговаривал куда как бойко. А кроме того, пел чудным голосом на клиросе в церкви Николы на Глинках. И вот надо же такому случиться!
Фока Фокич совсем было растерялся, но тут, как, впрочем, и всегда в последнее время, вмешалась Марфа и сказала:
– Ты, Фока Фокич, раньше-то времени не пугайся, потому мало ли, что с ним в пути могло приключиться, – тут она кивнула на Данилу, который в ответ отвесил лёгкий поклон. – Вологда, чай, не ближний свет. Столько вёрст отмахать!.. Да тут не то что языка – ума лишишься! Дай ты ему отдохнуть, после поговоришь!..
Фока Фокич уже собрался умилиться душой и в который раз порадоваться уму и сноровке молодой жены, как вдруг случившийся тут же дворник Яков, бывший всегда там, где происходили хоть самые незначительные события, и которому Марфа предрекала смерть от любопытства, не утерпел и вмешался в разговор:
– Во, во! – сказал он, тыча кривым пальцем в Марфу, как бы в подтверждение сказанного ею. – У нас вот тоже было – в деревне, онемел один. Денисом звать… Поспорил он, значит, что на кладбище заночует, а его возьми спорщики да и разыграй. Лёг, значит, один на могилу, ветками его присыпали, а в полночь он и встал. Дуракам-то смех, а из Дениски чуть не душа вон. И не то что онемел…
– А что же? – заволновался Фока Фокич.
– Одурел совсем!..
Воцарилось тягостное молчание. С какой-то даже опаской покосился Фока Фокич на сына, словно пытаясь и в нём высмотреть черты безумия, сопровождающего немоту. Но взгляд Данилы был ясен, и ничто не выдавало в нём «одурения». Напротив того, рассказ Якова вызвал у него улыбку. Он даже похлопал по плечу дворника, точно говоря: «Ну, брат… Славно ты врёшь! А впрочем, всё может быть…»
– Ты, Яков, ступай. Ступай… – сказал наконец Фока Фокич. – А ты, сынок, и то правда, отдыхай с дороги.
Все разошлись. А Фока Фокич долго ещё сидел в столовой, предаваясь неясным размышлениям. Что было делать, Фока Фокич не знал и весьма тяготился своим незнанием. Хорошо бы посоветоваться, но с кем? Случай-то небывалый. Он бы посоветовался с Марфой, да ведь Марфа своё слово сказала и нового ничего не добавит. Хорошо бы посоветоваться с братом, но брат человек суровый и молчать не станет – припомнит, что Фока Фокич сына сам от себя отослал. Сходить бы к батюшке, попросить помолиться. А то и подальше куда съездить – вот хоть бы к Троице-Сергию…
– Пусть, пусть отдыхает, – прервала Марфа благочестивые мысли Фоки Фокича, входя в комнату и останавливаясь в недоумении при виде написанных на лице у мужа раздумий. – Что ты… Фока Фокич? Будет тебе думать-то, утро вечера мудренее. Отправляйся спать. И я пойду. А завтра сынок твой разговорится, с Божьей помощью. Да я и сама с ним поговорю. Я слово такое знаю…
Марфа подмигнула, подхватила Фоку Фокича под локоток, и Фока Фокич, несколько даже успокоенный уверенностью и спокойствием жены, покорно отправился спать.
* * *
Долго ещё не тушилась свеча в комнате Данилы в ту ночь. В доме всё стихло, и давно, казалось, всё спит, а Данила всё сидел на разостланной постели и неотрывно наблюдал за пламенем свечи, установленной на невысоком комоде рядом с дверью. Свеча отчего-то трещала, а пламя то и дело принималось биться, как поднятый на ветру флаг.
Мысли Данилы были заняты тем удивительным положением, в котором он оказался не по своей воле и, не вполне осознавая зачем. Никогда ещё Данила не лгал и не притворялся. Роль мнимого немого тяготила его, но он вынужден был покориться дядюшкиной воле. Пообещав исполнять все указания Фомы Фокича, Данила и помыслить не мог, что указания эти будут так странны и необычны. Уже и крамольная мысль – «а не затеял ли дядюшка игру?» – промелькнула в голове у Данилы. Уже и раскаяние последовало вслед за крамолой, а Данила всё думал, колеблясь, и томился неясным предчувствием.
Как вдруг в дверь кто-то царапнулся, а в следующее мгновение в комнату проскользнула Марфа.
Данила видел, как она заложила дверь на щеколду, как приблизилась плавно и неслышно, как остановилась посреди комнаты и – простоволосая, в длинной рубахе, в шали, небрежно накинутой поверх, с огарком в руке – заколыхалась от беззвучного смеха.
От неожиданности Данила чуть было не заговорил, но вовремя опомнился. Позабыв закрыть рот, он смотрел, как под рубашкой Марфы подпрыгивает тяжёлая, мясистая грудь, как соски буравят ткань, как вздрагивает округлый живот, и ему было страшно. А Марфа всё смеялась, так что даже рубашка сползла с её левого плеча. Но Марфа как будто ничего не замечала. Вдруг она перестала смеяться и тихим, глухим голосом спросила:
– Нравлюсь тебе?
Данила вздрогнул. А в следующее мгновение Марфа уже сидела рядом и, обжигая, шептала ему в самое ухо:
– Отец твой старый, слышишь?.. А я молодая, я хозяйка всему здесь… Кого захочу – выгоню, кого захочу – позову…
Она снова засмеялась бесшумно и прижалась к нему, так что Даниле показалась, что Марфа обняла его своей грудью.
– Это я, я всё устроила, – шептала Марфа, и от слов её у Данилы горело ухо. – Жало моё сердечное… Нарочно тебя вызвала… Ты взгляни на меня… Плохо тебе не будет, уж я обещаю…
И она обнажила грудь, от одного взгляда на которую Даниле стало нехорошо. Новое, незнакомое прежде чувство боролось в нём с ужасом и отвращением. Ему вдруг показалось, что всюду, куда бы он ни пошёл теперь, эта огромная грудь настигнет и накроет его.
Данила вскочил и отошёл на несколько шагов. А Марфа снова заколыхалась, растянувшись на его постели, и заговорила уже громче, бесстрашнее и бесстыднее:
– Чего боишься? Разве видит кто? Ты, я да постель…
Выйти из комнаты Данила боялся: а ну, кто увидит Марфу, как потом оправдаешься? Но и Марфы он тоже боялся.
Тут взгляд его упал на комод, куда сам он не так давно выложил россыпь разных мелких вещей. Среди прочего Данила увидел огрызок карандаша и небольшой – в осьмушку – листок бумаги.
Как за спасением бросился к ним Данила, и спустя минуту Марфа уже читала:
«Не губи меня, матушка. Избавь обоих от греха, срама и беззакония. Не заставляй меня сделаться еллином, чтобы познать мне матушку да ещё при живом батюшке. Не играй со мной, сирым, как с мышью».
Эту записку Данила запомнил на всю жизнь, утверждая впоследствии, что никогда после ничего подобного писать ему уже не доводилось.
Но Марфу записка привела в бешенство. Бросившись к комоду, она запалила на свече бумагу и, дождавшись, когда листок обуглится, бросила пепел под ноги.
– Какая я тебе матушка! – зашипела она на Данилу. – Будет уже невинностью-то прикидываться!.. Посмотри вон на себя… жеребец… Чего молчишь-то?.. Ляжешь, что ли?
Но Данила, не успев даже подумать ни о чём, замотал головой. И тут Марфа с силой рванула ворот своей рубахи, отчего ткань с треском разошлась, и Данила, не понимавший пока, что произойдёт следом, с ужасом уставился на грудь Марфы, вывалившуюся наружу, как комья подошедшего теста. Но пока Данила зачарованно рассматривал тело своей «матушки», сама она тем временем мгновенным движением расцарапала себе обе щеки, смела с комода всю мелочёвку, так что Данила невольно отпрянул в сторону, опрокинула на пол стул, метнулась к двери и, отбросив щеколду, завизжала так, что если бы в доме был мертвец, он непременно бы поднялся с одра.
Дом пришёл в движение. Послышались торопливые шаги, голоса, где-то стукнула дверь, огни заметались в темноте. А в комнате Данилы постель была смята, повсюду валялись вещи, и Марфа в разодранной одежде, с исцарапанным лицом кричала, что было сил.
Сбежался, казалось, весь дом. Не было разве девицы Феодоры. Все шумели – вскрикивали, ахали, переговаривались. Но разобрать что-либо было невозможно. Марфа металась среди толпы, кричала, обвиняла, старалась, чтобы каждый увидел её окровавленные щёки и разодранную рубашку. Яков, следуя своему всечасному любопытству, предпринял даже и не одну попытку ощупать разрыв ткани. Но не имел в том успеха. По нескольку человек все заглядывали в комнату Данилы, пожирали глазами беспорядок и выходили весьма удовлетворённые увиденным, бросая тайком любопытные и злорадные взгляды на хозяина. И в полумраке посреди всей этой сумятицы стоял Фока Фокич, растерянный и немотствующий. А перед ним на коленях – Данила, так и не проронивший ни слова и всем своим видом выражавший совершенную покорность судьбе и отцовой воле.
* * *
Продолжение ночная история получила наутро. В самый разгар ночной суматохи Фока Фокич вдруг повернулся спиной к суетящемуся люду и побрёл прочь, оставив сына стоящим на коленях, жену – растерзанной и метущейся, всех же прочих – недоумевающими в смысле дальнейших действий и отношения к происшедшему. Все ожидали от хозяина крепкого словца, а если посчастливится увидеть, то и кулака. Но хозяин повёл себя так, что остальным вдруг стало стыдно чего-то. И, притихшие, все разошлись. Вот если бы Фока Фокич поднял руку на жену или сына, вокруг бы все закричали, заохали, стали бы умолять Фоку Фокича о пощаде. Потом осудили бы и Марфу, и Данилу, и самого хозяина. Сложились бы разом или постепенно целые партии обвинителей и оправдателей. Начались бы перекрёстные разговоры и даже ссоры на почве того, кто же всё-таки виновен в расторгуевском деле, а кого и пожалеть следует. Тут же бы всплыли и вековые противоречия полов. И тем, кому особенно недосуг ломать голову над загадками и перипетиями судьбы, в одночасье объяснили бы все провалы мировой истории, включая, конечно, и расторгуевскую, замыслом Создателя о слабом поле.
Но продолжать шуметь и вообще проявлять какой-то интерес к событиям уходящей ночи более было нельзя. Это значило бы не просто идти против воли Фоки Фокича, но и проявлять откровенное непонимание этой воли. А стало быть, и откровенное несоответствие своему положению в доме. И пусть Фока Фокич ничего такого не говорил. Все и так понимали, что к чему. Да и Марфа была здесь и была пока в силе. Бунтовать же никто не собирался, а потому все поспешили в свои комнаты и каморы. Один Данила так и стоял на коленях, пока не разошлись все участники и свидетели ночного происшествия.
Когда же наутро Марфа вошла в комнату Фоки Фокича, тот сидел на сундуке, сложив по-стариковски на коленях руки, согнувшись и вперив глаза в пустоту. Перед Марфой сидел старик. Казалось, он так и не менял положения с самых тех пор, как вошёл ночью в комнату, что так и просидел всё это время на сундуке, распластав на коленях руки, словно они были ни на что не годны и бесполезны.
Марфа, одетая, причёсанная, с напудренными щеками, подошла к нему и погладила по голове, как гладят больных детей. Фока Фокич шевельнулся под Марфиной рукой, и тогда Марфа, не давая ему опомниться, заговорила:
– Что же, Фока Фокич, вот так оно и бывает: позвали сынка на потеху, а он и сам распотешиться рад. Зашла было справиться, всё ли ладно его устроили, а он… Вишь ты…
Тут Марфа, немало за ночь передумавшая о событиях ночи, выстроившая линию защиты и почти убедившая себя в собственной невиновности, в невинно принимаемых страданиях, вполне искренно всхлипнула:
– Вишь ты, сквернавец какой!..
Фока Фокич сидел недвижим и таращил глаза, точно силясь увидеть правду, невидимую и недоступную суетному глазу. Слова Марфы не произвели на Фоку Фокича никакого впечатления. Марфа, однако, не сдавалась.
– Нельзя, Фока Фокич. Нельзя так оставлять такое преступление. Скажут, мол, «сирота». Так что с того, что сирота? Я вон тоже отца не знала, грех меня обижать.
Фока Фокич молчал, не меняя ни позы, ни выражения лица. Тогда Марфа подсела к мужу на сундук и по примеру Фоки Фокича сложила на коленях руки.
– Вот ты, Фока Фокич, всё молчишь, – сказала она. – А надо бы решить. Так этого не оставишь. Я с ним под одной крышей жить не стану, да и что люди скажут? Скажут: вон, у Фоки-то Фокича в дому прям содом – сын с матушкой на отцовых глазах забавляется, а отцу-то и сраму нет. Позору-то сколько!..
Марфа замолчала, выжидая. Но поскольку молчал и Фока Фокич, Марфа решила действовать решительнее.
– Выгони ты его! – вдруг выдохнула она. – Выгони совсем и наследства лиши. Так, чтобы ни-ни!..
Она погрозила кому-то пальцем, а потом ласковым, елейным голосом прибавила, обращаясь к Фоке Фокичу:
– А у нас ещё детки будут!..
Фока Фокич шевельнулся, и Марфе показалось, что слова её стали доходить до мужа. Марфа ободрилась.
– А то знаешь, – заговорила она веселее, – знаешь, как рассказывают-то: у купца одного росла в саду яблоня. Кто ни скушает от неё яблока, тот от всякой хвори излечивается. И как-то возле старой яблони стала молодая расти. Купец заметил и ну старой-то яблоне ветки остригать – чтобы молодой расти не мешала. А молодая вдруг почала сохнуть. Купец решил, что ей старая мешает, и велел старую срубить. А как старую срубили, молодая и вовсе высохла… Ты, Фока Фокич, старая яблоня, от твоих щедрот голодные сыты, хворые здоровы. И негоже тебе умаляться из-за сына такого… нечестивого!
Но Фока Фокич всё молчал и смотрел куда-то перед собой. На лице его появилось выражение довольства, он улыбался едва заметно, адресуя эту улыбку не вовне, а внутрь себя. Марфа, заметившая перемены в муже, невольно вспомнила рассказ Якова, последние слова которого отозвались у неё в душе: «Одурел совсем…»
– Ты посиди, Фока Фокич, – сказала она, поднимаясь с сундука и чуть касаясь пальцами мужниного плеча. – Посиди… Авось и… оправишься…
* * *
Не прошло и четверти часа, как на смену Марфе в комнате Фоки Фокича появился Фома Фокич. С утра уже был он в доме и первым делом отправился к Даниле, не покидавшему своей комнаты. С появлением же Фомы Фокича Данила таинственным образом обрёл дар речи – снаружи слышали, как в комнате говорили на два голоса, как Данила плакал и уверял дядюшку, что «совету во всём следовал». На что дядюшка отвечал, что Данила человек молодой, потому мог сгоряча лишнее сказать, а «в таких делах – лишнее скажешь, потом не отмоешься. А щелкатухе этой того только и надо, чтобы языком зацепиться».
После чего Фома Фокич отправился к Фоке Фокичу. И по всему дому слышали, как решительно и грозно стучала по половицам его палка.
Фома Фокич появился вовремя, потому как Марфа уже ушла, а Фока Фокич в полном одиночестве улыбался и легонько раскачивался на своём сундуке. Но Фома Фокич не сразу приметил происшедшие с братом перемены.
– Вот что, брат, – сурово сказал он, входя в комнату. – Что в доме своём развёл ты грязь и содом, про то мне известно. Видел я то давно, но мешаться не хотел. А вот мальчишку втягивать не позволю!..
И Фома Фокич пристукнул по полу палкой.
– И помни, брат, притчу, как по слову жены князь убил любимого пса, спасшего сына его от змеи. А там, где змея бессильна, там женщина…
Но тут он прервался, заметив наконец, что с братом происходит что-то неладное. Фома Фокич пробовал звать брата, пробовал потрясти его за плечо, но Фока Фокич, бесстрастный с недавних пор к внешнему миру, только улыбался да покачивался, не обращая ни малейшего внимания на то, что происходит вокруг.
Фома Фокич тотчас всё понял. Выйдя во двор, он кликнул Якова и объявил ему:
– Ступай-ка, собери всех, и чтобы через четверть часа – слышишь ли? – все были в гостиной.
Яков отправился созывать домочадцев, и действительно скоро все обитатели расторгуевского дома собрались в гостиной и столпились при входе. При этом мужчины большей частью изображали безразличие, нетерпеливо переминались и смотрели, кто в пол, а кто в сторону. Женщины, напротив, не скрывали своего любопытства и впились глазами в Фому Фокича, ожидая чего-то нового, а может быть, даже и страшного.
– Все ли собрались? – сурово спросил Фома Фокич.
– Да все вроде… – раздались голоса.
– Все тут…
– Все…
– Феодоры нет, – вдруг сказал кто-то из мужчин. – Давеча её видел…
– Я её звал, сказывала – придёт, – вмешался Яков.
– Так я и знал, – пробормотал Фома Фокич.
И, обращаясь к Якову, прибавил:
– Веди её сюда, хоть бы и силой. А драться будет – зови, все придём.
Здесь он бросил недобрый взгляд на Марфу, которая, вооружившись какой-то метёлкой, смахивала пыль с широких, как тарелки, листов фикуса и всем своим видом выражала полнейшее безразличие к происходящему.
Девицу Феодору не пришлось тащить силой. Вскоре она появилась, а следом за ней вошёл и Яков. Она, казалось, была напугана скоплением народа и недоверчиво озиралась, напоминая связанного зверя, которого охотники поймали и для забавы привели в комнаты.
– А ну, матушка, – сказал, хмурясь, Фома Фокич, – сними-ка ты платочек.
– Это зачем ещё? – прогнусавила девица Феодора, отступая на шаг и оглядываясь на Марфу.
– Ты делай, что велят, – прикрикнул Фома Фокич и пристукнул для убедительности палкой. – Платок сними, пока всю тебя не велел разоблачить.
Девица Феодора криво ухмыльнулась, бросила ещё один взгляд на Марфу и распустила платок, затянутый узлом на загривке. И тут все, кто был в комнате, как по команде ахнули – девица Феодора оказалась Фёдором.
А в следующую секунду новоявленный Фёдор, не дожидаясь, пока толпа опомнится, оттолкнул Якова и выскочил вон из комнаты. За ним тотчас бросились, потому что нельзя не броситься за беглецом. Но Фома Фокич закричал:
– Пусть его!.. Пусть его!..
И погоня вернулась.
Гнев Фомы Фокича обратился на Марфу. Вопреки протестам и проклятиям, Марфу закрыли в её же комнате, заперев и ставни снаружи.
В тот же вечер Фома Фокич сделал распоряжения в доме брата, объявив хозяином дома Данилу, а ослабевшего умом Фоку Фокича снарядив с собой в Лефортово.
С тех самых пор Фока Фокич поселился у брата, избрав излюбленным занятием своим общение с птицами. В летнее время он рассыпает по двору зёрна и обращается к птицам со словом. И птицы небесные слетаются, чтобы послушать его.
– Дети, – говорит Фока Фокич птицам, – знайте: злая жена есть огневица неутолимая и трясовица неоставляющая, копьё сердечное и змеиное покоище…
Птицы безбоязненно клюют зёрна рядом с Фокой Фокичом и, кажется, с радостью внимают ему.
Что же до Марфы, сначала хотели изгнать её. Но поскольку с исчезновением девицы Феодоры обнаружили исчезновение столового серебра и бумажных денег из шкатулки в комнате хозяина, то Марфу, как сообщницу, обвинили в краже. И Марфа предстала перед Фемидой. Чаши весов качнулись в руке слепой, и больше Марфу никто уже не видел. Только однажды, спустя время, дошёл до Москвы слух, что будто бы скончалась Марфа Расторгуева от тифа в пересыльной тюрьме.
Еким Петунников
В Ирининской церкви народ собирался разный. Главным образом, конечно, здесь были купцы, фабричные и неизменные для всякой церкви старухи, которые, Бог знает, чем и где существуют. Приезжали и господа. Но господа селились неохотно вокруг Ирининской церкви, потому что ни Елохово, ни Покровское не просто не отвечали господским привычкам, но даже и принадлежности своей стольному граду не выдавали ничем, отличаясь, напротив, какой-то чрезмерной простотой обычаев и нравов.
Ирининская церковь, как все, конечно, знают, памятна героическим своим клиром. И вскоре после того, как французы оставили Москву, поползли по Басманной и дальше по Покровке, расползлись во все переулки и подворья самые необычайные слухи о сокровищах святой Ирины. О тех самых сокровищах, в поисках которых французы перевернули церковь вверх дном. Но так и не найдя ни полушки, запрягли старого дьякона в тележку, дабы перевозить таким немилосердным способом воду, дрова и всё, что было потребно.
Время, ещё более немилосердное, чем французы, уничтожило давно и дьякона, и самого попа – отца Стефана. А люди, влекомые рассказами о золоте, шли нарочно к святой Ирине, чтобы своими глазами увидеть сокровища и услышать их историю. Впрочем, в этой истории нет ничего особенного. А потому не стоит и останавливаться на ней особо. Разве что так, к слову. Да к тому же и позднейший дьякон – отец Андрей – наговорил столько небылиц про Ирининскую церковь, что, если бы не Домна Карповна, пришлось бы схватиться за голову от этой цветущей небывальщины. Можно, пожалуй, сравнить рассказ отца Андрея, который как какой-нибудь кулик горазд хвалить только своё болото, и Домны Карповны, правдивее которой нет никого на Москве…
Итак, едва только стало понятно, что неприятель со дня на день займёт Москву, как ирининский настоятель отец Стефан и дьякон отец Василий, запершись вдвоём в церкви, разобрали пол, выкопали на том же месте яму и, сложив предварительно в ящик, спустили туда все церковные ценности, включая иконы, оклады, утварь и приношения благодарной паствы. Отец Андрей, впрочем, утверждает, что не в ящике, а в мешке хранились сокровища.
Яму, конечно, тут же засыпали, плиты вернули на прежнее место, и принялись ждать. Точнее, старый и вдовый дьякон решил переждать нашествие дома, ни на секунду не сомневаясь, что это краткое и временное неудобство. Сам же отец Стефан, обременённый семьёй, вынужден был покинуть столицу.
Нет ничего удивительного, что объявившиеся вскоре французы первым делом затребовали у отца Василия ключи от церкви, а вторым – добровольной сдачи церковного имущества. Домна Карповна рассказывает, что старый дьякон ключи закопал, и неприятелю пришлось ломать церковные двери. А вот отец Андрей совершенно необоснованно утверждает, будто бы отец Василий собственноручно отпер французам церковь. Далее, правда, разногласия сглаживаются, и рассказчики проявляют единодушие, живописуя тёмные дни, наступившие для отца Василия. Не то злобясь за укрытие сокровищ, не то скучая в обезлюдевшей столице, но только незваные гости принялись измываться над стариком. Седой и высохший дьякон, никогда и прежде не улыбавшийся, с восхитительным смирением сносил новые свои несчастья. Несчастья, впрочем, закончились, как только закончилось пребывание иностранцев в Москве. Поняв, что загостились, заграничные визитёры спешно покинули город, унеся с собой всё, что только успели схватить в суете сборов. И в то время, как Москва была обчищена как какой-нибудь плодоносящий сад, Ирининская церковь вернулась к прежней жизни во всём своём великолепии.
И снова дьякон отец Андрей наговорил пустяков: будто бы отец Василий по отходу супостата лишился ума, вообразил себя бесогоном и стал приставать к прихожанам с намерением изгнать из каждого «легион французов». Так что иные из прихожан ходили жаловаться к настоятелю. Ну не вздор ли?..
Как бы то ни было, Ирининская церковь по воскресеньям бывала полна. Люди случайные, возможно, и не знали Петунниковых. Но местным была хорошо известна петунниковская печаль – не так давно пропал у купцов единственный сын. Ещё на Святой отбыл в Старую Руссу, прожил там с неделю, а дальше – как не было. До Руссы Еким Петунников добрался вполне благополучно и даже обустроился у Боговых – в семье отцовой сестры, о чём Боговы тут же и отписали в Москву. Но по прошествии нескольких дней Еким пропал. След его обрывался в гостином ряду, где в последний раз Еким был замечен теми немногими рушанами, кто успел проведать о нём от Боговых или же заприметить как человека нового и, возможно, небезынтересного по торговой части. При себе, отправляясь в Руссу, Еким имел триста рублей, что и подтолкнуло к мысли о грабеже и насилии. Во всяком случае, отец семейства – Влас Терентьевич – после нескольких дней напряжённого ожидания объявил, что «оно тут, пожалуй, всё ясно будет: нет в живых Екишки». И хотя иные из домочадиц заахали и даже стали подвывать тоненькими голосами, Фёкла Акинфеевна сохранила спокойствие. Прежде всего потому, что перечить супругу она не любила, а кроме того, несмотря на каждодневные с некоторых пор тайные слёзы, ждать она не переставала. Уверенность, что Екиша жив, пребывает в здравии где-то неподалёку и очень скоро явит себя миру и родителям, никогда её не покидала.
* * *
О Старой Руссе мечталось Екиму давно. Лет двенадцати довелось ему провести лето у тётушки Василисы Терентьевны, и с тех самых пор то и дело возвращался мыслями Еким на Дмитриевскую улицу. Снилась ему Перерытица – тихая, безразличная ко всему речка, снилось что-то непонятное и бесформенное, но определённо рушанское. Снилась отведённая тётушкой комната, пахнущая сухими цветами и закрытая от солнца ёлкой, круглый год топырившей ветки, словно и в самом деле не желавшей подпускать никого к окну. Снилась Екиму тишина, снился прохладный сумрак, снился покой чужого дома, где предоставлен был Еким сам себе, где не было отцовых строгостей. Что отец? То недоволен, то смотрит с жалостью. Да ещё ввернёт невзначай: «Дурачок ты у нас, Екишка, как есть – дурачок. Какой уж коммерсант из тебя…»
Словом, прошло уж лет семь, как гостил Еким в Старой Руссе, а всё памятен был ему рушанский уголок. Как вдруг от тётки пришло письмо. Василиса Терентьевна поздравляла семейство «дорогого братца» со Светлым Христовым Воскресением, заверяла, что не смогла бы радостно провести праздничные дни, если бы «замедлила изъявить своё почтение», и под конец жаловалась, что торговля идёт из рук вон плохо и денег нет. После несколько даже прямолинейно намекала, что ни сама она, ни супруг Парамон Митрич от братовой помощи никогда не отказывались и впредь не собираются. А чтобы поправить дела, нужен хоть маленький, да капитал, «а капитал, дорогой братец, по нынешним временам товар редкий. И ежели не от близких людей, то помощи и ждать не приходится, потому как прийти неоткуда».
Петунниковы и не слыли богачами – куда уж до Кокоревых! Но отослать сестрице денег – это Влас Терентьевич вполне позволить себе мог. Когда же вечером за ужином Влас Терентьевич зачитывал семейству письмо и домочадцы, отдуваясь от жары и проснувшихся недавно мух, тянули чай, пропуская горячую струю сквозь зажатый в передних зубах кусок сахара, Еким вдруг понял, что если он сейчас не предпримет чего-то необычайного, то потом будет поздно. Еким заволновался, заёрзал, словно стул вдруг сделался под ним горячим. А потом, перебив отца, степенно рассуждавшего о том, что «помочь-то сестрице можно», заговорил не своим, одеревеневшим голосом:
– Если бы… того… я бы… того…
Отец умолк, а все, кто был в маленькой тёмной столовой, пропахшей ладаном, с любопытством, испугом и недоумением повернулись к Екиму. Во-первых, никто не мог понять, что значат все эти «того». Во-вторых, влезать в разговор, а тем более перебивать отца было не в правилах семейства Петунниковых. А в-третьих, волнение Екима было слишком заметным и непонятным, чтобы не обратить на него внимания.
Странности не укрылись и от внимания Власа Терентьевича да и, вероятно, поспособствовали тому, что Влас Терентьевич не стал прибегать к нравоучению, но сделал попытку разрешить сына от томившего бремени.
– Ну?.. – сказал он, уставившись на Екима, точно хотел нанизать его на свой взгляд.
Но Еким, потупившись, молчал.
Фёкла Акинфеевна перекрестилась и забормотала что-то молитвенное. Влас Терентьевич нахмурился и со словами «ну-ну…» стал медленно и тяжело, точно выпрастываясь из пелён, подниматься из-за стола. Поднявшись и опершись правой рукой о спинку стула, а левой – о край столешницы, он повернулся к иконе Спасителя в углу. Стол под тяжестью его руки пискнул тихонько, домочадцы зашевелились, поспешно отодвигаемые стулья завизжали. Ужин завершился.
* * *
Ночью было душно. Сны толпились как овцы в загоне. То и дело Еким просыпался, но и явь караулила его. Едва открывавшему глаза Екиму становилось страшно всего – отца, Старой Руссы, тётки, судьбы. Потом он снова погружался в сон, и снова встречали его беспокойные грёзы. Потом опять просыпался навстречу ужасу, и пробуждение всякий раз походило на рождение, когда мироздание, призвав к себе человека, смеётся над его беспомощностью и малостью. Рассвет разогнал ночные страхи. Ещё оставаясь в постели и разглядывая, как сонмы пылинок резвятся в солнечном луче, пересекающем комнату, Еким подумывал, а не поговорить ли, в самом деле, с отцом.
Отчего бы не подойти и не рассказать всё, как есть… Правда, что именно «есть» и что стоило бы сказать, Еким не знал, в сознании Екима мысль не всегда встречалась со словом, отчего порой и не обретала законченных черт. Однако и не имея чётких очертаний, томила и нудила.
За завтраком, а домочадцы собирались в столовой трижды на дню, Влас Терентьевич вдруг сказал:
– Вот что мыслю… Собирайся-ка ты, Екиша – поедешь к сестрице. Письмо отвезёшь, – тут он как фокусник извлёк откуда-то и выложил на стол письмо, перевязанное крест-накрест бечёвкой, концы которой, затянутые в узел, топорщились как тараканьи усы. Поверх же письма опустил широкую ладонь с толстыми, прямыми пальцами, поросшими у оснований кустиками чёрных волос.
– С письмом-то, смотри, осторожно, – продолжал Влас Терентьевич, – с тебя спрошу… Да и вот ещё что… Дам я тебе денег… триста рублей… Поживи ты пока у сестрицы и попробуй сам, своим то есть манером торговлю завести… А получится или нет… Ну уж как Бог даст, так пусть и будет…
Влас Терентьевич был, конечно, купцом, но купцом по установившемуся порядку, именно потому, что так «Бог дал». Он был не просто умён и расчётлив, но внимателен и чуток, к тому же был лишён той грубости и самодурства, что отличали порой представителей его сословия. Супруга же Власа Терентьевича была умна сердцем. Она ничего не требовала и ни на что не жаловалась, назначение своё мыслила исключительно в исполнении семейного долга, состоявшего, по её мнению, в заботе о доме и полнейшей покорности мужу. И потому, даже не желая расставаться с Екишей, она, узнав о его отъезде, только прошептала: «Святители…», и в следующую секунду уже думала о том, как бы получше снарядить Екишу в дорогу.
Что до Екима, то для него с этой минуты началась какая-то новая и небывало приятная жизнь, продолжавшаяся до тех самых пор, пока однажды он не обнаружил себя в тихой сумрачной комнате, хранящей терпкий запах сухих цветов – в комнате дома Боговых по Дмитриевской улице Старой Руссы.
Но судьба, как это часто бывает, зло подшутила над Екимом, подманив посулами и тут же крепко ударив. И вскоре после того, как Еким оказался на Дмитриевской улице, как расцеловался со всеми Боговыми, как ответил на все тёткины вопросы, не забыв передать конверт с письмом, вспомоществованием и усиками из бечёвки, случилось нечто совершенно невероятное и не имеющее никакого объяснения. Настолько невероятное, что могло показаться, будто сама судьба взяла Екима за шиворот и что есть мочи встряхнула.
* * *
На другой же день по приезде своём в Старую Руссу Еким, отдохнувший и полный радужных предвкушений, решил отправиться в гостиный двор. Ему не терпелось пустить в оборот свои триста рублей. Казалось, что если один раз повезло и сбылась самая потаённая мечта, то, быть может, отныне всё будет получаться, и все самые дерзновенные замыслы найдут своё воплощение. Главное же – надлежало приумножить капитал и не оплошать при этом. Екиму предоставлена была свобода решить: спросить ли совета у Боговых или самому взяться за дело. Он не знал ещё, как поступит, но прежде положил осмотреться в городе и прицениться на торгу.
И вот, выйдя из дому, Еким повернул налево к Никольскому мосту и, перейдя через речку Порусью, оказался на Пятницкой улице. А когда уже возле синагоги хотел свернуть направо к Торговой площади, вдруг вспомнил о своей любимице – Перерытице, беспечной и ленивой речке, не то дремлющей, не то о чём-то мечтающей. И Еким пошёл по Пятницкой прямо. Он прогулялся взад и вперёд по набережной, потом спустился ближе к воде и уселся на травку. Жизнь была хороша. И единственное, пожалуй, что отравляло её в это мгновение, был доносимый откуда-то ветром отвратительный запах. Еким безотчётно повернулся, словно пытаясь отыскать источник разрушающего гармонию обстоятельства, и тут только заметил, что в нескольких шагах от него сидит человек и с каким-то тревожным любопытством его, Екима, рассматривает. А рядом с человеком лежит огромный мешок. Еким справедливо слыл тихим и малообщительным мечтателем, но сейчас он чувствовал себя другим, и ему хотелось вести себя по-другому. И он нарочно, как будто он был не Еким, а кто-нибудь другой, заметил со всей непринуждённостью, на какую только был способен:
– Какой большой мешок!
Хозяин мешка кивнул и ничего не ответил. Так они сидели молча, время от времени поглядывая друг на друга. Еким заглянул в большие тёмные глаза незнакомца и отметил, что где-то на самом их дне застыло выражение непреходящей скорби.
Народу вокруг почти не было. Только поодаль мальчишки бросали камушки в воду, отчего река лениво, сонно булькала и чмокала. Екиму надоело сидеть, он спустился к воде посмотреть на лодки, легко, словно колыбели, качаемые Перерытицей, на солнечные блики, седлавшие мелкие волны у самого берега. Хотелось смотреть и смотреть на реку, чьё течение напоминало дыхание спящего, но нужно было идти, и Еким побрёл неохотно к Торговой площади. Проходя мимо скотопригоньевского рынка, он подумал, что, должно быть, отсюда ветер доносил неприятный запах, и вспомнил о незнакомце с мешком. Но перейдя Тихвинский мост и завидя впереди Торговую площадь, Еким уже позабыл о недавних впечатлениях.
Он прошёл Цепную и Кожевенную линии, когда вдруг показалось, что в толпе мелькнуло что-то знакомое. Еким остановился и принялся ощупывать глазами толпу, стараясь понять, что же это было такое. Вдруг в одной из арок Гостиного двора он увидел давешнего незнакомца с мешком. Незнакомец, кажется, тоже узнал Екима и наблюдал за ним. Екиму сделалось отчего-то не по себе, но он всё же кивнул незнакомцу, после чего поспешил смешаться с толпой. Бродить по рядам он больше не стал и отправился домой.
На другой день Еким вновь отправился к рынку и, прохаживаясь неспешно по лавкам Железной линии, опять увидел незнакомца. Тот, сутулясь, брёл между рядами, волоча за собой мешок и поминутно озираясь, точно отыскивая кого-то в толпе. Еким, сам не зная зачем, шагнул навстречу незнакомцу. Тот заметил Екима, улыбнулся ему как приятелю, но тут же отвернулся. То выражение скорби, которое Еким подметил вчера в его глазах, только усугубилось и вот-вот готово было смениться отчаянием. Внезапно, словно разглядев что-то в толпе, незнакомец выпрямился и в следующее мгновение бросился, насколько позволял ему мешок, куда-то в сторону, где, должно быть, мелькнула для него надежда.
После полудня, когда Еким по дороге домой расположился на травке, наслаждаясь солнцем, безветрием и безмятежностью, источаемой рекой, кто-то вдруг подошёл и, шумно вздохнув, сел рядом. Это был незнакомец. Вид у него был такой, как будто они договорились с Екимом о встрече именно на этом месте. Мешок был с ним. Появился и вчерашний запах.
Еким молча разглядывал странного своего товарища. Тот выглядел уставшим и, казалось, даже осунулся с последнего их свидания. Усевшись, он обхватил руками колени и погрузился в раздумье.
– Да, – вдруг сказал он, глядя перед собой и кивая, как заведённый, – да. Стоило ждать этого.
Потом, повернувшись к Екиму, спросил:
– Где я теперь их найду?
– Кого? – не понял Еким.
– Кого… – ухмыльнулся незнакомец и, не спрашивая, желает ли Еким его выслушать, повёл рассказ. Многое из того, о чём рассказывал незнакомец, осталось для Екима непонятным. Но и то, что он понял, потрясло его.
Из рассказа незнакомца следовало, что жил он с рождения в Новгороде. И там же, в Новгороде, водил знакомство с неким Бравлином.
– Да ты знаешь, может? – справлялся он у Екима. – Беспалый… пальца большого на правой руке недостаёт…
Но Еким не знал беспалого Бравлина из Новгорода. И незнакомец продолжал, рассказывая о том, что как-то раз он ссудил Бравлину триста рублей. Бравлин же, взяв деньги, долг отдавать не спешил. В довершение же ко всему – умер. По мнению рассказчика, это выходило очень подло. С живого Бравлина он непременно получил бы свой долг, но с мёртвым начались затруднения. Тем более никто из родственников Бравлина не захотел взять на себя долговые обязательства. Но и прощать долг мертвецу кредитор тоже не захотел, с чем и явился к родственникам. Однако родственники, вместо того, чтобы уладить дело миром, передав если не деньги, то хотя бы ценные вещи, пустились в препирания с кредитором. Сначала у них дошло до крика, потом до рукоприкладства и напоследок бравлиновы родственники спустили на кредитора собак. Собаки разодрали ему штаны, и он, едва прикрывая наготу свою, позорно бежал под улюлюканье уличных мальчишек. За свой позор кредитор твёрдо решил отомстить жестоковыйным и лживым родственникам, но пока он раздумывал о способах мести, родственники сбежали. Нашлись добрые люди среди соседей и сообщили, что уехали они в Старую Руссу. О деньгах, правда, посоветовали забыть. Но заимодавец Бравлина не желал забывать ни триста рублей, ни обиду. Во что бы то ни стало положил он найти своих обидчиков и взыскать с них, будь они «хоть в Старой Руссе, хоть в Новой, хоть на краю света». А чтобы иметь верное средство к осуществлению своего замысла, он, недолго думая, решился потревожить вечный сон Бравлина. С чем и отправился на кладбище. Раскопав могилу, он вытащил тело Бравлина, завязал его в мешок и выступил на поиски родичей покойного должника.
– Уже три дня хожу здесь, – жаловался он Екиму, – а толку – йок. Не обманул ли сосед… старый чёрт… Этот-то, – и он кивком указал на мешок, – уже смердит. Иду по улице – собаки увязываются, лошади шарахаются… А спать рядом с ним, думаешь, каково?
– Так… это что же… у тебя в мешке… того? – спрашивал Еким, с ужасом косясь на мешок.
– Он самый… – вздыхал незнакомец, – беспалый…
– Что же ты думаешь с ним делать?
– Что мне и делать? Искать надо… Я бы продал его, – и он снова кивал на мешок, – да кому?.. На что он сгодится?..
– Что ты? – шептал Еким, крестясь. – Как это можно христианина продать?.. Упокой, Господи, его душу!.. Его… того…
схоронить надо. Слышишь?.. В земле ему самое место, а не на ярманке… Ты… того… ты домой поезжай… а его на место верни. Вот когда вернёшь на место, что взял не по праву, такое, брат, облегчение бывает, что слаще и представить нельзя… Вот я… взял я как-то у маминьки из шкапчика…
Но незадачливый кредитор перебил разговорившегося Екима:
– Куды!.. Обратно… Я его при жизни одалживал, а теперь после смерти – катай его?.. Ишь ты!.. Отыскался вояжёр! – и он погрозил мешку кулаком. – Так думаю: день-другой похожу ещё. И если не повстречаю – так брошу. Вот прямо у дороги как есть и брошу… А то ещё в воду спущу – хлопот меньше…
* * *
Ночью приснился Екиму Бравлин. Он плакал, умолял купить его у злого заимодавца и обещал отблагодарить. А наутро, чуть свет, Еким отправился на поиски своего нового знакомого, чьё имя он так и не выяснил.
Еким волновался, ему всё казалось, что он может не успеть и опоздать куда-то. Что если он больше не встретит человека с мешком? И как узнать тогда: вернулся ли Бравлин в могилу или отправился на дно Перерытицы? Богобоязненному Екиму делалось страшно, что псы или речные рыбы съедят христианина из Новгорода, а он, Еким, зная о готовящемся беззаконии и кощунстве, ничем не воспрепятствовал. А ведь теперь, проболтавшись Екиму, гробокопатель, возможно, опомнится и захочет отделаться от преступной своей ноши. Еким думал было поговорить с Боговыми, но решил до поры этого не делать, поскольку сам он всё же никакого Бравлина не видел. Словом, Еким был готов действовать, но не совсем ещё понимал, что именно следует делать. Он знал только, что непременно должен найти человека с мешком. А дальше… О том, что будет дальше, он даже не думал.
Вся эта невозможная история с мертвецом в мешке тут же перестала быть невозможной, как только Еким погрузился в неё. Напротив, как нечто совершенно обычное, она требовала теперь своего разрешения, к чему со всей горячностью и приступил Еким.
Первым делом Еким отправился к Перерытице, где впервые повстречал своего странного знакомца. День выдался хмурым, дождь шелестел, на воду легла рябь, словно река недовольно морщилась, берег был пуст.
Тогда Еким пошёл на Торговую площадь и долго ходил по рядам, высматривая, не мелькнёт ли где сутуловатая фигура с большим мешком. Он пробовал даже спрашивать у торговцев, но его подняли на смех, объяснив, что искать на рынке человека с мешком – всё равно, что искать снежинку в сугробе. Проблуждав без толку по рядам, Еким, не зная толком города, свернул с площади направо и оказался на улице с каменными двухэтажными домами. Он ещё раз повернул направо и долго шёл по улице с протяжённым забором. Потом снова свернул направо и… понял, что находится в Большом Дмитриевском переулке, то есть совсем недалеко от дома. Такое неожиданное возвращение показалось ему неслучайным, и он стал подумывать об оставлении поисков. Но вспомнив слова Писания о взыскании с тех, кому много вверено, он снова решил отправиться на Торговую площадь. Подходя же к Никольскому мосту, вдруг увидел того, кто был ему нужен. Он стоял на деревянном тротуаре моста и, свесившись через перила, напряжённо всматривался в воду. Еким вздрогнул и остановился. Но тут же заметил мешок.
Разыскивавший весь день своего знакомца, Еким теперь растерялся и не знал, с чего начать разговор. Между тем знакомец сам увидел Екима, оторвался от перил и заговорил так, точно они расстались не далее как час тому назад:
– Нет, – сказал он, – нет… Видно, обманул проклятый…
С этими словами он снова перегнулся через перила. Еким подошёл ближе, остановился рядом с мешком и подумал, что пройдёт не так уж много времени, и человека с мешком можно будет отыскивать по запаху.
– Никого нет, – услышал Еким. – И этого аспида никто здесь не знает.
Он снова выпрямился, кивнул на мешок и легонько пнул его.
– Ну? – громко обратился он к мешку. – Где мои триста рублей? А?.. Молчит!.. Уж я тебя!..
Он опять пнул мешок и погрозил ему кулаком.
– Ты смотри… – продолжал он. – Ты не думай, что стану таскать тебя за собой повсюду! Ежели ты ни на что не годен, так и таскать тебя даром мне нужды нет.
Тут он расхохотался, а Еким, приоткрыв даже рот, как зачарованный стоял и слушал этот монолог, обращённый непонятно к кому или к чему.
– Каково!.. – смеялся и от смеха раскачивался хозяин мешка, держась одной рукой за перила моста. – Ну каково!.. Видано ли такое?.. Он и при жизни остался мне должен, так уже и по смерти долгов наделал! Ну где это видано, чтобы мертвец долгов наделал?!. А этот…
И он в который уже раз пнул мешок. По счастью, прилегающий к мосту участок Пятницкой улицы был пуст в тот час. И лишь одна старуха, повязанная платком в синих огурцах, прошла мимо них по Никольскому мосту. Любопытство не просто заставило её остановиться, но и подтолкнуло выяснить, что это лежит в таком большом мешке. Хозяин мешка взглянул на неё страшно и сказал:
– Мертвец.
Потом, проводив взглядом крестящуюся и спешащую прочь старуху, он посмотрел на Екима и зашептал горячо:
– Ночью – решил – сброшу его в реку.
– Не надо, – сказал Еким. И добавил робко: – Лучше… того… отдай его мне.
Еким ждал, что знакомый в ответ удивится и станет его отговаривать. Но никогда и ничему не удивлявшийся заимодавец только покачал головой и произнёс в задумчивости:
– Он мне должен. Пусть платит.
– Ну вот, – обрадовался Еким, – вот и я… того… Отдай… я заплачу за него.
И снова бравлинов кредитор не выразил ни малейшего удивления.
– Пусть платит мне триста рублей, – кивнул он на мешок, – или пусть умрёт ещё раз.
– Я!.. Я заплачу за него, – проговорил, волнуясь, Еким и снял с головы картуз. – Я заплачу… Только… того…
Настала очередь Екима кивать на мешок.
– Это, правда?.. того…
– Бравлин-то? – невозмутимо переспросил незнакомец. – А то кто же!
С этими словами он стал развязывать мешок, приговаривая что-то о честности, о том, что товар надо показать лицом и о том, что покупать в мешке что бы то ни было, конечно, неправильно. Он немного провозился с узлом, но затем, освободившись от пут, мешок осел, и на Екима пахнуло сладковатым запахом тлена. Еким скосил глаза, и от увиденного ему стало нехорошо. Он поморщился и отступил.
* * *
«Что я – выжига какой или душегубец?.. Стану я мертвецами торговать?.. Мне бы долг вернуть…», – с этими словами кредитор Бравлина пересчитал деньги, которые Еким извлёк откуда-то из недр своего картуза, а пересчитав, попятился, словно опасаясь, что повернись он спиной к Екиму, и тот немедленно на него бросится. Потом всё же повернулся и кинулся прочь. Но Еким и не думал бросаться или бежать следом. Он долго ещё оставался на мосту, обдумывая, как и что теперь делать. Прежде всего, рассуждал Еким, старавшийся не ужасаться тому положению, в которое поставил себя сам, прежде всего, необходимо закопать мешок. И сделать это лучше всего ночью и, конечно, не в городе. В самом деле, не в огороде же у тётки его закапывать! А дальше… Дальше нужно было возвращаться домой. Но не к тётке, а сразу к отцу. Объяснить что-либо тётке представлялось Екиму затруднительным. А уж тем более объяснить, зачем он вместо галантерейного товара скупает по городу мёртвые тела. А вот отец, если и не поймёт его, то пусть уж сам узнает всё как есть и сам наказует.
Денег у Екима больше не было. Занимать же у тётки, которой он сам привёз вспомоществование, было делом невозможным. К тому же такой заём повлёк бы и непременные объяснения. И Еким решил прямо с Никольского моста отправиться в Москву, а Бравлина предать земле где-нибудь по пути. Он взвалил на плечо мешок и пошёл в сторону тёткиного дома, потому не раз слыхал от неё, что если идти по Дмитриевской улице, то можно прийти в Москву.
* * *
Куда бы русский человек ни шёл, он всё равно придёт в Москву. Даже если улица уводит совсем в ином направлении. Так что нет ничего удивительного, что Еким так смело выдвинулся в дорогу с покойником за плечами.
Едва закончился город, и все постройки, включая овины и самые жалкие лачуги, исчезли из виду, Еким свернул в лес. И выйдя скоро из душной тьмы леса на опушку, опустил свой мешок в какую-то яму, которые всегда почему-то имеются в лесах во множестве. Яму он засыпал землёй и поставил в изголовье крест, связанный из двух сучьев. На этом свой долг по отношению к новгородскому христианину Еким счёл исполненным и поспешил вернуться на дорогу.
Стоит только взглянуть на карту, чтобы признать, что на пространстве между Москвой и Старой Руссой может сгинуть даже бывалый человек. Особенно если он один, пеший, да к тому же о направлении имеющий представления самые смутные. Уже не одну звёздную ночь провёл Еким на земле под открытым небом. И не одна ночь заставала его по деревенским дворам, куда, при случае, просился Еким на постой. А он всё шёл и шёл, куда указывали ему добрые люди, и не знал в точности, долго ли ещё идти.
И вот как-то жарким безоблачным полднем оказался Еким на распутье, где на большом сером камне, напоминающем кабанью голову, сидел, вытянув вперёд правую ногу, какой-то человек. Когда же Еким поравнялся с ним, он сказал:
– Здравствуй, Еким.
Еким в ответ поздоровался и, не заметивший в первое мгновение странности, хотел пройти мимо. Но тут же остановился. Не успел он обернуться, как незнакомец сказал, ухмыляясь:
– Не смотри, не узнаешь. Когда ты ещё был в Руссе, я видел тебя.
В самом деле, человека на камне Еким не знал. К тому же лицо его было слишком обычным, незапоминающимся, каких много вокруг – светлые волосы, серые глаза с прищуром. Было в нём что-то знакомое, но Еким не понял, что именно.
– А я, Еким, тебя дожидаюсь, – сказал незнакомец. – Ведь я тебе должен… Ну, пойдём, что ли?..
Он поднялся с камня, а Екиму показалось, будто кабанья голова что-то прохрюкала.
– Тебе сюда, – и незнакомец указал на дорогу, что уходила влево. – А там, – он кивнул направо, – там тупик.
Еким ничего не понял из того, что сказал ему незнакомец, но расспросы счёл неуместными, потому что деваться ему всё равно было некуда. Ведь даже если перед ним лихой человек, то наверняка множество глаз наблюдают за ними из леса. А взять с Екима всё равно нечего. И Еким, рассудив, что чему быть, того не миновать, пошёл рядом с незнакомцем по мягкой от серой пыли дороге. А поскольку спутник Екиму достался молчаливый, то Еким вскоре совсем позабыл о нём, погрузившись в грёзы, к которым так привык в последнее время. Дело было в том, что Еким полюбил дорогу. Он оглядывал листики, слушал птичек и приходил в совершеннейшее умиление. Мысли Екима растекались как сироп, и Екиму было сладко. В карманах Екима было пусто, и Еким ничего не боялся. Не нужно было печься о завтрашнем дне и далеко думать – каждый день сам давал ему пищу. Вставшему на дорогу трудно бывает с неё сойти. Ведь тот, кто идёт, всегда имеет свою цель. А значит, идущий счастливее стоящего на месте. Даже если всё равно, куда идти, рано или поздно придётся сделать остановку. И тогда станет понятно, что всегда нужно идти до следующей остановки.
– Мы сейчас, Еким, в одно сельцо придём, – сказал вдруг незнакомец. – И попросимся ночевать. Только уж ты во всём меня слушайся.
Еким очнулся от грёз и успел удивиться тому, что идёт не один. Он посмотрел на своего спутника и ничего не сказал. Они снова пошли молча. Скоро впереди действительно показалось село, обозначившееся шатром колокольни. Птичьи голоса сделались тише, зато собачьи возобладали. Вот и первый тын, и первая рябина в цвету. А вот и первая изба из тех, что при ярком солнце не обращают на себя внимания, но серой осенью нагоняют тоску и скуку. К такой избе и подошёл Еким вслед за своим спутником. Они вошли на двор и увидели, как из дома навстречу им ковыляет хозяин – старик, наскоро, казалось, склеенный из праха и обещавший вот-вот рассыпаться. Старость не просто сковала его члены, но и стёрла черты лица. Так что сказать, какой это был старик, каким был его нос или лоб не было решительно никакой возможности.
– Вы кто таковы пожаловали? – проскрипел он незваным гостям. – Чего занадобилось?
На голос старика выполз из конуры пёс, под стать хозяину дряхлый, бесформенный, с облезлой белой шерстью. Но завидев гостей, заворчал, оскалил жёлтые зубы и ретировался. Несколько кур суетились тут же.
– Пусти нас, дединька, переночевать в маленькую сарай-ку, – с усмешкой проговорил незнакомец. – А мы тебе золотую монетку дадим.
– Сам ты… нелюдим, – обиженно сказал дед и пошамкал ртом. – Чего надоть, говори.
– От ведь… тетерев, – усмехнулся, обращаясь к Екиму незнакомец. И повернувшись к деду, не закричал, но проговорил так громко, что Еким поёжился и отступил на шаг.
– Ночевать пусти – заплатим.
– Так бы и говорил, – прошамкал дед.
Он и впрямь отвёл их в сарай, немногим больше собачьей конуры да к тому же так немилосердно покосившийся, что и заходить в него было страшно, не то что оставаться на ночлег. Еким хотел было объявить попутчику о своих опасениях, но не успел он и рта раскрыть, как тот уже ответил:
– Не бойсь! Не здесь тебе смерть свидание назначила. Да и не теперь ещё.
В сарае, куда Еким последовал за незнакомцем, хранился всякий хлам: короткая лавка, две низенькие кадушки, ковш на длинной ручке, а из ковша глядела мутовка. В углу валялись детские ходули, зыбка, мешки, на стене мостились два дырявых тулупа. И именно тулупы, разостланные незнакомцем на полу и занявшие собой всё свободное место сарая, послужили постелью путникам. Дух, источаемый тулупами, казалось, прогнал бы и самый сон, не хуже ночного кошмара, тем не менее стоило Екиму опуститься на тулуп, как веки его сами собой склеились, а голову заволокло туманом.
Пробудившись под вечер того же дня, Еким не сразу понял, где он. Когда же наконец вспомнил, как очутился в маленьком сарае на зловонном тулупе, его поразило новое неприятное открытие: спутника не было рядом. Еким подумал, что незнакомец всё же ограбил его и скрылся, потом, зевая, припомнил, что взять у него нечего. Потом подумал, что одному всё-таки лучше, как вдруг услышал голос своего попутчика – тот о чём-то спрашивал хозяина, а чтобы дед мог услышать и понять, чего от него хотят, приходилось говорить громко. Вот почему Еким услышал не только голос незнакомца, но и всё, о чём он просил старика.
– А что, дединька, – вопрошал незнакомец, – скатерть-то у тебя в доме есть, небось?
– Скатерть? – скрипел дед. – Как не быть!.. Ещё старуха…
– А куличек-то святил на скатерти?
– Как не святить!.. Дык нынче дочка приносила… а так оно… всей деревней на скатертях… Ещё старуха моя…
– А продай-ка мне, дединька, ту скатерть…
– Скатерть-то?.. А тебе на что моя скатерть?
– А уж это, дединька, моё дело. Твоё дело – мне скатерть продать. А моё – делать с ней, что заблагорассудится… Ну так как?
Старик молчал.
– А петушок есть? – снова раздался резкий голос незнакомца.
– Кого тебе ещё? – недовольно проскрипел дед.
– Петух, говорю, имеется?
– Петух?.. Как не быть петуху!..
– Ну так продай мне, дединька, скатерть пасхальную и петуха.
– Да ты поди хочешь моего петуха на моей же скатерти слопать…
– Так продашь, что ли?
Екиму казалось, что от этого голоса гудит воздух.
Дед снова замолчал. Немного погодя, Еким вышел из сарая. Незнакомец с неизменной своей ухмылкой стоял возле ступенек крыльца, поджидая, очевидно, хозяина. Наконец старик показался, держа в руках какую-то ветошь.
– На вот, – сказал старик. – Ещё старуха…
– А петух?..
– Петуха погодь, – и старик снова удалился.
Еким, которому отчего-то не доставляло удовольствия наблюдать за совершаемой сделкой, вернулся в сарай. Вечер уже наступал. Усевшись на тулуп, Еким видел в дверной проём, как небо, ясное прежде, кутается тучами. Где-то, пока ещё далеко, простучал гром, и короткая зарница блеснула как нож, словно чья-то невидимая рука попыталась вспороть невидимое одеяло.
– Хорошо? – услышал Еким рядом с собой голос незнакомца. – Хорошая ночка выдастся. Знаешь ли ты, какая сегодня ночь?.. Рябиновая, Еким, сегодня ночь. И время нам с тобой собираться. Путь у нас неблизкий, а дело непростое.
– Слышь-ка, – к ним ковылял старик, державший в руках тощего петуха с хвостом, более напоминавшим пук полевой травы, нежели петуший хвост, – гроза, я чай, будет… Вот тебе петух…
– А тебе, дединька, денежка…
Еким не видел, что за денежку незнакомец передал старику. Но сумма, должно быть, оказалась чрезмерной, потому что старик, исследовав монеты, видимо смутился и сказал:
– А ты… за петуха-то?..
– Ступай, дединька, гроза будет, – прогремел в ответ незнакомец.
– Так, может, оно… петух, что ли, мой хорош?..
– Ступай, дединька…
Дед помолчал, пошамкал и, бормоча что-то о золоте и петухах, поковылял к дому.
А незнакомец обратился к Екиму:
– И нам пора.
Екиму стало тоскливо и страшно.
– Куда? – впервые заговорил он с незнакомцем.
В это время гром, как стальной горох, рассыпался где-то рядом.
– Да уж найдётся дельце, Еким, – усмехнулся незнакомец.
– Нет у меня ничего, – потупился Еким, – взять с меня нечего.
– А мне, Еким, ничего и не надо. Это тебе надо.
Еким поднял глаза на незнакомца. А тот продолжал:
– Ты в Москве у папиньки триста рублей взял? Чтобы в Руссе товару купить и с прибытком воротиться… А заместо товару приобрёл ты вещь сомнительную да вдобавок от тётки сбёг… Ну так как?.. Продолжать, что ли?..
– А ты при чём? – хмуро спросил Еким, помолчав.
– Я-то? Да как будто и ни при чём. А вроде как и при чём. Обещался я. Так что если пообещаешь ты меня слушаться, то вот тебе моё слово, что вернёшь ты папиньке и триста рублей, и сверх того… Ну так как?
Пока он говорил, Еким думал, что это, должно быть, необычный человек, если всё знает. К тому же, было очень интересно, что ещё может произойти, ведь Еким был в том возрасте, когда опасность не просто не пугает и не сдерживает, но, скорее, подталкивает к совершению поступков ненужных и бессмысленных. Еким наблюдал, как незнакомец усадил затем петуха в мешок из сарая, как отправил туда же ветошь, которую старик называл скатертью, как, наконец, сломал длинный рябиновый прут. И все эти приготовления казались Екиму странными и страшными. Но когда незнакомец спросил его: «Ну так как? Идём, что ли?», Еким отвечал: «Идём», и они вышли со двора.
В это самое время гром ударил уже над их головами. Казалось, кто-то бил палкой по пустому ведру. Еким вздрогнул и втянул голову в плечи, а незнакомец, не обращая никакого внимания на небесную колотушку, свернул с дороги и зашагал в сторону леса, недружелюбно черневшего впереди. Блуждавшие где-то зарницы подобрались ближе, и молния вдруг ударила перед путниками, точно намереваясь преградить им дорогу. Еким снова вздрогнул, незнакомец, как ни в чём не бывало, продолжал путь.
Но по-настоящему Еким испугался, только когда они вошли в лес. Всё живое спряталось от грозы. И лес, угрюмый, затаившийся, встретил их молча. Лишь наверху слышался тревожный шум, словно деревья перешёптывались и не то жаловались, не то предупреждали о чём-то. Вдруг шёпот стал тревожнее, гулче, как будто и самый лес наполнился страхом. А следом Еким ощутил на лице влагу – начался дождь.
Но ничто не могло остановить их. Они всё шли и шли, пока наконец не оказались в таком глухом месте, откуда, казалось бы, невозможно было и выбраться. Деревья были так высоки и разлаписты, что совсем закрывали небо, даже дождь почти не ощущался здесь. То и дело грохотал гром, а молнии освещали им путь. Свет же их был так ярок, что слепил глаза даже под смежёнными веками.
Неохватные стволы, верхушки которых можно было увидеть, только задрав головы, валежник и ковёр кочедыжника – таково было место, где спутник Екима остановился, положил свой мешок на землю и сам уселся рядом.
– Видишь? – глухо спросил он Екима.
Еким не сразу понял, но вдруг среди листов кочедыжника заметил огонёк. Потом ещё один и ещё. Огоньков становилось всё больше – красные, белые, синие огоньки.
– Ночь сегодня особенная – рябиновая, – пояснил спутник Екима. – Ты иди, иди… положи под цветок скатерть и жди. А упадёт цветок – торопись, заворачивай…
С этими словами он сунул в руки Екиму ветхую скатерть, которую они купили у старика. Ничего не понимающий, не на шутку струсивший Еким взял скатерть, но от страха никак не мог сообразить, о чём говорит ему незнакомец и что же следует теперь делать.
– Да главное – чуть не забыл!.. На-ка вот, возьми рябиновый прут и как встанешь, обрисуй им круг, да так, чтобы сам в круге был. Понял ли? Чтобы в круге стоял… Ну, давай, – и он слегка подтолкнул Екима, – давай, не бойсь. Меня послушаешь – не пропадёшь… Давай… торопись – полночь близка.
Еким ни жив, ни мёртв пошёл на огоньки. К этому времени разыгралась настоящая буря – ветер выл, слепили молнии, дождь уже не жалобно шелестел, но шипел злобно в ветвях, в ударах грома слышался Екиму хохот. И вот уже явственнее хохот, кто-то кричит и словно бьёт по земле хлыстом. А цветки светятся как свечки, всё ярче их пламя, всё шире свет от него. Всё громче и отчётливее шум вокруг Екима. Поднял Еким глаза и обмер: Бог мой, что за чудища! Тянут кто языки, кто руки с когтями, гогочут, свистят, шипят, бьют по земле хвостами. Даже не думал Еким, что бывает так страшно. А где же попутчик? То ли сожрали его, а может… Может, бросил он тут Екима? Нет, не разбойникам отдал – хуже. Продал нечистой силе, и не выйти живым теперь из рябинового круга. И только подумал об этом Еким, как потеснилась вся компания, и выплыл навстречу сгусток тьмы, бесформенный и колышущийся. И понял отчего-то Еким, что это Смерть перед ним. Но тут раскрылся белый, не больше одуванчика, цветок, сорвался со стебля и упал на скатерть. Бросился Еким его заворачивать, и… раздался крик петуха. Разом исчезло наваждение: и Смерть, и чудища – всё пропало. От расцветших цветов стало светло. И Еким увидел, что попутчик его сидит всё там же, где и сидел, и сжимает в руках старикова петуха. И вновь, силясь вырваться, прокричал стиснутый петух. И в третий раз.
Дождь поутих, гроза отправилась дальше – гром стучал уже в стороне. Обессиленный, опустился Еким на мокрую землю, прижимая к себе скатерть с дорого доставшимся и непонятным сокровищем.
– Что, Еким, – подошёл к нему со всегдашней своей усмешкой попутчик, – ты хотел потрудиться, папиньке прибыток явить – так вставай, мы ещё только полдела сделали… Этих не бо-ойсь! Теперь не тронут! Да цветок-от держи – не ровён час выронишь…
И они снова – впереди незнакомец с петухом в мешке, следом Еким с завязанной узлом скатертью, из которой огоньком светился цветок – тронулись в путь. И снова продирались сквозь лес, ставший после дождя парким и душным, снова ломали тьму и заросли, спотыкались о корни и пни, пока наконец не оказались у подножья холма, на который невозможно было вскарабкаться, не разодрав лицо и одежду о колючий кустарник. Здесь вдруг попутчик Екима остановился.
– Доставай, – сказал он. – Доставай цветок.
Еким достал из узла светящийся белый цветок, а незнакомец, приладив его к картузу Екима, шагнул к холму и потянул за собой Екима. И как только приступил Еким к колючим, разросшимся по холму кустам, случилось ещё более невероятное, чем то, что видел Еким в полночь. Холм, словно вышитые петухами занавески на кухне, раздвинулся на две стороны, и перед Екимом открылась камора, где стояли котлы, короба, большие и малые корзины. И отовсюду смотрели на Екима монеты и яркие разноцветные камни.
– Что смотришь? – ухмылялся незнакомец. – Бери!.. Что унесёшь – всё твоё. Вот тебе и прибыток…
Еким, не веривший глазам, вошёл в сокровищницу.
– А ты? – обернулся он к своему спутнику, не проявлявшему интереса к драгоценному блеску и остававшемуся как бы снаружи холма.
– Бери!.. Мне золото уже ни к чему.
Всё сверкало вокруг Екима. Но взгляд его упал лишь на кольцо с ярко-красным камушком. Еким поколебался и взял из котла, наполненного множеством бесценных вещиц, одно только это кольцо. Он мог бы взять с собой корзинку с золотом, но вместо этого Еким стянул с головы картуз и насыпал в него монет, после чего поспешил прочь, чувствуя себя неуютно в этой странной каморе. Но не успел он выйти, как холм вдруг зашевелился, закряхтел по-стариковски, и две его половины стали медленно, но неуклонно съезжаться. Екиму пришлось поторопиться, чтобы не остаться навеки внутри холма подле корзин с золотом.
И словно бы ничего не было: в утренних сумерках Еким видел, что соединились как ни в чём не бывало разорванные было кусты, как дуб, разделившийся на две доли, сошёлся в единое целое. И ничто, кроме золота в картузе и кольца на пальце, не напоминало о несметном богатстве, заключённом внутри заросшего лесного холма.
– Цветок!.. Цветок где?.. – воскликнул незнакомец.
Еким помнил, что цветок был на картузе. Они стали осматривать и ощупывать картуз, но цветок исчез.
– Обронил, должно… – виновато бормотал Еким. – Там, верно… когда золото ссыпáл…
– Эх ты, башка из табачного горшка!.. золото он ссыпал, – весело сказал незнакомец. – А впрочем, с тебя и того довольно будет. Пойдём уж – дединьке петуха надо вернуть. Да и тебе восвояси пора – будет шататься-то.
– Ты же петуха купил, – сказал зачем-то Еким.
– А на что он мне? Он свою службу сослужил, – и незнакомец легонько потряс мешком, откуда донеслось недовольное квохтанье. – И деньги мне ни к чему, и петухи с курами… А дединьке недолго радоваться – пусть его…
И в третий раз за ночь отправились они в путь. Уже совсем рассвело, когда подошли они к старикову двору. Отпущенный петух немедленно провозгласил новый день. А Еким, не в силах даже вспомнить того, что произошло с ним ночью, упал на зловонный тулуп, показавшийся ему в тот миг шёлковой периной.
* * *
Когда Еким проснулся, день уже близился к закату. Незнакомец, очень довольный, где-то раздобыл уздечку и поджидал, когда проснётся Еким.
– Ну, теперь у нас одна печаль, – говорил он Екиму, – домой тебя спровадить. С этаким грузом ты далеко не уйдёшь! – и он кивал на картуз.
Только сейчас Еким понял, что золото, в самом деле, может оказаться плохим попутчиком. Во всяком случае, до Москвы с картузом, наполненным золотыми монетами, он вряд ли дойдёт. И Еким начал подумывать, что оставит себе несколько монет и, пожалуй, кольцо с красным камушком. Остальное же отдаст незнакомцу – в конце концов, если бы не он, и денег-то не было. А значит, такой делёж вполне справедлив.
– Да не возьму я твоих денег! – ответил на мысли Екима незнакомец. – Сказал же: без надобности. А запонадобятся – без тебя обойдусь. Ишь, благодетель выискался… Я же тебе говорил, Еким: станешь меня слушаться – бояться нечего… Скатерть ты, пожалуй, себе оставь – для памяти. Золото в неё пересыпь – надёжней… Дальше ты верхом поедешь. Уразумел? В общем, знай – узел держи.
– Как это – верхом? – не понял Еким. – На ком это?
– Не на мне – это уж будь любезен… – хмыкнул по своему обыкновению незнакомец. – Достанем тебе сегодня коня вороного – нет ничего проще. Сейчас, Еким, такие ночи, что всё можно… Ну… ну или… многое. Только ты меня слушай…
Сумерки медленно наползали, где-то по кустам соловей защёлкал. Ночь обещала быть ясной, месяц светил приветливо. И вспоминая вчерашнюю ночь, Еким думал, что всё это, должно быть, ему приснилось. Но узел с золотом не позволял сомневаться.
Они распрощались со стариком и, сопровождаемые его кряхтением, вышли со двора. Но повернули не направо, чтобы пройти деревню, а налево – в ту сторону, где встретились недавно у камня. Не успел Еким отметить про себя эту странность, как незнакомец, не глядя на Екима, ответил ему:
– Где встретились, Еким, там и распрощаемся.
И больше за всю дорогу не сказал ни слова. Вскоре уже показалась росстань. А вот и похожий на кабанью голову камень, на котором поджидал Екима его теперешний спутник. И опять на камне сидит кто-то. А Еким со спутником всё ближе, и вот уже видно, что сидит на камне простоволосая старуха в каком-то чёрном балахоне. И странно Екиму, что шли они, оказывается, именно к этой старухе, потому что его попутчик подошёл к ней и самым учтивым образом с ней раскланялся:
– Здравствуй, бабинька. Здравствуй, красавица.
– Здравствуй, голубок, здравствуй, коль не шутишь, – прокаркала старуха. – Тебя к нам зачем занесло? Чего хочешь?
Кого к тебе звать – лесных, полевых, рижных, овинных, домовых, баенных, водяных, болотных? Или свои какие есть на примете? А может, с собой привёл? – и она засмеялась икающим смешком. – А может, и впрямь красавицу хочешь? – продолжала старуха. – Говори, любую сюда доставлю: белую, чёрную, сисястую, ногастую, стыдливую, распутную…
– Зачем, бабинька? – перебил её незнакомец. – Зачем, когда ты есть…
Старуха довольно засмеялась.
– Сгожусь, сгожусь и по этой части, ежели не побрезгуешь.
– И не то что побрезгую – за честь почту… Только вот дельце сначала…
– Говори!
– А мне бы, бабинька, кобылку достать, не то – конька… В Москву съездить…
– Кобылку, говоришь? – заикала старуха. – Будет тебе кобылка…
Она что-то бросила на дорогу, и на том месте вдруг оказался конь – чёрный, тонконогий. Еким ахнул.
– Ну? Как тебе кобылка?
– А это мы поглядим, – ответил попутчик Екима и накинул на коня ту самую уздечку, что принёс с собой из деревни. И тотчас вместо коня оказалась лягушка, а уздечка упала на дорогу.
Старуха захохотала.
– Плоха твоя кобылка, бабинька, – сказал попутчик, – далеко на ней не уедешь.
– Какой же тебе надобно? – усмехнулась старуха.
– А вот какой, – с этими словами он набросил уздечку на голову старухи, и вместо старухи перед ними встала чёрная коза. Камень обернулся кабаном и с визгом завертелся на месте.
– Вот так лошадка, – сказал незнакомец, держа под уздцы козу и разглядывая её со всех сторон. – Ай да бабинька…
Коза меж тем блеяла, била копытцем и смотрела на них лукавым жёлтым глазом.
– А впрочем… Ты, Еким, я чай, не гусар… Чего тебе коза?.. Садись и помни: ни за какие посулы узды с неё не снимай, не то поквитается, старая ведьма. А как сойдешь с неё, скажи только: «аминь, аминь, рассыпься!» Она и сгинет.
Еким взгромоздился на козу, одной рукой прижимая к себе узел, другой – уцепившись за уздечку.
– Ну давай, Еким, прощаться, – сказал незнакомец, кладя на плечо Екиму правую руку. – Бывай… Папиньку слушай… Ну и… благодарствуй…
– Что ты! Тебе спасибо! – отвечал Еким. – Озолотил меня.
И что-то опять кольнуло Екима, какое-то странное сходство, что-то такое в этом удивительном человеке, что Еким подметил сразу, на этом же месте во время их первой встречи. Подметил, но так и не понял.
– Что, бабинька? – наклонившись тем временем к козе и поглаживая её между рожек, проговорил незнакомец с деланной лаской. – В Москву?.. В Москву!..
Коза мотнула головой, как будто желая сбросить с себя руку, встала на дыбы и пустилась карьером.
И вдруг Еким понял. Неизвестно, почему именно в эту последнюю минуту он ухватил мысль, которая раньше ускользала от него: вот сейчас, когда незнакомец гладил козу, Еким точно видел, что на правой руке у него не хватает большого пальца…
– Как тебя звать-то? – крикнул Еким, но коза уже несла во весь опор, и ответ незнакомца не долетел до слуха Екима.
* * *
В тот же день, да притом, кажется, и очень скоро Еким был в Москве. Как именно они добрались, он не мог потом объяснить. Оказавшись вдруг в Сокольниках, где-то посреди Грабиловки Еким спешился. Нужно было что-то сказать козе, но Еким запамятовал и силился вспомнить. Коза тем временем уставилась на Екима. Он перепугался и забормотал первые, пришедшие на ум слова:
– Чур, чур меня… развались…
– Дурак, – сказала коза старухиным голосом, плюнула в Екима и растаяла.
А Еким уже беспокоился, как бы поскорее покинуть место, куда, должно быть, нарочно доставила его коза. Будучи наслышан о встречах местных дачников с обитателями грабиловской чащи, Еким отнюдь не желал столь бесславного конца своим похождениям. Место было глухое, под ногами вилась кем-то вытоптанная тропа. До ближайшего тракта или хотя бы посыпанных песком дачных дорожек предстояло ещё добраться. И Еким снова тронулся в путь. Но не прошёл он и десяти шагов, как остановился – в траве у самой дороги он заметил камень. Обыкновенный серый камень, размером с небольшую сковороду, на которой у Петунниковых пекли блины. Примечательным казалось то, что камень был плоским. Такие камни, разве что поменьше, во множестве устилают речное дно или морской берег, о котором, к слову сказать, Еким не имел представления, не быв даже и в Петербурге, море же видев только на картинках. Но как попал эдакий голыш в Сокольничий лес, можно только догадываться и строить всевозможные предположения. Да и то при условии, что кому-то придёт охота размышлять о судьбе серого камня. Вот и Еким, подивившись камню, не остановился мысленно на его происхождении, но предался раздумьям совсем иного рода. Подойдя к камню, он присел перед ним на корточки, погладил гладкую тёплую спинку и сказал мечтательно:
– А ведь маменька о тебе давно мечтает… А ты… того… лежишь тут… Да знать бы – давно бы пришли за тобой! Маменька ещё по осени говорила: «Камушек бы гладенький на капусту – в маленькую кадушечку не хватает камушка». Заместо тебя, брат, маменька чугунок с водой ставила… А камушек, говорит, лучше был бы… А ты – вот он, где!
Еким с каким-то даже умилением снова погладил камень и сказал:
– Ну собирайся, брат – со мной пойдёшь. К маменьке…
Не без труда оторвал он вросший в землю камень, под которым осталась неглубокая ямка, служившая пристанищем целому сонму жуков, червей и каких-то непонятных, но схожих с ними существ. Вся эта гвардия тотчас расползлась и разбежалась, и только полусгнивший осиновый лист одиноко оставался лежать во влажном следе, оставленном камнем.
Отряхнув находку и прижав к себе сухой стороной, Еким подхватил узелок и поспешил вернуться на оставленную тропу. Но не успел он пройти ещё десятка шагов, как случилось то, чего ещё недавно он сам опасался и чему сам же, возможно, и поспособствовал своей чрезвычайной задержкой.
На тропу, непонятно откуда, а по всей видимости, из-под ближайшего разросшегося куста, шагнул некто курбатый, изрядно обросший и оборванный, с поленом в руке. Поленом он, как будто разгоняя комаров, помахал перед самым носом у Екима, после чего сказал отрывисто, точно выстреливая словами:
– А ну… стой! Эй… ты!
Требование было излишним, потому что Еким и так уже остановился, с ужасом глядя на курбатого и замирая в предвкушении неминуемой развязки встречи.
– Что несёшь? – выстрелил курбатый и протянул огромную волосатую ручищу к узелку.
– Вы… того… – пролепетал Еким, пятясь и отводя руку с узелком от тянущихся к нему растопыренных пальцев. – Я… того… я тут не один. За мной вон… три товарища следом идут.
Но курбатый в ответ захохотал и, поблёскивая маленькими глазками сквозь тёмные упавшие на лицо пряди давно нестриженых и нечёсаных волос, объявил:
– Ну так и я… не один! Со мной вон… семеро товарищей… по кустам сидят!
И снова захохотал, любуясь испугом и замешательством Екима. Но тут Еким, даже не понимая, что делает, размахнулся маменькиным камушком и метнул его в самую физиономию курбатого. После чего, прижимая к груди драгоценный свой узелок, понёсся вскачь по лесной тропе туда, где начинались, по его предположению, дачи.
За спиной у себя он слышал стон и ждал, что выскочившие из кустов «семеро товарищей» вот-вот настигнут его и затопчут, так что и следов не останется. Но стоны мало-помалу стихли, а никто так и не настиг Екима. Правда, вместо дач он выскочил к Пятницкому кладбищу, перебежав через которое в считанные минуты, оказался на Троицкой дороге. И тут только вздохнул он свободно и даже позволил себе отдых, но не потому, что кончились глухие места. Просто знал он, что уж здесь-то Троицкий игумен нипочём не даст его в обиду.
В самом деле, ничего особенного не произошло больше в тот день с Екимом Петунниковым, и обедал он уже дома. Причём обеденный стол украшала гора золота, а Еким с необычайной для себя бойкостью рассказывал о своих похождениях. Рассказал он и о покупке мертвеца в Старой Руссе, и о походе своём в лес за чудесным цветком, и о каморе с золотом, и о чёрной козе, и даже о сером голыше:
– Я, маменька, – с отчаянием даже говорил Еким, – ещё камушек хотел принести вам в кадушечку. Да разбойники, окаянные, напали, отняли камушек-то!..
Само собой, рассказом о камушке он привёл в совершенное умиление как Фёклу Акинфеевну, так и тех домочадиц, чьи головы были заняты исключительно кадушечками и прочими вещами в том же роде.
Влас же Терентьевич сына выслушал молча и ни перебивать, ни попрекать не стал. Но однако, слушая рассказ Екима, он то и дело мотал головой и тёр себе лоб, из чего можно было заключить, что думал он примерно следующее: «Эко врёт Екишка…» Тем не менее горка золота посреди стола красноречивее всего свидетельствовала в пользу Екима. Эта же горка и примирила Власа Терентьевича с возвращением и россказнями блудного сына. И только уже перед сном, оставшись один на один с супругой, он позволил себе высказаться в том смысле, что вот же де свезло дураку. А потом прибавил задумчиво:
– Хоть и врёт, не говорит, откуда золото взял – а всё свезло!.. Вот кабы только греха с ним не было – разбойники какие-то… Камушек, говорит, забрали, а золото оставили…
Но Фёкла Акинфеевна только заметила, что «хоть бы и дурак, а шапку золота принёс», и дальнейший разговор поддерживать отказалась. Влас Терентьевич признал, что «оно и правда», золото прибрал и говорить о нём запретил. А если потом и просачивались наружу новости, если расспрашивали его о золоте, Влас Терентьевич называл эти разговоры вздором и уверял, что Еким по святым местам ездил.
И ещё кое-что совсем незаметное случилось по возвращении Екима Петунникова в Москву. В Ирининской церкви на каменной фигуре Спасителя, что стоит в нише под аркой и украшается множеством крестиков, образков, и прочих мелких вещиц, приносимых благодарной паствой, появилось золотое колечко с красным камушком. Никто не смог бы сказать, откуда оно появилось. Да никто, наверное, и не заметил его появления.
Макарушка
Ещё до освобождения крестьян, в Москве, на Вороньей улице в Рогожской слободе, в доме мещанина Пафнутия Осиповича Трындина, исповедовавшего древлеправославную веру, появился на свет мальчик Макарий. Или, как его попросту стали называть, Макарушка.
Отец Макарушки – Пафнутий Осипович – имел небольшую мучную торговлю на той же Вороньей улице. Мать блюла заветы старины, доглядывая, как бы кто из домашних чего не нарушил, и потихоньку мечтала о невиданном доселе благочестии. Ещё бывшей в тяжести, ей хотелось получить знамения. Вернее, мечталось ей, чтобы младенец стяжал судьбу праведника и чтобы в подтверждение тому был дан ей какой-нибудь знак. Втайне дерзала помышлять она о взыгрании во чреве. Но младенец если и поворачивался, то играть никак не хотел, а равно и голоса не подавал. Да и родился Макарушка обыкновенным, как все младенцы: красным и крикливым. И ничто не свидетельствовало об ожидавшей его необычайной судьбе. Разве только в ночь перед появлением Макарушки загорелись на соседнем дворе рогожи, и скверно пахло. Сначала никто в целом доме, кроме какой-то старухи, которая даже неизвестно, кому и кем доводилась, не отметил связи между возгоранием и родами.
– Ишь ты, жоглый какой народился, – проскрипела старуха, взглянув на новорожденного.
Но её прогнали. И только спустя год, когда старухи-то и в живых уже не было, о рогожах вспомнили и старухину правоту признали. Неспроста смердели загоревшиеся рогожи в час, когда роженица в первый раз вскрикнула.
– Что это он у тебя, Матрёна Агафаггеловна, будто всё… тычется? – спросила как-то соседка, рассматривавшая Макарушку, который играл на полу и поминутно на что-нибудь натыкался.
Но Матрёна Агафаггеловна и сама уже отметила в сыне изъян. Дым от рогож будто бы выел ему глаза, и Макарушка, чтобы рассмотреть попадавшие в руки вещицы, подносил их вплотную к лицу. Когда же Макарушка подрос, опасения подтвердились: глаза его были настолько слабы, что даже учиться чтению и письму он не смог. Цветом глаза его были черны, взгляд их казался неподвижен. И всякому, на кого смотрел Макарушка, становилось не по себе, потому что было неясно: то ли он смотрит, не видя, то ли, напротив, видит скрытое от других.
Чёрные волосы Макарушки отливали в синеву, белая, на зависть девицам, кожа всегда была бледной. Никто не видел, чтобы Макарушка улыбался и уж тем более смеялся. Но это никого не смущало, потому что Христос, по Писанию, тоже не улыбался, а значит, смех – занятие лукавое, дозволяемое по слабости. Хотя, конечно, человека сложно корить смехом, в особенности, если этот человек – дитя. И всё же Макарушка – что бы ни делал – стоял ли в церкви, сидел ли возле маменьки у окна с геранью, играл ли на улице в бабки – ни разу ничему не улыбнулся. Между тем, несмотря на слабые глаза, в игре в бабки Макарушке равных не было. Подобно хромым кузнецам или слепым певцам, неподражаемым в единственно доступном делании, Макарушка слыл непревзойдённым игроком. Мальчиком обыгрывал он и сверстников, и старших себя, получая в качестве вознаграждения бабки со всей округи. После чего бабки у него выкупались, игра начиналась сызнова, а у Макарушки собирался капитал. Так шло до той поры, пока Макарушка не заскучал.
Человек на то и родится, чтобы скучать. А уж разгоняет скуку всяк по-своему. Оттого-то один в петле, другой – в кабаке, а третий – во храме Божием. Жизнь по-древлепрепрославленному протекала своим особенным чередом, и Рогожская слобода не во всём походила на остальную Москву.
Всех развлечений для Макарушки было – в бабки играть да в баню ходить. А то ещё – сиди подле маменьки перед уставленным цветами окном и смотри на улицу. Вот так посидит Макарушка и вздохнёт:
– Скучно, маменька…
– А ты сходи к дедушке, помолись вместе с ним, бес-то и отпустит.
Пойдёт Макарушка, помолится – а всё равно скучно. Чего-то всё хочется Макарушке, так и клокочет внутри. Не то взлететь бы, не то закрутиться на месте, да и покатиться бы по Вороньей улице. Удивиться хочется. Испугаться. Вдохнуть побольше… и выдохнуть.
Только всё как будто застыло вокруг: дедушка бормочет псалмы, стучит маменька спицами, пахнет герань на окошке… Точно время остановилось, точно воздух, вобрав в себя звуки и запахи, притаился без движения.
Говорят, на Москве много весёлого. Но бесовское то веселье. А познание, что из книг – грех один. Есть книги древле-препрославленные, есть Писание, есть молитвы, есть, в конце концов, порядок, раз и навсегда заведённый, ради сохранения которого и стоит Рогожская слобода. А больше ничего нет, потому что всюду грех… грех… грех…
– Скучно, маменька…
Проходит год, другой…
Отстояли обедню, наиграл Макарушка бабок, съездили в Полуярославские бани со своими тазами. И опять: стучат спицы, дедушка бормочет за стенкой и нестерпимо пахнет герань.
Отчего это – грех пойти в никонианскую церковь? Оттого что они безблагодатные. Отчего же никониане безблагодатные? А кто «Исус» с двумя «и» пишет и персты кощунственно складывает?..
Стучат спицы, бормочет дедушка, алеет герань на окошке…
Скучно, маменька!..
А в Сергиевской церкви, что здесь же, на Вороньей улице, иконы до Никона писаные. И в Алексеевской церкви, что на Подкопе, иконы старого письма. Как же они безблагодатные?
Но узнал отец, что бегал Макарушка в Сергиевскую церковь, и высек. Узнал, что в другой раз бегал, и в другой раз высек. Не бил бы отец, не пугала бы маменька грехом, не стращал бы дедушка землёй разверстой, не сулил бы судьбы Дафана и Авирона – глядишь, и не пошёл бы Макарушка в третий раз.
Встал он поближе к клиросу и подтягивает. И хорошо Макарушке в безблагодатной церкви, а отчего – не знает.
Дошло до отца про третье хождение к никонианам, и так отец высек, что занемог Макарушка. А когда оправился – к Покрову – на дворе пуховым платком лежал снег. Хотел было Макарушка снег потоптать – обувки нет. Спрятали сородичи, чтобы к безблагодатным не бегал. Посидел Макарушка дома и босым пошёл по Вороньей улице, оставляя на снегу отпечатки своих широких, плоских ступней – точно дыры на белом платке.
Сидеть взаперти, да ещё в то время, когда давно уже разрушена допетровская тишина, когда мир день ото дня вращается всё быстрее, а соблазны множатся, словно грибы дождливым летом – такую выдержку нечасто встретишь. Даже тех, кого выпестовала Рогожская и внушила гордое презрение к без-благодатным, однажды может призвать жизнь, и кто устоит против этого зова? Попытавшийся не заметит, как изуродует себя. И вот уже он влачится той же дорогой, что и лишённые благодати, только с вывороченными стопами и перекрученной шеей.
Но оказалось, что Макарушка не из тех натур, кто согласен ходить вперёд затылком. Зажил бы Макарушка обычной жизнью – да тесно. Соблюл бы заветы старины – да скучно. Где тот завет, что крылья не вяжет? Где та жизнь, что ноги не путает? Повстречайся бы Макарушке хоть кто-то, кто сумел бы наставить не битьём и стращанием, и явился бы, глядишь, невиданный в мире праведник.
В Сергиевской церкви Макарушку знали по-соседски и радовались ему, как, впрочем, и всякий раз, когда заблудшие овцы являлись к единому Пастырю.
– Ты приходи… – тихо говаривал Макарушке Герасим, маленький, подвижный старичок, при взгляде на которого всегда казалось, что вот сейчас он непременно подпрыгнет. Но Герасим не подпрыгивал, а только переминался, приседал и то и дело появлялся там, где его не ожидали увидеть.
Когда после Литургии Герасим заметил, что Макарушка, во-первых, бос, а во-вторых, не спешит уходить и топчется возле свечного ящика, как будто обронил в него какое-то сокровище, старик забеспокоился. Беспокойство и недоумение он выразил весьма скупо, неожиданно возникнув перед Макарушкой, переминавшимся у ящика:
– Ты чего здесь?
Макарушка взглянул на него своими странными – не то невидящими, не то всевидящими – глазами и ответил столь же скупо:
– Домой не пойду.
Надо полагать, что на этом и старец, и отроча поняли друг друга как нельзя лучше. Потому что Герасим без лишних слов увёл Макарушку к себе. А Макарушка отнюдь не сопротивлялся переселению на новое место. Тем более что староста был вдов, бездетен и жил один.
У Герасима отыскались для Макарушки сапоги и какая-то верхняя одежонка, настолько, впрочем, затёртая и потерявшая всяческие очертания, что и приличного бы названия для неё не нашлось.
Макарушка всё это принял молча и два дня проходил в сапогах. После чего сапоги скинул. И уже возле дома Герасима появились на уплотнившемся снежном платке чёрные дыры от Макарушкиных пяток.
– Ты чего босой? – скупо, по своему обыкновению, удивился Герасим.
– Спадает… – неопределённо пояснил Макарушка, отказавшись заодно и от чуйки.
Герасим хоть и косился неодобрительно на босого и полураздетого Макарушку, но спорить не стал, позволив странному отроку чудить до поры. Пропавшая овца была найдена, а сапоги – дело наживное. Побегает босой и обуется.
За ужином на третий день новоселья и совместного жития Герасим очень серьёзно спросил у Макарушки:
– Желаешь ли ты к истинной Церкви освящённым елеем примазаться и приобщиться Спасовых тела и крови?
Но Макарушка только взглянул на Герасима своими странными глазами и не сказал ничего.
Между тем родители Макарушки начали поиски блудного сына. Несколько дней его поджидали, уповая, главным образом, на холод и, конечно, на страх, который, по мнению старших Трындиных, должен был обратить стопы их младшего под отчий кров. Но Макарушка, не убоявшись ни разверстой под ногами земли, ни коросты проказы, ни удавки иудиной, домой не спешил. Из чего Трындины заключили, что заблудивший Макарушка «совсем страх потерял». И решили начать поиски, чтобы уже силой и данной Богом властью вернуть беглеца домой. При этом шли горячие обсуждения в отношении будущего наказания, безусловно заслуженного и даже необходимого, как средства душеспасительного и вразумительного. Разнообразием поступавшие предложения не отличались. Обсуждение так или иначе вертелось вокруг гороха, соли, розог и поклонов. И, как совсем уже крайние средства, предлагались полено и вожжи. Идея с вожжами принадлежала Пафнутию Осиповичу. А дедушка, проявивший себя с наиболее радикальной стороны, рекомендовал обратиться к средствам испытанным и работающим раз и навсегда, то есть к соли и полену.
– Эдак-то разик отходить его, сукина сына, по спине, – волновался дедушка и сжимал сухонькие кулачки, – так в другой раз не потянет в колывань эту ввязываться.
Матрёна же Агафаггеловна настаивала на более мягком наказании: всего-то розги и поклоны, счёт которых, правда, шёл на сотни. Но наказание беглого Макарушки напоминало делёж шкуры неубитого медведя, что, в конечном счёте, поняли и сами истязатели. Посему, так и не придя к единому мнению в отношении воспитательных средств, решили для начала всё же осуществить поимку непокорного, после чего уже вновь вернуться к обсуждению способов возмездия и внушения.
Поиски были недолгими. Первым же делом Пафнутий Осипович направился к Сергиевской церкви и там, стакнувшись с обретавшейся на паперти нищей братией, незамедлительно выяснил, что Макарушку приютил у себя Герасим. Да, да, тот самый – староста церкви, что живёт на Малой Андроньевской улице возле непросыхающей лужи.
Пафнутий Осипович пошёл к Малой Андроньевской, радуясь про себя скорому завершению поисков и лёгкому морозцу, прихватившему и наверняка вразумившему эту, никогда не бывшую мощёной, улицу. В самом деле, весной и осенью Андроньевская улица была как пьяная. Под ногами прохожего то чавкало, то хлюпало. Местами мостовая вдруг цеплялась за ноги и не отпускала, затягивая в какие-то пугающие топи. И прохожему требовалось немало усилий, чтобы сделать шаг и не оставить в недрах мостовой сапоги. Гордостью и достопримечательностью Малой Андроньевской улицы была та самая непросыхающая лужа, отвечавшая, скорее, определению «пруд», но располагавшаяся прямо посреди проезжей части и превращая тем самым проезжую часть в непроезжую. В пруду этом ловили мальчишки каких-то замысловатых тварей, а кто-то утверждал даже, что промышлял рыбу. Впрочем, этой рыбы никто никогда не видел.
Мороз не сковал ещё воду, и лёд не стал на Андроньевском «пруду». Однако грязь несколько подсохла, и улица сделалась вполне пригодной для безопасного хождения.
Пафнутий Осипович довольно сносно добрался до домика Герасима, ни разу не увязнув и не выскочив по пути из сапог. Герасим был дома и, встретив гостя, провёл его в единственную свою комнату, разгороженную захватанными занавесками на несколько закутков.
Войдя, Пафнутий Осипович прокашлялся, осмотрелся, но признаков присутствия в доме Макарушки не обнаружил. И тогда только спросил:
– Ты, сказывают, сына моего укрываешь?.. Так, что ли?..
– На что мне твой сын? – пожал плечами Герасим.
– Ну уж это твоё дело – «на что». Я и знать не хочу, на что тебе мой сын. Я хочу только знать, где он теперь…
– Не здесь, как видишь… – отвечал жадный на слова Герасим.
– А ну как я с квартальным приду? – как можно строже спросил Трындин.
– Приходи хоть с полицеймейстером – ответ один будет.
Пафнутий Осипович растерялся и задумался. Отчего-то поимка Макарушки представлялась ему делом уже решённым. И стоит только ступить на Малую Андроньевскую улицу, как всё остальное случится само собой: Макарушка падёт отцу в ноги, и останется только отволочь его домой для взыскания. Но вот Макарушки не оказалось, волочь некого, а что делать дальше – неизвестно. В конце концов, Макарушке пятнадцатый год, и он волен идти, куда ему заблагорассудится. И никакой квартальный, а уж тем более полицеймейстер, не пойдёт по дворам разыскивать эдакого дылду, чтобы воротить его мамке. Пафнутию Осиповичу стало тоскливо. Он опустил глаза и, переминая в руках шапку, спросил:
– Скажи, по крайности, где искать его…
– А чего его искать-то? – заметил Герасим. – Он, я чай, не иголка и не младенец – живёт, где хочет. Отступись, глядишь, он и сам вернётся…
Пафнутий Осипович помолчал, посмотрел на Герасима и ушёл, не прощаясь. Герасиму стало его жаль, и он подумал, не вернуть ли ему гостя. Он даже представил, как выводит к Трындину Макарушку, завидевшего отца на улице и перебежавшего в сарай. Как отец с сыном обнимаются, Трындин благодарит его, Герасима, и все вместе они садятся пить чай. Но потом Герасим вспомнил, что Макарушка соединился, почему возвращаться ему нельзя – домашние либо совлекут его в раскол, либо не дадут житья. В последнем же случае уйти всё равно придётся, но претерпев перед тем побои, поношения и травлю.
Пока же Герасим рассуждал таким образом, Пафнутия Осиповича, не успевшего ещё покинуть пределы Малой Андроньевской улицы, ждало приключение. Едва отошёл он от дома Герасима, как перед ним возникло существо огромное, взлохмаченное и нетрезвое.
– Стой!.. – взревело существо и раскинуло руки. – Ты кто таков есть?.. А-а!.. Знаю! Ты к Гераське ходил за мальчишкой… Врё-о-шь! Гераська тебе мальчишку не отдаст. Он его в новую веру сманил и в митрополиты хочет вывести… А ты – отступись!.. Отступись…
Пафнутий Осипович вздрогнул: не далее как пять минут назад то же слово слышал он от Герасима. Но самое страшное было про новую веру. Что если и правда Макарушка перешёл к никонианам?.. Тогда и впрямь лучше отступиться. Пусть его! Пусть, отступник лукавый, живёт как может, коли живётся…
Ревевшее на него медведем существо Трындин знал. Это был безобидный, хотя и шумный, обитатель Малой Андроньевской по фамилии Баулов, живший сдачей в наём комнат в собственном доме и неизменно пропивавший невысокий свой доход. И конечно, Баулов знал наверняка, что Макарушка у Герасима. Но расспрашивать его Пафнутий Осипович не стал. Ни слова не говоря, он попытался обойти громоздкую фигуру, перегородившую и без того едва проходимую улицу. Но ступил одной ногой в пресловутую лужу, сразу же зачерпнул воды, угодил в топь и чуть было не оставил сапог.
– Жертвоприношение! – взревел Баулов, глядя, как Пафнутий Осипович с трудом тащит из лужи сапог. – Оставь обувище, пересекающий улицу сию!
И приблизив красное своё лицо к лицу Трындина, обдавая при этом Пафнутия Осиповича винными парами, прохрипел совершеннейшую бессмыслицу:
– Ни скрывища, ни сбывища, ни одежища, ни обувища…
Пафнутий Осипович, испугавшийся и топи, и винных паров, и бессмыслицы, выдернул наконец ногу и почти бегом бросился прочь. А вслед ему понёсся громоподобный рёв:
– Жертвоприношение!..
* * *
Баулов не соврал: за день до появления Пафнутия Осиповича на Малой Андроньевской улице Макарушка и в самом деле причастился тела и крови Христовых в Сергиевской церкви. Герасим, впрочем, отметил, что свершившееся оставило Макарушку равнодушным – ни радости, ни сожаления он не выразил. Но Герасим не счёл нужным обращать на это внимания и сам радовался спасённой, как ему казалось, душе. Вот почему передача Макарушки сродственникам представлялась Герасиму невозможной. Ведь в этом случае только что спасённая душа могла бы вновь оказаться на краю погибели.
И Макарушка остался у Герасима. До Трындиных в конце концов достоверно дошло о Макарушкином отречении, и семейство разделилось, предлагая Макарушку проклясть, оплакать, а не то и справить тризну.
Что до самого Макарушки, то хоть он и не обнаружил радости по поводу перехода в «истинную Церковь», зато явил необычайную приязнь и рвение к церковной службе. Первым приходил он к литургии. Если, бывало, Герасим мешкал, отправлялся один в Сергиевскую церковь. Вскоре уже не осталось и тропаря, незнаемого Макарушкой.
– Чудной, право, мальчишка, – бормотал Герасим, наблюдая за Макарушкой и раздумывая над этой странной судьбой.
– А скажи мне, пожалуйста, – спросил Герасима протоиерей, разоблачавшийся в алтаре, – что ты намерен с ним делать?..
Один из приделов церкви по сей день посвящён Николаю Чудотворцу, вот почему на Николу Зимнего шла праздничная служба и народ стекался со всей округи. Явился, само собой, и Макарушка – босой и бескафтанный, по своему обыкновению. Встал на клирос и таково пел, что умилил протопопа. А умилившись, батюшка, пожалуй, впервые взглянул на Макарушку не как на существо, которое только и надобно, что пристроить к дому и не забывать накормить. И вот тут-то батюшке и вошла мысль, что неплохо бы подумать о дальнейшей судьбе Макарушки. После службы, когда Макарушки не было рядом, он и обратился к Герасиму с вопросом о том, что тот намерен делать со своим жильцом.
– Да что с ним и делать-то?.. – нахмурился Герасим. – Странный ведь он. Всё одно, что не в себе… То смотрит, будто не видит. А то так взглянет, что страшно делается… А то ещё бабки…
– Какие это бабки? – не понял протопоп.
– Бабки… Мальчишки играют… Наиграет бабок, а после их же и продаёт… Денег принесёт, на стол высыплет… На, говорит, сгодятся. Ты не сгоришь… А чего «не сгоришь»?.. Я говорю: оденься, холодно. Нет, говорит, ни к чему это – спадает…
– Спадает… Как же так – спадает?
– Да вот то-то и оно…
– Спадает… Ну вот… тем более!.. Не век же ему в бабки играть да босым ходить, – оживился батюшка.
– Так-то оно так… Только как же?..
– Вот и вопрос: как же?.. А хорош был бы инок… А? Верно?.. Эти его волосы… да по плечам… да с синим блеском!.. – мечтательно проговорил батюшка, разглядывая морозные росписи на окнах. – Хоть сейчас страстотерпца пиши! Как мыслишь?..
– Это что же?.. По монашеству?.. А что? В его-то положении – чего лучше!
– Вот и я о том: в его положении лучше и не придумать, – вздохнул отчего-то батюшка, прикладывая ладонь к оледенелому стеклу.
Герасим пообещал потолковать с Макарушкой, и на том попечительские чаяния отца настоятеля иссякли. Однако потолковать не пришлось, потому что случилось нечто, совершенно не предвиденное никем, и в жизни Макарушки открылась новая страница.
* * *
Год подходил к концу, и надлежало на другой день возвестить Новолетие, как вдруг разнеслась по Москве страшная новость: умер Семён Лукич. Кто принёс эту весть в Сергиевскую церковь, уже неизвестно – даже и Домна Карповна, знававшая настоятеля, не имеет о том понятия. Просто залетело в храм с морозной струёй и пошло гулять по устам:
– Семён Лукич… Семён Лукич… Умер Семён Лукич!..
– Почил, значит, – задумался настоятель и размашисто осенил себя крестным знамением. – Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего Симеона…
– Слышал?.. Про Семёна-то Лукича… – крестясь в темноте, спросил из своего угла Герасим засыпавшего под тулупом Макарушку.
– Слыхал, – отозвался в полудрёме Макарушка. – А кто он?
– Да ты что?.. – зашевелился Герасим. – Ты что же это, про Семёна Лукича не знаешь?..
– Не слыхал! – признался Макарушка.
– Ну это ты… брат… того! – удивился Герасим. – Как же не слыхать про Семёна Лукича, когда это святой, смирением отличившийся, лежавший Христа ради!..
Длинная фраза, произнесённая удивившимся и расчувствовавшимся Герасимом, совершенно его утомила, и он снова приклонил голову, засыпая и бормоча что-то невнятное о смирении. Макарушка же, напротив, пробудился и пребывал некоторое время в раздумьях относительно того, что могли бы значить слова о лежании Христа ради.
Между тем Семёна Лукича действительно вся столица чтила за смиренство и лежание. Смирение же его наблюдалось не то в небрежении отхожим местом и вообще какой бы то ни было чистотой, не то в чём-то скрытом от всеобщих глаз и доступном пониманию весьма немногих. Почему-то кое-кто решил, что пребывание тела в собственных нечистотах возвеличивает душу, и Семён Лукич прослыл святым не просто на весь околоток, но и на всю столицу, где по сей день в чести всё необычное, особенное, проделываемое Христа ради.
К Семёну Лукичу являлись и посетители, главным образом – женского полу, причём независимо от сословия и благосостояния. Являвшиеся донимали Семёна Лукича вопросами, преимущественно бытового характера: за кого идти замуж, будет ли счастье и куда подевалась кошка. Но то ли посетительницы слишком надоедали Семёну Лукичу, то ли сам Семён Лукич не вполне понимал, чего от него хотят, и вообще слабо ориентировался в бытовых вопросах, но только ответы его поражали порой чрезмерной краткостью и отсутствием, на первый взгляд, всякого смысла.
Спросят его, например, о пропаже. А он только вылупит глаза и рыкнет:
– Вши!
Вопрошавшая сначала недоумевает, потом начинает кумекать и наконец постигает: на вшивом рынке надо было искать, туда унесли.
Или спросят, идти ли замуж. А Семён Лукич возьми да и прорычи:
– Доски!
Какие такие доски? А тут жених и помре. Так вот они, до-сточки, домовину составившие!
Кто-то говорил, что Семён Лукич неумён, а кто-то – что попросту хитёр. Но большинство сходилось во мнении, что был он свят и пророчествовал.
Дни свои закончил Семён Лукич в Замоскворечье, во флигеле купеческого дома, находясь последние годы на попечении купцов Толоконниковых. Проводить его явилась едва ли не вся Москва. Семёна Лукича отпели, а гроб на руках из-за Москвы-реки понесли в Ваганьково.
Когда траурная процессия только ещё намеревалась тронуться, у гроба случился Макарушка. Подставить плечо своё под последнее пристанище Семёна Лукича нашлось бы немало желающих. Повезло, понятно, немногим. В числе же прочих гробоносцев оказался и Герасим, бывший в родстве с одним из священников той самой церкви, где отпевали Семёна Лукича. С Герасимом явился и Макарушка, как всегда босой, бестулупный, но его сперва оттеснили, и Герасим потерял Макарушку из виду. Когда же гроб с телом Семёна Лукича уже подняли на плечи и толпа, запрудившая замоскворецкие переулки, вдруг замерла, чтобы в следующую секунду сняться с места, перед процессией возник Макарушка.
Москва со смертью Семёна Лукича словно и сама оделась в саван – зима не жалела снега, а мороз инея, оплетая им ветки деревьев, собачьи морды, купеческие бороды и даже доски заборов. Белый ледяной узор покрывал стёкла, белый пар поднимался над толпой, застилая всё вокруг белой дымкой. Даже солнце, равнодушно повисшее в этот день над Москвой, завернулось в какой-то белёсый платок. И в этом молочном мареве тёмным отчётливым контуром обрисовалась вдруг фигура Макарушки. Он подошёл к Герасиму, но встал не рядом с ним, а перед гробом, как бы возглавляя процессию. Обернувшись к толпе, он чёрными, не то невидящими вовсе, не то всевидящими глазами обвёл гробоносцев и остановил взгляд на крышке гроба.
Тёмная босоногая фигура с возведёнными горе очами произвела странное впечатление.
– Ишь, ты! – сказал сосед Герасима, державший гроб слева от него. – Глазастый малый!.. А босой-то – никак блажит!..
Тем временем Макарушка, от долгого стояния переставший понимать, что у него под ногами – лёд или раскалённая сковорода, начал было переминаться, словно бы слегка приплясывая. На это другой сосед Герасима, стоявший сзади, громогласно и даже, как могло показаться, весело, проговорил басом:
– Ну, отпели Семёна Лукича, сейчас и отпляшем!
Эти слова многим показались забавными, и по толпе пробежало оживление. Но главное – на лице Макарушки впервые, наверное, за прожитые им почти шестнадцать лет появилось подобие улыбки. Никто никогда не видел Макарушку смеющимся, оттого и жутко стало Герасиму, заметившему, как губы Макарушки расползлись, соединив оба уха красной лентой. И Макарушка с необъяснимым удовольствием проговорил, как будто вдруг поняв что-то очень важное для себя:
– Отпляшем…
И повторил:
– В Царствие Небесное отпляшем…
В это самое время процессия тронулась с места, и Макарушка, вынужденный дать дорогу, не посторонился. Но вскидывая нелепо то ноги, то руки, затрясся всем телом и, прискакивая, двинулся вперёд. И так, возглавляя шествие, доплясал до самого Ваганькова. Видевшие эту дикую пляску, восприняли её как нечто само собой разумеющееся. Как будто все знали, что на похоронах Семёна Лукича непременно должно произойти что-то подобное, и только ждали: когда же это произойдёт. При виде же скоморошьих скачков Макарушки все поняли: это именно то, чего недоставало до сих пор.
– Ишь ты! – снова сказал левый сосед Герасима. – Никак Семён-то Лукич блажь ему свою завещал. Новый юрод…
– Равно как царь Давид, – пробасил сосед сзади. – И буду играти и плясати пред Господем: и открыюся еще такожде и буду непотребен пред очима твоима!..
– Вот то-то и оно, что непотребен… – пробормотал Герасим, припоминая Мелхолу и отчего-то смущаясь.
Герасиму, а может, и не одному ему, показалось, что Макарушка радуется и даже смеётся библейским словам, точно приветствуя их и воодушевляясь ими. Но Герасим, как никто, знал, что Макарушка не может смеяться. И потому, видя улыбку Макарушки, Герасим убеждал себя, что ему это чудится. На пляску Макарушки он смотрел со смешанным чувством. О том, что тот блажит, Герасим, положим, всегда знал. Оттого и согласился с отцом настоятелем, что ничего лучше монашества для Макарушки и представить себе невозможно. Однако вообразить, что Макарушка станет отплясывать самого Семёна Лукича в Царствие Небесное, да ещё босым в этакий-то мороз, Герасим не мог и в самых дерзких фантазиях.
Как его схватывает! Крутится, руками молотит, что твоя мельница… Кто разберёт эту пляску? Взлягнул, затрясся мелкой дрожью… И опять… опять… И за этим бесноватым вся Москва гроб несёт! Может ли быть что-то более нелепое, неправдоподобное, необъяснимое?..
А на кладбище Макарушка вдруг исчез. В одно мгновение потерял Герасим его из виду, и растворился Макарушка в белой морозной дымке.
Семёна Лукича схоронили. Обряд совершился сравнительно быстро, имея в виду, что на Ордынке, откуда принесли гроб, за один только день сослужили десятки панихид. А тело усопшего, или, попросту говоря, труп, почитатели Семёна Лукича едва не растащили на кусочки. Во всяком случае, к тому времени, когда закрыли гроб, Семён Лукич напоминал себя прежнего, поскольку последнее платье его, бывшее спервоначалу цельным, превратилось в лохмотья. И всё благодаря стараниям страждущих, не отходивших от гроба, не отщипнув себе хоть что-нибудь «от Семёна Лукича». Когда же страждущие покусились и на последнее жилище усопшего, принявшись отколупывать щепки, гроб, по настоянию духовенства, закрыли и понесли на кладбище. А там, дабы не пробуждать активность страждущих, как можно скорее опустили в ледяную землю, и мёрзлые комья с грохотом посыпались на крышку.
Толпа, прихлынувшая с Замоскворечья, затопила кладбище. И Макарушке не мудрено было затонуть в этой толпе. Найти же его в стылом хаосе оказалось не так-то просто. Но и к ужину напрасно ждал Макарушку Герасим. Впустую прождал его и на другой день. А спустя неделю явился к Трындиным, терзаемый подозрениями, что Пафнутий Осипович отловил блудного сына и заточил его по-древлепрепрославленному.
– Чего явился, поганец? – Пафнутий Осипович не стал разводить церемоний перед явившимся к нему на двор Герасимом. – Что, сына мало – за женой пришёл?
Герасим совсем сробел на чужом дворе, по которому с какой-то своей надобностью Пафнутий Осипович расхаживал с топором. Вид этого топора наводил на и без того перепуганного Герасима пущий ужас. Поскольку расправа, по его мнению, была бы хоть и нежелательна, но вполне заслуженна и справедлива.
– Дома ли… Макар-то Пафнутьевич? – выдавил наконец из себя Герасим.
– Давай! – усмехнулся в ответ Пафнутий Осипович. – Рассказывай тут!.. Осрамил нас на всю Рогожскую… И пришёл ещё… Спрашивает… Издевается… Макарий-то Пафнутьевич в шуты, я слыхал, подался?.. Пляшет вовсю… Народ веселит… Оно и в самый раз! Чо ж не поплясать?.. А всё ты!.. Ты всё!..
Тут Пафнутий Осипович остановился и, дырявя Герасима взглядом, переложил топор из одной руки в другую. Герасиму захотелось убежать. Но он только сглотнул слюну и спросил:
– Так не у тебя, что ли?
– У меня-а? – протянул Пафнутий Осипович, поправляя свободной рукой съехавшую на глаза шапку. – У меня ему делать нечего. Приползи через всю Москву на коленях – не пущу. Этот ломоть я отрезал… Постой-ка… Это что же?.. Это он, стало быть, и от тебя сбёг?..
И Пафнутий Осипович расхохотался злым, жёлчным смехом. Герасим, сразу сообразив, что смех относится именно к нему и что Макарушки в отчем доме быть не может, молча поспешил со двора. А развеселившийся Пафнутий Осипович кричал вслед ему:
– Ступай!.. Ступай в синагоге ищи! Он небось уж там поёт!.. Ему веру-то сменить, что шапку…
Но Герасим не пошёл в синагогу. Решив во всём положиться на волю Божью, он отправился домой, поминутно уговаривая себя, что лучшее – это ждать. Потому что рано или поздно весть о Макарушке дойдёт до его ушей. И он не ошибся.
* * *
Весть о Макарушке прилетела уже весной. Великим постом видели его на грибном рынке. Из одежды на нём была только длинная чёрная рубаха, синие волосы его отросли до плеч, по лицу гуляла улыбка, а на шее болталась киса, куда купцы и торговцы с удовольствием опускали монеты.
– За что ж это его одаривают? – подивился Герасим.
Но мужичок, принесший весть о Макарушке, истолковал всё предельно просто:
– Так… знамо дело: юроду как не подать?.. Опять же, слава о нём по рынкам: у кого калача или там гриба отведает – считай, заладилась торговля. Гурьбой за ним ходят: Макарушка, загляни… Макарушка, откушай… Базарный святой!
Герасим лишь покачал головой в ответ, словно не очень-то доверяя рассказам знакомого мужика. Вскоре, однако, он услышал, что Макарушку видели и на других рынках. И снова: синие волосы, блуждающая улыбка, киса на шее… Прибавляли ещё, что он по-прежнему бос и верхней одежды не признаёт.
Потом, ближе к лету, донеслось, что Макарушка пророчествует. Он, впрочем, пророчествовал и раньше, поедая грибы с калачами и предрешая тем самым исход торгового дня. Но тут пророчество обрело слово.
Герасим недоумевал. Но совершенно доподлинно было известно, что Макарушка предсказал скорую женитьбу молодого Нехотьянова. И когда торговец и в самом деле женился, Макарушка ещё приобрёл в общественном мнении. Являясь теперь на рынок, Макарушка тотчас оказывался в центре внимания. Из-за каждого прилавка были устремлены на него беспокойные глаза. Весь рынок, казалось, взывал к нему:
– Прореки!..
И Макарушка прорекал, подходя то к одному, то к другому купцу, похлопывая или, наоборот, поглаживая своего избранника.
– Ну что, брюхо… – говорил он одному.
– Эх ты, селёдочница!.. – вздыхал рядом с другим.
Торговцы замирали в пароксизме благоговения, после чего принимались потчевать Макарушку, пополняя как утробу его, так и кису. При этом что бы ни происходило в дальнейшем с «брюхом» или «селёдочницей», всё относилось на счёт макарушкиных предсказаний. Шла ли торговля бойчее или, напротив, переживался спад – всё истолковывалось как проречённое, как провиденное Макарушкой. И за всё Макарушке были благодарны.
Но славился он не только пророчествами. Как только случался где пожар, который пусть даже скоро удавалось погасить, являлся, осклабляясь блаженно, Макарушка и трясся в дикой своей, невиданной пляске рядом с языками пламени, словно бы наравне с огнём хотел пожрать, уничтожить, раскрошить нажитое, сложенное, выстроенное. И поползли по Москве слухи и разговоры о том, что Макарушка погорельцев в Царство Небесное отплясывает. И следом за благодарностью Макарушка внушил многим что-то вроде священного ужаса.
Бывало, Макарушка являлся до пожара. А бывало и так, что Макарушка задолго знал о пожаре и последующем затем разоре. О том и прорекал торговцам и мастеровым, шатаясь босым по улицам и площадям. Таким и увидел Макарушку Герасим, когда, Бог ведает по каким делам, явился на Конную площадь у Серпуховской заставы. Было это в конце июня, а в то время уже не морозная, но придорожная пыль висит в воздухе, выбеливая небо и застилая дымкой солнце.
Раз мелькнула в толпе чёрная рубаха, распахнутая на груди, и чёрные в синеву волосы, доходившие почти до плеч. В другой раз увидел Герасим глаза, не то невидящие вовсе, не то видящие насквозь. И странное волнение охватило Герасима. Он так испугался чего-то, что почти забыл, зачем явился в это зыбкое, нечеловеческое место, пропитанное пылью, миазмами и несмолкаемым шумом. Он остановился и, вытянув шею из ворота чуйки, принялся высматривать не то иссиня-чёрные волосы, не то глаза с остановившимся взглядом, не то чёрную рубаху с разодранным воротом. Как вдруг всё это явилось само, и Герасим разглядел перед собой Макарушку. Тот широко улыбался и, очевидно, нарочно явился поприветствовать старого друга.
– Господи Иисусе… – всплеснул руками Герасим.
Полгода не видел он Макарушку, как вдруг тот является и лыбится как ни в чём не бывало. Как будто всё это время Герасим не разыскивал его по всей Москве, не ходил самолично к Трындиным.
– Здорово, полосатенький! – проговорил Макарушка подсевшим голосом и дружески потрепал по плечу.
Герасим только ахнул, но тут же обрушился на Макарушку:
– Я вот тебе покажу полосатенького!.. Ты долго ли ерыжничать-то собрался? Ах ты, ерыжник ты, распроклятый!.. От отца с матерью ушёл, от меня ушёл – куда прикатишься, знаешь ли?..
Макарушка, по лицу которого нельзя было понять, слышал ли он, что говорит ему Герасим или нет, мог бы уйти прочь. Вместо этого он стоял перед Герасимом и с любовной почти улыбкой разглядывал вчерашнего своего благодетеля. Герасим между тем тоже успел рассмотреть Макарушку и отметил, что он подрос, возмужал и даже, как ни странно, похорошел. Очевидно, молодость и пока ещё не растраченное здоровье брали своё.
Тем временем вокруг шумевшего Герасима и улыбавшегося Макарушки, разглядывавших друг друга, стала собираться толпа. Макарушку все знали, а потому ничего удивительного, что шум, поднявшийся рядом с ним, привлёк столько внимания.
– Ты пошто ругаешься, дядя? – спросил у Герасима чей-то звонкий и молодой голос из толпы.
– Не тебя, чай, ругаю-то. Вот и ступай себе… – входил в раж Герасим. – Ишь вон, что с парнем сделали… Тьфу на вас с развратом вашим!..
– Разврат, дядя, на Грачёвке, – отозвался другой голос постарше первого и гораздо спокойнее. – А нам тут не до разврату. Да и он не девица, чтобы его портить…
– А это кому как! – послышалось в толпе. – Мне, к примеру, всегда дело найдётся…
– Как там чего, а убогого обижать не дадим, – донеслось до Герасима сквозь смешки. – Ты, дядя, сам-то кто таков будешь?.. Тебя тут никто не знает, вот и ступай подобру-поздорову…
– Эва! Хватили! – воскликнул Герасим, всё время пытавшийся разглядеть тех, кто к нему обращался, и оттого беспрестанно крутившийся. – Нашли убогого!.. Блажной Макарка с Рогожки, староверов сын у них за пророка! Эх вы-и… А ты чего ж молчишь? – набросился Герасим на Макарушку. – Порасскажи им, как ты от отца с матерью сбёг, да как от меня потом… Чего назад не воротишься, пророче чудный?..
– А зачем туда возвращаться?.. – подал голос Макарушка. – Зачем туда возвращаться, коли там через месяц ничего не будет?..
Так спокойно и серьёзно были сказаны эти слова, что Герасим снова испугался чего-то, как будто не Макарушкин голос он слышал только что, а сама судьба вдруг заговорила с ним.
И не только на Герасима так подействовал голос Макарушки. Толпа на мгновение тоже притихла, но тут же вновь заголосила, и среди поднявшегося шума Герасим разобрал слова:
– …Убогий всегда первый… Не возьмёт убогий товару – не бывать торговле…
Потом собравшийся люд зашевелился, потеряв интерес к Герасиму и поняв, что ни драки, ни даже приличного скандала произвести он не сумеет, и стал мешаться, поминутно толкая Герасима то в бок, то в спину. Исчез и Макарушка, как будто и не было его, как будто не стоял он перед Герасимом, не улыбался и не говорил «полосатенький».
Герасим был из тех людей, о которых сложно сказать что-либо определённое. Ничего яркого или буйного не заключалось в этом характере. Неглупый, да в меру добрый – вот, пожалуй, и всё, что можно было бы сообщить о нём. Но, однако, как это давно замечено, и такие люди страдают и чувствуют.
Чем был для него Макарушка, Герасим, пожалуй, и сам бы не сказал. Но успев привыкнуть к прибившемуся мальчишке, Герасим тосковал, когда Макарушка вдруг исчез. Теперь же на Конной площади среди людей, почитавших Макарушку убогим и готовых в драке доказывать, что он именно убогий, Герасим вдруг понял, что между ним, обыкновенным стариком, и этим мальчишкой с остановившимся взглядом всегда пролегала пропасть. Что со временем эта пропасть может только шириться и углубляться. Что Макарушка хоть и не убогий, конечно, но и отнюдь не обыкновенный. Что иудеи с самарянами не сообщаются. И что, наконец, самому Герасиму остаётся только вернуться к свечному ящику в одиночестве. Потому что судьба Макарушки – взлететь или пасть, а не суетиться между свечным ящиком и лачугой на Малой Андроньевской улице, аккурат напротив непросыхающей лужи.
Впрочем, Герасим не столько всё это понял, сколько почувствовал. И отягчённый новыми чувствами поплёлся домой.
* * *
Но история на этом не закончилась. И встреча с Макарушкой на Конной площади имела свои последствия для Герасима.
Спустя немного времени после встречи Герасима с Макарушкой, одним довольно жарким июльским вечером над Рогожской потянуло дымком. Поначалу запах никого не удивил. Но когда над Тележной улицей показался столб дыма, а следом послышались визг и крики «горим», Рогожская засуетилась. Дни стояли сухие, жаркие, и уже в следующее мгновение над Тележной поднялось пламя и медленно двинулось по улице, дёргаясь при этом, точно приплясывая.
Странный город – Москва. Домна Карповна, например, утверждает, что Москва – это не совсем город. Скорее, росстань, перекрёсток. Только Москва то и дело горит, не выходит из бани и не выпускает из рук чайной чашки. Только Москва похожа на огромную деревню с садами и огородами, бесконечно чередующимися ярмарками и рынками. Только Москва, наконец, похожа на проходной двор, продуваемый всеми ветрами; двор с шальными тройками и голубятнями.
Вода – чужая в пустыне. И огонь – чужой на море. Но в Москве всё иначе. Здесь, то и дело встречаясь друг с другом, стихии чувствуют себя как дома.
Поднявшись над Тележной, пламя двинулось вдоль по улице. Огонь шёл приплясывая, поигрывая не то на какой-то неведомой дуде, не то на трещотке, отчего в воздухе гудело и потрескивало. И было видно, что ему весело эдак идти и что скоро он отсюда не уйдёт.
И точно. Несмотря на поднявшиеся крики и беготню, несмотря на бесполезно метавшихся туда-сюда пожарных, огонь уже не шёл, а, точно пьяный, нёсся по улице с воем. Вскоре пылала не только Тележная, но и Воронья, Рогожская и прочие близлежащие улицы.
Уцелевшие погорельцы вопили, и вопли их тонули в рёве перепуганных животных, выведенных с загоревшихся дворов. Падавшие брёвна трещали оглушительно. Все местные колодцы оказались охваченными огнём, а Яуза была так далека, что легче было бы заплевать пожар, чем тушить её водами. В лавках загорелось масло, и по мостовым потекли огненные реки. Раскалившийся воздух, казалось, готов был расколоться на куски. Чёрная органза из пепла и дыма затянула небо.
Несколько дней бесновался огонь, пока наконец не истощился, не отгулял своего.
Герасим вместе с пожарными и примчавшимися на помощь крестьянами из ближайшей к Рогожской слободе Новой деревни метался то по Тележной, то по Вороньей улицам. Если уж невозможно было затушить разыгравшийся огонь, то хотя бы спасти остатки скарба погорельцев и вывести их в безопасное место, подальше от пляшущего пламени. Когда пошёл уже второй день огненному разгулу, Герасим столкнулся на Тележной улице с Бауловым. Тот тащил огромные узлы, а рядом с ним трусила чумазая старушонка, очевидно, хозяйка узлов.
– Добрая душа, – бормотала старуха, как будто разговаривая сама с собой. – Бог тебя отблагодарит…
– Не твоего ли там подкидыша мужики казни хотят предать лютой? – прогудел Баулов, поприветствовав Герасима.
– Какого ещё подкидыша? – насторожился Герасим, как-то сразу почуяв, о ком идёт речь.
– Босоногого, – пояснил Баулов.
И, заметив испуг на лице Герасима, добавил:
– Беги… Не ровён час – растерзают…
Герасим, не дослушав, что говорил ему Баулов, не уточнив, куда именно следует бежать, побежал наугад. Вскоре, однако, он остановился, заметив возле одной телеги, нагруженной тюками, венчал которые перевёрнутый медный таз, человек двадцать погорельцев, оборванных, чумазых мужиков со свирепыми лицами. Все они пытались одновременно говорить, размахивали руками и, казалось, не могли до чего-то договориться. Почти все были знакомы Герасиму. Вдруг один из них, по фамилии Свешников, с обгоревшей рыжей бородой, заметил Герасима и злобно крикнул ему:
– Пожаловал?.. Ну иди, иди… Полюбуйся…
– Оставь его, – сказал кто-то. – Не его вина…
– Моя, может? – огрызнулся Свешников.
– И не твоя…
Герасим подошёл к телеге. Погорельцы замолчали, расступились, и Герасим увидел, что на земле перед ними лежит человек в разодранной в клочья чёрной рубахе, с распухшим, окровавленным лицом. Герасим не хотел верить своим глазам. Наклонившись зачем-то к лежавшему человеку, он вынужден был признать, что перед ним Макарушка.
– Его работа, – ехидно, как бы приглашая Герасима полюбоваться на дело рук своих, сказал Свешников. – Поджёг, и ну плясать. Отпляшу, говорит, вас в Царствие Небесное. А я, может, не просил меня отплясывать…
– Да тихо ты! – перебил Свешникова старик Банкетов, человек степенный, хорошо известный всей Рогожской, ещё пару дней назад хозяин одного из лучших тележных дворов. – Это верно: видели, как он поджигал. Несколько человек видели… Сразу не поймали, а когда загорелось – не до него было. Сегодня опять явился и пляшет…
– А я, может, не просил меня отплясывать, не заказывал… – опять вмешался Свешников, но на него все зацыкали, и он замолчал.
– …Ну и схватили его ребята. Ты что же это, гад, говорят, делаешь?.. А народ, как прослышал, что он поджёг-то, ну и, понятное дело… Сжечь даже его хотели…
– А Трындин-то что же? – пробормотал Герасим, не знавший, чему более ужасаться: рассказам или виду раздавленного лица Макарушки.
– От Трындина пепел один, – сказал кто-то.
– Пепел… – бессмысленно повторил Герасим.
– Говорят, как зашлось у них, – пояснил Банкетов, – дедушка книгу, что ли, какую забыл… Деньги у него, может, в ней были – в книге-то?.. Ну и пошло… Дедушка за книгой, Матрёна Агафаггеловна за дедушкой, Пафнутий Осипович за обоими… А тут и брёвна посыпались…
На этом месте Герасим вдруг вспомнил слова, сказанные Макарушкой на Конной площади.
– …Так что, – продолжал Банкетов, – выходит он не просто как поджигатель, а самый что ни на есть отцеубивец…
Тут каждый из стоявших рядом поспешил сказать своё слово о Макарушке, но Герасим уже никого не слушал. Понимание природы Макарушкиных пророчеств поразило его.
– Ты зачем же это? – прошептал он, касаясь плеча Макарушки. – Зачем?..
К удивлению Герасима, Макарушка приоткрыл глаза. Вернее, чуть приоткрылся только правый глаз. Левый заплыл совершенно.
– Скучно, дяденька, – невнятно, чуть слышно проговорил он, с трудом приоткрывая разбитые губы. – Сила… сила во мне… в землю ушла… А хотел всю Москву… отплясать… в Царствие Небесное…
Макарушка замолчал и закрыл глаз. Более он уже не говорил. А на другой день Макарушка умер.
Никто не противился тому, чтобы Герасим забрал тело Макарушки, которого отпели в Сергиевской церкви и похоронили здесь же – в Рогожской слободе.
Прослышав, что почил Макарушка, Москва собралась проститься с ним. И похороны Макарушки оказались едва ли не столь же многолюдными, как и похороны Семёна Лукича. Явились и его истязатели. Плакали вместе со всеми, надёргали ниточек из савана, взяли песочка с могилки. А рыжий Свешников, объявив, что зубы болят, наклонился в церкви ко гробу и впился в него больными своими зубами. Макарушку поминали как целителя и человека Божия. Говорили ещё, что Макарушке можно молиться от пожаров, а также о Царствии Небесном. Потому-де и там ничего не стоит Макарушке отплясать человека. После похорон стали ходить молитвенники на могилку, где чудеса исцеления следовали одно за другим.
А Герасим пропал. Долго не было о нём слышно, пока наконец какой-то пришедший из Киева богомолец не рассказал, что повстречал Герасима, облачённого по-монашески, на берегах Днепра. Вид его был суров. И, по слухам, носил он на себе не то власяницу, не то вериги.
Ольга Митриевна
Откуда взялась на Москве Ольга Митриевна, решительно никто не знал, даже, наверное, и Домна Карповна. Дни свои Ольга Митриевна окончила в доме скорби, совершенно ослабев умом и потеряв всякую способность понимать что бы то ни было. Это обстоятельство, впрочем, ни в малейшей степени не сказалось на любви к ней московской публики. Даже и напротив – интерес к Ольге Митриевне возрос, публика пошла к ней валом, неся с собой деньги, сласти и прочие благопотребные предметы, а унося всякий сор, лишь бы только он имел касательство к Ольге Митриевне. Даже от срачицы Ольги Митриевны старались то отрезать кусочек, а то и просто выдернуть нитку, чтобы, повязав её вокруг запястья, обрести помощника в делах земных и покрепче привязать себя к угоднице Божией и молитвенной заступнице. Хотя, сказать откровенно, никто никогда не видел Ольгу Митриевну молящейся. Что, конечно же, объясняли нашим суетным неведением.
Причина могущей показаться странной любви к Ольге Митриевне таилась в том, что московская публика почитала Ольгу Митриевну юродивой, а к юродивым в Москве традиционно испытывают большую приязнь. В лучшие времена Ольга Митриевна и в самом деле юродствовала, прорекала и вообще чудила напропалую. Но после одного престранного случая вдруг обмякла и заблажила взаправду. И вот тут-то даже те, кто сомневался в святости Ольги Митриевны, пока она чудила и прорекала, сомнения окончательно отбросил и явился в дом скорби поклониться угоднице, а заодно услышать вещее слово.
Да, юродивых в Москве любили всегда, со времён, наверное, блаженного Василия. А может быть, даже ещё раньше. Того самого блаженного Василия, что ночевал бывало в башне у Варварских ворот и ходил, какова бы ни была погода, нагим, отчего и прозывался нагоходцем. А кто не знает Ивана Яковлевича, долгие годы проведшего в Преображенском сумасшедшем доме, но, в отличие от Ольги Митриевны, сохранявшего при этом рассудок? Иван Яковлевич, юродствуя, пребывал в нечистоте, а все приносимые ему кушанья смешивал руками воедино, руками же потреблял, из рук же угощал некоторых своих посетителей, приходивших в восторг ото всего, что проделывал их кумир. Постов же Иван Яковлевич совсем не блюл, упирая, очевидно, на то, что ни к чему поститься сынам чертога брачного, когда с ними жених.
Хвала Создателю, Ольга Митриевна не ходила нагой и даже не смешивала руками кушанья. Слава её и без того ширилась и разошлась по Москве в какие-нибудь несколько месяцев. Когда же Ольга Митриевна угодила в «жёлтый дом», о чём многие тогда почему-то сказали «сподобилась», стали вспоминать и доискиваться, кто же первым встретил и распознал Ольгу Митриевну. И выяснилось, что, как ни крути, но первым-то был Васька Нехотьянов, который как-то под вечер на Зацепе наткнулся на никому тогда не известную Ольгу Митриевну, продвигавшуюся к Москве со стороны Серпуховской заставы. На Зацепе, как он потом рассказывал, уже в сумерках подошла к нему какая-то нищенка с клюкой. Странность была в том, что вокруг них никого на ту пору не оказалось. Васька полез в карман и, выудив трынку, хотел уже оделить несчастную, но вдруг понял, что перед ним не простая нищенка. Вместо поклонов и завываний, она уставилась на Ваську и быстро-быстро забормотала какие-то бессвязные слова, вроде:
– …оковы, запоры, подковы, заборы…
Васька не на шутку испугался странной нищенки и со словами «очумела ты, карга?», оттолкнул её от себя. И хоть потом Нехотьянов утверждал, что толкнул Ольгу Митриевну совсем легонько, однако она кувыркнулась в ближайшую лужу, а непересыхающими лужами, как известно, Москва необыкновенно богата, и оттуда снова забормотала:
– …оковы, запоры, подковы, заборы…
За ту минуту, что Васька раздумывал, вытаскивать ли ему нищенку из лужи, успевшей всосать несчастную в свои топи, грязь чавкнула, и Ольга Митриевна, изрядно извозившись и, конечно, умалившись, вылезла сама и двинулась дальше. Нехотьянов недолго недоумевал. Недоумение его разрешилось спустя, наверное, час, когда он подрался в каком-то кабаке близ Конной площади и был препровождён в часть. Вот тут-то и дали себя знать оковы, запоры и заборы. Только подковы остались неразъяснёнными. Но потом, уже спустя время, когда Нехотьянов припомнил первую встречу с Ольгой Митриевной, припомнил и загадку с подковами, кто-то сказал ему:
– А Конная-то площадь?!..
И всё встало на свои места. Ну а к тому же, раз из части по задержании вышел он вскоре, то вот оно и везение. Что, собственно, и означали подковы.
Но это было потом, а поначалу Нехотьянов вскоре забыл о странной нищенке. Вспомнил же, когда слава Ольги Митриевны, как полуденное солнце, стояла в зените и светила без разбора всем – и добрым, и злым.
Впрочем, Нехотьянов Васька был далеко не одинок, и первое время явившаяся в Москву Ольга Митриевна прозябала по Замоскворечью, не замеченная ни честным купечеством, ни мастеровым людом, ни уж тем более публикой знатной. Вступив в московскую «золотую роту», Ольга Митриевна затерялась в ней и на первых порах ничем не обращала на себя внимания. А Москва, как известно, ласкает лишь тех, кто имеет своё особенное и умеет о том громко заявить. Но поскольку святость и прозорливость просто так в кармане не утаишь, то и Ольга Митриевна в скором времени обратила на себя московское внимание. Случилось же это на Болотной площади, где, в частности, обреталась Ольга Митриевна близ лавок и возов с ягодами и фруктами.
Внешне Ольга Митриевна была неприметной – ростом невеличка, с лица блёкла, правда, телом – дебела и крупитчата.
Волосы имела длинные и бесцветные, в беспорядке рассыпанные по плечам. Летами казалась шагнувшей на пятый десяток. Одевалась Ольга Митриевна в тёмную полинялую срачицу, поверх которой носила такой же тёмный и полинялый зипун, препоясанный на полной талии мочалом. На голове Ольги Митриевны сидела лиловая скуфья, а в руках – толстая палка, которую сама Ольга Митриевна величала «палицей иерусалимстей».
Первое время московского жития своего Ольга Митриевна только прохаживалась взад-вперёд по Балчугу, наведывалась и на Болотную площадь. Видели Ольгу Митриевну и на Старой площади, и в рядах на Красной. А кто-то посмел даже утверждать, что раз приметил лиловую скуфейку в «Бубновской дыре», что в Гостиных рядах. Только уж это точно «колокол льют», верить нельзя, потому что в кабаке этом такой смрад и дым, что и в двух шагах ничего не видно, а рассмотреть где-то там лиловую скуфью нельзя и подавно. Достоверно же известно, что как-то летом в самой гуще торга на Болотной площади начался переполох. Какая-то нищенка, не то поскользнувшись, не то так, повалилась в одну из луж и, перекатываясь с боку на бок, довольно игриво завизжала. На такое зрелище сбежалась толпа, охочая до разных чудес и чудачеств. И не убоявшись брызг, разлетавшихся из-под крутых боков Ольги Митриевны – а это была она, – любопытные окружили лужу и вперили глаза в выходившую из себя чудачку. Хотели было помочь ей подняться, но она не давалась и только громче взвизгивала. Послышались, конечно, смешки и разные шуточки. Кто-то спросил:
– Чего это она?..
И в ответ услышал с другого берега лужи:
– Известно, чего – блажит.
Как вдруг визги стали перемежаться членораздельными выкриками, и собравшиеся, как-то сразу испуганно притихнув, разобрали слова:
– Тело зудит… душа ноет… земля каяться зовёт – гудит и стонет…
И ещё:
– Ни ох, ни ах – всё одно во прах…
Никто, похоже, не ожидал, что дело примет такой оборот. И несмотря на то, что весь остальной рынок продолжал гудеть, вокруг лужи сохранялась тишина.
– Истинно говорит, – тихо вздохнул кто-то в толпе. И сразу несколько рук поднялись для крестного знамения.
– …Всё одно во прах… – умильно повторил женский голос.
– Да чего уж, – послышалось в ответ, – прах еси и в прах возвратишься.
Опять несколько человек перекрестились. В то же время Ольга Митриевна, грязная, мокрая, поднялась на ноги, вскинула свою палку и со словами «прочь, бойтесь палицы иерусалимстей» проследовала в сторону Москворецкого моста, оставляя по себе мокрый тянущийся след. Толпа действительно расступилась в молчании, пропуская новоявленную блаженную, с которой грязь текла струйками, и вскоре разошлась, обсуждая диковинное явление.
И всё же впечатление, произведённое Ольгой Митриевной на завсегдатаев Болотной площади, оказалось неоднозначным. Кто-то признал Ольгу Митриевну сразу и уже умилился. Но были и такие – в основном, конечно, это мальчишки и приказчики, – кто не разглядел в ней ничего, кроме забавы, щедро обычно доставляемой разного рода нищими за копеечку. Всем известно, что нет никого злее московских приказчиков и мальчишек. И если вид и само появление Ольги Митриевны смутили их ненадолго, то вскоре этот народец уже забавлялся и передразнивал блаженную. Поистине, скорее чужая беда вочеловечится, нежели достучишься до приказчичьего сердца.
И всё равно на другой уже день на Болотной и Балчуге говорили об Ольге Митриевне как о пророчице. Потому что в ночь после грязеваляния Ольги Митриевны на Болотной площади почил Хрисанф Яковлевич Буйлов, владелец и сиделец одной из тамошних лавок, бывший к тому же свидетелем явления Ольги Митриевны, разыгравшегося прямо напротив его лавки. По слухам, это именно он, тронутый пророческой силой, изрёк тогда:
– Истинно говорит, – якобы отнеся гул и вой земельный на свой личный счёт.
– Почувствовал, – шёпотом объясняли происшедшее с Хрисанфом Яковлевичем, – почувствовал родимый, что его черёд пред Богом стоять…
Так что когда, спустя несколько дней, лиловая скуфейка опять мелькнула на Болотной среди фруктовых возов и лавок, её появление было замечено куда как большим числом торговцев. При этом кто-то даже отметил, что ни одежда Ольги Митриевны, ни вообще весь облик её ничем не выдавали недавнего барахтанья в луже. И даже лиловая скуфья сохраняла цвет и следов грязи на себе не носила. Эту загадку поспешили, конечно же, отнести к разряду чудесного.
Но если в прошлый раз миг погружения Ольги Митриевны в грязевые топи был оставлен публикой без внимания, ввиду совершеннейшей неожиданности происшедшего, то теперь за Ольгой Митриевной следили десятки глаз с самого её появления на площади. Все видели, как прошлась она между возами, как ощупала палицей иерусалимстей два или три топких места. Как, наконец, вернувшись к тому, где водицы было поболее, она решительно двинулась на середину водоёма. И едва только жижа достигла ей колена, она неловко плюхнулась на спину и, обдав тех, кто случился рядом, чёрными брызгами, похожими на разлетающихся мух, взвизгнула и принялась барахтаться. Так что можно было подумать, что она тонет в этом чёрном и зловонном водоёме. Но сбежавшийся и окруживший Ольгу Митриевну люд был уже прекрасно осведомлён, что никто не тонет и даже, скорее, наоборот. Смешков тоже было значительно меньше. Хихикнул кто-то непосвящённый, да ещё какой-нибудь глупый мальчишка, но получили тычок, другой и примолкли. Даже злые приказчики только кривились, но откровенно гоготать уже не смели, потому что народ вокруг был настроен решительно и благоговейно.
– Как убивается, матушка! – раздался женский голос. И опять поднялись руки для крестного знамения.
А тут ещё Ольге Митриевне вздумалось плескаться, что отчего-то подогрело благоговейный настрой.
– Грязь-матушка… грязь спасительная… Грехи прикроет, добела отмоет… – твердила Ольга Митриевна, резвясь и кувыркаясь посреди лужи и бия ручками по тёмному её содержимому. Брызги, разлетаясь, оседали на столпившемся народе, но никто не думал не то что расходиться, но даже и отираться.
– …Лучше в грязи купаться, чем в грехах как свинья валяться… – продолжала Ольга Митриевна свою спасительную проповедь. – …Грязью умойся, греха убойся…
И, судя по лицам, большинство собравшихся были совершенно согласны с Ольгой Митриевной и даже благодарны, что вот, пришла юродивая и разбудила дремавшие души.
Когда же Ольга Митриевна поднялась с помощью «палицы иерусалимстей», народ почтительно расступился. А Ольга Митриевна, выходя из вод точно дядька Черномор, снова направилась к Москворецкому мосту, и снова стекали с её подола струйки грязи. На ходу кто-то поймал и поцеловал её ручку, к чему Ольга Митриевна отнеслась не то чтобы снисходительно, а даже как-то и с одобрением. Да и вообще весь вид её излучал какую-то внутреннюю уверенность, что почести и награды заждались, но не далёк тот час, когда эти приятные и заслуженные блага сами лягут к её ногам. На то и была Ольга Митриевна прозорливицей, чтобы знать наперёд. Ведь даже второе её купание – а именно так и стали говорить потом: «купания Ольги Митриевны» – так вот, даже второе её купание оказалось пророческим. В ту же ночь умерла старуха Заборова – прабабка одного из купцов с Балчуга, присутствовавшего при втором купании и решившего потом, что слова о покаянии относились именно к почившей; и что не зря он оказался на Болотной по какому-то пустяшному делу именно в тот день, когда во второй раз там появилась и Ольга Митриевна. То есть Заборов почему-то был уверен, что Ольга Митриевна приходила на Болотную именно ради него и его прабабки. Хотя бы эта прабабка уже несколько лет не покидала пределы собственного дома, проводя дни за колотьём и поеданием орехов, мало что соображая и никого не узнавая. Но уверенности Заборова способствовала и жена его, дама благочестивая, набожная и сверх всякой меры склонная видеть повсюду знамения и чудеса. Лишь только она услышала об Ольге Митриевне, то и немедленно всё поняла и увязала в один узел. Казалось, ей можно рассказать о несвязанных между собой событиях, происшедших в разных концах земли, как она тотчас обнаружит и растолкует существующую между ними связь. Поэтому в доме Заборовых царила атмосфера, во-первых, какого-то волнующего удивления по поводу единства и неразрывности мироздания, а во-вторых, постоянного ожидания чуда, что вечно вызывало смешки младшей дочери и насмешки жившего в доме учителя.
После того, как старуху Заборову похоронили, по Болотной и Балчугу пошёл слух, что правнук покойной купец Нифонт Диомидович Заборов «ту самую юродивую разыскал и у себя поселил». Вот тут-то впервые и возвестила молва, что зовут юродивую Ольгой Митриевной, что она блажит и прорекает. А когда стало известно, что торговка Божанова, которую Ольга Митриевна, плескавшись, окатила настоящим грязевым потоком, вдруг после этого самого окатывания исцелилась от никому неведомой каменной болезни, за Ольгой Митриевной установилась прочная слава целительницы.
* * *
Нифонт Диомидович действительно отыскал Ольгу Митриевну. Благо, это оказалось нетрудно. На Болотной зорко отслеживали лиловую скуфью заборовские приказчики и мальчишки, а сам направился на Балчуг, где, кстати, и повстречал в тот же день Ольгу Митриевну – в лиловой скуфейке и с палицей иерусалимстей. Завидев её, Нифонт Диомидович разволновался, чувства благодарности и благоговения охватили его. Само собой, благодарить ему Ольгу Митриевну было не за что. Но благодарить хотелось.
Ольга Митриевна говорила мало, и то исключительно в рифму, чем, кстати, разжигала в Нифонте Диомидовиче благоговение почти нестерпимое. Правда, ему закралась было мысль о том, что молчание Ольги Митриевны связано с необходимостью говорить складно. Но Заборов эту мысль от себя отогнал как крамольную. Всё же обращаться к Ольге Митриевне пришлось ему трижды. Сначала она молчала и, казалось, вообще не слушала Нифонта Диомидовича. Но когда он в третий раз взмолился:
– Ольга Митриевна, голубица! Не отказывай!.. Поедем!.. Близёхонько тут… Тебе уж и флигелёк готов. А не понравится флигелёк – переходи в комнатку… А комнатка не глянется…
Но Ольга Митриевна, оборвав своего просителя, нараспев проговорила:
– Готов флигелёк… не погас уголёк…
И ткнула себя в грудь палицей иерусалимстей, желая, должно быть, сказать, что этот самый уголёк не погас в её груди. После чего продолжала:
– Уголёк-то тлеет, а баран всё блеет…
– И жена, то есть супружница наша, Авдотья Харлампиевна, ждут не дождутся… – суетился Заборов, подсаживая Ольгу Митриевну в нарочно для этого присланный экипаж и раздумывая, к кому бы могли относиться слова о баране, который всё блеет.
Собственно, это именно Авдотья Харлампиевна придумала поселить у себя Ольгу Митриевну. Как только она услышала о новоявленной блаженной с Болотной площади, так тотчас и принялась вынашивать мечту о том, чтобы заполучить её в свой дом. С юродивыми Авдотья Харлампиевна зналась давно. Бывало, подавала копеечку, а случалось, что и на чай зазывала. А уж к Ивану Яковлевичу, пока тот жив был, за каждым пустяком ездила. Но чтобы поселить кого-то из них у себя – об этом Авдотья Харлампиевна даже и не мечтала. Но услышав об Ольге Митриевне, она вдруг подумала: «А почему бы и нет?..» Вдобавок, рассказав о своей фантазии мужу, Авдотья Харлампиевна встретила полнейшее одобрение. И через несколько дней новая московская юродивая жила в её доме.
И всё же если Авдотья Харлампиевна упивалась уже одним только предвкушением того, что угодница Божия поселится у них в доме, освятив дом своим присутствием и распространив благодать на всех домочадцев, Нифонт Диомидович, при всём своём почтении к Ольге Митриевне, заглядывал вперёд.
Заборов прекрасно понимал, что Ольга Митриевна превратит его дом на Солодовке в Мекку и Медину, принеся в скором времени славу на всю первопрестольную, а за славой – и копейку. Поэтому он охотно согласился с супругой, назвал её «затейницей», распорядился обустроить пустовавший флигель особым образом, после чего сам лично отправился разыскивать Ольгу Митриевну. Домочадцы тем временем готовились достойно встретить новую жилицу, и едва только Ольга Митриевна ступила на заборовский двор, как сама Авдотья Харлампиевна вышла к ней с хлебом-солью.
При виде хлеба-соли Ольга Митриевна как будто задумалась. Но потом, не выдумав ничего интереснее, сняла с головы скуфью, опрокинула солонку себе на самое темя и водрузила скуфью на место. Все ахнули и переглянулись. А Ольга Митриевна, погрозив кому-то палицей иерусалимстей, сказала:
– Флигелёк, флигелёк… он не низок, не высок… – точно намекая, что желала бы осмотреть обещанное жилище и отдохнуть с дороги. Ольгу Митриевну тотчас препроводили во флигель и показали ей новое пристанище. Пристанище оказалось недурным. Маленькое крылечко, малюсенькие сенцы и наконец комнатка: слева кровать с пышной периной, посередине круглый стол со стульями, стулья вдоль стен и, конечно, богатейший кивот. Перед кивотом горели лампады, а в комнате стоял густой запах ладана. Войдя, Ольга Митриевна огляделась, чихнула, после чего хозяйка со свитой повлекли её в дом обедать.
* * *
Заборовский двор не отличался изяществом. Здесь не было ни цветущих розовых кустов, ни благоуханных липовых аллей с дорожками, посыпанными золотистым песком, поскрипывавшим под ногами хозяев и гостей. Весной на задах деревья стояли как будто припорошенные бело-розовым снегом, а осенью изнывали и гнулись от тяжести пёстрых плодов. Летом линейно зеленел огород, и перед домом зацветала старая, разросшаяся сирень, потом распускались пионы и ещё какие-то незамысловатые цветы. Пока было тепло, под сирень ставили стол для чаепития и плетёные стулья. По утрам в мае со стола смахивали белые звёздочки с жёлтыми узелками внутри. Потом сирень отцветала, и смахивать было нечего. Тогда просто набрасывали скатерть со спутанными кистями и ставили самовар.
А ещё на дворе были сараи – дровяной и каретный, кухня, собачьи конуры, загончики для прочей живности и тот самый флигель, к которому от дома вела протоптанная дорожка. Флигель был своего рода окраиной: одно окно его – в сенцах – смотрело сквозь заросли на хозяйский дом, а второе подмигивало уже Овчинникам. В этом-то флигельке, в глухом углу заборовского сада, и разместилась Ольга Митриевна.
В городе Ольгу Митриевну больше не видели. Само собой, прекратились и знаменитые «купания». Не появилась она больше на Балчуге, не потревожила стоячие воды Болота. Зато вся Москва постепенно узнала, что блаженная – матушка Ольга Митриевна – обретается ныне у Нифонта Заборова во флигеле; и мало-помалу начала торить туда тропу. Стали по Москве всё громче рассказывать, что одному Ольга Митриевна предсказала кончину, другому, наоборот, свадьбу. Там дунула, там плюнула, и глядишь – слепые прозревают, хромые ходят, глухие слышат, нищие благовествуют. Первым делом Ольга Митриевна взобралась на перину, и оттуда начала принимать посетителей, приносивших ей кто денежку, кто угощеньице, а кто и подарки посерьёзнее. Как, например, одна дама, одарившая Ольгу Митриевну золотым кулоном на золотой же цепочке. Барыня приезжала просить Ольгу Митриевну об исцелении малолетнего сына. Ольга Митриевна, выслушав просьбу, бросила барыне яблоко, которое до того держала в руках, и сказала только:
– Скок-поскок… пятка-носок… Яблоко съели, псалмы запели…
Придя домой, барыня ещё долго раздумывала над словами Ольги Митриевны и в конце концов заключила, что «запеть псалмы» значит то же самое, что «читать Псалтирь», то есть – покойника. Потому что, как известно, Псалтирь читают по умершим. А стало быть, есть яблоко ни в коем случае нельзя или же надо приберечь его для того, по ком и Псалтирь прочесть не жалко. Яблоко она спрятала в буфетные недра. Но сыну стало только хуже, лекарства не помогали, а врач объявил, что наступил кризис, который и прояснит: выживет мальчик или нет. Тогда барыня подумала, что у юродивых, возможно, всё следует понимать наоборот, достала яблоко и, разрезав его на дольки, скормила едва живому сыну. Мальчик яблоко съел и стал поправляться.
Период перинного лежания, сменивший период грязеваляния, знаменовался неусыпным уходом за Ольгой Митриевной заборовской прислуги. Во флигеле, откуда Ольга Митриевна не выходила, умаляясь и смиряясь утопанием в пуху и перьях, постоянно почти находилась Настя – одна из девушек, прислуживавших в доме. Настя же собирала с посетителей по двугривенному за вход. А с тех, кто победнее – по гривеннику. Сама Ольга Митриевна в эти дела не входила.
Обеды и завтраки Ольге Митриевне приносили от хозяйского стола, а на столе во флигеле кипел самовар и посверкивали матовыми искрами сахарные головы.
Правда, теперь Ольга Митриевна умалялась в белой рубашечке. Срачица, мочало, зипун и знаменитая лиловая скуфейка покоились на стуле под кивотом, как бы напоминая, что всё в этом мире зыбко, и перинолежание в любой миг снова может смениться грязевалянием. Только с палицей иерусалимстей Ольга Митриевна не расставалась, держа её рядом с собой на постельке. Да ещё разве волосы не прибирала.
Настя следила за тем, чтобы посетители, приходившие в основном с просьбами и вопросами, не слишком донимали матушку. Вот почему пришедшие толпились у флигелька, ожидая, примет их Ольга Митриевна или придётся приходить в другой раз. Нифонт Диомидович между тем велел устроить специальную калитку со стороны Овчинников, и все, кто приходил не к хозяевам, а к матушке, шли в эту самую калитку, от которой до флигеля было рукой подать. А уж у флигеля встречали просителей нарочно устроенные скамейки, где и приходилось дожидаться, когда выйдет на крыльцо Настя и, не выпуская изо рта семечек, обведёт всех ленивым взглядом, выберет кого-то в случайном порядке и скажет:
– Вы заходите…
Или:
– Ты войди…
И каждый раз замирали сердца посетителей, толпившихся как овцы без пастыря и боявшихся услышать:
– Всё… устала матушка… Завтра… завтра придёте…
Потому что все уже знали, что раздобревшая на приношениях, обнаглевшая от власти над просителями Настя не смущалась ни убожеством, ни знатностью ожидавших.
А иногда среди дожидавшихся своей очереди к Ольге Митриевне можно было слышать такой неторопливый разговор:
– Вы впервой к матушке-то?
– Впервой…
– А я так уж третий раз прихожу. Без матушки теперь и шагу не сделаю. Обо всём её спрашиваю.
– Что же, помогла вам?
– Ох! Уж так помогла, так помогла, что и не выразишь…
– А что, к примеру, святыни-то у неё есть?
– Какие же это святыни?
– Да вот иные-то юродивые приносят из святых земель тьму египетскую в сткляницах или жабу – тоже египетскую, что от казней-то осталась. А то ещё скелет младенца, Иродом убиенного… Ну или хоть косточку.
– Какие страсти!.. Нет, батюшка, скелетов нету. И жаб в сткляницах не видала. А вот с палицей иерусалимстей матушка не расстаётся.
– И то!..
Несколько счастливцев и в самом деле обустраивались на скамейках, другие сидели, а то и лежали прямо на траве. Прикрываясь от солнца зонтиками – лето выдалось жарким – ходили туда-сюда по дорожке барыни в белых платьях. То и дело слышалась французская речь.
Заглядывали и духовные лица. Да вот хоть бы дьякон не то из церкви святого Георгия, не то из Екатерининской. В праздники бывал батюшка из Воскресенской церкви, служил молебны.
Но и период перинолежания подошёл к концу, и Ольга Митриевна, ещё округлившаяся, порозовевшая, встала на ножки. И повод к тому оказался самый диковинный.
* * *
Как-то утром Авдотья Харлампиевна зашла во флигелёк посоветоваться с матушкой: какого жениха для старшей дочери предпочесть – из своих, купеческих, или полковника, который хоть и стар, и нищ, а всё дворянского звания.
Настя зачем-то вышла, а ранние посетители ожидали покорно, когда матушка начнёт приём. И вот Авдотья Харлампиевна, пройдя мимо рассевшихся на скамейках старух, миновала сенцы, вошла в комнату, перекрестилась на кивот и остолбенела. Ольга Митриевна в белой рубашечке, с распущенными по обыкновению волосиками не утопала в перине, а сидела, свесив с кровати ножки и шевеля пальцами ног, словно таракан усами.
– Матушка!.. – наконец опомнилась Авдотья Харлампиев-на. – Да что же это ты?!. Неужто не угодили? Или обидели? Куском обнесли?.. Да ты скажи, не таись только!..
И тут случилась вторая странность.
– Замуж собралась… приданым не обзавелась… – посетовала матушка.
Авдотья Харлампиевна только грузно, всем своим купеческим весом опустилась на стул, отчего стул крякнул.
– Замуж?!. Да как же ты, матушка?.. Была голубица, и вдруг – на тебе! Мужатицей станешь?..
– Мужатица – каракатица, – отвечала Ольга Митриевна. – А голубица – вечная птица… с ней никто не сравнится, ничего не случится…
– Да это-то уж как есть… – забормотала Заборова, задумавшись, как часто случалось после высказываний Ольги Митриевны, о скрытом значении сказанного.
– Что же, и жених есть? – спросила она, всё ещё недоумевая.
– Невеста без жениха – что без лука шелуха, – усмехнулась Ольга Митриевна.
– Да где же он?.. Мы-то знаем? – воскликнула Авдотья Харлампиевна, в которой благоговение вступало в борьбу с любопытством.
– Мой мил друг всё ходит вокруг… – прорекла Ольга Митриевна.
– Да где?!. Где ходит-то?.. Кто таков?.. – Авдотья Харлампиевна даже привстала со стула.
Но Ольга Митриевна томила – усмехалась лукаво и ничего толком не говорила. Юродивым – известно – закон не писан. Люди особые, богоизбранные. Безумными представляются, стыд и приличия отрицают. У них, говорят, свой с Богом разговор. Вот ходить по улицам в чём мать родила, валяться в грязи и нечистотах, сквернословить по-ямщицки – это самые обычные юродивые дела. Можно даже сказать, блаженная повседневность. Но Ольга Митриевна ушла дальше. И когда Авдотья Харлампиевна потребовала у неё назвать имя жениха, Ольга Митриевна объявила:
– Чёртом кличут, бесом свищут.
Заборова опять опустилась на стул.
– Что за страсти ты говоришь, матушка?! Вот уж Господь с тобой – какие слова страшные…
И она махнула рукой на Ольгу Митриевну, которая так и сидела, упершись руками в край кровати, шевеля пальцами ног и лукаво улыбаясь.
– Надо же такое удумать?!. За чёрта замуж собралась… Да я уж лучше пойду к себе – выпью чаю, а то переполошила ты меня – и душа не на месте.
И Авдотья Харлампиевна, на которую неожиданная выходка Ольги Митриевны произвела какое-то тягостное впечатление, покинула флигель. Но через час велела послать Ольге Митриевне платье из голубого ситца в мелкий цветочек, башмаки и чепец. А кроме того, велела звать Ольгу Митриевну в дом к обеду.
За то время, что прошло между разговором с Ольгой Митриевной и присылкой платья, Авдотья Харлампиевна много передумала. Прежде всего, решила она, разговоры о чёрте относились именно к ней и значили недовольство Ольги Митри-евны, говорившей тем самым: «А не пошла бы ты к чёрту?..» А это значит, что Ольга Митриевна чем-то недовольна. А раз она свесила ножки, не значит ли это, что ей хочется встать, только одежды нет приличной. И вот если этого-то Авдотья Харлампиевна не понимает, то пусть идёт к чёрту.
Именно поэтому Авдотья Харлампиевна решила отправить Ольге Митриевне платье и приглашение на обед. Посетителей немедленно разогнали, калитку закрыли, и Авдотья Харлампиевна уселась ждать, опасаясь отказа Ольги Митриевны и в то же время надеясь на её появление за общим столом.
И Ольга Митриевна явилась. В голубом платье в цветочек, в новых башмаках, лиловой скуфье вместо чепца и с палицей иерусалимстей в правой руке.
Обед был будничный, семейный. Правда, Нифонт Диомидович, задержавшийся в городе по делам, не присутствовал. Зато была хозяйка, обе дочери Заборовых и молодой учитель Феофилактов, единственный, наверное, в доме недолюбливавший Ольгу Митриевну. При её появлении он горько усмехнулся, причём казалось, что вместо усмешки он хотел бы подняться и, указав на всю компанию каким-нибудь патетическим жестом, провозгласить: «Стыдитесь!» или: «Какие нравы!» Но отчего-то не поднялся и не провозгласил. Зато метнул полный презрения и благородного негодования взгляд на Авдотью Харлампиевну, вскочившую навстречу Ольге Митриевне и засуетившуюся вокруг дорогой гостьи. А Ольга Митриевна, всё время загадочно улыбавшаяся, уселась за стол, склонила головку к правому плечу и обвела всех лукавым глазом. Перед ней поставили тарелку, но Ольга Митриевна кушаньями не заинтересовалась. Зато неожиданно для всех и довольно проворно подтянула к себе графинчик, налила стаканчик и храбро его опорожнила.
– Господи Иисусе Христе! – только выдохнула Авдотья Харлампиевна да прижала руки к груди.
– Разве вам, Ольга Дмитриевна, водку пить полагается? – сквозь зубы спросил учитель Феофилактов, переводя взгляд с Ольги Митриевны на Авдотью Харлампиевну и буравя последнюю взглядом, как будто приписывал своему взгляду магические свойства, могущие, например, образумить заблудшую хозяйку. В ответ Ольга Митриевна налила себе ещё стаканчик и так же бесстрашно его осушила.
– Матушка ты моя!.. – заволновалась Авдотья Харлампиев-на. – Да ты бы закусывала!.. Ведь с непривычки…
– Ну так как же, Ольга Дмитриевна? – не унимался учитель Феофилактов.
– А ты бы, Алексей Алексеевич, лучше бы кушал… – не поворачивая головы в сторону учителя недовольно проворчала Авдотья Харлампиевна, жалевшая, что свела его с матушкой и опасавшаяся, как бы с Феофилактова не начался скандал.
Но Ольга Митриевна и не думала скандалить. Напротив, лицо её так и сияло довольством. А посмотрев на Феофилактова своим лукавым глазком, она, щурясь как сытая кошка, изрекла:
– Водку наливаю – воду выпиваю… Не водкой пьянеют, не едой насыщаются, не сном высыпаются…
– Вот как? – оживился учитель. – Так, может быть, скажете, чем?
– Грех наделал прорех, – охотно объяснила Ольга Митриевна. – От греха голодаем, от греха пьянеем, от греха сатанеем.
– А вы, стало быть, Ольга Дмитриевна, греха-то не ведаете? – уточнил Феофилактов.
– Да что ты, батюшка, всё пристаёшь?!. – воскликнула Авдотья Харлампиевна, начинавшая терять терпение. – Всё вольнодумство твоё…
Но ни учитель, ни даже Ольга Митриевна не обратили на Заборову внимания.
– Имеющий уши – видит… – прорекла Ольга Митриевна.
– Вот то-то я и смотрю… – обрадовался учитель и так оживился, как будто случилось наконец именно то, о чём он давно предупреждал.
А младшая заборовская дочка – Анна Нифонтовна – девица пятнадцати лет, свежая, полная и румяная, то есть именно такая, какой и положено быть купецкой дочери, громко фыркнула и опустила голову, как бы прячась и как раз-таки не желая видеть.
Но Ольга Митриевна, по своему обыкновению, не думала смущаться и продолжала:
– Голода не боюсь, водки не страшусь, с чёртом поженюсь!..
– Господи Иисусе Христе! – снова не то вдохнула, не то выдохнула Авдотья Харлампиевна.
В это время внесли самовар, а ещё чайник и чашки с нарисованными ветками сирени. При виде этой сервировки Ольга Митриевна обрадовалась чему-то, засмеялась и, расставшись с палицей иерусалимстей, которую она прислонила к столу, захлопала в ладоши.
Нужно отметить, что не только во внешности Ольги Митриевны произошли изменения. Она словно и внутренне округлилась и порозовела. Ольга Митриевна благодушествовала, и та суровая спесь, с которой она то кидалась в лужи, то из них выходила, грозя палицей иерусалимстей, куда-то вся улетучилась. Пролежав лето на перине, Ольга Митриевна переродилась. И теперь Ольга Митриевна с Солодовки ничем не напоминала Ольгу Митриевну с Балчуга или Болотной. Разве что по-прежнему прорекала в рифму и не расставалась с палицей иерусалимстей.
Разлили чай. Не обошли и Ольгу Митриевну, перед которой поставили особый сливочник и особую сахарницу, потому что было известно, что Ольга Митриевна к сахару неравнодушна. Но ни сливки, ни сахар не заинтересовали так Ольгу Митриевну, как чайник с ветками сирени, которая лиловела, впрочем, и на чашках, и на сахарнице, и на сливочнике. Но Ольгу Митриевну привлёк именно чайник, и пока его носили по кругу, она, словно кошка с маленькой птички, глаз с него не спускала. Когда же его поставили на середину стола, Ольга Митриевна, подскочив, ухватила его за ручку и притянула к себе. После чего опустилась на стул, а чайник поставила на колени. Авдотья Харлампиевна заволновалась и даже вытянула шею, стараясь разглядеть, что поделывает чайник. Учитель Феофилактов торжествовал, елозил на стуле и поминутно бросал на хозяйку такие взгляды, что, казалось, хотел источить яд глазами. Но наблюдавшая за разребячившейся Ольгой Митриевной Авдотья Харлампиевна не замечала учителя.
Между тем Ольга Митриевна, улыбавшаяся своей новой, лукавой улыбкой, вдруг подняла чайник с колен и стала поливать заваркой подол голубого в цветочек платья.
– А-а-а! – сдавленно вздохнула Заборова. – Мат-тушки вы мои…
– Цветы полить, – охотно объяснила Ольга Митриевна свою выходку, – красоту продлить… Красота цветочная зело непрочная…
Учитель Феофилактов, исподлобья рассматривавший Ольгу Митриевну, пока та прорекала, презрительно фыркнул. При этом необъяснимым образом было понятно, что презрение относится не на счёт матушки, а на счёт всех тех, кто благоволил к ней, кто ей мирволил и являлся за утешением. Анна Нифонтовна тоже фыркнула, но совершенно беззлобно и даже весело. После чего опять опустила лицо, словно желая окунуть нос в чашку с чаем.
Но самым невероятным образом проявилась Авдотья Харлампиевна.
– Вот она, святость! – прошептала она, глядя во все глаза, как Ольга Митриевна поливает себя чаем. – Это она сказать хочет, что тщета в нарядах… Это она грехом нас укорила… суетой нашей… Власяницу надеть… вериги… и в Обнорск!..
Тут Авдотья Харлампиевна широко и со вкусом перекрестилась.
– Бога благодарить, что на старости лет сподобил угодницу приютить, – уже сквозь слёзы продолжала она. И вдруг воскликнула, точно в каком-то исступлении:
– На колени!.. На колени перед святой!..
И Авдотья Харлампиевна, прямо со стула опустившись на колени, поползла к Ольге Митриевне – благо, ползти было недалеко, – схватила её свободную от чайника руку и несколько раз облобызала с каким-то даже вожделением.
– Ну, знаете! – воскликнул в свою очередь учитель Феофилактов и подскочил. – Это уже чересчур!..
Сказав это, учитель с таким видом, как будто только что отказался принять взятку, бросился вон из столовой. За ним, давясь от смеха, выскочила Анна Нифонтовна. А старшая сестра её – Наталья Нифонтовна, – девица худая, бледная, с затянутыми назад волосами, молчавшая в продолжение всего обеда, подошла сзади к матери и, положив руки ей на плечи, сказала тихо:
