Читать онлайн Изгнанник. Каприз Олмейера бесплатно
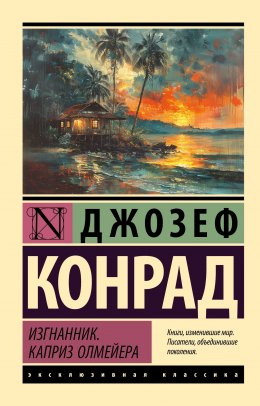
Joseph Conrad
AN OUTCAST OF THE ISLANDS. ALMAYER’S FOLLY
Школа перевода В. Баканова, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2024
Изгнанник
Часть I
Глава 1
Свернув однажды с прямой и узкой тропы исключительной честности, он твердо вознамерился в душе: как только короткая прогулка по придорожным топям принесет желаемый результат, тут же вернуться к однообразной, но надежной поступи добродетели. Этому промежутку в быстром потоке его жизни, подобно фразе, заключенной в скобки, было суждено остаться коротким, почти мгновенным актом, вынужденным, но искусно совершенным – и поскорее забытым. Он воображал, что потом будет смотреть на солнечный свет, нежиться в тени, вдыхать аромат цветов в маленьком саду перед домом; питал иллюзии, что все останется по-прежнему: что, как и прежде, он будет беззлобно третировать свою жену полукровку, с ласковым снисхождением наблюдать за своим желтокожим ребенком, свысока потакать смуглому шурину, который любил розовые шейные платки, носил лакированные ботинки на маленьких ножках и боялся раскрыть рот в присутствии белого мужа своей удачливой сестры. Вот какими он видел радости жизни и не мог себе представить ни одного собственного нравственно весомого поступка, который бы нарушил природу вещей, затмил бы свет солнца, развеял бы ароматы цветов, отключил покорность жены, улыбку его ребенка, преисполненное благоговения уважение Леонарда Да Соузы и всего семейного клана Да Соуза. Почтение этого семейства придавало жизни особую роскошь. Постоянным напоминанием о его превосходстве оно дополняло, доводило до совершенства его бытие. Ему нравилось вдыхать грубый фимиам, курившийся перед храмом успешного белого человека – мужчины, оказавшего им честь, взяв в жены их дочь и сестру, доверенного агента «Хедига и К°», которому прочили звездное будущее. Родственники, многочисленная немытая орава, обитали в полуразвалившихся бамбуковых хижинах среди запущенных огороженных угодий на окраине Макасара. Он не подпускал их и на метр, если не больше, потому как не питал иллюзий насчет их достоинств. Эти люди были полукровки, лежебоки, и он видел их такими, как есть: это были оборванные, тощие, грязные мужчины-недомерки разного возраста, бесцельно слоняющиеся в надвинутых на босу ногу шлепках, бабы, похожие на гигантские мешки из розового ситца, набитые бесформенными сгустками жира, кривобоко сидящие в полусгнивших ротанговых шезлонгах по темным углам пыльных веранд, молодые женщины, стройные, желтокожие, с большими глазами, длинными волосами, гуляющие среди грязи и мусора своего поселка с таким томным выражением, будто любой их шаг мог стать последним. Он слушал крикливые ссоры, детский визг, хрюканье свиней, вдыхал запахи мусорных куч во дворах и не мог побороть отвращение. В то же время он кормил и одевал эту толпу оборванцев, измельчавших потомков португальских завоевателей. Он был их Провидением: среди лени, грязи, бескрайней и безнадежной нищеты они продолжали петь ему осанну, и это ему страшно нравилось. Они многого от него хотели, но и он был способен дать многое без особого для себя урона. За это ему платили дань безмолвным страхом, словоохотливыми изъявлениями любви, шумливым поклонением. Одно дело считать себя Провидением, и другое – каждый день слышать это признание из чужих уст. Такое состояние рождает ощущение бесконечного превосходства. Виллемс буквально купался в нем. Он не забирался слишком глубоко в собственные мысли, однако величайшую усладу давало не высказанное вслух, тайное убеждение – стоит ему убрать длань дающую, как весь этот честной народ околеет с голоду. Щедрость Виллемса окончательно их развратила. Дело нехитрое. С тех пор как он появился в здешних местах и женился на Джоанне, местные растеряли остатки склонности к труду и энергию, которые их прежде заставляла проявлять крайняя нужда. Теперь жизнь «родни» зависела от его милости. Это давало реальную власть. А власть Виллемс любил. На другом и, возможно, более низменном плане своей жизни он не испытывал нехватки нетривиальных и куда более осязаемых удовольствий. Виллемс любил простые игры, требующие навыка, например бильярд, а также игру посложнее, где приходилось проявлять умение иного толка, – покер. Он многое перенял у любившего поучать американца с неподвижным взглядом, которого непонятно каким образом занесло в Макасар с просторов Тихого океана. Покрутившись в водоворотах городского быта, американец так же загадочно пропал в солнечной пустоте Индийского океана. В память о чужестранце из Калифорнии остались покер – игра приобрела популярность в столице Сулавеси – и мощный коктейль, рецепт которого китайские юнги по сей день передают друг другу на квантунском диалекте в кабаках Зондских островов. Виллемс разбирался в напитках и умел играть, чем сдержанно гордился. Зато доверием, оказываемым Хедигом, хозяином компании, гордился назойливо и хвастливо. Доверие было следствием великодушия Виллемса, его заостренного чувства ответственности за себя и мир в целом. Он ощущал неудержимый зуд постоянно об этом говорить, но совершенно не вникая в суть сказанного. У невежд всегда находится что-то такое, понимание чего заменяет им знание всего остального. Этот предмет заполняет вселенную невежды до краев. Для Виллемса предметом понимания был он сам. Изучение себя, своих повадок, задатков и умения направлять свою судьбу началось с того дня, когда он, почуяв недоброе, сбежал от голландского приказчика Вест-Индской компании на улице Семаранга, и привело его к доходной должности, которую он теперь занимал. Скромного и застенчивого от природы юношу успех удивлял, почти пугал, и в итоге – после череды радостных потрясений – сделал жутко самонадеянным. Он уверовал в собственную гениальность и знание мира. Так почему бы не рассказать о себе другим для их же блага и пущей славы? Почему не дать всем этим мужчинам, хлопающим его по спине и шумно приветствующим, достойный подражания пример? А как его дашь, если помалкивать? Поэтому он говорил без умолку. После обеда развивал свою теорию успеха за маленькими столиками, периодически окуная усы в молотый лед коктейля. По вечерам нередко продолжал с кием в руке поучать юного слушателя за партией в бильярд. Шары на столе замирали, как будто тоже слушая, под ярким светом масляных ламп с абажурами, висящими низко над сукном. В темном углу большой комнаты тем временем сидел, прислонив натруженную спину к стене, китаец-маркер, чье неподвижное лицо-маска казалось бледным рядом с доской красного дерева для подсчета очков, а веки сами собой закрывались от вызванной поздним часом и усталостью дремоты и монотонного журчания неразличимых слов белого человека. В разговоре вдруг наступала остановка, партия возобновлялась резким щелчком и некоторое время продолжалась мягким жужжанием и глухим стуком шаров, зигзагами катящихся навстречу неизбежно успешному карамболю. Через большие окна и открытые двери внутрь проникала соленая сырость моря; слабый запах гнили и аромат цветов из сада гостиницы смешивались с вонью лампового масла, становившейся с наступлением ночи все сильнее. Головы игроков, когда они наклонялись для удара, окунались в свет ламп и тут же резко уходили назад в зеленоватый полумрак, создаваемый широкими абажурами. Методично тикали часы. Неподвижный китаец апатично, словно большая говорящая кукла, объявлял счет. Виллемс выигрывал партию. Заметив, что час уже поздний, а он человек женатый, победитель снисходительно прощался и выходил на длинную, безлюдную улицу. Белая дорожная пыль, словно яркая полоса лунного света на воде, ласкала глаз после подслеповатого света масляных ламп. Виллемс шел домой вдоль стен, с которых свешивалась пышная растительность палисадников. Дома по обе стороны скрывались за черной массой цветущих кустарников. Улица была в полном распоряжении Виллемса. Он шагал посредине, тень раболепно бежала впереди. Виллемс благодушно смотрел на нее. Тень успешного человека! От выпитых коктейлей и собственной славы слегка кружилась голова. Люди не раз слышали, что он приехал на восток четырнадцать лет назад юнгой, мальчишкой. В то время отбрасываемая им тень, должно быть, была совсем короткой. Виллемс с улыбкой подумал, что тогда у него вообще не было ничего своего, даже тени. Зато сейчас он видел перед собой тень уважаемого служащего компании «Хедиг и К°», следующего домой. Как славно! Как вольготно живется тем, кто выбрал правильную сторону! Он победил в игре под названием «жизнь». И в игре под названием «бильярд» тоже победил. Виллемс ускорил шаг, позвякивая выигранными монетами и вспоминая счастливые дни, ставшие вехами его жизненного пути: свою первую поездку в Ломбок для покупки пони, первую важную сделку, доверенную ему Хедигом, за которой последовали более важные события: тайная торговля опиумом, незаконная продажа пороха, контрабанда оружия, трудная сделка с гоакским раджой, которую удалось провернуть на одном кураже. Виллемс ухватил старого царька-дикаря за бороду прямо в его совете, подмазал, подарив позолоченную остекленную карету, в которой, по слухам, теперь держали кур, наговорил с три короба, перехитрил во всех отношениях. Вот лучший путь к успеху! Виллемс не одобрял банальный обман вроде воровства денег из кассы, однако закон можно было обойти, а правила торговли до предела растянуть. Иным такой подход мог показаться надувательством. Так думают только дураки, слабаки, ничтожества. Умные, сильные, уважаемые люди не испытывают угрызений совести. Совесть и власть несовместимы. Эту веру он часто проповедовал молодым, являя собой яркий пример ее правоты.
Каждый вечер Виллемс возвращался домой после дня, наполненного трудом и развлечениями, опьяненный звуком собственных речей о личном процветании. День тридцатилетия не был исключением. Виллемс провел приятный шумный вечер в доброй компании и шел домой по пустой улице, чувствуя, как ощущение собственного величия нарастает в груди, приподнимает его над белой дорожной пылью, наполняет душу торжеством и грустью. Надо было лучше показать себя в гостинице, больше рассказать о себе, произвести на слушателей еще более сильное впечатление. Ну, ничего. Как-нибудь в другой раз. А сейчас он вернется домой, разбудит и заставит слушать жену. Почему бы ей не встать, не смешать для мужа коктейль, не послушать, как он говорит? Просто так. Это ее долг. Он мог бы разбудить всю семейку Да Соуза, если только пожелает. Достаточно сказать одно слово, и они явятся и будут сидеть в своих ночных рубашках на жесткой холодной земле его двора и молча внимать, пока он будет говорить с крыльца о собственном величии и доброте столько, сколько захочет. Придут как миленькие. Хотя сегодня вечером хватит и одной жены.
Жена! Он мысленно поморщился. Понурая женщина с испуганными глазами и скорбно поджатыми губами слушала его со страдальческим удивлением и немым оцепенением. Она привыкла к ночным лекциям мужа. Сначала, правда, пыталась противиться – всего один раз. Но теперь, когда Виллемс, развалившись, сидел в шезлонге, пил и разглагольствовал, жена стояла у дальнего края стола, опершись на него ладонями, и следила пугливыми глазами за его губами – без звука, без движения, едва дыша, – пока он не отпускал ее со словами: «Ступай спать, кукла». Жена издавала протяжный вздох и тихонько выходила из комнаты – облегченно и равнодушно. Ничто не могло заставить ее вздрогнуть, огрызнуться или заплакать. Она никогда не жаловалась и не перечила. Разница между ними была слишком огромна. Непреодолима. Она, по-видимому, пугала жену до дрожи. Смурная баба! Черт бы побрал всю эту затею! Какого дьявола он посадил ее себе на шею. Эх, ну да ладно! Он сам хотел обзавестись домашним очагом. Выбор работника, похоже, устроил Хедига, и хозяин подарил ему бунгало – окруженный цветами дом, к которому Виллемс, петляя, теперь шел прохладной лунной ночью. Этим он вдобавок снискал поклонение клана Да Соуза. Человек его чеканки все выдержит, справится с любым делом, добьется чего угодно. Пройдет еще пять лет, и белые люди, что играют по воскресеньям у губернатора в карты, примут его в свой круг, а на жену-полукровку даже не посмотрят! Ура! Тень перед ним дернулась и взмахнула шляпой размером с бочку из-под рома, зажатой в руке длиной несколько метров. Кто здесь крикнул «ура!»? Виллемс стыдливо улыбнулся и, засунув руки в глубокие карманы, напустив на себя серьезный вид, ускорил шаг. У него за спиной с левой стороны улицы перед входом во двор мистера Винка мигнул огонек. Мистер Винк, кассир «Хедиг и К°», прислонившись к кирпичной стойке ворот, курил последнюю сигару на сон грядущий. Невидимая в тени подстриженных кустов миссис Винк медленно, размеренным шагом вышла, хрустя галькой, по круговой дорожке со двора на улицу.
– Виллемс топает домой. Пьяный, поди, – не оборачиваясь, сообщил жене мистер Винк. – Я видел, как он прыгал и махал шляпой.
Хруст гальки прекратился.
– Ужасный человек, – равнодушно ответила мисс Винк. – Я слышала, что он колотит жену.
– О нет, дорогая, – рассеянно пробормотал мистер Винк, делая неопределенный жест.
Его не интересовало, был ли Виллемс домашним тираном. Вечно эти бабы попадают пальцем в небо! Реши Виллемс помучить жену, он придумал бы более изощренный способ. Кассир хорошо знал Виллемса как очень способного и очень хитрого работника, даже чересчур хитрого. Сделав напоследок пару затяжек, мистер Винк про себя решил, что доверие, оказываемое Виллемсу Хедигом, не исключало осторожной критики со стороны кассира.
– Он становится опасен – слишком много знает. От него придется скоро избавляться, – сказал мистер Винк, однако миссис Винк уже ушла в дом. Покачав головой, кассир выбросил окурок и медленно поплелся за супругой.
Виллемс шагал домой, сплетая в уме блестящую паутину будущей жизни. Взору открывалась столбовая дорога, ведущая к величию, прямая и яркая, без единого видимого препятствия. Он временно свернул с честного пути, и понимал это, но скоро вернется на него и уже больше никогда с него не сойдет. Дело-то пустячное. Он скоро все поправит. А пока что главное – не попадаться. Виллемс полагался на свою ловкость, удачу, прочную репутацию – они нейтрализуют любое подозрение, даже если кто-то отважится в чем-то его заподозрить. Да никто и не отважится! Сам он, конечно, знал о недостаче. Виллемс на время позаимствовал у Хедига кое-какие деньжата – по досадной необходимости, – однако судил себя со снисхождением, относя свой проступок к слабостям гения. Он скоро вернет деньги, и все станет как раньше. Ни у кого ничего не убудет, и он без помех продолжит движение к блестящей цели своих вожделений.
Войти в долю с Хедигом!
Прежде чем подняться на крыльцо своего дома, Виллемс постоял немного, широко расставив ноги, держась за подбородок, и воочию представил себя в роли партнера Хедига. Какое славное положение. Надежное, как скала. Манящее глубиной, как бездна. Хранящее тайну, как могила.
Глава 2
Море – возможно, из-за растворенной в нем соли – дубит шкуры своих слуг, но предохраняет от порчи начинку – их душу. В древние времена слуги моря, подобно верным рабам, обитали в нем с юных лет до самой старости или внезапной гибели, не ища ответа в книге бытия, ибо имели возможность смотреть в лицо вечности – стихии, дарующей жизнь и приносящей смерть. Под стать молодой неразборчивой женщине морская стихия прошлого славно улыбалась, неудержимо гневалась, капризничала, манила, вела себя непоследовательно и легкомысленно, ее любили и боялись. Море могло околдовать, подарить радость, убаюкать, внушив безоглядную веру, и вдруг в мгновенной, беспричинной вспышке гнева убить. Однако жестокость моря смягчалась очарованием непостижимой тайны, безмерностью обещаний, волшебством его случайного благоволения. Сильные люди с сердцем ребенка хранили морю верность, смиренно принимали жизнь по его милости и смерть по его воле. Все это было еще до того, как французские умники наняли египетских рабочих и выкопали жалкую, но прибыльную канаву. Затем вечно неспокойное зерцало бесконечности заслонили клубы дыма от бесчисленных пароходов. Руки инженеров разорвали вуаль на лике грозной красавицы, с тем чтобы ни во что не верящие сухопутные крысы смогли набить свои карманы. Тайну уничтожили. Как и все подобные тайны, эта жила лишь в сердцах тех, кто в нее верил. Изменились сердца, изменились люди. Бывшие любящие, преданные слуги вооружились огнем и железом и победили живущий в сердце страх, превратившись в расчетливую орду черствых, привередливых старателей. Море прежних времен было беспримерно прекрасной хозяйкой с таинственным ликом и суровым, но многообещающим взглядом. Море наших дней – загнанная рабочая скотина, исполосованная и обезображенная поднятыми грубыми винтами волнами, лишенная пленяющей прелести своего простора, своей красоты, загадочности и посула.
Том Лингард был умельцем, поклонником и слугой моря. Море приняло его молодым, вылепило его душу и тело, наделило свирепым видом, громким голосом, бесстрашным взором и глупым, бесхитростным сердцем. Море щедро одарило Тома неоправданной самоуверенностью, всеобъемлющей любовью ко всему живому, широтой души, пренебрежительной резкостью, прямолинейностью побуждений и чистотой помыслов. Сотворив Лингарда, море по-женски смиренно ему служило, позволяя нежиться в солнечных лучах своего ужасно непостоянного характера. Том Лингард разбогател – на море и благодаря морю. Он горячо и нежно, как невесту, любил море, усмирял его за счет отличной выучки, побаивался его с разумной осторожностью храбреца и подчас заигрывал с ним, как избалованный ребенок с добродушным родителем – великаном-людоедом. В своем честном сердце Лингард носил глубокую благодарность морю. Он больше всего гордился своей твердой убежденностью в верности моря, при этом безошибочно ощущая душой его вероломную природу.
Орудием удачи Лингарда служил маленький бриг «Вспышка». Бриг и его капитан вместе прибыли на север – оба еще молодые – из одного австралийского порта, и через несколько лет на островах от Палембанга до Тернате и от Омбавы до Палавана не осталось ни одного белого, кто не слышал бы о капитане Томе и его удачливом судне. Его любили за безоглядную щедрость, неизменную честность и поначалу побаивались из-за вспыльчивого нрава. Однако очень скоро Лингарда раскусили, прошел слух, что улыбки иного человека следует опасаться больше, чем гнева капитана Тома. Дело шло в гору. Авторитет Лингарда начал расти после первой успешной стычки с пиратами в Кариматском проливе, когда он по слухам отбил атаку на яхту одной важной шишки из родных краев. С годами авторитет капитана рос все больше. Том регулярно наведывался в отдаленные уголки этой части света, постоянно искал новые рынки для своих грузов – не столько ради выгоды, сколько ради удовольствия от новых открытий – и вскоре приобрел широкую известность среди малайцев, а на пиратов наводил страх своей удалью и отвагой в стычках. Те белые, с кем Лингард водил дело и кому, естественно, хотелось найти в нем какую-нибудь слабину, быстро сообразили, что капитану можно легко польстить, если называть его прозвищем, которое ему дали малайцы. Поэтому, когда им что-то было нужно, а иногда по чисто бескорыстной доброте, они отбрасывали церемонное «капитан Лингард» и с серьезным видом называли его Раджа Лаут – Повелитель Моря.
Широкоплечий Том с гордостью носил это имя. К тому дню, когда он прибыл в Семаранг, где по палубе «Космополита IV» бегал босоногий мальчишка Виллемс, прошло немало лет, и прозвище Раджа Лаут прочно прилипло к Лингарду. Невинно поглядывая на чужой берег и понося окрестности последними словами, мальчишка тем не менее лихорадочно строил в своем детском уме героический план побега. Лингард, ранним утром стоя на юте «Вспышки», наблюдал, как оседает под тяжестью груза готовящийся отплыть на восток голландский корабль. В тот же день поздно вечером Том стоял на причале грузового канала, собираясь подняться на борт своего судна. Ночь выдалась ясная и звездная. Маленькая таможня была заперта. Наемный экипаж, доставивший его в порт, скрылся в аллее с пыльными деревьями, ведущей в город, и Лингард полагал, что на пристани, кроме него, никого нет. Он вызвал шлюпочную команду и ожидал их прибытия, как вдруг кто-то дернул его за полу и тихо, но отчетливо позвал:
– Инглиш кэптен.
Лингард быстро обернулся. Худющий мальчишка с завидной прытью отскочил в сторону.
– Ты кто такой? Откуда ты взялся? – спросил оторопевший Лингард.
Мальчишка, соблюдая безопасную дистанцию, указал на пришвартованный к пристани грузовой лихтер.
– Прятался там, что ли? – спросил Лингард. – Чего тебе нужно? Говори, будь ты неладен. Ты же сюда не шутки шутить со мной пришел?
Мальчик попытался объясниться на ломаном английском, но Лингард перебил его:
– Ясно. Сбежал с большого корабля, который отчалил сегодня утром. Почему бы тебе не пойти к своим здешним землякам?
– Корабль ходить недалеко – в Сурабаю. Меня вернуть на корабль, – объяснил беглец.
– Для тебя так было бы лучше всего, – уверенно заключил Лингард.
– Нет, – возразил мальчишка. – Я хотеть оставаться здесь, я не хотеть домой. Здесь деньги, дома – плохо.
– Ишь ты, – поразился Лингард. – Деньги, говоришь? Ну и ну! И удрать не побоялся – даром что кожа да кости!
Мальчик объяснил, что больше всего боится возвращения на корабль. Лингард смотрел на него в молчании и задумчивости.
– Подойди ближе, – наконец произнес он. Капитан взял мальчишку за подбородок и пытливо заглянул ему в лицо. – Сколько тебе лет?
– Семнадцать.
– Для семнадцати ты маловат будешь. Проголодался?
– Немного.
– Пойдешь ко мне? На этот бриг?
Мальчишка молча двинулся к лодке и взобрался на нос.
– Знает свое место, – буркнул Лингард, тяжело ступив на крышку решетчатого люка на корме и взявшись за румпель-штерт. – Иди сюда.
Малайские гребцы дружно налегли на весла, гичка оторвалась от причала и поплыла навстречу якорному огню корабля.
Так началась карьера Виллемса.
За полчаса Лингард узнал всю незатейливую биографию мальчишки. Отец – портовый агент судового маклера в Роттердаме, мать умерла. Мальчик все схватывал на лету, но ленился в школе. В семье – стесненные условия, куча маленьких братьев и сестер, с грехом пополам одетых и накормленных, но бегавших безо всякого присмотра, в то время как безутешный вдовец в поношенном пальто и дрянных сапогах весь день топтал грязь причалов, а по вечерам, уставший, таскал на буксире по дешевым злачным местам подвыпивших шкиперов-иностранцев, поздно возвращаясь домой осоловевшим от выпитого и выкуренного за компанию с людьми, считавшими подобные знаки внимания частью правил по заключению сделок. Потом капитан «Космополита IV» сжалился и, желая хоть чем-то помочь терпеливому исполнительному собрату, предложил отцу Виллемса взять отпрыска в свою команду. Мальчишка сначала обрадовался, но море, столь очаровательно выглядевшее с берега, при ближайшем знакомстве оказалось жестоким и взыскательным, и юный Виллемс, подчинившись наитию, решил бежать. Мальчишка был совершенно не в ладах с духом моря. Он безотчетно презирал искреннюю простоту морского труда, не сулившего ничего из того, что он жаждал получить. Лингард быстро это понял. Он предложил отправить беглеца домой на английском судне, но мальчишка взмолился, упрашивая, чтобы его оставили. У него был красивый почерк, он живо научился говорить по-английски без ошибок, быстро считал, и Лингард стал поручать ему задания по способностям. Когда малец подрос, у него открылось удивительное чутье на торговые сделки, и Лингард стал позволять ему торговать то на одном острове, то на другом, пока сам пропадал где-нибудь вдали от проторенных путей. По просьбе Виллемса Лингард разрешил юноше поступить на службу к Хедигу. Ему было немного жаль отпускать юнца, потому что он по-своему привык оказывать ему покровительство. И все же Лингард гордился Виллемсом и всегда брал его под защиту. Поначалу он говорил: «Шустрый мальчуган. Жаль только, что моряк из него никудышный». А когда Виллемс начал заниматься торговыми делами, стал называть его смышленым юношей. Еще через некоторое время, когда Виллемс стал доверенным агентом Хедига и начал участвовать в разного рода деликатных сделках, бесхитростный морской волк, указывая пальцем на спину молодого человека, шептал тому, кто случался рядом: «Этот малый далеко пойдет, чертовски далеко. Посмотри на него. Доверенное лицо Хедига. А ведь я подобрал его в канаве. Можно сказать, как голодного котенка. Кожа да кости. Клянусь, так все и было. А теперь, поди ж ты, знает о торговле на островах больше моего. Точно-точно. Я не шучу. Больше моего». Так с серьезным видом повторял Лингард, и в его честных глазах светилась беспорочная гордость.
Виллемс с вершины своего коммерческого успеха поглядывал на Лингарда со снисхождением. Он питал к своему благодетелю симпатию с легкой примесью презрения к неотесанной прямоте, с которой себя вел старый моряк. В то же время некоторые стороны в характере Лингарда вызывали у юноши неподдельное уважение. Разговорчивый капитан умел, когда надо, держать язык за зубами, что в глазах Виллемса выглядело крайне интересной чертой. Кроме того, Лингард был богат, что само по себе вызывало у Виллемса невольное почтение. В доверительных беседах с Хедигом Виллемс обычно называл добряка англичанина везучим старым дураком, причем с плохо скрываемой завистью. Хедиг неопределенно хмыкал, и оба смотрели друг на друга внезапно застывшим от невысказанной мысли взглядом.
– Эй, Виллемс, ты не мог бы узнать, откуда он возит каучук? – спрашивал, помолчав, Хедиг, отворачивая голову и склоняясь над лежащими на столе бумагами.
– Нет, мистер Хедиг. Пока не могу. Но я попытаюсь, – неизменно отвечал Виллемс тоном неодобрительного сожаления.
– «Попытаюсь»! Вечно ты пытаешься! Пытается он! Ты, наверно, мнишь себя хитрецом, – не унимался Хедиг, не поднимая глаз. – Я веду торговлю с этой старой лисой уже лет двадцать-тридцать. Я ли не пытался? Хэх!
Хедиг вытягивал короткую толстенькую ногу и рассматривал голый подъем ступни со свисающим с пальцев соломенным шлепанцем.
– Напоить его сумеешь? – преодолев одышку, спрашивал он.
– Нет, мистер Хедиг, вряд ли, – с серьезным видом возражал Виллемс.
– Можешь даже не пытаться. Я-то его знаю. Даже не пробуй, – советовал хозяин, снова наклоняясь над столом и приближая налитые кровью глаза к бумаге, на которой старательно выводил толстыми пальцами худые неровные буквы письма, в то время как Виллемс уважительно ждал возвращения хорошего настроения босса, чтобы подобострастно спросить:
– Будут ли какие указания, мистер Хедиг?
– Гм! Будут. Ступай к Бун Хину и проследи, чтобы платеж подсчитали и деньги упаковали как надо, а потом передай их на борт почтового парохода, что идет в Тернате. Он должен прибыть сюда после обеда.
– Да, мистер Хедиг.
– И слушай сюда. Если пароход опоздает, оставь ящик с деньгами до утра на складе Бун Хина. Запечатай его. Восемь печатей – как обычно. И больше не трогай, пока пароход не зайдет в порт.
– Хорошо, мистер Хедиг.
– Да еще не забудь о ящиках с опием. Груз надо доставить сегодня ночью. Возьми моих лодочников. Перевези с «Каролины» на арабский барк, – хриплым полушепотом продолжал хозяин. – И смотри у меня, чтобы без новых выдумок об упавшем в воду ящике, как в прошлый раз, – добавил он, с неожиданной свирепостью зыркнув на доверенного агента.
– Хорошо, мистер Хедиг. Я позабочусь.
– На этом все. На выходе скажи этой свинье: если опахало не будет работать как следует, я переломаю ему все кости, – закончил Хедиг, вытирая багровое лицо красным шелковым носовым платком размером со стеганое одеяло.
Виллемс бесшумно уходил, тщательно прикрывая за собой ведущую на склад маленькую зеленую дверь. Хедиг с пером в руках прислушивался, как тот осыпает мальчишку за приводом опахала грязными проклятиями, продиктованными безграничной заботой об удобстве хозяина, после чего возвращался к письму среди шороха бумаг, шевелившихся от ветерка, нагоняемого широкими взмахами опахала над головой.
Виллемс приветливо кивал мистеру Винку, чей стол стоял у маленькой двери в личный кабинет хозяина, и с важным видом проходил через склад. Мистер Винк с крайним неодобрением, притаившимся в каждой морщинке благообразного лица, провожал взглядом фигуру в белом, мелькавшую в полумраке между грудами тюков и ящиков, пока та не пропадала в арочных воротах, растворившись в пятне яркого уличного света.
Глава 3
Доступность денег и жажда обладания ими оказались слишком большим искушением для Виллемса. Под давлением внезапной нужды он нарушил доверие, служившее предметом его гордости и показателем ума, но в итоге оказавшееся слишком тяжелой ношей для его плеч. Полоса невезения за картежным столом, неудачный исход мелкой спекуляции, затеянной без ведома хозяина, внеурочная просьба о деньгах со стороны очередного члена клана Да Соуза – не успел он оглянуться, как уже свернул с тропы исключительной честности. Путь этот был таким нечетким и плохо размеченным, что Виллемс не сразу понял, как далеко забрел в колючие кусты опасных дебрей, которые много лет обходил стороной, не имея иных ориентиров, кроме личного интереса и доктрины успеха, обнаруженной в Бытии, в тех занимательных главах, где дьяволу позволили прибавить пару строк от себя, дабы испытать остроту зрения и твердость сердца человека. На одно короткое мгновение Виллемс пришел в ужас. И все же он обладал отвагой – не той, что покоряет вершины, но той, что за отсутствием удобной дороги бесстрашно преодолевает болота. Он налег на возмещение убытка и задался целью не попадаться. Ко дню тридцатилетия Виллемса цель была хитро и с умом достигнута. Он считал, что угроза миновала. Теперь он мог снова смотреть в будущее, где его ждала заслуженная награда. Его никто не осмелится заподозрить, а через пару дней отпадет и сам повод для подозрений. Виллемс повеселел. Он не ведал, что прилив удачи достиг высшей точки и пошел на спад.
Об этом он узнал через два дня. Мистер Винк, услышав скрип дверной ручки, выскочил из-за стола, откуда, трепеща, прислушивался к громким голосам в кабинете шефа, и с нервной торопливостью сунул голову в большущий сейф, ибо с тех пор, как Виллемс полчаса назад вошел в святую святых Хедига через маленькую зеленую дверь, кабинет шефа, судя по адскому шуму внутри, напоминал пещеру дикого зверя. Мятущийся взгляд Виллемса мельком остановился на людях и предметах обстановки, когда он покидал сцену своего позора: на испуганном лице мальчишки с опахалом, на повернутых к нему бесстрастных физиономиях китайцев-счетоводов, сидевших на корточках с застывшими в воздухе над кучками блестящих гульденов на полу руками, на лопатках и торчавших из-за плеч мясистых ободках розовых ушей мистера Винка. Виллемс видел перед собой длинную вереницу ящиков с джином, тянувшуюся до самого выхода с аркой, за которой можно будет наконец перевести дух. На дороге валялся обрезок тонкого каната, и Виллемс хотя прекрасно его видел, неуклюже зацепился за него ногой, словно это был железный лом. Он вышел на улицу, но все еще не мог отдышаться и поплелся к дому, хватая воздух ртом.
Со временем проклятия Хедига, звеневшие в ушах, потеряли силу, и ощущение стыда постепенно сменила острая досада – на себя самого, но еще больше на глупое стечение обстоятельств, подтолкнувшее его к идиотской промашке. «Идиотская промашка» – именно так определил для себя свой поступок Виллемс. Что могло быть хуже с точки зрения его несомненной проницательности? Какое роковое помрачение острого ума! Он сам себя не узнавал. Не иначе помутился рассудком. Точно. Внезапный приступ слабоумия. Столько лет труда, и все псу под хвост. Что с ним теперь будет?
Не успев найти ответ на этот вопрос, Виллемс обнаружил, что стоит в саду перед своим домом, подаренным на свадьбу Хедигом. Виллемс слегка удивился, увидев перед собой дом. Прошлая жизнь успела уйти от него так далеко, что поселок, вернее, его часть, невредимая, опрятная и веселая в жарких лучах полуденного солнца, выглядела в его глазах совершенно чужеродным телом. Дом представлял собой приятное на вид маленькое сооружение, сплошь состоявшее из окон и дверей, со всех сторон окруженное широкой верандой с навесом на тонких подпорках, увитых зеленью ползучих растений, бахромой свисавших с края крутой крыши. Виллемс медленно, останавливаясь на каждом шагу, поднялся по дюжине ступеней на веранду. Придется все рассказать жене. Предстоящий разговор страшил его, и эта тревога раздражала еще больше. Испугался встречи с собственной женой! Лучшего показателя огромности изменений, происшедших вокруг него и в нем самом, не найти. Другой он, другая жизнь с верой в себя – все это теперь в прошлом. Он мало чего стоит, если трусит посмотреть в глаза даже собственной жене.
Виллемс не отважился войти в дом через открытую дверь столовой и нерешительно остановился у маленького рабочего столика с куском белого ситца и воткнутой в него иголкой, словно швею кто-то внезапно оторвал от работы. Какаду с розовой грудкой при виде хозяина развил бурную неуклюжую деятельность, лазая по клетке вверх и вниз, негромко выговаривая «Джоанна» и пронзительно крича в конце последнего слога. Крик птицы напоминал хохот сумасшедшего. Занавеску в дверном проеме один-два раза колыхнул сквозняк. Виллемс всякий раз едва заметно вздрагивал, ожидая появления жены, но глаза не поднимал и только прислушивался, не послышатся ли ее шаги. Постепенно он погрузился в собственные думы, бесконечные рассуждения, как лучше сообщить ей новость и отдать указания. Увлекшись, он почти забыл о собственном страхе перед ней. Жена, конечно, заплачет, запричитает, как обычно, будет беспомощна, пуглива и покорна. А ему придется тащить эту обузу на своей шее через мрак погубленной жизни. Какой ужас! Он, разумеется, не бросит ее одну с ребенком в нищете и даже голоде. Ведь это жена и ребенок Виллемса-победителя, Виллемса-умницы, Виллемса, на которого можно поло… Тьфу! Кто такой сейчас этот Виллемс? Виллемс… Он удушил в зачатке зарождавшуюся мысль и кашлянул, подавляя стон. Ах! Какие разговоры пойдут сегодня вечером в бильярдной, в мире, где он был первым, среди всех этих людей, до чьего уровня он опускался с таким снисхождением. С каким удивлением, деланым сожалением, серьезными минами и многозначительными кивками они будут о нем говорить! Некоторые из них задолжали ему, но он никогда никого не торопил. Это было не в его характере. Виллемс, самый славный малый – вот как его звали. Теперь небось будут злорадствовать. Сборище придурков. Даже в своем унижении он сознавал превосходство над этими ничтожествами – честными или пока еще не пойманными за руку. Сборище придурков! Виллемс погрозил кулаком воображаемым приятелям, и попугай захлопал крыльями и заверещал от испуга.
Быстро подняв глаза, Виллемс увидел выходившую из-за угла дома жену. Он тут же опустил веки и молча дождался, когда она подойдет и остановится по другую сторону столика. Виллемс не смотрел ей в лицо, но прекрасно видел, что она одета в красный пеньюар, который он видел на ней много раз. Жена, казалось, никогда в жизни не снимала этот красный пеньюар с грязными голубыми бантами спереди, засаленный и застегнутый не на те пуговицы, с обрывком тесьмы, змеей волочившейся сзади, когда она лениво расхаживала вокруг с небрежно подоткнутыми волосами и неряшливо свисавшей на спину спутанной прядью. Взгляд Виллемса поднялся – от одного банта к другому, отмечая те, что болтались на живой нитке, и остановился ниже подбородка жены. Он смотрел на худую шею, выпирающие ключицы, заметные даже среди беспорядка верхней части туалета, на тонкую руку и костлявую кисть, прижимающую к груди ребенка, и не мог избавиться от отвращения к этой обременительной стороне своей жизни. Виллемс ждал, когда жена что-нибудь скажет, но в затянувшемся молчании лишь чувствовал на себе ее взгляд, поэтому, вздохнув, заговорил первым.
Сделать это было нелегко. Он говорил медленно, задерживаясь на воспоминаниях о прежней жизни, не желая признаться, что ее уже не вернешь и пора привыкать к менее блестящей участи. В убеждении, что он осчастливил жену и удовлетворил все ее материальные потребности, Виллемс ни на минуту не сомневался, что она не покинет его, как бы ни был труден и каменист будущий путь. Эта уверенность ничуть его не радовала. Он женился, чтобы угодить Хедигу, жена должна быть счастлива уже потому, что он принес великую жертву, и не требовать дальнейших усилий с его стороны. Джоанна прожила несколько лет в почетном звании законной супруги Виллемса, в уюте, преданной заботе и ласке, которые получала в положенной ей мере. Виллемс тщательно оберегал жену от физических страданий – о том, что страдания бывают иного характера, он даже не задумывался. Он считал, что играет роль главы семьи для ее же пользы. Все было понятно и так, однако Виллемс повторил эту мысль вслух, чтобы жена живее представила себе, как много потеряла. Она так туго соображает – иначе до нее не дойдет. И вот наступил конец. Им придется уехать. Покинуть этот дом, покинуть этот остров, перебраться в места, где его никто не знает. Может быть, в колонию на Шетландских островах. Там найдется и применение его способностям, и люди порядочнее Хедига. Виллемс горько рассмеялся.
– Деньги, что я оставил дома утром, у тебя, Джоанна? – спросил он. – Они нам понадобятся. Все без остатка.
Произнося эти слова, он выглядел в своих глазах молодцом. Ну, тут нечего удивляться. Он по-прежнему превосходил собственные ожидания. К черту! В конце концов, в жизни бывают священные обязательства. Например, брачные узы, и он не из тех, кто их нарушит. Твердость принципов наполняла его великим удовлетворением, однако Виллемс по-прежнему не решался посмотреть жене в глаза. Пусть сама что-нибудь скажет. Потом придется ее утешать, говорить, чтобы глупышка перестала хныкать и начала собираться к отъезду. Отъезду куда? На чем? Когда? Виллемс покачал головой. Ясно одно: уезжать надо не откладывая. Ему вдруг страшно захотелось собраться побыстрее.
– Ну что ты, Джоанна, – произнес он с оттенком нетерпения, – не стой как истукан. Слышишь? Мы должны…
Он поднял глаза на жену, и слова застряли у него в горле. Джоанна сверлила его большими раскосыми глазами, казавшимися ему в два раза больше, чем обычно. Ребенок, уткнув грязное личико в плечо матери, мирно спал. Тихое бормотание внезапно притихшего какаду только еще больше подчеркивало наступившее гробовое молчание. На глазах у Виллемса верхняя губа Джоанны приподнялась с одной стороны, придав меланхоличному лицу злобное выражение, какого раньше ему не доводилось видеть. Он в изумлении отшатнулся.
– А-а! Великая личность! – сказала Джоанна отчетливо, но почти шепотом.
Эти слова и особенно тон, которым они были произнесены, оглушили Виллемса, как если бы рядом бабахнули из пушки. Он тупо уставился на жену.
– А-а! Великая личность! – повторила она уже медленнее, посмотрев направо и налево, словно в поисках пути для отступления. – Ты решил, что я буду помирать с голоду вместе с тобой? Ты теперь никто. Думаешь, моя мама и Леонард меня отпустят? С тобой? С тобой! – с издевкой повторила она, повысив голос, отчего ребенок проснулся и тихо захныкал.
– Джоанна! – воскликнул Виллемс.
– Молчи. Я услышала то, что ожидала услышать все эти годы. Ты хуже дорожной грязи, ты, вытиравший об меня ноги! Я ждала этого момента. Я больше не боюсь. Ты мне не нужен, не подходи ко мне. А‐а‐а! – пронзительно вскрикнула она, вытянув в заклинающем жесте руку. – Оставь меня! Оставь! Оставь!
Джоанна отступила назад, гладя на мужа с гневом, перемешанным со страхом. Виллемс стоял окаменев, в тупом изумлении от необъяснимой вспышки злости и бунта со стороны жены. Но почему? Что он ей такого сделал? Воистину сегодня день несправедливости. Сначала Хедиг, теперь жена. Ему стало страшно от сознания, что рядом с ним все эти годы таилось столько ненависти. Он попытался что-то сказать, но Джоанна издала новый пронзительный крик, словно иглой проткнувший его сердце. Он опять поднял руку.
– Помогите! – завопила Джоанна. – На помощь!
– Тихо ты, дура! – рявкнул Виллемс, пытаясь утопить крики жены и ребенка в собственном гневе, и в отчаянии с силой тряхнул маленький цинковый столик.
Из-под дома, где находились туалеты и кладовка с инструментами, появился Леонард со ржавым ломом в руках и грозно крикнул, остановившись у подножия крыльца:
– Не обижайте ее, мистер Виллемс. Вы настоящий дикарь. Не то что мы, белые люди.
– И ты туда же! – поразился Виллемс. – Я ее и пальцем не тронул. Здесь что, сумасшедший дом?
Он шагнул к ступеням, и Леонард, выронив лом, так что тот звякнул, отбежал к воротам участка. Виллемс обернулся к жене:
– Ждала, говоришь? Заговор, значит. Кто это там хнычет и стонет в комнате? Еще кто-нибудь из твоей бесценной семейки?
Джоанна немного успокоилась и, торопливо положив плачущее дитя в большое кресло, с внезапным бесстрашием подошла к мужу:
– Это моя мать: пришла защитить меня от человека без роду без племени, от бродяги!
– Ты не называла меня бродягой, когда висла у меня на шее перед свадьбой, – возмутился Виллемс.
– А ты позаботился, чтобы я больше не висла после того, как мы поженились, – возразила она, сжав кулаки и придвинув свое лицо вплотную к его лицу. – Ты похвалялся, а я страдала и помалкивала. Во что превратилось твое хваленое величие? Теперь я буду жить на содержании твоего хозяина. Да-да, это правда. Он сам сообщил через Леонарда. А ты проваливай, хвастайся в другом месте, подыхай с голоду. Вот! Ах, я снова могу дышать! Этот дом – мой.
– Хватит! – остановил ее жестом Виллемс.
Джоанна отскочила, в ее глазах опять мелькнул страх, схватила ребенка, прижала к груди, плюхнулась в кресло и, как сумасшедшая, гулко забарабанила каблуками по полу веранды.
– Я ухожу, – твердо сказал Виллемс. – Благодарю тебя. Ты впервые за всю свою жизнь сделала меня счастливым. Ты жернов на моей шее, понимаешь? Я не собирался тебе это говорить до самой смерти, но ты меня вынудила. Я выброшу тебя из головы еще до того, как выйду из этих ворот. Ты очень облегчила мне задачу. Спасибо.
Виллемс развернулся и, не оборачиваясь, начал спускаться по ступеням. Джоанна молча сидела, выпрямив спину и широко раскрыв глаза, с жалобно плачущим ребенком на руках. У ворот Виллемс чуть не столкнулся с Леонардом, который не успел вовремя отскочить.
– Давайте без жестокости, мистер Виллемс, – торопливо проговорил Леонард. – Белым людям негоже так себя вести на глазах у туземцев. – Ноги Леонарда сильно дрожали, голос неудержимо срывался с баса на писк и снова переходил на бас. – Умерьте ваше неуместное буйство, – быстро пробормотал он. – Я уважаемый член порядочной семьи, а вы… сожалею… так все говорят…
– Что-о? – громыхнул Виллемс.
Его охватил внезапный припадок бешеной злости, и, прежде чем он успел сообразить, что происходит, Леонард Да Соуза уже катался в пыли у него под ногами. Виллемс переступил через растянувшегося на дороге шурина и бросился бежать по улице куда глаза глядят. Прохожие уступали дорогу взбешенному белому господину.
Он пришел в себя только за околицей города на жесткой, растрескавшейся земле рисовых полей, с которых уже сняли урожай. Как он здесь очутился? Стемнело. Надо возвращаться. Виллемс поплелся обратно в город, в уме сменяли одна другую картины событий дня, оставляя горький привкус одиночества. Жена выгнала его из его же дома. Он сбил с ног шурина, члена семейного клана Да Соуза, оравы его поклонников. Он? Нет, это был не он! Это был кто-то другой. И возвращался в город тоже другой. Человек без прошлого, человек без будущего, но по-прежнему полный боли, стыда и гнева. Виллемс остановился и посмотрел по сторонам. Мимо по пустой улице с грозным рыком пробежала пара собак. Он стоял посреди малайского квартала, где в зелени маленьких дворов прятались темные молчаливые бамбуковые хижины. В них спали мужчины, женщины, дети. Они тоже люди. А сможет ли теперь уснуть он? И где? Виллемсу казалось, что его отторгло все человечество. Потерянно осмотревшись, прежде чем уныло возобновить свой путь, он подумал, что мир стал больше, а ночь безбрежнее и чернее, но упрямо наклонив голову, двинулся вперед, словно продираясь сквозь густой колючий кустарник. Неожиданно Виллемс почувствовал под ногами дощатый настил, а подняв глаза, увидел красный огонек в конце пристани. Он молча подошел туда и прислонился к столбу с лампой. На рейде стояли два судна на якоре, ажурный такелаж мерно покачивался на фоне звезд. Конец причала. Еще один шаг – и жизни конец, конец всему. Так даже лучше. Что еще можно сделать? Ничего больше не вернешь. Виллемс ясно это видел. Всеобщие респект и восхищение, старые привычки, старые привязанности закончились в один миг, сменившись четким пониманием причины его позора. Он все увидел одним разом и на минуту отодвинул в сторону собственное «я», свой эгоизм, постоянную озабоченность своими интересами и желаниями, покинул храм самопоклонения и зацикленность на мыслях о себе самом.
Освобожденные мысли устремились на родину. Окруженный теплой неподвижностью звездной тропической ночи, Виллемс почувствовал дыхание колючего восточного ветра, увидел узкие фасады высоких домов под хмурым облачным небом, а на пристани – обтрепанную сутулую фигуру, терпеливое блеклое лицо человека, зарабатывающего хлеб насущный для детей, ждущих его возвращения в грязном жилище. Какое убожество! Нет, он туда ни за что не вернется. Что общего между такой жизнью и умницей Виллемсом, счастливчиком Виллемсом? Он разорвал связь с домом много лет назад. Так было лучше для него. Так было лучше для родных. Прежняя жизнь канула в прошлое и уже не возвратится. Виллемс невольно задрожал, поняв, что остался один на один с неведомым грозным будущим. Он впервые в жизни боялся будущего, потому что потерял веру в себя, в собственный успех. Уничтожил ее своими же руками, как последний дурак!
Глава 4
Размышления Виллемса, постепенно склонявшиеся к самоубийству, прервал Лингард. С громким «вот ты где!» капитан опустил на плечо Виллемса тяжелую руку. На этот раз не Виллемс, а Лингард из кожи лез, чтобы найти неприметного бродягу – последний обломок внезапного, постыдного кораблекрушения. Виллемсу грубый приветливый голос принес быстрое, мимолетное облегчение, за которым немедленно последовал острый укол гнева и бесполезного раскаяния. Голос капитана вернул Виллемса в самое начало многообещающей карьеры, финал которой теперь был отчетливо виден с края пристани, на котором они оба стояли. Виллемс сбросил с плеча дружескую руку и с горечью сказал:
– Это вы во всем виноваты. Толкните меня, помогите спрыгнуть. Я стою здесь и жду, когда кто-нибудь поможет. Лучше вас не найти. Вы помогли мне вначале, помогите же и в конце.
– Ты мне пригодишься для лучшего дела, чем бросать тебя на корм рыбам, – без тени шутки объявил Лингард, взял Виллемса за руку и осторожно отвел от края пристани. – Мечусь по городу, как навозная муха, где тебя только не искал. О тебе всякое говорят. А я вот тебе что скажу: ты, конечно, не святой. И вдобавок повел себя не очень умно. Я не собираюсь бросаться камнями, – поспешно добавил он, когда Виллемс попытался высвободиться, – но и церемониться не стану. Никогда не умел! Помолчи, пока я буду говорить. Стерпишь?
Обреченно махнув рукой, подавив стон, Виллемс сдался на милость более сильного волей. Расхаживая туда-сюда по скрипучим доскам рядом с Виллемсом, Лингард открыл ему все подробности его краха. Когда первый шок прошел, Виллемс потерял способность удивляться из-за переполнявшего его возмущения. Оказывается, все это подстроили Винк и Леонард. Это они шпионили за ним, фиксировали его проступки и доносили Хедигу. Это они подкупили двуличных китайцев, выведали секреты у подвыпивших шкиперов, разыскали гребцов и таким способом по кусочкам восстановили полную историю прегрешений Виллемса. Коварство столь подлого замысла привело его в ужас. Ладно еще Винк: они друг друга на дух не переносили, но Леонард! Леонард!
– Как же так, капитан Лингард, – не выдержал Виллемс, – ведь он мне сапоги лизал.
– Да-да-да, – проворчал Лингард, – мы это знаем. А ты при этом старался поглубже засунуть сапог ему в глотку. Такое, братец, никому не понравится.
– Я никогда не жалел денег для этой прожорливой своры, – кипятился Виллемс. – Всегда держал карман открытым. Не заставлял просить дважды.
– То-то и оно. Твоя щедрость их насторожила. Они принялись гадать, откуда все это берется, и решили, что будет надежнее выбросить тебя за борт. В конце концов, ты не ровня Хедигу, дружок, а к нему у них есть свои счеты.
– О чем вы, капитан Лингард?
– О чем? – медленно повторил Лингард. – Неужели ты не знал, что твоя жена дочь Хедига? Да ладно!
Виллемс резко остановился, чуть не упав.
– Ах! Понятно… – выдохнул Виллемс. – Я не знал. Последнее время мне казалось, что… Нет-нет, мне и в голову не приходило.
– Ой, какой же ты дурачина! – с жалостью произнес Лингард. – Клянусь, – пробормотал он себе под нос, – я готов поверить, что этот парень ничего не знал. Ну и ну! Спокойно, не раскисай. Не все так плохо. Жена-то она хорошая.
– Превосходная, – уныло согласился Виллемс, глядя на черную, поблескивающую воду вдали.
– Вот и хорошо, – продолжал Лингард еще более дружелюбно. – Ничего страшного. А ты думал, что Хедиг женил тебя, подарил дом и бог знает что еще из любви к твоей персоне?
– Я хорошо ему служил. Вы и сами знаете, насколько хорошо: шел за него в огонь и в воду. Что бы он ни поручил, любое рискованное дело – я все брал на себя, никогда не отлынивал.
Виллемс отчетливее, чем прежде, увидел, как велик был его труд и какой черной неблагодарностью ему отплатили. Джоанна – дочь хозяина!
Известие открыло ему глаза на все события последних пяти лет совместной жизни. Он впервые заговорил с Джоанной у ворот их усадьбы, когда одним сверкающим алмазным светом утром шел на работу. В такой ранний час женщины и цветы прекрасны даже для самых равнодушных глаз. По соседству жила уважаемая семья – две женщины и молодой мужчина. В их дом изредка наведывался один лишь священник, уроженец испанских островов. Леонарда, молодого соседа, Виллемс встретил в городе: ему льстило безмерное уважение, которое тот проявлял к его талантам. Виллемс позволял новому знакомому приносить стулья, вызывать официанта, натирать мелом бильярдный кий и угодливо льстить. Он даже снизошел и терпеливо выслушал туманные рассуждения Леонарда «о нашем славном отце», человеке, занимавшем важную должность государственного агента в Коти, где он – увы! – умер от холеры как истинный католик и добрый человек, до конца выполнивший свой долг. Все это звучало очень достойно, и Виллемс благосклонно принимал излияния чувств. Кроме того, он гордился отсутствием у себя расовой антипатии и предвзятости против цветных. Однажды он принял приглашение выпить стаканчик кюрасо на веранде госпожи Да Соуза. В тот день он впервые увидел лежащую в гамаке Джоанну. Он запомнил, что девушка уже тогда была неряшлива, других подробностей визита в памяти не отложилось. В те славные дни у него не было времени, чтобы влюбляться, не было времени даже для мимолетного увлечения, однако мало-помалу он завел привычку почти каждый день заглядывать в маленький дом, где его встречал визгливый голос госпожи Да Соуза, звавший Джоанну, чтобы та вышла и составила компанию господину из «Хедиг и К°». Потом как гром среди ясного неба к нему с визитом явился священник. Виллемс помнил плоское желтое лицо этого человека, худые ноги, миролюбивую улыбку, яркие черные глаза, вкрадчивые манеры, скрытые намеки, смысла которых он в то время не уловил. Помнил, как он удивился, не поняв цели визита, и бесцеремонно выставил гостя за дверь. В памяти Виллемса ожило утро, когда он опять встретил священника, на этот раз на пороге кабинета Хедига, и подивился неуместности его появления в таком месте. А то памятное утро у Хедига? Разве такое можно забыть? Сможет ли он изгнать из памяти свое удивление, когда хозяин, вместо того чтобы сразу перейти к делу, смерил его задумчивым взглядом и, едва заметно улыбнувшись, занялся лежащими на столе бумагами? В ушах Виллемса до сих пор звучали поразительные слова, которые хозяин ронял, уткнув нос в бумаги, в промежутках между сиплыми вдохами и выдохами: «Ходят слухи… ты часто туда ходишь… весьма уважаемые дамы… хорошо знал их отца… достойно похвалы… что еще нужно молодому человеку… пустить корни… я лично… очень рад слышать… все устроено… достойная награда за верную службу… лучше не придумать».
И он поверил! Какой простофиля! Какой осел! Хедиг знал ее отца! Еще бы не знал. Да и все всё, похоже, знали – все, кроме Виллемса. Как он гордился тем, что Хедиг проявил участие к его судьбе! Тем, что хозяин пригласил его к себе в маленький сельский дом, где его допустили в дружеский круг достойных людей, людей с положением. Винк позеленел от зависти. О да! Виллемс поверил в удачу, принял девушку как подарок судьбы. А как он хвастался Хедигу, что свободен от предрассудков! Старый прохвост, должно быть, посмеивался в кулачок над своим глупым агентом. Виллемс женился без задней мысли. Да и как иначе? Все вокруг твердили, что у нее есть отец. Люди его знали, говорили о нем. Хилое порождение безнадежно перемешавшихся рас, но в остальном, очевидно, с безукоризненной репутацией. Мутные родственники обнаружились после, однако Виллемс, дорожа свободой от предрассудков, не возражал; в смиренной покорности он относился к ним как к декорациям собственного преуспевания. Его обвели вокруг пальца! Хедиг нашел легкий способ прокормить целую толпу нищей родни: переложил ответственность за эскапады молодости на плечи агента и, пока агент вкалывал на хозяина, обманом лишил его свободы распоряжаться собой. Виллемс, вступив в брак, был привязан к жене, что бы она теперь ни делала! Принес клятву: «…пока смерть не разлучит нас!» Добровольно поступил в рабство. И этот человек посмел называть его вором! Проклятье!
– Отпустите меня, Лингард! – воскликнул Виллемс, пытаясь рывком освободиться от хватки бдительного моряка. – Я пойду и убью этого…
– Нет, не пойдешь! – пыхтя, мужественно сдерживал его Лингард. – Убивать он собрался. Сумасшедший. Ага! Стой, не дергайся. Успокойся уже!
Завязалась беззвучная борьба, Лингард оттеснил Виллемса к поручням. От тяжелого топота доски пристани гудели, как барабанный бой в тихую ночь. На берегу портовый сторож из местных наблюдал за схваткой из надежного укрытия позади груды больших ящиков. На следующий день он с неторопливым удовольствием расскажет приятелям, как на пристани подрались два пьяных белых господина.
Драка получилась что надо. Сцепились без оружия, что твои дикие звери, как обычно бывает у белых. Нет, никто никого не убил, мне неприятности ни к чему, объяснительные всякие писать. Откуда мне знать, из-за чего они подрались? Белым, когда напьются, причина не нужна.
Лингард уже забеспокоился, что молодой соперник вот-вот возьмет верх, как вдруг почувствовал, что Виллемс расслабил мускулы, и, воспользовавшись этим, последним усилием прижал его к поручням. Оба тяжело дышали, вплотную сдвинув лица и не в силах сказать ни слова.
– Ладно, – наконец пробормотал Виллемс. – Вы мне хребет сломаете об эти чертовы поручни. Я буду вести себя тихо.
– Вот теперь ты говоришь дело, – с облегчением ответил Лингард. – Чего ты как с цепи сорвался? – спросил он, подводя Виллемса к концу пристани и для надежности придерживая одной рукой. Второй нащупал свисток и подал резкий, продолжительный сигнал.
С одного из кораблей на гладкой поверхности рейда послышался ответный свист.
– Сейчас шлюпка придет, – сообщил Лингард. – Подумай, как быть дальше. Я отплываю сегодня ночью.
– У меня остался единственный выход, – мрачно ответил Виллемс.
– Слушай, я подобрал тебя мальчишкой и как-никак за тебя в ответе. Ты сам хозяин своей жизни уже много лет, но все-таки…
Лингард замолчал, дожидаясь, пока не услышит мерный скрип весел в уключинах, и только тогда продолжил:
– Я все уладил с Хедигом. Ты ему больше ничего не должен. Возвращайся к жене. Джоанна хорошая баба. Вернись к ней.
– Как же так, капитан Лингард? – воскликнул Виллемс. – Ведь она…
– Меня эта история взяла за душу, – продолжал, не обращая внимания, Лингард. – Я пошел тебя искать, заглянул к тебе домой и застал ее в полном отчаянии. Сердце обливается кровью. Джоанна звала тебя, умоляла, чтобы я тебя нашел. Бедняжка повторяла как в бреду, что сама во всем виновата.
Виллемс изумился. Старый слепой дурак! Он все перепутал! Но даже если это правда, сама мысль, чтобы снова увидеть Джоанну, наполняла душу стойким неприятием. Брачную клятву он не нарушил, но о возвращении не могло быть и речи. Пусть расторжение священных уз будет целиком на ее совести. Виллемс упивался кристальной чистотой своего сердца – нет, он не вернется. Пусть сама первая возвращается. Он почувствовал спокойную уверенность, что больше не увидит жену, и виновата в этом она сама. С высоты этой спокойной уверенности он торжественно обещал самому себе, что, если Джоанна когда-либо вернется, он не прогонит ее и великодушно простит – вот как твердо он держался своих похвальных принципов. Виллемс все еще колебался, раскрыть ли капитану всю бездонную мерзость своего унижения. Собственная жена, женщина, которая еще вчера едва смела дышать в его присутствии, изгнала его из дома. Виллемс растерянно молчал. Нет. Ему не хватало духа рассказать о своем позоре.
Шлюпка неожиданно появилась на черной поверхности воды у самого причала. Лингард нарушил мучительную паузу:
– Я всегда считал тебя немного бессердечным, отталкивающим от себя тех, кто желает тебе добра, – сказал он грустно. – Я призываю ко всему, что есть хорошего в твоей душе: не бросай эту женщину.
– Я ее не бросал, – быстро ответил Виллемс с полным сознанием своей правоты. – С какой стати? Как вы справедливо заметили, она была хорошей женой: очень доброй, тихой, послушной, любящей, и я люблю ее не меньше, чем она любит меня. Ничуть не меньше. Но возвращаться в то место, где я… Снова находиться среди людей, которые еще вчера были готовы ползать передо мной на брюхе, и чувствовать спиной их жалостливые или довольные улыбки – нет! Я не смогу. Лучше уж спрятаться от них на дне морском. – Виллемс почувствовал прилив решительности. – Мне кажется, вы не понимаете, капитан Лингард, – немного успокоившись, сказал он, – что мне пришлось там вытерпеть.
Виллемс широким жестом обвел сонный берег с севера до юга, будто горделиво и грозно говорил ему «прощай». На мгновение память о блестящих свершениях заставила его забыть о крахе. Среди людей его сословия и рода занятий, спавших в темных домах на берегу, он воистину был первым.
– Да, тебе пришлось несладко, – задумчиво пробормотал Лингард. – Однако кого ты еще можешь винить? Кого?
– Капитан Лингард! – вскричал Виллемс, внезапно поймав удачную мысль. – Оставить меня на этом причале – все равно что убить. Я ни за что не вернусь в это место живым, женатый или неженатый. С таким же успехом вы можете прямо здесь перерезать мне горло.
Старый моряк опешил.
– Не надо меня пугать, Виллемс, – нахмурившись, сказал он и умолк.
Поверх безудержного отчаяния Виллемса накладывалось его собственное беспокойство, шепоток глупой совести. Капитан некоторое время молча стоял с растерянным видом.
– Я бы мог сказать: «Если хочешь утопиться, черт с тобой», – возобновил разговор Лингард, безуспешно пытаясь принять свирепый вид, – но не буду. Мы в ответе друг за друга, так уж вышло. Мне почти стыдно в этом признаться, но я понимаю твою нечистую гордость. Правда! Кстати…
Лингард с тяжелым вздохом замолчал и поспешил к ступеням, у которых легкая зыбь тихо качала шлюпку.
– Эй, там! В шлюпке есть фонарь? Пусть кто-нибудь зажжет его и поднимется наверх. Да поживее!
Лингард вырвал лист из записной книжки, энергично послюнявил карандаш и, нетерпеливо притопывая ногой, стал ждать.
– Я это так не оставлю, – пробормотал он себе под нос. – Все будет на мази, вот увидишь! Ты принесешь чертов фонарь, сын грязной хромой черепахи? Сколько мне еще ждать?
Свет фонаря на бумаге умерил напускной гнев капитана, и он принялся так быстро что-то писать, что резкая роспись прорвала в бумажном листе треугольную дырку.
– Отнеси записку в дом этого белого туана. Я пришлю за тобой шлюпку через полчаса.
Рулевой осторожно посветил фонарем Виллемса в лицо.
– Этого туана? Тау – я его знаю!
– Ну так поторопись! – прикрикнул Лингард, забирая фонарь.
Матрос побежал исполнять указание.
– Касси мэм – госпоже в руки! – крикнул ему вслед Лингард.
Когда матрос скрылся из виду, капитан повернулся к Виллемсу.
– Я написал записку твоей жене. Возвращаться домой – ходить туда, чтобы потом опять уйти, – нет смысла. Но ты должен вернуться насовсем несмотря ни на что. Не мучай бедную женщину. А я позабочусь, чтобы ваша разлука закончилась побыстрее. Можешь на меня положиться!
Виллемс поежился и улыбнулся в темноте.
– Можете не бояться, – уклончиво ответил он и громче добавил: – Я вам безоговорочно верю, капитан Лингард.
Старый моряк повел его вниз по лестнице, размахивая фонарем и обращаясь к спутнику через плечо:
– Я во второй раз беру тебя под крыло, Виллемс. Третьего раза не будет. Вся разница между первым и вторым случаями лишь в том, что тогда ты был босой, а сейчас носишь сапоги. Четырнадцать лет прошло. Что дал тебе твой хваленый ум? Мало чего. Очень мало.
Лингард немного постоял на нижней площадке лестницы, освещая лицо гребца, прижимавшего шлюпку к пристани привальным брусом, чтобы капитану легче было в нее спуститься.
– Видишь ли, – продолжал он, возясь с фонарем, – эти конторские крысы так тебя испортили, что ты забыл, где право, где лево. Вот откуда берутся такие разговоры и взгляды на жизнь, как у тебя. Вокруг столько вранья, что человек начинает лгать самому себе. Тьфу! – брезгливо сплюнул капитан. – Для честного человека существует только одно место. Море, мальчик мой, море! Но ты воротил нос, считал, что на море денег не заработаешь. А теперь посмотри на себя!
Капитан задул фонарь и, шагнув в лодку, быстро протянул руку Виллемсу, приглашая за собой. Юноша молча опустился рядом, шлюпка отплыла от пристани и, описав широкий круг, направилась к бригу.
– Вы переживаете только о моей жене, капитан Лингард, – недовольно пробурчал Виллемс. – Думаете, мне так уж повезло?
– Нет-нет! – с жаром возразил Лингард. – Я ни слова больше не скажу. Я однажды уже раскрыл душу, потому как, можно сказать, знал тебя еще ребенком. А теперь надо забыть. Но ты еще молод, а жизнь длинна, – продолжал Лингард с невольной грустью. – Пусть это послужит тебе уроком.
Он по-дружески положил руку Виллемсу на плечо. Оба сидели молча, пока шлюпка не поравнялась с судовым трапом.
На борту Лингард отдал распоряжения старпому, после чего отвел Виллемса на корму и присел на казенник одной из шестифунтовых пушек, которыми был вооружен корабль. Шлюпка отправилась к берегу за посыльным. Как только она снова показалась, на реях замелькали темные фигуры, паруса провисли, как фестоны, развернулись, свистя тяжелыми складками, и замерли без движения из-за полного безветрия ясной, влажной от росы ночи. На баке звякнул брашпиль, и вскоре крик старпома возвестил, что якорный канат выбран до панера.
– Стоп шпиль! – крикнул в ответ Лингард. – Прежде чем сниматься, дождемся ветра с берега.
Он подошел к Виллемсу, сгорбившемуся на световом люке, понурившему голову, апатично свесившему кисти рук между коленями.
– Я возьму тебя с собой в Самбир, – сказал капитан. – Ты об этом месте, поди, не слыхал? Оно выше по течению моей реки, о которой много говорят, да мало знают, где она. Такой корабль, как «Вспышка», проходит в ее русло. Правда, не без труда… Сам увидишь. Я покажу. Ты провел в море достаточно времени, тебе будет интересно. Жаль только, что не остался насовсем. Короче, я сейчас иду туда. У меня там своя фактория. Моего напарника зовут Олмейер. Ты его знаешь, он работал у Хедига. Живет там как принц. Я их всех держу в кулаке. Раджа – мой давнишний друг. Мое слово – закон, других торговцев там нет. Ни одного белого, кроме Олмейера, в поселке отродясь не бывало. Спокойно поживешь там, пока я не вернусь из вояжа на запад. А потом посмотрим, куда тебя пристроить. Не дрейфь. Я уверен, что ты никому не выдашь мой секрет. Когда снова будешь среди торговцев, не разболтай о реке. Многие с готовностью подставят уши. Я именно оттуда беру всю гуттаперчу и ротанг. Их в том месте навалом, мой мальчик.
Виллемс мельком взглянул на произносившего речь Лингарда и снова опустил голову на грудь, разочарованный тем, что сведения, за которыми он с Хедигом охотился, пришли к нему с таким опозданием. Он не изменил безучастной позы.
– Будет желание, поможешь Олмейеру вести торговлю, – продолжал Лингард. – Скоротаешь время до моего возвращения – шесть недель или около того.
Над головой влажные паруса шумно затрепыхались от первого легкого дуновения ветра. Когда утренний бриз набрал силу, бриг повернулся против ветра, и притихшие паруса легли на стеньгу. С квартердека из темноты послышался четкий негромкий голос старпома:
– А вот и бриз. Какой курс держим, капитан?
Устремленный вверх взгляд Лингарда опустился на понурую фигуру на световом люке. Он как будто все еще колебался.
– Норд, норд, – раздраженно бросил Лингард, словно сердясь на непрошеные мысли в голове. – И поживее. В этих широтах любой ветерок стоит денег.
Он стоял неподвижно, прислушиваясь к скрежету блоков и скрипу бейфутов при повороте реев на фок-мачте. Паруса поставили, к брашпилю опять послали людей, а Лингард все стоял, погруженный в раздумья. Он пришел в себя, только заметив, как мимо него к штурвалу прошмыгнул босоногий матрос.
– Лево руля! На борт! – хриплым просоленным голосом крикнул Лингард человеку, чье лицо внезапно возникло в кругу света, отбрасываемого наверх фонарями нактоуза.
Якорь закрепили по-походному, реи обрасопили, бриг начал выдвижение с рейда. Море очнулось от спячки под острым форштевнем и стало сладко нашептывать скользящему судну ласковым журчащим шепотом, которым оно иногда разговаривает с теми, кого любит и холит. Лингард стоял с довольной улыбкой у поручней на юте, пока «Вспышка» не подошла к единственному, кроме нее, кораблю, стоявшему на рейде.
– Смотри, Виллемс, – поманил его к себе капитан, – видишь этот барк? Это арабы. Белые давно махнули рукой, а эти канальи частенько пристраиваются мне в кильватер – все надеются выкурить из этого поселка. Через мой труп! Знаешь ли, Виллемс, я принес этому краю процветание, помирил их, они стали буквально на глазах подниматься. Теперь там царят мир и счастье. Я для них большой господин, каким их превосходительству голландскому наместнику в Батавии, если в устье реки случайно занесет военный корабль, в жизни не стать. Арабам, этим интриганам и лжецам, туда заказана дорога. Я не пущу на реку ядовитое отродье, даже если это будет стоить мне моего состояния.
«Вспышка» прошла мимо барка, держась на траверзе, и почти оставила арабское судно за кормой, как вдруг оттуда крикнули:
– Раджа Лаут, приветствуем тебя!
– И вам привет! – откликнулся Лингард, замешкавшись от неожиданности, после чего обернулся с мрачной улыбкой к Виллемсу. – Это голос Абдуллы, – заметил капитан. – Что-то он сегодня не в меру вежлив. Что бы это значило? Наглец, каких поискать! Ну да черт с ним. Мне нет дела ни до его вежливости, ни до его наглости. Я знаю, что этот субчик сейчас же снимется с якоря и мигом пристроится мне в кильватер. Плевать! В здешних водах меня никто не обгонит, – добавил он, с гордостью и любовью оглядывая высокий изящный рангоут брига.
Глава 5
– У него был знак на лбу, – произнес Бабалачи, сидя на корточках и подбрасывая тростинки в жидкий костер, даже не глядя на Лакамбу, лежащего, опираясь на локоть, по другую сторону огня. – Младенец родился с отметиной, предсказывающей, что жизнь его закончится во мраке, и сейчас он подобен человеку, идущему на ощупь темной ночью: глаза открыты, но ничего не видят. Я знал его еще тогда, когда у него было много рабов, жен, товара, много торговых проа и боевых проа тоже. Хайя! Он был великим воином на тот момент, когда Милосердный своим дыханием погасил свет в его очах, паломничал и обладал многими достоинствами: был храбр, щедр и удачлив в пиратском деле, много лет вел за собой людей, пьющих кровь на морских просторах, – первый в молитве, первый в бою! Я ли не стоял подле него, когда он оборачивал свой лик на запад? Я ли не наблюдал, стоя рядом с ним в мертвый штиль, как пламя столбом поднимается выше мачт подожженных кораблей? Я ли не крался вслед за ним темными ночами меж спящих людей, которые просыпались лишь для того, чтобы погибнуть? Его сабля была быстрее небесного огня, разила раньше, чем успевала блеснуть. Хай, туан! Вот это были деньки, вот это был вождь, я и сам был моложе, а кораблей с пушками, плюющими смертью с большого расстояния, было меньше. Смерть прилетала из-за холмов, из-за леса… О, туан Лакамба! Они швыряли свистящие огненные шары прямо в ручей, где прятались наши проа, не решаясь встретиться лицом к лицу с вооруженными мужчинами.
Бабалачи со скорбным сожалением покачал головой и подбросил в огонь новую порцию хвороста. Вспыхнувшее яркое пламя осветило широкое смуглое лицо в щербинах, на котором большие, измазанные соком бетеля губы казались свежей кровоточащей раной. Отсвет костра сверкнул в единственном глазе, придав ему на мгновение свирепую живость, погасшую вместе с сиюминутной вспышкой пламени. Быстрыми движениями Бабалачи одними голыми руками сгреб угли в кучку, вытер испачканные пеплом ладони о набедренную повязку – единственный предмет гардероба, обхватил тощие ноги и, сцепив пальцы, уткнул подбородок в колени. Лакамба слегка пошевелился, не меняя позы и в мечтательном трансе не отрывая глаз от тлеющих углей.
– Да, – продолжал Бабалачи низким монотонным голосом, словно догоняя мысль, зародившуюся в ходе молчаливого созерцания изменчивой природы земного величия. – Да. Он был богат и силен, а теперь живет подачками, старый, немощный, ослепший, всеми брошенный, кроме родной дочери. Раджа Паталоло дает ему рис, а эта женщина со светлой кожей, его дочь, стряпает, потому что у него нет рабыни.
– Я видел ее издали, – пренебрежительно пробормотал Лакамба. – Сучка белозубая, похожа на женщину оранг-путих.
– Ага-ага, – поддержал его Бабалачи. – Но ты не видел ее вблизи. Ее мать, багдадскую женщину, привезли с запада, она закрывала лицо. Теперь уж не закрывает, стала делать как наши женщины, потому как обнищала, муж ослеп, к ним никто больше не ходит, разве что попросить амулет или молитву на счастье, и тут же бегом назад: боятся разозлить мужа или подвернуться под горячую руку радже. Ты давно не был на том берегу реки?
– Давно. Если я туда сунусь…
– Что верно, то верно! – мягко прервал его Бабалачи. – А вот я часто один там бываю – для твоего же блага. Смотрю, слушаю. Придет время, и мы оба явимся в кампонг раджи, чтобы уже никогда не уходить.
Лакамба сел и бросил на спутника мрачный взгляд:
– Такой разговор хорош один раз, ну два раза. Если его часто повторять, он превращается в глупость, детский лепет.
– Мне не впервой видеть небо в тучах и слышать, как воет ветер в дождливый сезон, – с вызовом произнес Бабалачи.
– И где же твой ум? Видать, унесло ветром вместе с облаками, потому что в твоих речах его не слышно.
– Слова неблагодарного человека! – воскликнул Бабалачи в порыве гнева. – Истинно говорю: наше единственное упование – на Аллаха единого, всемогущего, искупителя наших…
– Ладно, ладно! – спасовав, пробурчал Лакамба. – У нас тут свойский разговор.
Бабалачи успокоился и что-то пробормотал под нос, а через несколько минут продолжил окрепшим голосом:
– После того как Раджа Лаут привез к нам в Самбир еще одного белого мужчину, речам дочери Омара аль-Бадави внимали не только мои уши.
– Станет ли белый слушать дочь нищего? – усомнился Лакамба.
– Хай! Я сам видел.
– Что ты мог видеть одним-то глазом? – пренебрежительно воскликнул Лакамба.
– Я видел чужого белого мужчину, который шел по узкой тропе в ранний час, еще до того, как солнце осушило капли росы на кустах. Я слышал, как он шептался в дыму утреннего очага с этой лупоглазой бабой с бледной кожей. Она только на вид женщина, а сердцем – мужчина! Не ведает ни стыда, ни страха. А слышал бы ты ее голос!
Бабалачи дважды глубокомысленно кивнул собеседнику и погрузился в безмолвное созерцание, остановив взгляд единственного глаза на ровной полосе леса на другом берегу. Лакамба тоже молчал, глядя в пространство. Внизу вода в реке Лингарда тихо журчала, обтекая сваи под бамбуковым настилом и маленькой сторожкой, возле которой расположились два приятеля. За домиком начинался и заканчивался низким холмом пологий склон, очищенный от леса, но густо поросший травой и кустарником, пожухшими и выгоревшими на жгучем солнце засушливого сезона. Старое рисовое поле, несколько лет пролежавшее под паром, с трех сторон окаймляла непроходимая чащоба девственного леса. С четвертой стороны к полю примыкал илистый речной берег. Ни на берегу, ни на реке ни единого дуновения ветерка, но высоко над головой в прозрачном небе маленькие облака пробегали мимо луны, то сверкая серебром в ее водянистом свете, то заслоняя ее лик эбеновой тенью. Далеко-далеко, на середине реки, порой раздавался короткий всплеск выскочившей рыбы, громкость которого сама по себе подчеркивала глубину всепоглощающей тишины, мгновенно проглатывавшей любой резкий звук.
Лакамба вполглаза дремал, бодрствующий Бабалачи сидел погруженный в мысли, время от времени вздыхая и периодически хлопая себя по голому торсу в тщетной попытке отогнать одинокого приблудного комара, который, оторвавшись от тучи собратьев на речном берегу, с торжествующим писком атаковал неожиданно подвернувшуюся жертву. Луна, продолжая молчаливый многотрудный путь, стерла с лица Лакамбы тень от нависающей крыши, а когда достигла высшей точки подъема, казалось, неподвижно застыла у них над головой. Бабалачи подложил веток в костер, чем разбудил напарника. Тот сел, зевая и недовольно ежась.
Бабалачи снова заговорил, его голос журчал как ручей, бегущий по камням, – негромко, монотонно, настойчиво, неудержимый в своей решимости источить и разрушить любое, даже самое твердое, препятствие на своем пути. Лакамба слушал молча, но с интересом. Оба были малайскими авантюристами, честолюбивыми детьми своего края и эпохи, богемой своего племени. В первые годы после основания поселка, еще до того, как правитель Паталоло вышел из подчинения султану Коти, Лакамба появился на реке с двумя торговыми суденышками. Он расстроился, обнаружив, что в поселке между поселенцами различных рас уже сложилось некое подобие порядка и что те признавали ненавязчивое правление Паталоло, однако ему не хватило такта скрыть разочарование. Он объявил, что прибыл с востока, из тех краев, где нет белых хозяев, и, хотя принадлежал к угнетенному племени, якобы имел благородное происхождение. И действительно: Лакамбу отличали все свойства царского наследника в изгнании. Он был капризен, неблагодарен, вспыльчив. Вечно завидовал другим и плел интриги, говорил смелые речи и раздавал пустые обещания. Он был упрям, но его волевые порывы быстро угасали, их не хватало, чтобы привести к вожделенной цели. Встретив у недоверчивого Паталоло прохладный прием, Лакамба, не дожидаясь разрешения, настоял на том, чтобы расчистить хороший участок в четырнадцати милях вниз по реке от Самбира и построить там дом, который он обнес высоким палисадом. Так как у новичка было много поклонников и он, похоже, отличался дерзким нравом, старый раджа счел вмешательство с применением силы недальновидным шагом. Обосновавшись, Лакамба принялся плести козни. Это он раздул ссору между Паталоло и султаном Коти, однако распря не принесла желаемого результата, потому что султан был далеко и не мог как следует поддержать своего союзника. Разочарованный неудачей Лакамба немедленно организовал мятеж бугийских поселенцев, он с шумной похвальбой и неплохими шансами на успех осадил укрепленную частоколом резиденцию старого раджи. Но тут появился Лингард со своим бригом и пушками, старый моряк погрозил мятежнику волосатым пальцем, и этого хватило, чтобы умерить его воинственный пыл. С Раджой Лаутом никто не хотел связываться, Лакамба быстро пошел на попятный и занял положение полуторговца, полуплантатора, вынашивая в своем доме-крепости планы мести и надеясь осуществить их, когда предоставится более удобный случай. Не выходя из образа наследного принца в изгнании, он по-прежнему не признавал законную власть и, когда раджа прислал гонца собрать налог за пользование землей, передал, чтобы правитель, если он желал получить деньги, явился за ними лично. По совету Лингарда Лакамбу, невзирая на его склонность к бунтарству, оставили в покое. Он много дней безмятежно жил, окруженный женами и челядью, пестуя в груди неизбывную, беспочвенную надежду на лучшие времена, которая, как известно, является исключительной привилегией благородных изгнанников.
Шел день за днем, но ничего не менялось. Надежда потеряла силу, горячие страсти перегорели, оставив после себя лишь слабую, затухающую искру, тлеющую под кучей серого, остывающего пепла вялой покорности велениям судьбы, но тут явился Бабалачи и снова раздул искру в яркое пламя. Бабалачи забрел на реку в поисках надежного убежища для своей неприкаянной головы.
Он был морским бродягой, настоящим оранг-лаут – человеком моря, жившим в периоды процветания грабежами и набегами на побережье и корабли, а в те дни, когда удача поворачивалась к нему спиной, пробивавшимся честным скучным трудом. Хотя иногда ему приходилось командовать пиратами из Сулу, он также служил на боевых кораблях, что позволило ему побывать в дальних краях, своими глазами увидеть красоты Бомбея и могущество султана Маската, и, протолкнувшись через толпу набожных паломников, прикоснуться губами к Священному камню в Мекке. Бабалачи набрался опыта и ума в разных странах и, примкнув к Омару аль-Бадави, притворялся благочестивым (как и подобает паломнику), хотя читать вдохновенные писания пророка не умел. Он был храбр и кровожаден – тут ему не приходилось притворяться – и люто ненавидел белых, мешавших резать глотки, брать заложников, торговать рабами и устраивать поджоги, – короче, всем тем занятиям, которые единственно достойны истинного человека моря. Он заслужил благосклонность своего предводителя, бесстрашного Омара эль-Бадави, главаря брунейских пиратов, доказав за долгие годы успешного разбоя свою несомненную преданность. А когда длинная карьера убийцы, грабителя и насильника впервые получила серьезный отпор от белых людей, Бабалачи сохранил верность предводителю, не моргнув, смотрел на рвущиеся ядра, не пал духом, наблюдая, как горит крепость, гибнут товарищи, и, слыша крики женщин и плач детей, невозмутимо принял внезапный разгром и разрушение всего того, что считал необходимым условием счастливой, блистательной жизни. Утоптанная земля между домами стала скользкой от крови, в черных мангровых зарослях на илистых берегах притоков охали умирающие, которых смерть настигла прежде, чем они успели увидеть противника. Они погибали безо всякой надежды, потому что лесные дебри были непроходимы, а быстрые проа, на которых они бороздили прибрежные воды и открытое море, стояли кучей в узком ручье и горели ярким пламенем. Бабалачи в отчетливом предчувствии конца пустил все силы на то, чтобы спасти хотя бы одну лодку. Он успел вовремя. Когда рванул пороховой склад, Бабалачи уже был готов забрать своего командира. Он нашел Омара полумертвым и полностью ослепшим, рядом не было никого, кроме его дочери Аиссы: сыновья пирата погибли раньше в тот же день, как подобало мужчинам. С помощью храброй девушки Бабалачи отнес Омара на борт легкой проа и сумел спастись, захватив лишь горстку товарищей. Спрятав лодку в путанице темных спокойных притоков, они прислушивались к ликующим крикам команды военного корабля, атакующей пиратский поселок. Аисса, сидя на кормовой палубе и держа на коленях почерневшую, кровоточащую голову отца, смотрела на Бабалачи без страха в глазах.
– Они не найдут там ничего, кроме дыма, крови, мертвых мужчин и обезумевших от страха женщин, – сокрушенно произнесла Аисса.
Бабалачи, зажимая рукой глубокую рану на плече, грустно ответил:
– Белые люди очень сильны. Если с ними воевать, нам не на что рассчитывать, кроме смерти. И все-таки, – добавил он с угрозой, – кое-кто из нас еще жив! Кое-кто еще жив!
Некоторое время Бабалачи мечтал о мести, но мечту быстро развеял холодный прием у султана Сулу, поначалу предоставившего им приют и надменное, сдержанное гостеприимство. Пока Омар под надзором Аиссы залечивал раны, Бабалачи обхаживал его величество, соизволившее протянуть руку помощи. Тем не менее, когда Бабалачи нашептал на ухо правителю кое-какие соображения насчет большого прибыльного рейда на острова от Тернате до Аче, султан не на шутку разозлился.
– Знаю я вас, людей с запада, – воскликнул он гневно. – Ваши слова – яд в ушах Царя Царей. Вам бы только жечь, убивать да грабить. А месть за выпитую вами кровь падет на наши головы. Вон отсюда!
Деваться было некуда. Времена переменились, причем настолько, что, когда у берегов острова появился испанский фрегат и от султана потребовали выдачи Омара и его приспешников, Бабалачи вовсе не удивился, услышав, что их готовы принести в жертву политической целесообразности. Однако от трезвой оценки опасности до покорной капитуляции было еще очень далеко. Омар решил бежать во второй раз. Побег начался с вооруженной схватки маленькая группа с боем ночью прорвалась на берег и завладела небольшими каноэ, на которых немногочисленные уцелевшие беглецы наконец смогли уйти от погони. История этого побега по сей день живет в сердцах храбрецов. В ней говорится о Бабалачи и сильной девушке, которая на себе перенесла слепого отца через прибой под огнем пришедшего с севера корабля. Спутники этого Энея в облике пирата, не оставившего мужского потомства, давно умерли, но их души все еще бродят по ночам в проливах и на островах наподобие призраков и, как положено бесстрашным воинам, погибшим в бою, заглядывают на огонь костра, если увидят возле него вооруженных мужчин. Там, если посчастливится, они могут услышать от живых легенду о своих подвигах, храбрости, страданиях и смерти. Это предание рассказывают во многих местах. Флегматичные государственные мужи, возлежащие на прохладных циновках в хорошо проветриваемом доме раджи, отзываются о героях этой истории с презрением, но среди боевого люда, толпящегося во дворе, при звуке их имен замолкает рокот голосов и звон кандалов на ногах, останавливается пущенный по кругу кубок, а взгляд задумчиво устремляется в пространство. Легенда рассказывает о борьбе, бесстрашной девушке, мудром воине, о долгих мучениях в пропускающих воду каноэ, о тех, кто умер. Многие умерли. Уцелели только предводитель, его дочь и еще один человек, которого ждала великая слава.
В будничном появлении Бабалачи в Самбире не было, однако, и намека на будущее величие. Он явился с Омаром и Аиссой на небольшой проа, груженной зелеными кокосами, объявив себя хозяином судна и груза. Каким образом Бабалачи, бежавший на маленьком каноэ, закончил опасное путешествие хозяином судна с ценным товаром, есть один их секретов моря, сбивающих с толку самых дотошных любопытных. Честно говоря, ими никто и не интересовался. Ходили слухи о пропаже торговой проа, принадлежавшей Менадо, однако они были слишком туманны и причудливы. Бабалачи рассказал свою историю, которой Паталоло – надо отдать должное его знанию жизни – не поверил. Когда раджа высказал свои сомнения вслух, Бабалачи спокойно возразил, спросив, где это видано, чтобы два почти старика с одним глазом на двоих и юная девушка могли что-то у кого-то отнять силой? Пророк советовал людям делиться. Мир не без щедрых людей, готовых жертвовать тому, кто этого заслуживает. Патололо с сомнением покачал седой головой, и Бабалачи ушел от него с оскорбленным видом, после чего решил заручиться покровительством Лакамбы. Двое матросов, из которых состоял экипаж проа, ушли вместе с хозяином в кампонг плантатора. Слепой Омар с Аиссой остался на попечении Патололо, груз раджа конфисковал. Проа была вытащена на грязный берег у слияния двух рукавов Пантая, гнила под дождем, коробилась на солнце, развалилась на части и, в конце концов, превратилась в дым костров, на которых в поселке готовили еду. От корабля осталась лишь одна доска обшивки да пара шпангоутов, еще долго неприкаянно торчавших из блестящей на солнце грязи, напоминая Бабалачи, что он чужой в этом краю.
В остальном он прекрасно себя чувствовал в заведении Лакамбы, где его странное положение и влияние быстро приметили и приняли даже женщины. Бабалачи, как истинный скиталец, легко приспосабливался к обстоятельствам и смене обстановки. Своей готовностью пересматривать принципы, не подтвержденные опытом, что так важно для любого государственного деятеля, он мог сравниться с самыми успешными политиками любой эпохи. Ему достало убедительности и твердости намерений, чтобы полностью завладеть нестойким разумом Лакамбы, в котором не было ничего постоянного, кроме всепроникающего недовольства. Бабалачи не позволял недовольству затухнуть, подкармливал слабеющие амбиции, сдерживал естественное нетерпеливое рвение бедного изгнанника побыстрее захватить высокое, прибыльное положение. Привычный к насилию Бабалачи осуждал применение силы, ибо хорошо понимал сложность положения. По той же причине, ненавидя белых, он частично признавал выгоду голландского протектората. Всему свое время. Вопреки фантазиям своего покровителя Лакамбы, Бабалачи считал, что подбрасывать яд старику Паталоло не стоило. Это, конечно, можно было устроить, но что потом? Пока влияние Лингарда велико, пока наместник Лингарда Олмейер остается единственным крупным торговцем в поселке, Лакамбе не следовало – даже в случае реальной возможности – захватывать власть над новорожденной вотчиной. Попытка убить Олмейера и Лингарда была настолько сложна и рискованна, что ее не следовало рассматривать всерьез. Нужен был какой-то союз с кем-нибудь, кто противостоял бы авторитету белых людей и, хорошо относясь к Лакамбе, в то же время пользовался бы уважением у голландских властей. Требовалось найти какого-нибудь богатого уважаемого торговца. Такой человек, пустив корни в Самбире, помог бы им свергнуть старого раджу, отнять у него власть, а если до этого дойдет, то и жизнь. А уж тогда можно просить оранг-бланда, голландца, позволить им в знак признания заслуг учредить свой флаг. С такими покровителями они могли бы ничего не бояться! Слово богатого преданного торговца не пустой звук для наместника в Батавии. Но сначала нужно найти такого союзника и уговорить его поселиться в Самбире. Белый торговец для этой роли не годился. Белый не разделит их мыслей, на него нельзя положиться. Им был нужен человек богатый, беспринципный, с кучей прихлебал, хорошо известный на островах. Такого можно было поискать среди арабских торговцев. Лингард, говорил Бабалачи, ревностно охранял реку от чужих. Одни боялись сунуться, другие не знали, как ее найти, третьи вообще не слыхали о Самбире, а иные не желали рисковать дружбой с Лингардом ради сомнительной выгоды поторговать с относительно малоизвестным поселком. Большинство кандидатур были либо нежелательны, либо ненадежны. Бабалачи с сожалением вспоминал героев своей молодости – богатых, решительных, смелых, дерзких мужчин, готовых идти на любые приключения. Но к чему горевать о прошлом и поминать не к месту мертвых, когда такой человек есть, вполне живой и великий? Причем не так далеко.
Вот какой порядок действий предлагал Бабалачи своему честолюбивому покровителю. Лакамба согласился, заметив только, что он потребует очень уж много времени. В своем горячем желании денег и власти недалекий изгой был готов броситься на шею любому проходимцу-головорезу, пообещавшему помощь, и Бабалачи пришлось немало потрудиться, чтобы удержать своего покровителя от необдуманного насилия. Нельзя допустить, чтобы другие заметили их причастность к появлению новой фигуры в политических кругах Самбира. В случае неудачи, а ее никогда нельзя исключать, месть Лингарда настигнет их быстро и неотвратимо. Нет, риск им ни к чему. Надо ждать.
Тем временем Бабалачи не вылезал из поселка, целыми днями сидел на корточках у домашних костров и прощупывал глубину общественного недовольства и мнений, неизменно заводя речь о своем скором отъезде.
Вечером он часто брал самое маленькое каноэ Лакамбы и потихоньку наносил загадочный визит своему старому командиру, поселившемуся на другом берегу реки. Омар жил под крылом Паталоло в ореоле неприкосновенности. Между бамбуковой оградой вокруг дома раджи и джунглями находилась банановая плантация, а на ее дальнем краю стояли два домика на низких сваях под сенью ценных фруктовых деревьев, растущих на берегу чистого ручья, который, бурля, совершал свой короткий стремительный путь к большой реке. К банановой плантации и расположенным на ней домам, где раджа поселил Омара с дочерью, через молодую поросль на запущенной просеке вдоль ручья вела узкая тропинка. Демонстративное благочестие Омара, его мудрые предсказания, прошлые невзгоды и мрачная стойкость, с которой он принимал свой недуг, произвели на раджу глубокое впечатление. Старый правитель Самбира нередко накоротке заглядывал к слепому арабу после жаркого полудня и степенно выслушивал его рассказы. По вечерам покой Омара нарушало появление Бабалачи, на что слепой старик никогда не обижался. Стоя у входа в одну из хижин, Аисса наблюдала, как старые друзья тихо сидят у огня посреди утоптанной площадки между двумя домами и до поздней ночи о чем-то шепчутся. Слов она не могла разобрать и только с любопытством поглядывала на две бесформенные тени. Наконец Бабалачи вставал, брал ее отца за руку, отводил в дом, поправлял циновки и потихоньку выходил наружу. Вместо того чтобы сразу уйти, Бабалачи, не зная, что Аисса за ним наблюдает, нередко опять подсаживался к огню и погружался в долгие глубокие раздумья. Аисса смотрела на этого отважного мудрого человека с почтением, потому что с детства привыкла видеть его рядом с отцом: он задумчиво, не шевелясь, сидел один у гаснущего костра тихими ночами, отпустив свой ум бродить по просторам памяти или – кто знает? – возможно, нащупывая путь в бескрайнем пространстве неведомого будущего.
Появление Виллемса встревожило Бабалачи: оно говорило, что белые люди стали еще сильнее, однако позже он изменил свое мнение. Как-то раз вечером он встретил Виллемса на тропинке, ведущей к дому Омара, и впоследствии с некоторым удивлением заметил, что слепой араб, похоже, ничего не знал о том, что белый человек наведывается в эту часть поселка. Однажды явившемуся в неурочное дневное время Бабалачи почудилось, что в кустах на противоположном берегу ручья мелькнула белая куртка. В тот вечер он задумчиво поглядывал на Аиссу, пока та готовила рис для ужина, однако поспешил уйти, несмотря на гостеприимное приглашение Омара во имя Аллаха разделить с ними трапезу. Тем же вечером Бабалачи озадачил Лакамбу, объявив о наступлении подходящего времени для первого хода в так долго откладываемой игре. Лакамба, возбудившись, требовал подробностей. Бабалачи качал головой и лишь указывал на мелькавшие тени юрких женщин и неотчетливые фигуры мужчин, сидевших у костров во дворе. Здесь, объявил Бабалачи, он не проронит ни слова. Когда в доме все стихло, Бабалачи и Лакамба бесшумно прошли мимо спящих к берегу реки и на каноэ незаметно приплыли к заброшенной сторожке возле старого рисового поля. Здесь можно было не опасаться чужих глаз и ушей, а если бы их кто-то увидел, объяснить вылазку намерением подстрелить оленя: сюда часто приходила на водопой всякая дичь. В уединении безлюдного места Бабалачи раскрыл свой замысел внимательно слушавшему Лакамбе. Он предлагал подорвать влияние Лингарда руками Виллемса.
– Я знаю белых людей, туан, – сказал он напоследок. – Я видел их в разных странах. Они всегда рабы своих желаний, всегда готовы отдать свою силу и рассудок в руки какой-нибудь бабы. Судьба правоверных начертана дланью Всемогущего, а те, кто поклоняется множеству богов, попадают в этот мир с чистым лбом, так что любая женщина способна оставить на нем гибельное клеймо. Пусть один белый погубит другого. Волей Всевышнего они останутся в дураках. Белые с честью относятся к своим врагам, но промеж себя полагаются лишь на обман. Хай! Я видел! Я видел!
Бабалачи вытянулся у костра во весь рост и, то ли уснув, то ли притворяясь, что спит, закрыл единственный глаз. Лакамба, все еще сомневаясь, долго сидел, вперив взгляд в затухающие угли. Густела ночь, над рекой поднялся легкий белый туман, луна спустилась к макушкам деревьев в лесу, словно в поисках покоя на земле подобно неприкаянному влюбленному скитальцу, наконец решившему вернуться к своей суженой и молча опустить усталую голову на ее грудь.
Глава 6
– Одолжи мне свое ружье, Олмейер, – попросил Виллемс, сидя по другую сторону стола с неубранными остатками трапезы, освещаемого чадящей лампой. – Я решил, когда сегодня ночью взойдет луна, сделать засаду на оленя.
Олмейер, сидевший за столом боком, отодвинув локтем грязные тарелки, уткнув подбородок в грудь и вытянув вперед ноги, внимательно посмотрел на носки своих соломенных шлепок и отрывисто рассмеялся.
– Можно обойтись без гадких усмешек и попросту сказать «да» или «нет», – с легким раздражением заметил Виллемс.
– Поверь я хоть одному твоему слову, так бы и сделал, – произнес Олмейер ровным тоном – медленно, с расстановкой, словно роняя слова на пол одно за другим. – А так… что толку? Ты ведь знаешь, где ружье. Мог бы сам решить, брать его или нет. Ружье. Олень. Вздор! Засада. Ну да! Ты на газель хочешь засаду устроить, милый мой гостенек. Такую дичь ловят на золотые браслеты и шелковые саронги, мой великий охотник. А их за спасибо не купишь, это я тебе обещаю. Целыми днями пропадаешь у туземцев. Хороший помощничек выискался.
– Тебе следовало бы поменьше пить, Олмейер, – сказал Виллемс, пряча бешенство под наигранным спокойствием. – Ты сразу голову теряешь. Никогда не умел пить, насколько я помню по Макасару. А выпить любишь.
– Хочу и пью, – огрызнулся Олмейер, быстро подняв голову и метнув на Виллемса злобный взгляд.
Два представителя высшей расы еще минуту буравили друг друга взглядом, потом – как по заранее условленной команде – одновременно отвернулись и поднялись. Олмейер сбросил шлепанцы и завалился в гамак, подвешенный между двумя столбами веранды для того, чтобы ловить в разгар засушливого сезона хотя бы слабый ветерок. Виллемс нерешительно постоял у стола, молча спустился по ступеням и пересек двор в направлении небольшого деревянного причала, где на приколе, дергая за короткую привязь и стукаясь бортами на речной стремнине, качались несколько маленьких каноэ и больших вельботов. Виллемс спрыгнул в самое маленькое каноэ, неуклюже поймал равновесие, отцепил ротанговый фалинь и с излишней силой оттолкнулся от пристани, отчего сам чуть не опрокинулся в воду. К тому времени когда он снова обрел равновесие, лодку отнесло вниз на добрых пятьдесят ярдов. Виллемс встал на колено и мощными гребками весла повел каноэ против течения. Олмейер сел в гамаке, взявшись руками за ступни ног, и, приоткрыв рот, шарил взглядом по реке, пока не увидел смутные очертания человека в лодке, с трудом гребущего мимо пристани.
– Я так и знал, что ты не усидишь, – крикнул Олмейер. – Что, и ружье не взял? Эй!
Опустившись после такого усилия в гамак, Олмейер лежал и посмеивался, пока его не сморил сон. На реке Виллемс, устремив взгляд прямо перед собой, махал веслом налево и направо, не отреагировав на едва слышный окрик.
С тех пор как Лингард высадил Виллемса в Самбире и поспешно отбыл, оставив его на попечение Олмейера, прошло три месяца.
Двое белых мужчин не поладили с самого начала. Олмейер, помня то время, когда они оба служили у Хедига и занимавший более высокое положение Виллемс относился к нему с оскорбительным пренебрежением, испытывал к гостю сильную неприязнь. Олмейер также ревновал к знакам внимания, оказываемым Виллемсу Лингардом. Олмейер женился на малайской девушке, которую старый моряк удочерил в характерном порыве безрассудной доброты. Семейная жизнь пары не клеилась, поэтому Олмейер рассчитывал получить компенсацию за несчастливый брак из глубоких карманов Лингарда. Появление новенького, похоже, пользовавшегося у капитана чем-то вроде протекции, вызвало у Олмейера немалое беспокойство, только усилившееся от того, что старый моряк не соизволил познакомить мужа приемной дочери с биографией Виллемса или хотя бы поделиться с ним соображениями о будущей судьбе новоприбывшего. Проникшись с первой же минуты недоверием к Виллемсу, Олмейер осаживал попытки юноши помогать ему в торговых сделках, а когда тот умыл руки, вопреки логике стал попрекать его равнодушным отношением к делу. От холодной сдержанности их отношения перешли к молчаливому недружелюбию, а потом и к откровенной вражде. Оба страстно желали возвращения Лингарда и прекращения положения, становившегося несноснее день ото дня. Время текло медленно. Виллемс каждое утро встречал рассвет с унылой мыслью, наступят ли сегодня хоть какие-то изменения в смертельной скуке его существования. Он тосковал по деятельной жизни, торговым сделкам; теперь они казались далеким, безвозвратно утерянным прошлым, погребенным под руинами прежнего успеха без единого шанса на возвращение. Он потерянно слонялся по двору Олмейера, наблюдая за ним издали равнодушным взглядом. Каноэ из глубинных районов разгружали у маленького причала «Лингард и К°» гуттаперчу или ротанг, брали на борт рис или европейские товары. Несмотря на приличную величину принадлежавшего Олмейеру участка, Виллемсу было тесно среди аккуратных изгородей. Привыкший за долгие годы считать себя незаменимым, он, видя холодную враждебность в глазах единственного белого человека в здешнем варварском краю, теперь ощущал горечь и лютую злость от безжалостного осознания собственной ненужности. Виллемс скрипел зубами от мыслей о потерянных днях и о жизни, бесполезно пропадающей в вынужденной компании с этим желчным, мнительным тупицей. Он слышал упрек своему бездействию в журчании реки, в никогда не утихающем шепоте великой лесной чащи. Все вокруг шевелилось, двигалось, куда-то спешило – земля под ногами, небо над головой. Дикари и те старались, пыжились, упирались, работали, чтобы продлить свое жалкое существование. Но они жили! Жили! И только он один, казалось, застыл вне круговорота мироздания в безнадежном ступоре, терзающем душу негодованием и жгучим сожалением.
Виллемс завел привычку бродить по поселку. До своего расцвета Самбир зародился и влачил младое существование в болоте и вонючей грязи. Дома толпились у реки и, словно желая покинуть нездоровый берег, нахально лезли в воду, выбрасывая вперед узкий ряд бамбуковых мостков на высоких сваях, между которыми никогда не смолкало тихое бормотание водоворотов. Через весь поселок была проложена одна-единственная тропа, идущая за домами вдоль цепочки круглых черных пятен, указывающих местоположение семейных костров. С противоположной стороны к тропе подступал девственный лес, словно предлагая прохожему разгадать мрачную загадку своих дебрей. Коварный вызов никто не спешил принять. Вялые попытки расчистить лес случались редко, берег был низкий, река, отступая после ежегодного паводка, оставляла постепенно высыхавшие лужи грязи, в которых в дневную жару с наслаждением ворочались завезенные бугийскими поселенцами буйволы. Когда Виллемс проходил по тропе, праздные мужчины, лежа в тени домов, смотрели на него с ленивым любопытством, женщины, хлопотавшие у костров, бросали удивленные робкие взгляды, а дети, мельком глянув, с криками убегали, напуганные появлением белого человека с покрасневшим лицом. Проявления детского отвращения и страха вызывали у Виллемса острое чувство нелепой уязвленности. Во время своих прогулок по жалким просекам он стремился обрести какое-никакое одиночество, но даже буйволы, завидев его, встревоженно фыркали и шумно выбирались из прохладной жидкой грязи. Сбившись в кучу, они провожали дикими глазами незнакомца, пытавшегося бочком пройти мимо них к лесу. Однажды из-за какого-то неосторожного резкого движения Виллемса все стадо буйволов бросилось через тропу, растоптало костры, разогнало визжащих женщин, оставив после себя черепки разбитых горшков и затоптанный в грязь рис, разбросало в стороны детей и побудило устремиться в погоню горластых, разгневанных, вооруженных палками мужчин. Простодушный виновник переполоха, сгорая от стыда, поспешно бежал от злых взглядов и недовольных восклицаний под защиту кампонга Олмейера. После этого он больше не заглядывал в поселок.
Некоторое время спустя, не в силах более выносить вынужденное заточение, Виллемс взял одно из многих принадлежавших Олмейеру каноэ и переправился через главный рукав Пантая в поисках уединенного места, где можно было бы скоротать уныние и скуку. Он проплыл в утлом суденышке мимо стены непролазной зелени, удерживая лодку в стоячей воде рядом с берегом, где разлапистые пальмы нипа, будто в презрительном снисхождении к неприкаянному изгнаннику, покачивали у него над головой широкими листьями. Тут и сям он замечал признаки прорубленных в чащобе троп и, не желая, чтобы его увидели посреди оживленной реки, приставал к берегу и шел по узкой извилистой тропинке с тем лишь, чтобы обнаружить, что она никуда не ведет и внезапно упирается в колючие заросли. Виллемс, испытывая беспочвенное чувство разочарования и досады, медленно возвращался к лодке придавленный горячим запахом земли, сырости и разложения – казалось, что лес старается безжалостно отогнать его назад, к сверкающей солнечными блестками реке. Он снова греб уставшими руками и находил новую вырубку, заканчивавшуюся новым обманом.
Когда Виллемс доплыл до места, где к реке спускался палисад раджи, нипа с их шуршащими листами расступились, освободив пространство на берегу для крупных деревьев – высоких, крепких, безразличных в абсолютной прочности своего бытия, длящегося веками, к коротенькой, мимолетной жизни человечка, мучительно пытавшегося найти в их тени убежище от нескончаемых мыслей о собственном позоре. Между гладкими стволами, прежде чем окончательно спрыгнуть с крутого обрыва в быструю реку, петлял чистый ручей. Здесь тоже нашлась тропа, на этот раз – хоженая. Виллемс причалил и, следуя ее причудливым изгибам, вскоре вышел на довольно хорошо расчищенную поляну, где, пробиваясь сквозь ветки и листву, на ручей затейливыми кружевами падал солнечный свет. Поверхность воды в извилине ручья сверкала, словно забытая в высокой пушистой траве сабля.
Однако дальше тропа опять сужалась и вела через густой подлесок. Сделав первый поворот, Виллемс заметил, как мелькнуло что-то белое и что-то цветное, золотую вспышку, как будто в тени заблудился луч солнца, и вдобавок нечто темное – темнее самой непроходимой лесной чащобы. Он в удивлении остановился: ему послышались легкие шаги, которые удалялись, пока окончательно не замерли. Виллемс осмотрелся по сторонам. Трава на берегу ручья подрагивала, дорожка серебристо-серых метелок, ведущая от ручья к началу зарослей, еще колебалась. А ветра-то нет. Значит, здесь кто-то прошел. Виллемс задумчиво наблюдал, как утихает волнение и высокая трава снова застывает в оцепенении, млея в горячем неподвижном воздухе.
Подгоняемый внезапно пробудившимся любопытством, он двинулся по узкой тропинке меж кустов. За очередным поворотом впереди опять мелькнул цветной лоскут и черные женские волосы. Виллемс прибавил шагу и вскоре нагнал предмет своего интереса. Женщина с двумя бамбуковыми сосудами, до краев наполненными водой, услышала шаги за спиной, остановилась, опустила свою ношу на землю и вполоборота взглянула на преследователя. Виллемс тоже на минуту замер, затем уверенно двинулся вперед. Женщина отступила в сторону, освобождая дорогу. Виллемс смотрел прямо перед собой, однако каждая подробность ее высокой стройной фигуры почти бессознательно врезалась в его память. Когда он поравнялся с ней, женщина слегка откинула назад голову и непринужденным жестом сильной округлой руки перебросила из-за плеча прядь распущенных черных волос, прикрыв ей нижнюю часть лица. Через мгновение Виллемс прошел мимо незнакомки на деревянных ногах, точно в трансе. Он услышал частое дыхание, почувствовал на себе брошенный из-под полуприкрытых век взгляд. Этот взгляд тронул его ум и сердце, подействовал на него как громкий окрик, как безмолвное, пронзительное озарение. По инерции он прошел мимо незнакомки, но потом неведомая сила, порожденная смесью удивления, любопытства и вожделения, заставила его немедленно обернуться.
Женщина уже подхватила сосуды с водой, намереваясь продолжить путь. Резкое движение вынудило ее остановиться после первого же шага. Она стояла прямая, гибкая, настороженная, готовая, как показывала легкая напряженность ее позы, немедленно обратиться в бегство. Ветви деревьев сходились в вышине, в прозрачном мерцании зеленого тумана. Сквозь него проникали и каскадом падали на голову женщины желтые солнечные лучи, сверкали на черных распущенных волосах, переливались, как жидкий металл, на лице, тонули, превратившись в исчезающие искорки, в строгой глубине ее глаз, теперь широко раскрытых, с увеличенными зрачками, смотревших в упор на преградившего ей путь мужчину. Виллемс смотрел в ответ, завороженный обаянием с примесью невосполнимой утраты и щекоткой предвкушения, что начинается с ласкового прикосновения, а заканчивается ударом, внезапным уколом шевельнувшегося в сердце нового чувства, резким всплеском дремлющих эмоций, вдруг пробуждающим новые надежды, новые страхи, новые желания и – стремление убежать от себя прежнего.
Женщина сделала шаг вперед и снова остановилась. Между стволами деревьев подул слабый ветер: в воображении Виллемса он был вызван движением ее фигуры, – окатил его тело волной горячего воздуха, словно факелом опалил лицо. Виллемс сделал прерывистый вдох, точно готовящийся броситься в атаку солдат или как любовник, заключающий в объятия свою любимую, – вдох, придающий смелости перед лицом смерти или в пучине страсти.
Кто она? Откуда? Виллемс с недоумением оторвал взгляд от женского лица и посмотрел на сомкнутые ряды деревьев, высоких, безмолвных, прямых, словно с затаенным дыханием наблюдавших за его действиями. Могучая жизненная сила тропиков, требовавшая солнечного света, но предпочитавшая сумрак, сбивала с толку, вызывала отторжение, почти пугала. Внешне – сплошное изящество красок и форм, блеск, улыбка, а в действительности – цветение смерти, загадка, сулящая красоту и радость, но таящая в себе лишь яд и разложение. Прежде его пугало смутное предчувствие опасности, однако теперь, посмотрев на этот мир новыми глазами, он как будто сумел проникнуть сквозь фантастическую завесу листьев и лиан, заглянуть за могучие стволы, преодолеть грозный полумрак, и ему открылась тайна – волшебная, покорная и прекрасная. Виллемс перевел взгляд на женщину. В потоке пестрого света она предстала перед ним с неуловимой отчетливостью сновидения. Перед ним как будто стояла фея этого загадочного лесного края, выступившая из-за прозрачного, сотканного из солнечных лучей и теней занавеса.
Незнакомка подошла чуть ближе. Ее приближение вызывало у Виллемса странную нетерпеливость. В его голове мелькали путаные, корявые, бесформенные, оглушительные мысли. Не узнавая собственного голоса, он произнес:
– Кто ты?
– Я дочь слепого Омара, – отвечала женщина тихим, но твердым голосом. – А вы, – прибавила она чуть громче, – белый торговец, великий человек в здешних краях.
– Да, – ответил Виллемс, с неимоверным усилием выдерживая ее взгляд. – Да, я белый. – И добавил, словно о ком-то другом: – Мои люди прогнали меня.
Женщина слушала с серьезным видом. Прикрытое спутанными волосами лицо казалось ликом золотой статуи с глазами живого человека. Тяжелые веки опустились чуть ниже, из-под длинных ресниц вбок метнулся взгляд – жесткий, острый, узкий, как блеск стального клинка. Губы сжались в твердую изящную дугу, однако расширенные ноздри, гордая осанка и слегка повернутая голова создавали впечатление дикой гневной строптивости.
По лицу Виллемса пробежала тень. Он зажал рот рукой, словно стремясь не выпустить наружу слова, готовые слететь с губ в стремительном порыве как продолжение властной мысли, проникшей из сердца в мозг, которую высказывают перед лицом сомнений, опасности, страха и самой гибели.
– Ты прекрасна, – прошептал он.
Женщина окинула взглядом – одним быстрым взмахом ресниц – загорелое лицо Виллемса, широкие плечи, высокую, прямую, застывшую без движения фигуру, опустила глаза на тропинку у него под ногами и улыбнулась. Улыбка озарила строгую красоту ее лица – так первый хрупкий, слабый луч солнца пробивается ранним пасмурным утром сквозь хмурые облака, объявляя о приближении восхода и грозы.
Глава 7
В нашей жизни бывают короткие промежутки, которые остаются в памяти лишь как чувственное впечатление. Мы не помним жестов, действий, каких-либо внешних проявлений жизни – все это тонет в ослепительном блеске или запредельном мраке таких моментов. Мы полностью погружаемся в созерцание ощущения в нашей душе, радостного или болезненного, в то время как тело продолжает дышать, интуитивно бежать прочь или – не столь интуитивно – вступать в бой, да хоть бы и умирать. Смерть в такой момент – это привилегия счастливцев, редкостное благо, знак высочайшего благоволения.
В памяти Виллемса не отложилось, как и когда он расстался с Аиссой. Он пришел в себя пьющим с ладони грязную воду и сидящим в каноэ посреди реки, увлекаемым течением мимо последних домов Самбира. Вместе с разумом вернулся и страх неизвестного, завладевший сердцем, страх чего-то невыразимого и хитроумного, лишенного голоса, но требующего подчинения себе. Первой пришла в голову мысль о бунте. Он больше туда не вернется. Ни за что! Виллемс завороженно посмотрел на реку и лес, мерцавшие под беспощадным солнечным светом, и схватил весло. Как все изменилось! Река будто стала шире, а небо выше. Как быстро летит каноэ, повинуясь взмахам его весла! Откуда взялась эта сила, которой хватило бы на двоих? Он смерил взглядом стену джунглей на берегу, вообразив мятущимся умом, что мог бы одним движением руки опрокинуть все эти деревья в речной поток. Лицо горело. Виллемс выпил еще воды и передернулся от порочного удовольствия, ощутив на языке привкус слизи.
Виллемс добрался до дома Олмейера лишь поздно вечером. Он пересек темный неровный двор, уверенно ступая в ореоле света, горящего в душе, невидимого для чужих глаз. Угрюмое приветствие хозяина дома встряхнуло его, как неожиданное падение с высоты. Виллемс сел за стол напротив Олмейера и попытался завязать с мрачным спутником бодрый разговор, но после окончания ужина, когда они молча сидели и курили, ощутил внезапный упадок духа, охватившую все члены апатию, безмерную печаль как от великой, невосполнимой потери. В сердце проникла ночная тьма, с ней пришли сомнения, колебания и глухое раздражение на себя и весь мир. Виллемсу хотелось сыпать грязными ругательствами, устроить с Олмейером свару, выкинуть какую-нибудь жестокость. В голову безо всякого прямого повода лезла мысль, не дать ли в морду этому гнусному, надутому животному. Виллемс бросал яростные взгляды из-под насупленных бровей. Ничего не подозревавший Олмейер курил, вероятно, думая о планах на завтрашний день. Его спокойствие казалось Виллемсу непростительным оскорблением. Почему этот идиот молчит сегодня, когда Виллемсу хочется говорить? Ведь в другие вечера он был готов болтать без умолку, причем обо всяких глупостях. Виллемс, стараясь изо всех сил сдержать собственную беспочвенную ярость, уставился неподвижным взглядом сквозь табачный дым на покрытую пятнами скатерть.
По обыкновению, они рано легли спать, однако посреди ночи Виллемс со сдавленным проклятием выскочил из гамака и сбежал по ступеням крыльца во двор. Два ночных сторожа, сидевших у маленького костерка и монотонно беседовавшие вполголоса, подняли головы и с удивлением заметили тревогу на лице белого человека, пробежавшего мимо них через отбрасываемый огнем островок света. Он нырнул в темноту, потом вернулся и прошел совсем рядом, ничем не показывая, что заметил их присутствие. Белый человек ходил туда-сюда, что-то бормоча себе под нос. Оба малайца, пошептавшись, потихоньку ушли, решив, что находиться вблизи от белого, который ведет себя таким странным образом, небезопасно. Спрятавшись за углом товарного склада, они с любопытством наблюдали за Виллемсом остаток ночи, пока за коротким рассветом не вспыхнуло яркое солнце и хозяйство Олмейера не пробудилось для дневных забот и труда.
Улучив подходящий момент, чтобы незаметно улизнуть посреди дневной суеты, Виллемс пересек реку на каноэ до того места, где вчера встретил Аиссу. Он лег в траву у ручья и стал прислушиваться, не послышится ли звук ее шагов. Яркий дневной свет проникал сквозь беспорядочные просветы между ветвями деревьев и, потеряв резкость, лился вниз в окружении теней могучих стволов. Там и сям узкий лучик трогал шероховатую кору, оставляя на ней золотые мазки, сверкал в беспокойных водах ручья или выхватывал отдельный лист, заставляя его сверкать на однообразном темно-зеленом фоне. В чистом голубом небе, проглядывавшем сквозь ветви, порхали, сверкая на солнце крыльями, белые рисовки. С небес лился зной, обволакивал распаренную землю, клубился между деревьями, окутывал Виллемса мягким и пахучим воздушным пологом, пропитанным тонким ароматом цветов и горьким запахом гниения. Атмосфера мастерской матери-природы успокоила и убаюкала Виллемса настолько, что он позабыл о прошлом и перестал размышлять о будущем. Память о победах, неудачах и притязаниях словно растворилась в этой теплоте, изгоняющей из сердца любые сожаления, надежды, недовольство и неуступчивость. Полусонный и довольный Виллемс нежился в теплом душистом убежище, вспоминая глаза Аиссы, звук ее голоса, дрожание ее губ, ее сдвинутые вместе брови и улыбку.
Она, конечно, пришла. Для нее Виллемс представлял собой что-то новое, неведомое и диковинное. Он был выше и сильнее мужчин, попадавшихся ей прежде на глаза, и полностью отличался ото всех, кого она знала. Незнакомец принадлежал к племени победителей. Аисса живо помнила пережитую великую трагедию, и новый знакомый манил ее стоявшей за ним огромной силой и ощущением опасности, олицетворением преодоленного и с тех пор преуменьшаемого ужаса. Победители говорили таким низким голосом, смотрели на врага такими холодными голубыми глазами, а она сумела лишить этот голос твердости, заставила эти глаза с нежностью смотреть на ее лицо, покорила настоящего мужчину. Аисса не все понимала в рассказах незнакомца о своей жизни, однако из тех разрозненных отрывков, что поняла, сама слепила образ героя, признанного среди своих, доблестного, но невезучего, не падающего духом беглеца, мечтающего отомстить своим врагам. Он привлекал ее своей неопределенностью и загадочностью, непредсказуемостью и стремительностью. И этот сильный, опасный человек из плоти и крови был готов отдать себя в рабство.
Он созрел – она это чувствовала. Аисса ощущала эту готовность безошибочной интуицией доисторической женщины, столкнувшейся с естественным инстинктом. День ото дня, пока они встречались и она, стоя чуть в стороне, сдерживала нового знакомого взглядом, смутный страх победы слабел и тускнел, словно воспоминание о сновидении, сменяясь уверенностью, четкой и определенной, скорее похожей на осязаемый предмет под яркими лучами солнца. Глубокая радость, великая гордость и сладость предвкушения оставляли на губах вкус меда. Виллемс лежал, вытянувшись, у ее ног без малейшего шевеления, зная по опыту первых встреч, что малейшее движение спугнет Аиссу. Он лежал очень тихо, любовный пыл целиком передавался его голосу, сверкал в его глазах, в то время как тело оставалось недвижным, словно на смертном одре. Он смотрел на нее снизу вверх, на ее голову, что пряталась в тени широких вальяжных листьев, ласкавших ее щеки. Тонкие усики бледно-зеленых орхидей стекали с ветвей, сплетались с черными волосами, обрамлявшими ее лицо, как если бы все растения считали ее своей – живым блестящим цветком бьющей ключом жизни, рожденным в полумраке и стремящимся к солнцу.
С каждым днем Аисса все больше сближалась с Виллемсом. Он терпеливо наблюдал, как слова любви постепенно укрощают женщину. Неизменный гимн восторга и вожделения, начавшись с сотворения мира, окружал земной шар, словно атмосфера, и мог прекратиться только в конце всего сущего, когда не осталось бы ни поющих уст, ни внимающих этой песне ушей. Виллемс с ходу объявил Аиссе, что она восхитительна и желанна, и не уставал повторять эти слова снова и снова, ибо, однажды высказав их, излил все, что у него было в душе, единственную мысль, единственное чувство. Озадаченное выражение удивления и недоверия мало-помалу стало исчезать с лица Аиссы, взгляд потерял резкость, улыбка все дольше задерживалась на ее губах – улыбка человека, очарованного сладким сновидением, прячущая за пробуждающейся нежностью тихий восторг пьянящей победы.
Когда Аисса была рядом, беспечный Виллемс не видел вокруг ничего, кроме ее взгляда и улыбки, – ни в прошлом, ни в будущем. Для него существовало только настоящее, одна лишь ослепляющая правда ее присутствия. Однако, окунаясь в темноту, мгновенно возникавшую после ухода Аиссы, он ощущал себя слабым и беспомощным, как будто у него отняли все, что он считал своим. Он, кто всю жизнь заботился лишь о карьере, презирал женское влияние и осуждал мужчин, которые этому влиянию поддавались хотя бы отчасти, он, такой сильный, превосходящий всех остальных даже в своих ошибках, начал наконец осознавать, что рука женщины отнимает у него самого себя. Куда подевались самодостаточность и гордость его ума, вера в успех, раздражение от неудач, жажда вернуть себе богатство и уверенность, что ему хватит сил этого добиться? Все пропало. Исчез тот мужчина, каким он видел себя, осталась лишь тревога в сердце, этом презренном сердце, тающем от взгляда или улыбки, страдающем от одного слова, находящем успокоение в посулах.
Когда долгожданный день наконец наступил и Аисса, опустившись рядом на траву, быстрым движением взяла его за руку, Виллемс встрепенулся как человек, разбуженный треском падающей на голову крыши собственного дома. Вся кровь, все ощущения, сама жизнь, казалось, устремились навстречу этой руке, отнимая последние силы, бросая его в холодную дрожь, оцепенение и предчувствие конца, как от внезапно полученной смертельной огнестрельной раны. Виллемс резко, словно обжегшись, оттолкнул от себя женскую руку и замер без движения с опущенной головой, глядя в землю и затравленно дыша. Всплеск страха и нескрываемый ужас ни капли не смутили Аиссу. Ее лицо оставалось строгим, взгляд – серьезным. Пальцы женщины погладили волосы у него на виске, ласково провели по щеке, нежно потрогали кончики длинных усов. Пока он пытался унять дрожь от этого прикосновения, Аисса с поразительным проворством убежала, нырнув со звонким смехом в путаницу травы и кивание молодых веток, оставив после себя лишь исчезающий шлейф движения и звуков.
Виллемс, кряхтя, словно на плечи легла тяжкая ноша, медленно поднялся и пошел к берегу реки. Лелея в груди память о собственном испуге и блаженстве, он в то же время повторял про себя, что его увлечение не могло продолжаться. Выведя каноэ на стремнину, он поднял глаза на берег и долго, неподвижно смотрел на него, словно стараясь запечатлеть в памяти место восхитительных событий. Он вернулся к дому Олмейера сосредоточенным, энергичной поступью человека, принявшего окончательное решение. Лицо его было непреклонно и сурово, жесты скупы и неторопливы. Он твердо держал себя в руках. Очень твердо. Виллемс с яркостью, достойной реальности, воображал себя в роли стражника, поставленного следить за шустрым узником. За ужином – последним, который они проводили вместе, – он сел напротив Олмейера с совершенно спокойным выражением на лице, но чувствуя в душе нарастающий ужас бегства от самого себя.
Время от времени Виллемс хватался за край стола и сжимал зубы в припадке острого отчаяния; так человек, падающий по гладкому крутому склону навстречу обрыву, цепляется ногтями за рыхлую почву, чувствуя, что его уже ничто не спасет от неизбежной гибели.
И вдруг мышцы расслабились, напряжение воли ослабло. В голове Виллемса как будто что-то щелкнуло: новое желание, новая мысль не покидали разум все оставшееся время, шумя и опаляя мозг, как лесной пожар. Он должен ее увидеть! Немедленно! Сегодня же вечером! Потеря одного часа, каждого мгновения страшно его бесила. Он больше не помышлял о сопротивлении. И все-таки инстинктивная боязнь окончательного исхода, врожденная неискренность человеческой души требовали держать наготове путь к отступлению. Он никогда прежде не отлучался ночью. Что известно Олмейеру? Что он подумает? Лучше попросить у него ружье. Лунная ночь… Засада на оленя… Как предлог сойдет. Придется обмануть Олмейера. Какая разница! Он сам обманывался каждую минуту своей жизни. И ради чего? Ради женщины. Да еще такой…
Ответ Олмейера показал, что притворяться нет смысла. Ничего не утаить даже в таком месте, как это. Ну и черт с ним. Виллемса сейчас заботили лишь упущенные секунды. А если бы он внезапно умер? Не успев ее увидеть? Не успев…
Все еще слыша в ушах смех Олмейера, Виллемс направил каноэ наискось через участок реки с быстрым течением, пытаясь убедить себя, что сможет вернуться, стоит только захотеть. Он всего лишь одним глазком взглянет на то место, где они обычно встречались, на дерево, под которым он лежал, когда она взяла его за руку, на траву, на которую она присела рядом с ним. Всего лишь на минутку туда и тут же обратно. Однако, когда маленькая лодка ткнулась носом в берег, Виллемс выскочил из нее, позабыв привязать. Каноэ, помедлив немного у кустов, пропало из виду прежде, чем он успел прыгнуть в воду и закрепить его. На мгновение Виллемс застыл как громом пораженный. Теперь он не мог вернуться, не попросив у людей раджи лодку с гребцами, а путь в кампонг Паталоло пролегал мимо дома Аиссы!
Виллемс шагал нетерпеливо и в то же время с опаской, как человек, преследующий призрака, и, дойдя до развилки, где узкая тропа уходила влево к вырубке Омара, остановился с выражением напряженного ожидания, словно прислушиваясь к далекому голосу – голосу своей судьбы. Голос этот звучал неотчетливо, но с глубоким смыслом, ему отвечали смятение и боль в груди. Он сплел пальцы и выгнул руки до хруста в суставах. На лбу выступили мелкие капли пота. Виллемс потерянно огляделся вокруг. Над бесформенной тьмой подлеска высились кроны больших деревьев, их ветви и листва чернели на фоне бледного неба, словно клочки ночи, плавающие в лунном свете. Из-под ног от земли поднимался теплый пар. Одинокий путник утопал в глухой тишине.
Он осмотрелся в поисках помощи. Безмолвие и неподвижность напоминали холодный упрек, неумолимый отказ, жестокое безразличие. Не осталось ни спасения во внешнем мире, ни надежного пристанища внутри себя – все вытеснил образ этой женщины. Наступил момент внезапного просветления, такого рода жестокие озарения порой посещают даже самых забитых людей. Виллемс как будто увидел происходящее в душе со стороны и ужаснулся странности картины. Он, европеец, чья вина заключалась лишь в недостатке рассудительности да излишней вере в добродетельность своих земляков, и эта женщина, совершенная дикарка… Виллемс попытался убедить себя, что все это не имеет никакого значения. Не тут-то было. Свежесть ощущений, которых ему прежде не доводилось испытывать даже в малой степени, но которые он заочно презирал с позиции цивилизованного человека, лишила его смелости. Он был недоволен собой. Променял незапятнанную чистоту свой жизни, своей расы, своей культуры на какое-то дикое существо. Ему казалось, что он блуждает между бесформенными, опасными, наводящими ужас тенями. Виллемс противился ощущению неизбежности поражения, терял почву под ногами, падал в черную пропасть. Издав слабый крик и вскинув руки над головой, он признал себя побежденным, как выбившийся из сил пловец, потому что палуба под ногами ушла в пучину, потому что ночь черна, а берег далек, потому что умереть легче, чем продолжать борьбу.
Часть II
Глава 1
Яркий свет и зной, словно брошенные рукой злого великана, обрушились на поселок, вырубки и реку. Земля, искрясь, затихла, примолкла под лавиной обжигающих лучей, уничтожающих все звуки и движения, стирающих все тени, удушающих каждый вздох. Ни одно живое существо не отваживалось бросить вызов спокойному величию безоблачного неба, восстать против гнета блистательного и жестокого солнца. Сила и решимость, душа и тело были одинаково беззащитны и пытались укрыться от натиска небесного огня. И лишь хрупкие бабочки, бесстрашные дети солнца, прихотливые повелители цветов, отважно порхали на виду: их крохотные тени маленькими тучками парили над поникшими цветками, легко скользили по жухлой траве, плавно двигались по сухой, растрескавшейся земле. В жаркий полдень не слышно было ни одного голоса, кроме тихого журчания реки, воды которой, кружась и вихрясь, наперегонки гнали маленькие искристые волны в веселом забеге к надежным и прохладным морским глубинам.
Олмейер отпустил работников на полуденный перерыв и, посадив маленькую дочь на плечи, быстро пробежал по двору под тень веранды. Он положил спящего ребенка на сиденье большого кресла-качалки, подсунув под голову подушку из своего гамака, и несколько минут стоял и смотрел на дочурку добрым, задумчивым взглядом. Девочка, уставшая, разгоряченная, беспокойно заворочалась, вздохнула и посмотрела на Олмейера сквозь пелену томной сонливости. Олмейер поднял с пола сломанный пальмовый веер и принялся обмахивать покрасневшее личико. Ресницы ребенка трепетали в такт. Олмейер улыбнулся. На мгновение в отяжелевших глазах ребенка зажглась ответная улыбка, обозначив ямочку на мягком изгибе щеки, потом веки разом смежились, губы, разжавшись, выпустили наружу протяжный вздох, и девочка заснула глубоким сном прежде, чем мимолетная улыбка успела покинуть ее лицо.
Олмейер потихоньку отошел в сторону, взял одно из деревянных кресел, поставил у балюстрады и со вздохом облегчения сел. Положив локти на перила и подперев подбородок сцепленными пальцами, он рассеянно остановил взгляд на солнечных бликах, танцующих на неспокойной речной поверхности. Лес на другом берегу стал медленно уменьшаться в размерах, словно уходил под воду. Очертания колебались, теряли резкость, растворялись в воздухе. Взгляд тонул в колыхании бездонной синевы – пустоте широкого неба, иногда бывавшего темным. Куда пропал солнечный свет? Олмейер ощутил спокойствие и удовлетворенность, как будто ласковая невидимая рука освободила душу от тяжести тела. Прошла секунда, и он поплыл по прохладному морю света, где нет ни боли, ни воспоминаний. Какое блаженство! Его веки приоткрылись и тотчас же снова опустились.
– Олмейер!
Вздрогнув всем телом, управляющий факторией выпрямился, ухватившись за перила обеими руками и глупо моргая.
– Что? Что такое? – пробормотал он, сонно озираясь по сторонам.
– Я здесь! Внизу!
Привстав с кресла, Олмейер заглянул через перила и, удивленно присвистнув, плюхнулся обратно.
– Ба, призрак! – воскликнул он вполголоса.
– Выслушаешь меня? – раздался сиплый голос со двора. – Можно я поднимусь?
Олмейер встал и перегнулся через перила.
– Даже не думай, – негромко, но отчетливо сказал он. – Даже не думай! Здесь ребенок спит. Слушать я тебя не хочу, да и говорить мне с тобой не о чем.
– Ты должен меня выслушать! Дело серьезное.
– Не для меня.
– Еще как для тебя! Это очень важно.
– Ты всегда был фанфароном, – произнес Олмейер снисходительным тоном после короткого молчания. – Всегда! Я помню старые времена. Некоторые говорили, что тебе нет равных в хитрости, но меня не проведешь. Нет уж. Я в твои таланты никогда не верил, мистер Виллемс.
– Я готов признать твое умственное превосходство, – парировал Виллемс с насмешливой нетерпеливостью. – Если выслушаешь меня, ты еще раз его подтвердишь. А если нет, потом будешь жалеть.
– Ах какой шутник! – беззлобно воскликнул Олмейер. – Ну хорошо, поднимайся. Только не шуми. А то еще схлопочешь солнечный удар и помрешь у меня на пороге. Мне только новых трагедий не хватало. Иди уж!
Не успел Олмейер закончить фразу, как голова Виллемса уже показалась над полом, затем постепенно появились его плечи и, наконец, он предстал перед Олмейером целиком – карнавальный призрак бывшего доверенного лица самого богатого купца на островах. Куртка испачкана и порвана. Вместо брюк – поношенный вылинявший саронг. Виллемс сбросил шляпу, обнажив длинные, спутанные волосы, клочьями прилипшие к потному лбу и налезавшие на глаза, мерцающие в глубоких глазницах, как последние огоньки в почерневшей золе отгоревшего костра. Из впадин на обожженных солнцем щеках торчала грязная щетина. Протянутая Олмейеру рука дрожала. Некогда плотно сжатые губы выдавали умственные страдания и физическое изнеможение. Ноги босы. Олмейер неспешно осмотрел жалкую фигуру.
– Ну и?.. – сказал он наконец, не обратив внимания на протянутую руку, и Виллемс медленно ее опустил.
– Я вернулся… – начал Виллемс.
– Я вижу, – перебил его Олмейер. – Мог бы вообще не появляться, я бы не стал горевать. Больше месяца пропадал, если не ошибаюсь. Я прекрасно без тебя обходился. И тут заявляешься, да еще в таком виде.
– Дай же мне рассказать! – воскликнул Виллемс.
– Не кричи так. Думаешь, ты в лесу со своей… со своими друзьями? Здесь живут цивилизованные люди. Европейцы. Разумеешь?
– Я вернулся, – повторил Виллемс, – ради твоего и своего блага.
– Судя по твоему виду, тебя пригнал обратно голод, – грубо оборвал его Олмейер, на что Виллемс замахал руками. – Тебя там, видно, плохо кормили, – с легкой насмешкой добавил Олмейер, – эти… как их правильно называть?.. твои новые родственники. Старый слепой пройдоха, должно быть, был рад без ума такому знакомству. Худшего убийцу и грабителя в южных морях не сыскать, ты не знал? Вы там опытом обменивались? Признайся, ты в Макасаре кого-нибудь убил или только ограбил?
– Неправда! – с жаром воскликнул Виллемс. – Я всего лишь взял немного взаймы. Они все врут! Я…
– Тс! – предостерегающе прошипел Олмейер, оглядываясь на спящего ребенка. – Украл, значит, – продолжил он со сдержанным удовлетворением. – Я так и думал, что тут дело не чисто. И здесь опять воруешь.
Виллемс впервые посмотрел Олмейеру в глаза.
– Нет, не у меня. У меня ничего не пропало, – с насмешливой торопливостью добавил Олмейер. – Эту девушку. Ты ведь ее умыкнул, а? Ничего не дав старику отцу. Попортил и бросил, так ведь?
– Перестань!
Что-то в голосе Виллемса заставило Олмейера на время замолчать. Он пристально взглянул на бывшего коллегу и невольно пожалел его.
– Олмейер, – продолжал Виллемс, – выслушай меня. Если ты, конечно, человек. Я страшно страдаю – и ради тебя тоже.
Олмейер вскинул брови.
– Неужели? О чем ты? Да ты умом тронулся, – небрежно отмахнулся он.
– А-а, ты еще ничего не знаешь, – прошептал Виллемс. – Она пропала. Пропала, – повторил он со слезами в голосе, – два дня назад.
– Да ну! – удивился Олмейер. – Пропала! Мне об этом не сообщали. – Он, прикрыв рот ладонью, рассмеялся. – Вот насмешил! Успел ей надоесть? Знаешь ли, дорогой земляк, это тебе не делает чести.
Виллемс, словно не слышал его слов, прислонился к столбу, поддерживавшему крышу, посмотрел на реку и мечтательно прошептал:
– Сначала жизнь казалась мне раем. Или адом. Я так и не решил, чем больше. Но после того, как она пропала, я познал, что такое погибель и мрак: когда тебя живьем раздирают на куски. Вот что я чувствую.
– Ты можешь вернуться и снова жить у меня, – холодно ответил Олмейер. – В конце концов, Лингард, кого я почитаю за отца и очень уважаю, попросил присмотреть за тобой. Ты погнался за удовольствиями и сбежал. Хорошо. А теперь хочешь вернуться. Ладно. Я тебе не друг. Я всего лишь выполняю просьбу капитана Лингарда.
– Вернуться? – горячо повторил Виллемс. – К тебе, а ее бросить? Ты считаешь меня сумасшедшим? Без нее! Что ты за человек? Думать, что она где-то ходит, живет, дышит. Я ревную к ветру, который ее ласкает, к воздуху, которым она дышит, к земле, которой касаются ее ноги, к солнцу, что на нее сейчас смотрит, в то время как я… не видел ее целых два дня. Два дня!
Глубина чувства Виллемса немного смягчила сердце Олмейера, но он не подал виду и, картинно зевнув, пробормотал:
– Как ты мне надоел! Почему же ты пришел сюда, а не ищешь ее?
– Действительно, почему?
– Ты не знаешь, где ее искать? Вряд ли она где-то далеко. За последние две недели устье реки не покинуло ни одно местное судно.
– Да, она недалеко. И я знаю где. Она в кампонге Лакамбы.
Виллемс твердо посмотрел Олмейеру в глаза.
– Ну и ну! Паталоло мне о ней ничего не говорил. Странно, – задумчиво сказал Олмейер. – Ты что, испугался этой банды? – добавил он после короткой паузы.
– Я? Испугался?!
– Тогда что тебе, мой гордый друг, мешает пойти за ней туда? Переживаешь, как бы не потерять достоинство? – с насмешливой озабоченностью спросил Олмейер. – Какое благородство!
После недолгого молчания Виллемс сказал:
– Дурак ты. Дать бы тебе тумака.
– Ой, напугал, – презрительно бросил Олмейер. – Тебе силенок не хватит. От голода скоро свалишься.
– Я действительно не ел уже дня два, а может, и больше, – точно не помню. Наплевать. У меня в душе словно угли горят, – мрачно признался Виллемс. – Вот, гляди! – Он обнажил руку со свежими ранками. – Я кусал себя за руку, чтобы забыть, как больно жжет этот огонь! – Виллемс с силой ткнул себя кулаком в грудь, пошатнулся от собственного удара, упал в соседнее кресло и медленно опустил веки.
– Отвратительный фарс, – пренебрежительно сказал Олмейер. – И чего такого нашел в тебе отец? Пользы от тебя как от кучи мусора.
– Кто это говорит? Человек, продавший душу за пару гульденов, – утомленно пробормотал Виллемс, не поднимая век.
– Не за пару, – машинально огрызнулся Олмейер и растерянно запнулся, но тут же снова взял себя в руки. – Зато ты свои деньги пустил на ветер, бросил под ноги чертовой дикарке. Она уже превратила тебя в посмешище, а очень скоро и вовсе убьет – или своей любовью, или своей ненавистью. Ты тут упомянул гульдены. Видимо, имел в виду деньги Лингарда. Что бы и за какую бы цену я ни продал, ты последний человек, кому пристало хаять мою сделку. Мне-то ничего не грозит. Даже отец, капитан Лингард, теперь к тебе близко не подойдет. Ни на пушечный выстрел…
Все это Олмейер выпалил в запальчивости, одним махом, буравя Виллемса взглядом и тяжело пыхтя через нос от обиды. Виллемс твердо посмотрел на него, поднялся и решительно произнес:
– Олмейер, я хочу начать здесь свою торговлю.
Тот лишь пожал плечами.
– Да, и ты должен мне помочь. Мне нужен дом, товары для обмена и немножко денег. Я очень прошу.
– И это все? Может и этот пиджак тоже? – Олмейер расстегнул пуговицы. – А как насчет моего дома или сапог?
– В конце концов, это естественно, – продолжал Виллемс, не обращая на реплику Олмейера ни малейшего внимания, – естественно, что она желает положения, которое… Тогда я смог бы заткнуть рот старому проходимцу и…
Виллемс умолк, его лицо озарилось мягким светом мечтательного воодушевления, глаза закатились. Его исхудалая фигура и оборванное платье напоминали отшельника, узревшего перед собой видение блаженной славы, купленной ценой отказа от мирских соблазнов. Он сбился на пылкий шепот:
– Я забрал бы ее к себе, подальше от ее племени, для себя одного, под собственное влияние… вылепил бы… направил… души бы не чаял… отогрел… О-о, какое блаженство! А потом… потом мы уехали бы куда-нибудь далеко-далеко, где она никого не знает. Я стал бы там для нее всем миром. Всем миром!
Лицо Виллемса внезапно преобразилось. Рассеянный взгляд вдруг вновь обрел твердость.
– Я, разумеется, верну все до последнего цента, – заявил он деловым тоном, в котором зазвучали прежние уверенные нотки, прежняя вера в себя. – Все до последнего цента. В твои дела я не полезу. Я вытесню местных торговцев. У меня есть соображения, как это сделать, но пока это не важно. Капитан Лингард одобрит мой план – я уверен. Ведь речь идет всего лишь о кредите, и я не убегу. Ты ничем не рискуешь.
– Ах, капитан Лингард одобрит, говоришь? Он одоб… – Олмейер поперхнулся. Мысль, что Лингард мог оказать Виллемсу какую-то услугу, привела его в бешенство, лицо побагровело. Он захлебывался ругательствами.
Виллемс взирал на него с полным спокойствием.
– Уверяю, – мягко произнес он, – у меня есть все основания для такой просьбы.
– Да ты, черт возьми, просто наглец!
– Поверь мне, Олмейер, твое положение здесь не так уж надежно, как ты себе представляешь. Беспринципный соперник мог бы за год сломать тебе весь бизнес. Это означало бы крах. В отсутствие Лингарда кое-кто осмелел. Знаешь что? Я за последнее время много чего слышал. Мне тут всякое предлагали. Ты здесь совершенно один. Даже Паталоло…
– К черту Паталоло! Хозяин здесь я!
– Но разве ты не видишь…
– Да вижу, вижу. Осла, говорящего загадками, – вот что я вижу, – взорвался Олмейер. – В чем смысл твоих скрытых угроз? Ты не подумал, что я тоже кое-что знаю? Они интригуют не первый год, а воз и ныне там. Арабы ошиваются около этой реки много лет, а я по-прежнему на ней единственный торговец и хозяин. Ты пришел ко мне с объявлением войны? В таком случае тебе придется вести ее в одиночку. Я всех своих врагов знаю наперечет. Дать бы тебе по голове. Порох на выстрел жалко тратить. Тебя палкой мало пришибить – как змею.
Крики отца разбудили девочку, и она с громким плачем села на подушке. Олмейер подскочил к креслу, взял ребенка на руки, не глядя под ноги, повернулся, споткнулся о лежавшую на полу шляпу Виллемса и яростным пинком сбросил ее с крыльца.
– Убирайся! Вон отсюда!
Виллемс попытался что-то возразить, но Олмейер закричал на него:
– Уходи. Не видишь, ребенка напугал. Чучело огородное! Нет-нет, милая, – начал он успокаивать маленькую дочь. Виллемс тем временем медленно спускался по ступеням. – Нет, не плачь. Видишь, плохой дядя сейчас уйдет. Смотри! Он испугался твоего папы. Нехороший дядя, злой. Пусть никогда больше к нам не приходит. Пусть идет в свой лес, чтобы его рядом не было с моей маленькой девочкой. Если еще раз появится, папа его прибьет. Вот так!
Одной рукой прижимая к плечу успокоившегося ребенка, а другой грозя вслед удалявшемуся гостю, он стукнул кулаком по перилам, показывая, как расправится с Виллемсом.
– Видишь, как он драпает, милая? – сюсюкал Олмейер. – Правда, смешной? Крикни ему «свин». Крикни.
Серьезность на лице ребенка улетучилась, появились ямочки. Большие глаза под длинными ресницами с каплями недавних слез засверкали радостью. Девочка ухватилась за волосы Олмейера одной рукой, другой весело помахала и изо всех силенок чисто и отчетливо, как щебечут птицы, крикнула:
– Свин! Свин! Свин!
Глава 2
Вздохнула пылающая синева, пробежала рябь по спящему морю, из двери, распахнутой в ледяное пространство космоса, повеяло прохладой, и вместе с шевелением листвы, кивками веток, дрожью молодых побегов на берег налетел морской бриз, пронесся вверх по реке, подмел широкие плесы, взъерошил потемневшую воду, зашептал в кронах деревьев, зашуршал листьями проснувшегося леса. В кампонге Лакамбы ветер заставил ярко запылать едва тлеющие угли, поднимавшиеся над каждым костром тонкие прямые струйки дыма под его напором закачались, дрогнули и, клубясь, заполнили полумрак между деревьями ароматом горящих дров. Люди, дремавшие в тени во время послеобеденного зноя, проснулись, тишину большого двора нарушило неуверенное бормотание сонных голосов, кашель, зевки, разрозненный смех, громкие оклики, приветствия и шутки. Небольшие группы обступили маленькие костры, двор наполнился монотонным шумом разговоров. Варвары, настырные и неуступчивые, вели их на своем мягком, музыкальном наречии, вновь и вновь повторяя бесконечные истории о жителях лесов и морей, готовые день и ночь толковать на эту неисчерпаемую тему, находя все новые грани. Такие разговоры заменяли им поэзию, живопись и музыку, все искусство и всю историю, служили единственным предметом гордости, признаком собственного превосходства и единственным развлечением. У костров говорили о храбрости и хитрости, диковинных явлениях и далеких странах, о том, что было вчера и что будет завтра. О мертвых и живых, о тех, кто сражался и кто любил.
Потный, полусонный и хмурый, Лакамба вышел на помост перед своим домом и уселся в деревянное кресло под тенью нависающей крыши. Из темного дверного проема доносился тихий щебет женщин, хлопотавших у ткацкого станка, на котором изготовляли клетчатую ткань для праздничных саронгов хозяина. Справа и слева на пружинящем бамбуковом полу спали на циновках или сидя протирали глаза соратники Лакамбы, по праву рождения или благодаря верной службе получившие привилегию находиться в доме предводителя. Те, что окончательно проснулись, нашли в себе силы достать шахматные доски с фигурками из красной глины и теперь молча и сосредоточенно обдумывали очередной ход. Над лежавшими на животе увлеченными игроками, подпиравшими головы руками и болтавшими в воздухе босыми ступнями, тут и сям возвышались фигуры внимательных наблюдателей, следивших за игрой с бесстрастным и одновременно глубоким интересом. На краю помоста ровными рядами выстроились кожаные сандалии с высокими каблуками; у грубых деревянных перил стояли принадлежащие этим господам копья с тонкими древками, матовая сталь широких лезвий которых в красных лучах заката казалась совершенно черной.
Мальчик лет двенадцати, личный служка Лакамбы, сидя на корточках у ног господина, протянул ему серебряную шкатулку с бетелем. Лакамба неторопливо взял шкатулку, открыл, оторвал кусочек листа, положил в него щепоть куриной извести, крупицу гамбира, маленький орех катеху и ловко свернул лист в трубочку. Рука с угощением застыла в воздухе, как если бы он что-то вспомнил. Лакамба поводил головой, словно у него затекла шея, и раздраженным басом рявкнул:
– Бабалачи!
Шахматисты бросили на него быстрый взгляд и снова углубились в игру. Стоявшие беспокойно зашевелились, как если бы голос предводителя толкнул их в бок. Тот, что находился ближе всех от Лакамбы, немного погодя повторил его зов, высунувшись за перила площадки. Сидевшие у костров подняли лица, распевный клич облетел весь двор. Стук деревянных пестиков для очистки риса на минуту прекратился, имя Бабалачи в разных тональностях повторили визгливые голоса женщин. Кто-то что-то издали крикнул, другой человек, поближе, повторил. Перекличка дошла до помоста и резко оборвалась. Соратник Лакамбы, что первым передал его призыв, лениво сообщил:
– Он у слепого Омара.
Лакамба беззвучно пошевелил губами. Передавший ответ вновь углубился в наблюдение за игрой на полу. Предводитель, точно позабыв, чего хотел, флегматично сидел между своими молчаливыми спутниками, откинувшись на спинку кресла, положив руки на подлокотники и раздвинув колени. Большие, налитые кровью глаза важно моргали в царственном отсутствии мысли.
Бабалачи ушел к старому Омару в предвечерний час. Тонкая игра на давних обидах старого пирата, искусное управление стремительными порывами Аиссы настолько увлекли его, что оторвали ото всех других дел и заставили позабыть о ежедневных совещаниях со своим начальником и покровителем, а последние три ночи и вовсе не давали уснуть. В тот день, выходя из своей бамбуковой хижины в кампонге Лакамбы, он чувствовал в душе тяжесть, сомнения и тревогу за удачный исход заговора. Бабалачи шел медленно, с характерным безразличием к своему окружению, словно не замечая множества сонных глаз, следивших со всех сторон за его продвижением к маленькой калитке в верхней части двора. Калитка эта выходила на огороженный участок с довольно большим домом из досок, подготовленным для Омара и Аиссы по приказу Лакамбы. Такое жилище имело наивысший статус, и Лакамба хотел отдать его своему главному советнику, чьи способности, по его мнению, того заслуживали. Однако после разговора на заброшенной вырубке, когда Бабалачи раскрыл свой план, оба решили поселить в новом доме Омара с Аиссой, после того как их уговорят переехать от раджи или уведут силой, – это уж как получится. Бабалачи отнюдь не возражал подождать с собственным переездом в почетный дом, поскольку для его плана такой шаг имел много преимуществ. Дом стоял в стороне, его маленький двор через калитку на женской половине усадьбы Лакамбы соединялся с личным подворьем предводителя. Путь к реке вел через главный двор, где всегда было полно вооруженных людей и бдительных глаз. За постройками расстилались расчищенные от деревьев рисовые поля, окруженные девственным лесом с таким густым подлеском, что вглубь не могло проникнуть ничего, кроме пули, да и та далеко бы не улетела.
Бабалачи тихо проскользнул в маленькую калитку и плотно ее закрыл, накинув петлю из ротанга. Квадратная площадка перед домом была утрамбована до гладкости асфальта. Гигантское дерево с подпорками, нарочно оставленное во время вырубки леса, раскинуло в чистом небе купол-крону из узловатых сучьев и толстых, солидных листьев. Справа, на небольшом удалении от главного дома, стояла крытая циновками тростниковая хижина, специально построенная для удобства Омара. Слепому ослабевшему старику было трудно взбираться по крутой наклонной доске в настоящий дом на низких сваях с открытой верандой. У ствола дерева, напротив хижины, посреди широкого круга белого пепла семейного кострища тлела кучка углей. У костра на корточках сидела старуха, дальняя родственница одной из жен Лакамбы, выделенная в помощь Аиссе. Она подняла слезящиеся глаза и безучастно скользнула взглядом по быстро приближающемуся гостю.
Бабалачи окинул двор единственным глазом и, не глядя на старуху, пробурчал вопрос. Женщина молча вытянула чахлую, дрожащую руку и указала на хижину. Сделав несколько шагов в ее направлении, Бабалачи остановился.
– О, туан Омар! Омар бесар! Это я, Бабалачи!
Из хижины послышался слабый стон, натужный кашель и неотчетливое жалобное бормотание. Поощряемый этими слабыми признаками жизни Бабалачи вошел в хижину и вскоре с неуклюжей осторожностью вывел наружу слепого Омара. Старик обеими руками держался за плечи поводыря. Под деревом стояла грубо сколоченная скамья, старый пират со вздохом облегчения тяжело сел и устало прислонил спину к шершавому стволу. Лучи заходящего солнца, пробиваясь сквозь путаницу ветвей, падали на фигуру в белом балахоне, гордо откинутую голову, худые, не находившие себе места руки и бесстрастное лицо с опущенными на изуродованные зрачки веками – лицо, своей неподвижностью напоминавшее пожелтевшую от времени статую.
– Солнце скоро зайдет? – глухим голосом спросил Омар.
– Очень скоро, – ответил Бабалачи.
– Где я? Почему меня увезли из знакомого места, где я, слепец, мог двигаться без опаски? Для зрячего мое состояние подобно ночной тьме. Солнце вот-вот зайдет, а я не слышал звука ее шагов с самого утра! Меня сегодня дважды кормила чужая рука. Почему? Почему? Где Аисса?
– Недалеко, – ответил Бабалачи.
– А он? – продолжал Омар, угрожающе понизив голос. – Он где? Здесь его нет. Нет! – Старик покрутил головой по сторонам, словно действительно мог что-то видеть.
– Да, сейчас его здесь нет, – примирительно сказал Бабалачи и через мгновение тихо добавил: – Но он скоро вернется.
– Вернется! Каково лукавство! Вернется, говоришь? Я проклял его три раза, – воскликнул, дрожа от напряжения, Омар.
– Он, несомненно, проклят, – согласился Бабалачи, – и все же он скоро сюда явится. Я знаю!
– Неверный хитрец! Я вывел тебя в люди. Ты был грязью под моими ногами, хуже грязи, – выпалил Омар в закипающем гневе.
– Я много раз сражался бок о бок с тобой, – спокойно напомнил Бабалачи.
– Зачем он пришел? – продолжил Омар. – Это ты его подослал? Зачем он явился? Осквернить воздух, которым я дышу, насмеяться над моей участью, отравить разум дочери, похитить ее тело? Ее сердце сделалось каменным: твердым, безжалостным и коварным, как рифы, что губят корабли, скрываясь в спокойной воде. – Старик тяжело вздохнул, сотрясаемый гневом, и вдруг поник. – Я голодал, – заныл он, – не один раз сильно голодал, мерз, бедствовал, когда рядом не было ни души. Она часто обо мне забывала. Сыновья погибли, а тут еще этот негодяй, пес неверный. Зачем он пришел? Это ты показал ему дорогу?
– Дорогу он нашел сам, о вождь отважных, – печально ответил Бабалачи. – Я всего лишь увидел в нем средство, чтобы их уничтожить, а нас сделать великими. И если зрение меня не обмануло, тебе никогда больше не придется голодать. Для нас наступят мир, слава и богатство.
– И на другой день я помру, – горько посетовал Омар.
– Откуда нам знать? Такие вещи прописаны с самого начала мира, – задумчиво прошептал Бабалачи.
– Не позволяй ему вернуться! – воскликнул Омар.
– Он тоже не избежит судьбы, – продолжил Бабалачи. – Он вернется, и власть тех, кого ты и я всегда ненавидели, рассыплется в прах у нас в кулаке. – И с энтузиазмом добавил: – Они сцепятся и оба погибнут.
– Ты-то все это увидишь, а я…
– Верно! – сокрушенно пробормотал Бабалачи. – Для тебя жизнь – вечная тьма.
– Нет! Не тьма – пламя! – воскликнул старый араб, приподнявшись и снова рухнув на скамью. – Пламя последнего дня! Оно до сих пор стоит у меня перед глазами, это было последнее, что я увидел! И звук разрываемой земли, когда все они погибли, а я превратился в игрушку хитреца, – добавил он в новом приступе раздражения.
– Ты по-прежнему мой господин, – смиренно произнес Бабалачи. – Ты очень мудр и, как мудрец, должен поговорить с Сеидом Абдуллой, когда он сюда приедет. Поговори с ним, как советую тебе я, твой слуга, тот, кто многие годы был в битвах твоей правой рукой. Гонец сообщил, что Сеид Абдулла прибудет сегодня вечером или ночью, ибо такие вещи делаются тайно, чтобы белый, этот торговец на реке, ничего не узнал. Сеид приедет. В письме говорится, что Сеид Абдулла покинет свой корабль, стоящий на якоре у выхода из реки, сегодня в полдень. Волей Аллаха он будет здесь еще до рассвета.
Бабалачи говорил, потупив взгляд, и заметил присутствие Аиссы, только когда замолчал и поднял голову. Девушка подошла так тихо, что даже Омар не услышал ее шагов. Она стояла и смотрела на них с тревогой в глазах и приоткрыв рот, словно хотела что-то сказать, но, повинуясь жесту Бабалачи, промолчала. Омар погрузился в раздумья.
– Ай-ва! И все же! – воскликнул он слабым голосом. – Ты хочешь, чтобы я тебя послушал, о Бабалачи! Предложил Абдулле поверить белому! Никак не возьму в толк. Я стар, слеп и слаб. И я не понимаю. Мне очень холодно, – продолжил Омар вполголоса, беспокойно поводя плечами. Помолчав немного, он опять бессвязно забормотал тихим шепотом: – Они ведьмины дети, а их отец – Сатана, побитый камнями. Ведьмины дети. Ведьмины дети. – Замолчав на время, старик окрепшим голосом произнес: – Сколько здесь белых людей, о лукавый?
– Их двое. И они передерутся, – с жаром ответил Бабалачи.
– А сколько останется после них? Сколько? Скажи, премудрый.
– Гибель врага – утешение для несчастных, – напыщенно заявил Бабалачи. – Белые есть на всех морях, лишь разум Всевышнего ведает, каково их число. Тебе же важно знать, что некоторым из них не поздоровится.
– Скажи мне, Бабалачи, они умрут? Оба? – заволновался Омар.
Аисса пошевелилась. Бабалачи предупредительно вскинул руку и уверенно ответил, глядя девушке прямо в глаза:
– Несомненно умрут.
– Ай-ва! Побыстрее бы! Чтобы я успел потрогать их застывшие лица, когда Аллах заберет их души.
– Если так определит их и твоя судьба, – немедленно ответил Бабалачи. – Слава Аллаху!
Омар скорчился в сильнейшем приступе кашля, раскачиваясь, кряхтя и охая. Бабалачи и Аисса молча ждали. Наконец старик в изнеможении прислонился к дереву.
– Я один, один, – запричитал он, шаря в воздухе дрожащими руками. – Есть кто-нибудь рядом? Есть здесь кто-нибудь? Мне страшно в этом незнакомом месте.
– Я рядом с тобой, о вождь отважных, – трогая его за плечо, произнес Бабалачи. – С тобой, как прежде, когда мы оба были молоды и наши руки еще держали оружие.
– Разве было такое время, Бабалачи? – с напором спросил Омар. – Я уже не помню. Умру, и рядом не будет никого, ни одного бесстрашного человека, кто бы вспомнил отцовскую удаль. Одна женщина осталась! Женщина! И та променяла меня на неверного пса. Как тяжела десница Милосердного на моем темени! О, горе мне! Позор!
Немного успокоившись, он тихо спросил:
– Солнце уже зашло, Бабалачи?
– Оно сейчас не выше самого высокого дерева, которое я отсюда вижу.
– Настал час молитвы. – Омар попытался подняться.
Бабалачи почтительно помог старику встать, и они медленно двинулись к хижине. Омар подождал снаружи, пока Бабалачи вытащит старый арабский молитвенный коврик. Водой из бронзового сосуда он совершил омовение рук старика и осторожно помог ему опуститься на колени, потому что многоуважаемый разбойник больше не мог стоять на слабых ногах. Омар пропел начальные строки молитвы, сделал первый поклон в сторону Мекки, Бабалачи тем временем бесшумно подошел к Аиссе, которая так и не сдвинулась с места.
Женщина твердо посмотрела на одноглазого мудреца: тот приближался неспешно, с крайне почтительным видом, – и некоторое время они молча смотрели друг на друга. Бабалачи как будто смутился. Резким, неожиданным движением Аисса взяла его за рукав, а другой рукой указала на низкий красный диск солнца, тускло мерцавший в вечернем тумане.
– Третий закат! Последний! А его как не было, так и нет, – прошептала она. – Что ты натворил, неверный? Что ты натворил?
– Я сдержал свое слово, – угрюмо пробормотал Бабалачи. – Сегодня утром Буланги взял каноэ, чтобы его разыскать. Буланги хоть и чужой, но наш друг, так что присмотрит за ним, не привлекая внимания. В третьем часу дня я отправил еще одно каноэ с четырьмя гребцами. Воистину человек, о котором ты тоскуешь, о, дочь Омара, способен вернуться, если захочет.
– Но его здесь нет! Я вчера весь день прождала. И сегодня! Завтра сама пойду.
– Живой не пущу! – пробормотал себе под нос Бабалачи и громче добавил: – Ты сомневаешься в своих чарах? Ты, что для него прекраснее гурии на седьмом небе? Он твой раб.
– Рабы иногда тоже убегают, – мрачно заметила Аисса, – и тогда хозяину приходится их разыскивать.
– Чего ты хочешь? Жить и умереть нищей? – нетерпеливо спросил Бабалачи.
– Мне все равно, – воскликнула Аисса, заламывая руки. Черные зрачки широко открытых глаз метались туда-сюда, как ласточки перед грозой.
– Шш! – прошипел Бабалачи, оглядываясь на Омара. – Ты думаешь, дорогая моя, что твой отец готов жить в нищете – хотя бы и с тобой?
– Он велик! – запальчиво воскликнула она. – Он всех вас презирает! Всех! Он настоящий мужчина!
– Тебе лучше знать, – пробормотал Бабалачи, пряча улыбку. – Однако помни, женщина с твердым сердцем: чтобы его удержать, ты должна поступать с ним как океан с измученными жаждой моряками – непрерывно дразнить, доводить до безумия.
Бабалачи замолчал, и они стояли, уставившись в землю; слышно было только, как потрескивают угли в костре да нараспев славит Бога Омар. Это был и его Бог, и его вера. Бабалачи вдруг наклонил голову набок и внимательно прислушался к шуму голосов на большом дворе. Невнятный гул распался на отельные выкрики, затем вновь удалился, потом вернулся нарастая, чтобы резко прерваться. В коротких промежутках, как прилив, ворвавшийся в тихую гавань, пробегала волна пронзительных женских воплей. Аисса и Бабалачи вздрогнули, но он удержал женщину на месте, крепко схватив за руку, и прошептал:
– Подожди.
Калитка в палисаде, отделявшем владения предводителя от участка Омара, быстро распахнулась, и во двор с перекошенным лицом и короткой саблей в руке вбежал Лакамба. Чалма наполовину распустилась: свободный конец волочился по земле, куртка расстегнулась. Лакамба с трудом перевел дыхание, прежде чем заговорить.
– Он приплыл на лодке Буланги и подкрался ко мне совсем близко. Типичная для белых слепая ярость заставила его броситься на меня. Я мог серьезно пострадать, – выпалил благородный предводитель оскорбленным тоном. – Ты слышишь, Бабалачи? Пожиратель свинины пытался ударить меня в лицо своим нечистым кулаком. Чуть не опозорил перед домашними. Его сейчас держат шестеро человек.
Рассказ Лакамбы прервала новая волна криков. Злые голоса призывали:
– Держи его! Вали его наземь! Бей по голове!
Внезапно шум и гам прекратились, словно оборванные невидимой могущественной рукой. Прошла минута удивленного молчания, и послышался одинокий голос Виллемса, изрыгавшего проклятия на малайском, голландском и английском языках.
– Слышишь? – произнес Лакамба дрожащими губами. – Он возводит хулу на своего Бога. Его речь – лай бешеной собаки. Нам что теперь, все время его охранять? Его нужно прикончить!
– Дурак! – пробормотал Бабалачи, посмотрев на Аиссу, стоявшую рядом, сжимая челюсти, сверкая глазами и раздувая ноздри, но все еще послушную его хватке. – Сегодня третий день, я сдержал свое слово, – очень тихо добавил он. – Не забывай, веди себя с ним как океан с измученными жаждой! А теперь ступай. Ступай, о бесстрашная дочь!
Бабалачи разжал пальцы. Аисса с быстротой и бесшумностью стрелы метнулась к выходу со двора и пропала за калиткой. Лакамба и Бабалачи проводили ее взглядом. Снова послышалась возня, громкий женский голос приказал: «Отпустите его!» В наступившем промежутке тишины, продолжительностью не больше вздоха, имя Аиссы прозвучало так громко, исступленно и пронзительно, что все невольно вздрогнули. Старый Омар распластался на молельном коврике и слабо застонал. Лакамба глянул в сторону, откуда послышался нечеловеческий крик, с мрачным презрением. Бабалачи, однако, выдавив улыбку, подтолкнул своего заслуженного покровителя к калитке, вышел вслед за ним и быстро ее закрыл.
Старуха, все это время сидевшая у костра, встала, боязливо осмотрелась и спряталась за деревом. Калитка со стороны большого двора с треском распахнулась от удара ногой, вбежал Виллемс с Аиссой на руках и пронесся по участку как ураган, прижимая девушку к своей груди. Она обнимала его за шею, склонив голову на плечо, закрыв глаза и почти касаясь земли длинными волосами. Пара на мгновение мелькнула в свете костра, после чего Виллемс гигантскими скачками взбежал со своей ношей по сходням и скрылся в главном доме.
Снаружи в обоих дворах наступила полная тишина. Омар лежал, опершись на локоть, с испуганным лицом человека, которому приснился кошмар.
– Что происходит? Помогите! Помогите мне встать! – молил он слабым голосом.
Старая ведьма сидела за деревом и смотрела мутными глазами на вход в дом, не обращая внимания на призывы Омара ни малейшего внимания. Старик немного послушал, уставшая рука не выдержала, и он с тяжким сокрушенным вздохом повалился на коврик.
Легкий непостоянный ветер заставил ветви дерева кланяться и трепетать. Одинокий листок медленно спланировал вниз с самой макушки и неподвижно замер на земле, как если бы нашел вечный покой, однако вскоре зашевелился, неожиданно взлетел, завертелся, закружился, влекомый дыханием ароматного бриза, и беспомощно пропал в темноте спустившейся на землю ночи.
Глава 3
Абдулла шел по начертанному Господом пути уже сорок лет. Сын богатого магометанского купца Сеида Селима ибн-Сали покинул дом в возрасте семнадцати лет, отправившись в первое торговое плавание, замещая отца на борту корабля с набожными малайскими паломниками, снаряженного богатым арабом для путешествия к святым местам. В те дни моря в его краях еще не бороздили пароходы, а если бороздили, то не в таком количестве, как сегодня. Путешествие длилось долго и позволило юноше повидать много заморских чудес. Аллаху было угодно, чтобы он с младых лет странствовал по свету. Это была настоящая Божья милость, и редкий человек заслуживал и мог оправдать ее больше Абдуллы, хранившего в сердце неугасимую веру и скрупулезно исполнявшего все ее предписания. Со временем стало ясно, что книга судьбы уготовила ему жизнь непоседы. Он побывал в Бомбее и Калькутте, заглядывал в Персидский залив, увидел высокие бесплодные берега Суэцкого залива, но дальше на запад не заплывал. Когда Абдулле исполнилось двадцать семь лет, судьба распорядилась вернуть его в южные проливы, чтобы принять из рук умирающего отца бразды торговли, охватывавшей весь архипелаг от Суматры до Новой Гвинеи, от Батавии до Палавана.
Очень скоро способности, твердая до ослиного упрямства воля, не по годам острый ум снискали ему положение главы семейного клана, родством и связями охватывавшего каждый уголок здешних морей. Дядья, братья, тесть в Батавии, еще один в Палембанге, мужья многочисленных сестер, тьма двоюродных братьев, разбросанных по северу, югу, западу и востоку, – торговля кипела везде и повсюду. Великое семейство опутало архипелаг родственными узами, словно сетью, ссужало деньги местным князькам, влияло на вельмож и советников и со спокойной неустрашимостью отражало натиск, если того требовали обстоятельства, белого начальства, державшего земли в повиновении занесенным над головами острым мечом. Все они с почтением относились к Абдулле, прислушивались к его советам, участвовали в его начинаниях, потому что он был мудр, благочестив и удачлив.
Абдулла держался смиренно, как подобает человеку веры, ни на минуту не забывающему, что он слуга Всевышнего. Он был щедр, ибо щедрый человек – друг Аллаха, и, когда покидал свой каменный дом на окраине Пенанга и шел в порт к своему складу, нередко был вынужден отдергивать руку, которую стремились облобызать земляки и единоверцы. Ему часто приходилось бормотать слова упрека или даже резко осаждать тех, кто в порыве благодарности или с какой-нибудь челобитной пытался прикоснуться кончиками пальцев к его коленям. Абдулла был очень хорош собой и носил свою изящную голову высоко и со скромным достоинством. Открытый лоб, прямой нос, узкое темное лицо с тонкими чертами придавали ему аристократический вид, говоривший о чистоте происхождения. Бородка была аккуратно подстрижена и заканчивалась скругленным клинышком. Большие карие глаза смотрели твердо и благожелательно, что не вязалось с тонкими, плотно сжатыми губами. Он всегда был невозмутим. Ничто не могло поколебать его веру в удачу.
Непоседливый, как все его соотечественники, Абдулла редко задерживался в своем роскошном доме дольше нескольких дней. Владея многими кораблями, он частенько посещал на одном из них разные уголки обширного ареала своих деловых операций. У него имелось пристанище в каждом порту: либо свое, либо принадлежавшее родне, принимавшей его с картинным радушием. В каждом порту с ним желали встретиться богатые влиятельные люди, заключались сделки, лежали, дожидаясь его прибытия, письма – множество завернутых в шелк посланий, попадавших к нему окольным и в то же время надежным способом в обход неверных с их колониальными почтовыми конторами. Послания доставляли находы, молчаливые туземные капитаны, либо с глубоким почтением передавали из рук в руки грязные с дороги, усталые люди, которые, уходя, просили Аллаха благословить получателя письма за щедрое вознаграждение. Новости неизменно были хороши, все затеи завершались успехом, в ушах Абдуллы постоянно звучал хор восхищенных голосов, выражений благодарности, униженных просьб.
Чем не счастливчик? На долю Абдуллы выпало столько удачи, что джинны, нужным образом расположившие звезды на момент его рождения, не преминули – какой бы странной ни была утонченная доброта в столь примитивных существах – вложить ему в сердце трудноисполнимое желание и назначить в соперники упорного врага. Зависть к политическим и коммерческим успехам Лингарда и жажда превзойти его во всех отношениях превратились для Абдуллы в идею фикс, наиглавнейший интерес жизни, соль бытия.
Последние месяцы Абдулла получал из Самбира загадочные сообщения с призывами к решительным действиям. Он обнаружил реку еще несколько лет назад и не раз стоял на якоре напротив ее устья, того места, где быстрый Пантай замедлял ход и растекался по равнине, распадаясь, словно в задумчивости, на два десятка рукавов и устремляясь по лабиринтам литоралей, песчаным отмелям и рифам в раскрытые объятия моря. В саму реку он, однако, не отваживался заходить. Люди его племени хоть и были смелыми и предприимчивыми мореплавателями, не отличались штурманской сметкой. Абдулла боялся потерять корабль. Он не мог допустить, чтобы Раджа Лаут всюду болтал, как Абдулла ибн-Селим опростоволосился, словно обычный простолюдин, при попытке разгадать его тайну, поэтому арабский купец пока что слал неизвестным союзникам в Самбире обнадеживающие ответы и в спокойной уверенности за конечный результат выжидал подходящий момент.
Вот кого ждали в гости Лакамба и Бабалачи в первую ночь после возвращения Виллемса к Аиссе. Бабалачи три дня мучился сомнениями, не слишком ли далеко зашел, но теперь, почувствовав, что белый поселенец у него в руках, управлял подготовкой к визиту Абдуллы с облегчением и самодовольством. На полдороге между домом Лакамбы и рекой сложили кучу сушняка, чтобы поджечь ее факелом, как только Абдулла сойдет на берег. От этого места и до самого дома полукругом расставили низкие помосты из бамбука, завалив их коврами и подушками, собранными со всего подворья. Прием было решено устроить под открытым небом, чтобы показать, как много у Лакамбы людей. Приспешники предводителя в чистых белых одеждах, подпоясанные красными саронгами, с тесаками на боку и копьями в руках, расхаживали по кампонгу, сбивались в кучки и горячо обсуждали предстоящую церемонию.
По обе стороны от места высадки у самой воды ярко горели костры. Рядом с каждым из них лежала небольшая кучка факелов, обмазанных даммаровой смолой. Бабалачи ходил туда-сюда между кострами, делая частые остановки, и, повернув к реке лицо, прислушивался к звукам, доносившимся из темноты над водой. Луна спряталась, ночное небо над головой было чистым, однако, после того как вечерний бриз судорожно испустил дух, блестящую поверхность Пантая накрыли густые испарения, и туман цеплялся за берег, скрывая от наблюдателей середину реки.
Из дымки послышался крик, потом еще один, и, прежде чем Бабалачи успел ответить, к месту высадки стрелой подлетели два маленьких каноэ. Из лодок вышли двое постоянных жителей Самбира, Дауд Сахамин и Хамет Бахасун, которых послали тайно встретить Абдуллу. Поздоровавшись с Бабалачи, они направились через темный двор к дому. Небольшой переполох, вызванный их прибытием, вскоре улегся, потянулся еще один долгий час молчаливого ожидания. Бабалачи опять принялся расхаживать между кострами, тревога на его лице росла с каждой минутой.
Наконец со стороны реки послышался громкий оклик. По зову Бабалачи к берегу прибежали люди, схватили факелы, подожгли и замахали ими над головой, чтобы огонь как следует разгорелся. Дым, поднимаясь густыми клочковатыми клубами, повис багровым облаком над пламенем костров, освещавших двор и отражавшихся в реке, по которой приближались три длинные лодки со множеством гребцов. Гребцы дружно и без видимого усилия поднимали и опускали весла, несмотря на быстрое течение, удерживая маленькую флотилию на месте – точнехонько напротив точки причаливания. В самой длинной из лодок поднялся человек и крикнул:
– Сеид Абдулла ибн-Селим пожаловал!
Бабалачи официальным тоном громко отвечал:
– Аллах наполнил радостью наши сердца! Причаливайте к берегу!
Абдулла сошел первым, опершись на услужливо протянутую руку Бабалачи. В этот короткий момент они успели обменяться острыми взглядами и парой наскоро брошенных слов.
– Кто ты?
– Бабалачи, друг Омара, подопечного Лакамбы.
– Это ты писал?
– Писали с моих слов, о милосердный!
Абдулла с бесстрастной миной проследовал между двумя рядами людей с факелами и встретил Лакамбу у большого, разгорающегося костра. Они постояли с минуту, держась за руки и желая друг другу мира, затем Лакамба, не отпуская руки гостя, провел его вокруг костра к приготовленному для него месту. Абдуллу сопровождали два араба. Он, как и его спутники, был одет в свободного покроя белую хламиду из накрахмаленного муслина. До пояса она была застегнута на мелкие золотые пуговицы, узкие манжеты украшали золотые галуны. Бритую голову венчала сплетенная из травяных стеблей круглая шапочка, на голых ногах были чувяки из блестящей кожи, с правого запястья свисали тяжелые четки. Гость медленно опустился на почетное место и, сбросив чувяки, чинно поджал под себя ноги.
Импровизированный совет расположился широким полукругом. Наиболее удаленная от костра – примерно на десять ярдов – точка находилась ближе всего к подворью Лакамбы. Как только главные действующие лица расселись, веранда дома бесшумно наполнилась закутанными по самые глаза фигурами женщин. Столпившись у перил, они наблюдали за происходящим сверху и едва слышно шептались. Тем временем внизу между сидевшими бок о бок Лакамбой и Абдуллой некоторое время продолжался формальный обмен любезностями. Бабалачи скромно примостился у ног благодетеля прямо на земле, подстелив лишь тонкую циновку.
После здравиц наступила пауза. Абдулла обвел собравшихся вопросительным взглядом. Бабалачи, до этой поры сидевший очень тихо, погруженный в мысли, словно очнулся и заговорил мягким, вкрадчивым голосом. Он красочно описал основание Самбира, конфликт нынешнего правителя Паталоло с султаном Коти, возникшие из-за этого волнения, и восстание бугийских переселенцев под руководством Лакамбы. Время от времени говорящий поворачивался к внимательно слушавшим Сахамину и Бахасуну, словно в поисках поддержки, и те в один голос со сдерживаемой страстью отвечали: «Бетул! Бетул!».
Разгоряченный предметом повествования, Бабалачи перечислил действия Лингарда в критический период внутренних распрей. Малаец произносил свою речь, все еще не повышая голоса, но с растущим негодованием. Кто такой этот человек с буйным нравом, почему встал между ними и всем миром? Разве он здесь власть? Кто назначал его правителем? Он завладел умом Паталоло, ожесточил его сердце, подучил его говорить холодные слова, а теперь водит его рукой, разящей направо и налево. Этот неверный своим тяжелым, бесчувственным притеснением не дает продохнуть людям истинной веры. Они вынуждены торговать только с ним, принимать только те товары, что он позволит, и только на тех условиях, которые он одобрит. И каждый год устраивает поборы.
– Истинно! – хором воскликнули Сахамин и Бахасун.
Бабалачи бросил на них одобрительный взгляд и вновь повернулся к Абдулле.
– Прислушайтесь к этим людям, о защитник угнетенных! Что нам делать? Не торговать мы не можем, а другого партнера у нас нет.
Сахамин вскочил, сжимая посох, и заговорил, обращаясь к Абдулле, с витиеватой учтивостью, гневно потрясая правой рукой в такт своим словам:
– Все правда. Мы устали платить оброк белому человеку, сыну Раджи Лаута. Этому белому – да будет осквернена могила его матери! – мало того, что он всех нас держит в своем жестоком кулаке. Он толкает нас к верной гибели. Ведет торговлю с даяками, что живут в лесах, как обезьяны. Закупая у них гуттаперчу и ротанг, морит нас голодом. Всего два дня назад я пришел к нему и сказал: «Туан Олмейер (нам даже с этим другом Сатаны приходится быть вежливыми), у меня есть на продажу такие-то и такие-то товары, не хочешь ли их купить?» А он… эти белые понятия не имеют о вежливости… он ответил мне как рабу: «Дауд, тебе повезло (обратите внимание, о первый среди правоверных! Такими словами он мог меня сглазить) хоть что-то иметь в такое трудное время. Неси сюда побыстрее свой товар, я засчитаю его в уплату долга за прошлый год». И засмеялся, и эдак хлоп меня ладонью по плечу. Чтоб ему гореть в аду!
– Мы выступим против него, – твердо заявил молодой Бахасун. – Мы готовы сражаться, если нам помогут и кто-то нас возглавит. Туан Абдулла, не примкнете ли вы к нам?
Абдулла не торопился с ответом. Его губы шевелились в беззвучном шепоте, в пальцах сухо постукивали четки. Все в почтении замолчали.
– Я пойду с вами, если только мой корабль сможет войти в реку, – наконец торжественно произнес Абдулла.
– Сможет, – воскликнул Бабалачи. – Здесь есть один белый, кто…
– Я хочу сам поговорить с Омаром аль-Бадави и с этим белым, – перебил его Абдулла.
Бабалачи резко вскочил на ноги, все разом зашевелились. Женщины на веранде поспешили в дом, от державшейся на почтительном расстоянии толпы отделились несколько человек и прибежали бросить в костер новые охапки хвороста. Один из них по знаку Бабалачи подошел к нему и, выслушав распоряжение, исчез за маленькой калиткой, ведущей на участок Омара. Ожидая его возвращения, Лакамба, Абдулла и Бабалачи тихо беседовали. Сахамин сидел в стороне и, лениво двигая массивными челюстями, сонно жевал семя бетелевой пальмы. Бахасун, схватившись за рукоять короткой сабли, расхаживал туда-сюда на фоне костра с чрезвычайно воинственным и лихим видом, вызывая зависть и восхищение вассалов Лакамбы, стоявших или бесшумно бродивших в темноте по двору.
Посыльный вернулся и замер поодаль, ожидая, когда на него обратят внимание. Бабалачи поманил его к себе:
– Что он сказал?
– Он сказал, что Сеид Абдулла – желанный гость.
Лакамба что-то вполголоса передал Абдулле, внимавшему с глубоким интересом.
– Он сказал, что мы при необходимости сможем выставить до восьмидесяти человек на четырнадцати каноэ. Вот только пороха у нас нет.
– Хай! В бой вступать не придется, – перебил гонца Бабалачи. – Их напугает один звук вашего имени, а ваше появление и вовсе ввергнет в ужас.
– Порох тоже будет, – буркнул Абдулла, – если только корабль сможет войти в реку.
– У твердых сердцем и корабль будет цел, – сказал Бабалачи. – Давайте сейчас пойдем к Омару аль-Бадави и белому человеку – они здесь.
Тусклые глаза Лакамбы вдруг оживились.
– Будьте осторожны, туан Абдулла! – воскликнул он. – Будьте осторожны. Поведение этого нечистого белого безумца в высшей степени возмутительно. Он хотел ударить…
– Клянусь головой, вам ничего не грозит, о милосердный! – поспешил вмешаться Бабалачи.
Абдулла посмотрел сначала на одного, потом на другого, и на его серьезном лице впервые за вечер мелькнула тень улыбки. Он повернулся к Бабалачи и решительно потребовал:
– Идем.
– Сюда, о надежда наших сердец! – приговаривал Бабалачи с суетливым подобострастием. – Всего несколько шагов, и вы увидите и храброго Омара, и сильного, хитрого белого человека. Сюда.
Он подал знак Лакамбе остаться, а сам, почтительно поддерживая под локоть, направил Абдуллу к калитке в дальней части двора. Пока они медленно шли в сопровождении двух арабов, Бабалачи что-то быстро в полголоса говорил именитому гостю, который на него даже ни разу не взглянул, хотя, как видно, слушал с подкупающим вниманием. У самой калитки Бабалачи забежал вперед, положил на нее руку и остановился, обернувшись к Абдулле.
– Я их обоих вам покажу, – заговорил он. – Все, что я говорил о них, чистая правда. Когда заметил, как та, о ком рассказывал, сделала из него раба, сразу понял, что в моих руках он будет мягче мокрой глины. Поначалу, как водится у белых, он обругал меня дурными словами на своем языке. Потом, однако, прислушался к голосу той, кого любит, и заколебался. Он слишком долго колебался, много дней. Зная его повадки, я перевез Омара сюда вместе… с его хозяйством. Краснолицый бесновался три дня, как голодная пантера. Наконец сегодня вечером он пришел. Он угодил в капкан безжалостного сердца и теперь никуда не уйдет. Я держу его здесь. – Бабалачи похлопал по калитке ладонью.
– Это хорошо, – пробормотал Абдулла.
– Он проведет ваш корабль, а если приспичит, и в бой вступит. Пусть берет убийство на себя, если в этом будет нужда. Дайте ему оружие с коротким стволом, что стреляет много раз.
– Да будет на то воля Аллаха! – немного подумав, согласился Абдулла.
– А еще в таком деле нельзя скупиться, о первый среди щедрейших! – продолжал Бабалачи. – Белый человек жаден до денег, а та, что с ним… жадна до украшений.
– Их не обидят, – сказал Абдулла, – вот только… – Гость замолчал и потупился, поглаживая бородку.
Бабалачи, затаив дыхание и приоткрыв рот, с нетерпением ждал продолжения. Через некоторое время Абдулла заговорил скороговоркой, сбивчивым шепотом, из-за чего Бабалачи пришлось подставить ухо поближе:
– Да. Вот только Омар – сын дяди моего отца… все члены его семьи правоверные… а этот человек – неверный. Непотребно это… очень непотребно. Он не может прятаться в моей тени. Только не этот пес. Каюсь! Да простит меня Аллах! Как он будет жить у меня на глазах с женщиной нашей веры? Позор! Мерзость!
Закончив, Абдулла тяжко вздохнул и с сомнением спросил:
– Когда этот человек выполнит все, что мы от него хотим, что с ним делать?
Они стояли бок о бок, погруженные в мысли, скользя взглядом по двору. Ярко пылал большой костер, мазки света дрожали на земле у них под ногами, между темными ветками деревьев лениво извивались мерцающие кольца дыма. Лакамба вернулся на свое место и сел на подушки с понурым видом. Сахамин, опять вскочив, со смесью уважения и настойчивости что-то втолковывал предводителю. Люди, переглядываясь и делая скупые жесты, по двое-трое выходили из темноты на свет костра, медленно фланировали перед ним и вновь пропадали в темноте. Бахасун, горделиво откинув голову назад, сверкая украшениями, позументом и эфесом сабли, описывал круги вокруг костра, как планета вокруг Солнца. С невидимой реки потянуло сырой прохладой, отчего Абдулла и Бабалачи поежились и стряхнули с себя оцепенение раздумий.
– Открывай калитку и ступай первым, – сказал Абдулла. – Риска нет, говоришь?
– Клянусь жизнью, никакого! – ответил Бабалачи, снимая петлю из ротанга. – Он был спокоен и доволен, как если бы после многих дней жажды вдоволь напился воды.
Бабалачи настежь распахнул калитку, сделал несколько шагов в полумраке, но почему-то быстро вернулся обратно и прошептал:
– Он может нам еще пригодиться.
Абдулла, увидев, что тот вернулся, остановился.
– О, грехи тяжкие! О, соблазны! – с тихим вздохом вырвалось у араба. – Уповаю на Всевышнего. Неужели мне вечно придется кормить этого неверного?
– Не-ет, – прошелестел Бабалачи. – Не вечно! Только до тех пор, пока ему есть место в наших планах, о дары Аллаха приносящий! В нужное время вы отдадите приказ и…
Бабалачи придвинулся к Абдулле вплотную и осторожно дотронулся до уныло свисавшей руки с четками.
– Я ваш раб и покорный слуга, – пробормотал он внятным, вежливым тоном на ухо Абдулле. – После того как вы проявите свою мудрость до конца, возможно, найдется немножко яду, который никогда не подводит. Как знать?
Глава 4
Бабалачи проводил взглядом Абдуллу, нырнувшего через низкий узкий проем в темноту внутри хижины Омара, услышал обмен характерными приветствиями и вопрос почетного гостя: «Значит, слава аллаху, кроме слепоты вы ни на что больше не жалуетесь?» Наткнувшись на неодобрительный взгляд двух арабов-охранников, Бабалачи отошел, последовав их примеру, на достаточное расстояние, чтобы не подслушивать разговор. Он сделал это неохотно, хотя и понимал: то, что сейчас происходит в хижине, совершенно ему неподвластно. Побродив немного и не зная, чем себя занять, он лениво подошел к костру, который перенесли из-под дерева поближе к хижине с наветренной стороны от ее входа. Бабалачи присел на корточки и, как часто делал, в задумчивости стал играть горящими углями, но слишком углубился в мысли, обжег пальцы и, резко отдернув руку, замахал ею в воздухе. С его места был слышен приглушенный шум разговора, он узнавал голоса, но не мог разобрать отдельные слова. Абдулла говорил гулким тоном, поток его речи время от времени прерывали ворчливые восклицания, слабые стоны и жалобное хныканье старого пирата. Какая досада, что невозможно разобрать, о чем они там говорят, подумал Бабалачи, неподвижным взглядом созерцая тлеющие угли. Нет, все будет хорошо. На араба можно положиться. Он оказался именно таким, каким его себе представлял Бабалачи. С первого же момента, как только увидел Абдуллу, старый воин больше не сомневался, что этот человек, о ком он знал только понаслышке, весьма решителен. Даже чересчур. Потом, чего доброго, потребует слишком большую долю. По лицу Бабалачи пробежала тень. На пороге исполнения заветных желаний к сладости успеха всегда примешивалась горькая капля сомнений.
Заслышав шаги на веранде большого дома, Бабалачи поднял голову, тень задумчивости на его лице улетучилась, и оно приобрело выражение зоркой настороженности. По наклонной доске во двор спускался Виллемс. Свет внутри дома проникал наружу через щели между неплотно пригнанными досками, и в освещенном дверном проеме появился силуэт Аиссы. Она тоже спустилась в ночь за порогом и растворилась в темноте. Бабалачи, гадая, куда она могла пойти, на минуту забыл о Виллемсе. Когда грубый голос европейца раздался прямо у него над головой, Бабалачи подскочил от неожиданности, словно подброшенный кверху мощной пружиной.
– Где Абдулла?
Бабалачи махнул рукой на хижину и внимательно прислушался. Умолкнувшие было голоса возобновили беседу. Он искоса глянул на Виллемса, чьи нечеткие очертания маячили в слабом мерцании затухающих углей.
– Разожги костер, – отрывисто сказал тот. – Я хочу видеть твое лицо.
Бабалачи послушно подкинул на угли сухого хвороста из приготовленной кучи, при этом не спуская глаз с европейца. Выпрямляясь, он невольно тронул рукоять криса, спрятанного на левом боку в складках саронга, стараясь в то же время сохранять беспечный вид под злым взглядом Виллемса.
– Ты в добром здравии, да славится аллах? – пробормотал малаец.
– Да! – неожиданно громко гаркнул Виллемс, отчего Бабалачи нервно вздрогнул. – Да! Здоров! Ты…
Он обошел вокруг костра и обеими руками схватил малайца за плечи. Бабалачи позволил раз-другой встряхнуть себя, сохраняя на лице все то же безмятежное выражение, с которым мечтательно смотрел на угли. Злобно тряхнув его напоследок еще раз, Виллемс неожиданно разжал пальцы и, отвернувшись, вытянул руки над костром. Бабалачи попятился, чтобы не потерять равновесие, выпрямился и расправил плечи.
– Ай-я-яй, – с упреком поцокал он языком и, немного помолчав, с подчеркнутым восхищением добавил: – Какой мужчина! Какой сильный мужчина! Такой горы свернет! Горы! – закончил он с благоговейным трепетом.
Задержав взгляд на широкой спине Виллемса, он сказал ей, заговорщицки понизив голос:
– За что ты на меня сердишься? На меня, кто желает тебе блага? Разве я не приютил ее в своем доме? Да, туан! Это мой дом. Я отдам его тебе, не требуя какой-либо мзды, потому что ей нужна крыша над головой. Вы оба можете здесь жить. Кому дано угадать, о чем думает женщина? И какая женщина! Если она решила покинуть свое прежнее место, кто я такой, чтобы ей запрещать? Я всего лишь слуга Омара. Вот я и сказал: «Возьми мой дом, наполни радостью мое сердце». Разве я неправильно поступил?
– Я вот тебе что скажу, – ответил Виллемс, не оборачиваясь. – Если ей вздумается покинуть и это место, то ответишь за это ты. Я сверну тебе шею.
– Когда сердце переполняет любовь, в нем не остается места для справедливости, – посетовал Бабалачи с прежним непоколебимым добродушием в голосе. – Зачем меня убивать? Ведь ты знаешь, туан, чего она хочет. Блестящего будущего, чего хотят все женщины. Тебя обидели и прогнали твои люди. Она это знает. Но ты храбр, ты силен, ты мужчина, и – я старше и вижу – она прибрала тебя к рукам. Таков удел сильных. К тому же она из знатной семьи и не может жить как рабыня. Ты познал ее, и теперь у нее в руках, как птица, попавшая в ловушку из-за своей силы. Поверь бывалому человеку: покорись, туан! Покорись! Не то…
Бабалачи многозначительно замолчал. Все еще по очереди грея ладони над огнем, не поворачивая головы, Виллемс грустно усмехнулся и спросил:
– Не то что?
– Она снова уйдет. Как знать? – закончил Бабалачи мягким вкрадчивым тоном.
На этот раз Виллемс резко обернулся. Бабалачи попятился назад.
– Если она уйдет, тебе же будет хуже, – пригрозил Виллемс. – Значит, это ты ее надоумил, и я…
Бабалачи откликнулся, стоя вне освещенной зоны, с нотками спокойного высокомерия:
– Хайя! Я все это уже слышал. Если она уйдет, ты меня убьешь. Хорошо! Разве это вернет ее, туан? Если я кого надоумлю, то сделаю это как следует, о белый человек! И как знать: возможно, ты ее больше никогда в жизни не увидишь.
Виллемс охнул и отшатнулся, точно опытный путешественник, идущий по тропе, которую полагал надежной, и вдруг чуть не упавший в неожиданно открывшуюся под ногами бездонную пропасть. Бабалачи снова ступил в освещенный круг и зашел слева, откинув и немного наклонив голову набок, чтобы лучше рассмотреть единственным глазом выражение на лице высокого белого человека.
– Ты мне угрожаешь, – пробурчал Виллемс.
– Я, туан? – вскричал Бабалачи с легким налетом иронии и показным удивлением в голосе. – Я, туан?! Кто здесь говорит о смерти? Я? Нет! Я веду речь исключительно о жизни. О долгой жизни одинокого мужчины!
Они стояли по разные стороны костра, молча и хорошо понимая важность настоящего момента. Фатализм Бабалачи мало повлиял на тревогу в его душе, потому как никакой фатализм не мог вытеснить мысли о будущем, жажду успеха и боль ожидания того момента, когда неисповедимые предначертания Неба проявят себя в полной мере. Фатализм есть порождение страха неудачи, ибо все мы полагаем, что держим удачу в своих руках, вот только руки эти не всегда надежны. Бабалачи смерил Виллемса взглядом и мысленно поздравил себя с победой. Он получил в его лице лоцмана для Абдуллы и жертву, которую можно бросить Лингарду в случае любой осечки. Уж он постарается, чтобы Виллемс у всех был на глазах. В любом случае белые должны передраться между собой. Дурачье. Как он их ненавидел! Они, конечно, глупцы, но за ними стояла сила. Ненавидя, он, однако, не сомневался, что его праведность и мудрость неизбежно одержат верх.
Виллемс же угрюмо пытался измерить глубину своего падения. Он, белый человек, предмет восхищения своих соотечественников, находился в плену у жалких дикарей, чьим орудием согласился стать. Он презирал их с вершины своей расы, моральных устоев, ума и смотрел на себя с жалостью и огорчением. Да, он у нее в руках. Ему доводилось слышать о подобных вещах. О женщинах, которые… Виллемс никогда не верил таким россказням. А оказывается, все это правда. Хуже того, его собственная неволя представлялась ему еще более полной, ужасной и окончательной – без малейшей надежды на освобождение. Виллемса изумляло коварство Провидения, превратившего его в того, кем он стал, и – что еще прискорбнее – позволявшего жить на свете таким тварям, как Олмейер. Виллемс честно выполнил свой долг, обратившись к напарнику за помощью. Почему Олмейер ничего не понял? Кругом одни дураки. Виллемс дал ему шанс. А этот тупица его профукал. Виллемс был слишком жесток к самому себе. Желая забрать девушку из племени, пошел на унижение перед Олмейером. Закончив ревизию своей души, он с замирающим сердцем понял, что не сможет жить без Аиссы. Какое ужасное и сладкое чувство. Он помнил их первые встречи, ее наряд, лицо, улыбку, ресницы, слова. Женщина-варвар! И все же он не мог думать ни о чем другом, кроме трех дней разлуки и нескольких часов, проведенных вместе после новой встречи. Ну хорошо. Если нельзя забрать ее отсюда, он пойдет к ней и… На миг его охватило порочное удовлетворение от того, что содеянного больше не исправить. Он отрекся от себя и гордился этим. Был готов к чему угодно, пойти на любое дело. Ему было наплевать на всё и на всех. Виллемс принимал это чувство за бесстрашие, но в действительности был просто одурманен – одурманен ядом пылких воспоминаний.
Он поводил руками над огнем, осмотрелся вокруг и позвал:
– Аисса!
Женщина, видимо, стояла где-то рядом, потому что тотчас же появилась в свете костра. Ее торс был закутан в плотный хиджаб, надвинутый до самых бровей, один конец был переброшен через плечо и прикрывал нижнюю часть лица. Виднелись одни лишь глаза – колючие и блестящие, как ночные звезды.
Виллемс при виде причудливой закутанной фигуры ощутил раздражение, смущение и растерянность. Бывшему личному секретарю богатого Хедига подобало руководствоваться проверенными принципами респектабельности. Он попытался укрыться от тоски мангровых зарослей, лесного мрака и языческого духа дикарей, державших его в плену, за собственными представлениями о приличиях. Да ведь она похожа на живой тюк дешевой хлопковой ткани! Эта мысль привела его в неистовство. Аисса напялила на себя этот мешок, потому что рядом находился мужчина из ее племени! Виллемс говорил ей, чтобы она этого не делала, но она не послушалась. Неужели теперь придется перенимать ее представления о приличиях и достоинстве? Его по-настоящему пугало, что так оно со временем и случится. Какой ужас. Она ни за что не переменится! Эта демонстрация ее собственного понимания приличий в очередной раз обнажила зияющую между ними непреодолимую пропасть, а для Виллемса стала еще одним шагом, ведущим под уклон. Он слишком цивилизован для нее! В голове мелькнуло, что между ними не было ничего общего – ни единой мысли, ни единого чувства, он не мог объяснить ей мотивы ни одного своего поступка и… был не в силах без нее жить.
Храбрый мужчина, стоявший перед Бабалачи, вдруг то ли охнул, то ли застонал. Этот маленький акт непокорности его воле ощущался как предзнаменование грядущей беды. Он еще больше усилил презрение Виллемса к самому себе как заложнику страсти, которых он всегда прежде высмеивал, человеку, не способному навязать свою волю. Сила духа, все реакции органов чувств, вся его личность тонула в бездонной страсти, в обещании несравненной услады, исходившем от этой женщины. Он, конечно, не мог четко уяснить источник подобного наваждения, но сам факт мучений не так-то легко не заметить, не так-то легко избежать борьбы противоречивых побуждений внутри себя. Невежественные люди, возможно, страдают от них не меньше мудрецов, однако первым доставляемые внутренней борьбой мучения и поражения, к которым они приводят, кажутся странным, загадочным, несправедливым, но поправимым явлением. Глядя на Аиссу, Виллемс всматривался в самого себя. Его с макушки до пят сотрясала дрожь ярости, как от удара по лицу. И тут он вдруг расхохотался, но смех его напоминал искаженный отголосок далекого неискреннего веселья.
Бабалачи по другую сторону костра торопливо пробормотал:
– Туан Абдулла идет.
Глава 5
Абдулла приметил Виллемса еще с порога хижины. Он, конечно, ожидал увидеть белого, но не хорошо знакомого ему человека. Любой, кто занимался на островах торговлей и вступал в какие-либо сделки с Хедигом, сталкивался с Виллемсом. Последние два года в Макасаре личный секретарь Хедига заведовал всеми местными операциями фирмы: хозяин очень мало его контролировал, поэтому и Абдулла в числе прочих знал Виллемса, хотя и не слышал о связанном с ним скандале. Вообще-то эту историю держали в такой строгой тайне, что многие в Макасаре ожидали возвращения Виллемса, полагая, что он на время отлучился по какому-то секретному заданию. Абдулла в изумлении застыл на пороге. Он рассчитывал увидеть какого-нибудь моряка, бывшего члена команды Лингарда, человека простого звания, возможно несговорчивого, но никак не равного ему по статусу. Вместо этого перед ним стоял хорошо известный своей пронырливостью делец. Как он здесь очутился? И почему? Абдулла, поборов удивление, но не отрывая от Виллемса глаз, чинно подошел к костру. Остановившись в двух шагах перед ним, араб поднял руку в сдержанном приветствии. Виллемс слегка поклонился и, немного выждав, с налетом безразличия сказал:
– Мы знакомы, туан Абдулла.
– Нам доводилось заключать сделки, – важно ответил Абдулла, – но это было далеко отсюда.
– Мы и здесь можем заключить сделку.
– Место не имеет значения. В делах важны непредвзятый ум и честное сердце.
– Совершенно верно. Мои ум и сердце открыты. Я объясню, почему я здесь.
– Зачем? Если сидеть дома, много о жизни не узнаешь. Отправляйся в путешествие! Осилившего дорогу ждет победа! И возвратись домой умудренным.
– Я не вернусь, – перебил его Виллемс. – Я порвал со своими. У меня не осталось братьев. Неправедному никто не поверит.
Абдулла дал волю удивлению, вскинув брови, и одновременно он сделал неопределенный жест, который можно было принять за выражение согласия и расположения: мол, ничего не поделаешь.
До этого времени Абдулла не обращал внимания на стоявшую у костра Аиссу, но женщина, воспользовавшись наступившей после заявления Виллемса паузой, сама заговорила. Глухим из-за прикрывавшей рот ткани голосом она многословно приветствовала важного гостя, назвав его соплеменником. Абдулла бросил на нее секундный взгляд и, как подобает воспитанному, благородному человеку, тут же опустил глаза. Аисса протянула обернутую концом хиджаба руку, Абдулла принял ее, дважды пожал и, отпустив, повернулся к Виллемсу. Женщина внимательно посмотрела на мужчин и, отступив назад, буквально растворилась в темноте.
– Я знаю, зачем ты приехал, туан Абдулла, – сказал Виллемс. – Мне этот человек рассказал. – Он кивнул в сторону Бабалачи и продолжал: – Это нелегкая задача.
– Аллах не ведает преград, – держась поодаль, елейно вставил Бабалачи.
Оба быстро повернулись к нему с задумчивым видом, будто мысленно взвешивая истинность заявления. Под их тяжелым взглядом Бабалачи ощутил нехарактерную робость и не отважился подойти ближе. Наконец Виллемс пошевелился, Абдулла быстро отреагировал, оба пошли рядом по двору. Их голоса затихли в темноте, однако вскоре послышались снова, и две фигуры выплыли из мрака. У костра они сделали разворот, Бабалачи успел перехватить только обрывки разговора. Виллемс объяснял:
– Я еще мальчишкой много лет ходил с ним в море, и на этот раз воспользовался своими навыками, чтобы запомнить речной фарватер.
– Богатство знаний дает надежность, – ответил Абдулла, после чего собеседники опять удалились.
Бабалачи отбежал к дереву и занял место в кромешной темноте, прислонившись к стволу. Это место находилось ровно посредине пути между костром и дальней точкой, где собеседники поворачивали обратно. Они прошли совсем рядом. Худой, прямой как палка Абдулла, высоко подняв голову, держал руки перед собой и машинально перебирал четки. Высокий широкоплечий Виллемс выглядел крупнее и массивнее легкой фигуры в белом, рядом с которой он шел, небрежно отмеряя один шаг вместо двух собеседника. Руки Виллемса находились в непрестанном движении, он горячо жестикулировал и то и дело, наклоняясь, заглядывал в лицо Абдуллы.
Они прошли мимо Бабалачи туда-сюда раз шесть – малаец мог отчетливо наблюдать за ними в свете костра. Иногда они останавливались: Виллемс что-то с жаром доказывал, Абдулла внимательно слушал, а когда говорящий замолкал, слегка наклонял голову, словно принимая вызов или соглашаясь с утверждением. Время от времени до Бабалачи доносились отдельные слова, обрывок фразы, громкое восклицание. Снедаемый любопытством, он подполз к самой границе отбрасываемой деревом черной тени. Они опять приближались. Виллемс говорил:
– Деньги я должен получить сразу, как только поднимусь на борт. Это обязательное условие.
Ответа Абдуллы Бабалачи не расслышал. Проходя мимо очередной раз, Виллемс сказал:
– Моя жизнь и без того в твоих руках. Пусть лодка, доставившая меня на твой корабль, отвезет деньги Омару. Они должны лежать наготове в опечатанной сумке.
Собеседники опять отошли, но на этот раз остановились у костра, повернувшись друг к другу лицом. Виллемс воздел руку вверх, непрерывно что-то говоря, потом резко опустил их и топнул ногой. На мгновение обе фигуры замерли. Губы Абдуллы едва заметно пошевелились. Внезапно Виллемс схватил пассивно свисавшую руку араба и крепко пожал. Бабалачи с облегчением вздохнул. Переговоры закончились. И, очевидно, успешно.
Он отважился покинуть свое укрытие. Пара молча подождала, пока он приблизится. Виллемс успел погрузиться в себя и принять мрачно-безразличный вид. Абдулла отступил от него на пару шагов. Бабалачи вопросительно взглянул на гостя.
– Мне пора, – сказал Абдулла. – Я буду ждать тебя напротив устья реки, туан Виллемс, до второго заката солнца. Следующее слово за тобой.
– Слово за мной, – подтвердил Виллемс.
Абдулла и Бабалачи вместе пересекли участок, оставив европейца у костра. Двое арабов, сопровождавших гостя, обогнали их и первыми вышли за калитку на освещенный внутренний двор, где тихо рокотали голоса. Абдулла и Бабалачи задержались по эту сторону.
– Все хорошо. Мы поговорили о многих вещах. Он согласен, – сказал араб.
– Когда? – жадно спросил Бабалачи.
– Послезавтра. Я многое пообещал и намерен сдержать слово.
– Ваша щедрость не знает предела, о благороднейший среди правоверных! Вы же не забудете почтенного слугу, пригласившего вас сюда? Разве я говорил неправду? Эта женщина сделала из его сердца люля-кебаб.
Одним движением руки Абдулла, как веером, отмахнулся от его слов и медленно, с нажимом произнес:
– Он должен оставаться в полной безопасности, понял? В полной безопасности, как среди своих, до тех пор, пока…
– Пока что? – шепотом спросил Бабалачи.
– Пока я не скажу. А что касается Омара… – Абдулла немного помедлил и до предела понизил голос: – Он очень стар.
– Хайя! Стар и хвор, – живо переменив тон на грустный, ответил Бабалачи.
– Омар хочет, чтобы я убил белого человека. Просил меня убить его, не сходя с места, – презрительно процедил Абдулла, делая шаг к калитке.
– Он нетерпелив, как любой, кто чует приближение смерти, – заметил Бабалачи, оправдывая старика.
– Омар будет жить у меня, пока… – продолжал Абдулла. – А-а, ладно. Главное, помни: белого никому не трогать.
– Он живет в тени вашего величия, – торжественно ответил Бабалачи. – Этого достаточно!
Коснувшись пальцами лба, Бабалачи пропустил гостя вперед.
Они возвратились во двор. При их появлении апатия немедленно улетучилась, все вновь ожили. Лакамба выступил навстречу, Бабалачи успокоил его уверенным кивком. Лакамба вымученно улыбнулся и, глядя с привычной неискоренимой угрюмостью из-под насупленных бровей на человека, кому намеревался оказать честь, спросил, не соизволит ли он разделить с ними трапезу или, может, отдохнуть. Дом и все, что в нем есть, в его распоряжении, как и множество людей, стоявших поодаль и наблюдавших за их беседой.
Сеид Абдулла прижал руку хозяина к своей груди и доверительным шепотом сообщил, что придерживается аскетических привычек и что его нрав не расположен к веселью. Не надо еды, не надо отдыха, нет нужды и в хозяйских людях. Сеид Абдулла желает побыстрее уехать. Лакамба опечален, но несмотря на свой неуверенный, унылый вид сохраняет вежливость. Туану Абдулле, чтобы сократить утомительную дорогу в ночной темноте, понадобятся свежие гребцы, и немало.
– Хайя! Ко мне! Готовьте лодки!
На берегу шумно и беспорядочно начинают суетиться неясные силуэты. Сыплются крики, приказы, прибаутки, ругань. Горят факелы, давая больше дыма, чем света, из красного тумана появляется Бабалачи доложить, что лодки готовы.
В своем белом одеянии Сеид Абдулла скользит сквозь розовое марево подобно фантастическому существу, призраку благородного звания, которого сопровождают два духа поменьше рангом. Он на минуту задерживается в месте высадки, чтобы попрощаться с хозяином и союзником, который ему понравился. Абдулла во всеуслышание заявляет это вслух и занимает место в середине лодки под голубым ситцевым балдахином, натянутым на четыре палки. Гребцы, сидящие вдоль бортов впереди и за спиной Абдуллы, держат весла на весу в готовности погрузить их в воду. Можно ехать? Нет, рано. Минуточку! Сеид Абдулла желает еще что-то сказать. Лакамба и Бабалачи стоят рядом на берегу, ловят каждое слово. Услышанное их обнадеживает. Они увидятся еще до того, как солнце взойдет во второй раз, когда корабль Абдуллы – наконец-то! – войдет в речные воды. Лакамба и Бабалачи уверены, что так и случится (да будет на то воля Аллаха! Все в руках Милосердного). Какие тут могут быть сомнения? Не сомневается Сеид Абдулла, великий купец, кому неведом смысл слова «провал». Не сомневается и белый человек, самый хитрый делец архипелага, который сейчас лежит перед костром Омара, положив голову на колени Аиссы, в то время как лодка с Абдуллой несется по мутной от ила реке между мрачными стенами спящего леса навстречу чистому открытому морю, где в ожидании хозяина под красными скалами Танджонг-Мирры качается на якоре в капризных волнах приливов и отливов «Властелин островов» (некогда числившийся в шотландском Гриноке, но списанный, проданный и вновь зарегистрированный в Пенанге).
Лакамба, Сахамин и Бахасун еще некоторое время молча смотрят в сырую тьму, проглотившую большое каноэ с неизменно везучим Абдуллой. После этого два гостя пускаются в разговоры о радостных ожиданиях. Почтенный Сахамин, как и подобает его преклонному возрасту, находит удовольствие в фантазиях о том, чем займется в далеком будущем. Накупит проа, будет делать вылазки вверх по реке, расширит торговлю и с помощью капиталов Абдуллы за несколько лет разбогатеет. Всего за пару лет – не больше. Тем временем неплохо бы завтра же прощупать Олмейера и, пользуясь последними днями благосостояния ненавистного дельца, выпросить у него кое-какие товары в кредит. Сахамин делает ставку на изощренную лесть. В конце концов, этот сын шайтана глуп, шкура стоит выделки, потому что восстание спишет все долги.
Возвращаясь с берега во двор, Сахамин, старчески хихикая, не преминул поделиться своей мыслью со спутниками. Шедший между ними Лакамба, нагнув голову, как бык, и выпятив губы, молча шаркал ногами и слушал без тени улыбки, без искры в тусклых, налитых кровью глазах. Бахасун со свойственным молодости задором прервал болтовню старика. Торговля, конечно, дело хорошее. Но разве перемена, которой они так радуются, уже совершилась? У белого нечестивца надо все отобрать силой! Бахасун разгорячился, раскричался, его монолог, подкрепленный хватанием за эфес сабли, сбивчиво вращался вокруг таких героических тем, как перерезание глоток, поджоги и память о доблести предков.
Бабалачи отстал, оставшись наедине с грандиозностью своих замыслов. Проницательный самбирский интриган бросил презрительный взгляд вслед уходящему покровителю и его благородным друзьям и задумался о будущем, в котором были так уверены другие. Бабалачи не разделял их самонадеянность, его ум мстил смутным предчувствием, не дававшим по ночам спать уставшему телу. Решив наконец покинуть берег реки, Бабалачи выбрал путь вдоль изгороди, избегая середины двора, где мерцали и подмигивали огоньки небольших костров, как будто сама земля отражала пронизывавший мрачную темноту свет звезд, падавший с безоблачного неба. Бабалачи прокрался мимо калитки, ведущей на участок Омара, и осторожно дошел вдоль легкой ограды из бамбука до угла, где она упиралась в высокий частокол, окружавший личные владения Лакамбы. С этого места Бабалачи мог наблюдать поверх ограды за хижиной Омара и костром перед ее порогом. В рдеющем свете костра маячили две человеческие фигуры – мужская и женская. Их вид вызвал у измученного тревогами малайца шальное желание запеть. Песней это было трудно назвать, скорее речитативом безо всякого ритма, который Бабалачи быстро, но отчетливо произносил хриплым непослушным голосом. Свою песню-монолог он запел не для развлечения, так что в художественном плане она оставляла желать лучшего. Ее отличали все характерные пороки неумелой импровизации, а тема и вовсе вызывала содрогание. В ней говорилось о кораблекрушении, жажде, о брате, убивающем брата за глоток воды. Отвратительная история, возможно, вполне реальная, однако лишенная какой-либо морали. И все же песня, по-видимому, чем-то нравилась Бабалачи, потому что он повторил ее дважды, второй раз даже громче первого, вызвав переполох среди белых рисовок и диких голубей, сидевших в ветвях большого дерева на участке Омара. В густой кроне над головой поющего недоуменно захлопали крылья, послышались сонные реплики на птичьем языке, затрепетали листья, силуэты у костра зашевелились. Женская фигура переменила позу, и Бабалачи прервал пение тихим настойчивым покашливанием. Он не решился возобновить свое выступление и потихоньку ушел, чтобы найти если не сон, то хотя бы покой.
