Читать онлайн Терра бесплатно
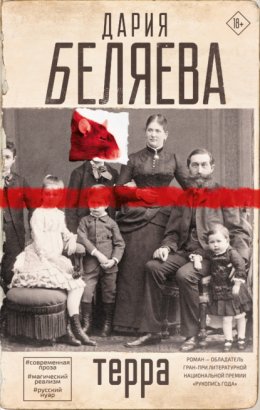
© Дария Беляева, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024
Часть I. Был маленьким
Глава 1. Зубки да косточки
А когда мамка умерла, мы с отцом ее и съели, чтобы навсегда нашей была. Я когда маленький был и дядя Коля вот умер, головой, в общем, ударился, напившись водки, – папашка с мамкой его тоже ели, а передо мной положили здоровенный кусок торта «Прага», но запах абрикосового джема и шоколада ничего не отбил.
И вот папашка говорил такое:
– Мы делаем это, чтобы они никогда не покинули нас.
Когда дядя Коля кончился, мне, значит, было четыре года. Папашка посадил меня на колени, закурил и стал рассказывать про атомы, про то, что они с мамкой чего-то там будут состоять из дяди Коли вроде, он их никогда не покинет.
Я рассматривал красные сосуды у папы в белках и думал, что у него с дядей Колей были одинаковые светлые глаза. А у меня – черные, как у мамки. Я сидел у него на коленях неподвижно, смотрел на него и вдыхал запах сырого подпорченного мяса, все еще доносившийся у него изо рта.
– А почему у Лиды бабка умерла? Вот у ней бабка умерла, и ее на кладбище зарыли.
Папашка хрипло рассмеялся.
– Кого, Лиду?
– Нет, бабку ее.
Говорить я научился рано и ладно, это всем взрослым нравилось. Даже отцу. Он смотрел на меня своими светлыми глазами, зрачки его были как дыры в мироздании, такие зрачки, узкие-тонкие, а белки – розоватые не то от заката, не то от крупных сосудов. У папы был неподвижный, остекленевший взгляд, он пару дней пил водку, начал еще до того, как дядя Коля умер, вместе с дядей Колей еще.
– Люди так не могут. Простые люди, обычные.
Это те, у которых Матеньки нет. Я уже понимал разницу-то. Они не знают крысиного языка и непрочные, не видят, как пульсирует темнота, а запахов для них в мире совсем уж мало.
– И они, – задумчиво сказал папашка, – не знают, что под землей. Поэтому и пихают туда трупы. Я б не стал.
Тут он столкнул меня с колен, встал, пошатываясь подошел к окну. Я больно ушибся, но уже знал, что папашка разозлится, если я заплачу.
А потом я увидел (в отражении увидел), что отец сам плачет. Да, плакал папашка. Вот и все, что я об этом дне точно запомнил.
А про дядю Колю только то, что глаза у него были такие же, как у отца, только не злые, а печальные. Он был, это я понял спустя много лет, рассматривая фотографии, такой себе сантехник из порно, из эротики даже. Сказочно красивый, светловолосый, светлоглазый, и лицо у него было светлое-светлое, такое, должно быть, у повзрослевших ангелов встречается. Он никогда начисто не брился, но все равно была в нем какая-то юношеская нежность, ничем не изымаемая.
Так вот, башку он себе проломил, ну да, основание черепа, и у него под глазами остались такие почти черные синяки – это кровь прилила.
Он был хорошим. Ну, мне говорили.
Да и ладно, в общем отец плакал, а я хотел куда-нибудь исчезнуть, оказаться далеко-далеко, чтобы случайно не показать: я знаю, вижу, запоминаю, какой ты слабый.
Вечером, когда меня укладывали в кровать (а она была не так далеко от обеденного стола, на котором разделали, а потом съели дядю Колю), мамка сказала:
– Боречка, ты не бойся, он тебя и мертвый будет любить.
А я и не знал, любил ли он меня живым, так что не боялся. Мамка была совсем пьяная, взгляд у нее был, как у стеклянной игрушки, смешной и жутковатый. На языке она говорила на родном, как с ней часто бывало, когда она совсем упьется, и я тоже легко на него переходил.
– А завтра вы тоже его будете есть? – спросил я.
– Будем, пока весь не съестся. Останутся одни зубки да косточки.
Она гладила меня по голове, пальцы ее были холодными, словно тело ее уже знало, что тоже умрет. Ну и глупость на самом-то деле, а то мы все не знаем, что ли?
И вот, и вот, ну да, она смотрела мне прямо в глаза, было темновато, зрачков ее в черноте радужки я почти не видел.
– Матенька сказала, что мы не должны оставлять наших мертвых. Она дала нам такие желудки, чтобы их принять. Это такая любовь, Боречка. Вечная любовь. Это чтобы вечно любить.
Ну я так и понял – Матенька хотела, чтобы мы любили вечно.
– Ты послушай, – сказала мамка, перехватив меня за подбородок, чтобы привлечь мое внимание. – Они навсегда остаются с нами, никуда не исчезают. Уходят в кровь твою и в душу.
– А там застревают?
Мамка ничего не ответила, у нее глаза закрывались.
– Мам! – сказал я, ущипнув ее запястье. – Я хочу знать!
– Что хочешь знать, Боречка?
– Это значит, что люди не умирают?
– Некоторые могут жить несколько поколений после своей смерти. Если ты очень кого-то любил, он в тебе так глубоко, что когда и тебя съедят, твой мертвый перейдет вместе с тобой. Я о таком слышала.
От отца, сидевшего на кухне, ни звука не доносилось. Может, и он там себе голову разбил, подумал я, уже чуточку засыпая. У них же одинаковые с дядей Колей глаза, так что мог тоже голову разбить.
А мамка гладила меня по голове, у нее были неверные движения, один раз она прошлась мне прям по глазу. Ты была б поосторожнее, мамуль, да потрезвее, если б знала, сколько нам осталось.
– Спи, Боречка, да не думай об этом. У Матеньки Крысы своя правда. Надо жить, надо жить.
Но сама-то она своему совету не последовала и умерла через два года, пьяная, в Усть-Хантайском водохранилище. Под лед, значит, провалилась.
Об этом я помнил уже многое, я бы даже меньше хотел, но все хорошо уложилось. Это не была смерть со вкусом торта «Прага» (редкость в продмаге Снежногорска, просто сокровище). Ее выловили быстро, так что в гробу она казалась только чуточку припухшей, как с перепоя или от простуды. Вполне можно было думать, что она живая, по крайней мере пока отец искал тесак для мяса.
А гроб у нее был красивый-красивый, блестящий, и бархат внутри был как полость рта. Я только потом в одной книжке прочитал, что саркофаг переводится с греческого как пожиратель плоти. А тогда я уже об этом догадался.
Я целовал ее холодные щеки, и меня колотило от осознания, что это уже не она. Потом колотило от осознания, что это, в каком-то смысле, все еще она. Короче говоря, противоречивые чувства, все дела. Я, значит, смотрел на нее и не верил Матеньке, ненавидел Матеньку за то, что у меня больше нет мамы.
Вот у нее такой гроб красивый, папка на вертолете пригнал, самый дорогой, самый лучший (как все дорогое и лучшее, пришел – с неба), а какая ей с этого радость? И так мне хотелось заплакать, а я не мог, такие глаза были сухие, такой я весь был сухой, аж горло драло. Я подергал ее за рукав.
– Мама! Мамочка!
Потом на украинском ее позвал, как она любила. Папашка забрал ее из самого Ивано-Франковска, а уж ее собственную маму забрал из-под Могилева мой украинский дед. История моей семьи, она и про любовь, и про путешествия.
Я поболтать вообще-то любил, разве что не с кем чаще было, но тогда у меня язык только на то шевелился, чтобы «мама» еще раз сказать.
С кухни вернулся отец, тогда я снова стал говорить, как полагается.
– Лицо у ней красивое, па.
– Красивое лицо, – согласился он, налитой до дрожащих рук, и я испугался, как же он ее резать будет.
– Иди на кухне посиди, – сказал папашка.
Он закурил, закусил сигарету зубами, прижал руки к вискам. На запястье у него блестели хорошие часы, а в то же время как жалко он выглядел в нашей крошечной квартирке, в рубашке с пропотевшими черными кругами подмышками. Это была самая странная про папашку вещь: он так и не научился быть богатым.
Ну как же не сбиваться с мысли, когда про такое, да?
– На кухню иди, – повторил отец с чуть большим нажимом.
Я знал, что еще пару секунд могу постоять рядом с ней, что еще пара секунд у меня есть, а больше мне в этом мире ничего не было надо.
Я видел ее волосы под красивым платком – черные кудри, которые и мне достались, я вспоминал ее распахнутые глаза. Она была крошечная, странная, не такая чтоб прям красивая в самом-то деле, почти инопланетянка с этими ее огромными глазами и тонкими бесцветными губами.
Ей правда шла смерть, такое очень нечасто бывает, чтобы человек после смерти обрел по-настоящему законченный вид, стал завершенным произведением.
И она была такая добрая, такая нежная, она всегда так меня любила, и пьяная любила, и с похмелья даже. Я только запомнить ее хотел, всю-всю, до родинки под носом.
Тут отец отвесил мне подзатыльник, так что я едва не уткнулся лицом в ее платок.
– Ты меня не слышал, что ли?
– Слышал, что ли.
Не успел я обернуться, как отец прижал меня к себе, крепко-крепко, приподнял и поцеловал в висок.
– Иди, Боря.
Он вытолкнул меня на кухню и, когда я снова рванулся к ней, закрыл дверь, подпер ее стулом.
А мне просто хотелось, чтобы она встала из гроба и назвала меня Боречкой, еще хотя бы раз так назвала. Отец разделывал ее и матерился, а я сидел и думал: какая ты хорошая, хорошая, хорошая, мамулечка, милая моя мамулечка.
Так и думал – сопли совсем распустил. Вспоминал, как она кормила меня конфетами и рассказывала мне жутенькие сказки, как мы сидели с ней перед телевизором, или я читал ей книжки, медленно и по слогам, когда она была совсем пьяной. Вспоминал ее мягкий говор, ее рассказы о Матеньке и нашем великом страшном долге (ну, про него потом, надо дотерпеть).
Короче говоря, нам с ней было славно и всегда легко.
Тогда зачем она туда упала, а может не упала, а и вовсе сама полезла?
На щеке у нее был синяк, не трупное пятно – след папашкиной любви, папашкиной ревности. Последнее, что он ей оставил. Наверное, ему было от того очень больно, он бы теперь предпочел, чтобы это был поцелуй. Я знал, как-то чувствовал, до чего ему тяжело, и это во мне отдавалось так же сильно, как собственное горе.
Я все думал о ней, смотрел на новенькую столешницу, на кухонный комбайн, на заплесневелые стены, и от всего в мире мне было противно, а ночь была непролазно долгой, мне казалось, что сквозь нее не пройти. Отец-то возился, да, долго-долго, пару раз заходил (на его манжетах я видел пятнышки крови), забирал тарелки и кастрюльки, выходил. Маленькие братишки и сестренки возились в трубах, я слышал, как они пищат (обычные люди только малую толику их голосов вообще различают). Я думал, мне придется долго драить квартиру, но отец все чисто вымыл, все сам убрал. Когда я сел за стол в комнате, отец прогремел костями в кастрюле, поставил их вывариваться. Ой, запах-то был невероятный. С ума сойти. Потом папашка еще положил в холодильник оставшееся мясо. Когда вернулся, я уже перестал удивляться тому, что нормально воспринимаю все вокруг.
Пол был вымыт чисто, а передо мной на тарелке, которую я помнил по дням рожденья и Новым годам, лежало что-то вроде гуляша. Как в мясном отделе продмага, только не замороженное.
– Пап, я не могу.
Я попытался встать, но отец надавил мне на плечи.
– Ну, раз уж ты, слабачок, не можешь, мне ее теперь что, кошечкам скормить?
Он засмеялся, неожиданно вся серьезность с него сошла.
– Папа, я не хочу, я не могу. Давай вот кошечкам. Собачкам. Не могу.
– Никто не хочет, никто не может, но никто не жалуется. Кошечки и собачки, может, тоже не могут, они ж друзья человека. Братикам отдать с сестричками?
– Братикам с сестричками, – сказал я, и такое меня охватило отчаяние, что я бы и на колени встал, но отец вдруг приложил меня головой об стол так, что тарелки звякнули, разбил мне губу, я это сразу почувствовал – по вкусу еще прежде, чем по боли.
– Это для тебя, Борис, важнее, чем для нее.
Отец налил рюмку водки, но, вместо того чтобы выпить ее самому, протянул мне.
– Только пей быстро.
Еще он сказал:
– Мудак ты мелкий, что себя жалеешь.
А я-то думал, это самое правильное, чтобы этого человека жалеть, чтобы этого человека любить – себя самого.
– Одним глотком, – сказал отец.
Но я его не послушал, отпил чуточку горечи, едва не выплюнул, и тогда отец зажал мне нос и влил в меня остатки водки. Ну я тогда, конечно, не понял, зачем все пьют.
Отец вручил мне вилку с клоунской торжественностью:
– Кушать подано.
Я трогал языком кровь, облизывал ее, вспоминал, как мама утирала меня салфеткой, когда я пачкался вареньем. Одно из первых моих воспоминаний.
– Пап, ну это же мама.
– Ну, это ею было. Всё, Борь, займи уже пасть едой.
Отец сел напротив меня. Очень быстро мне стало тепло и как-то переливчато, ушла боль, хотя я то и дело трогал разбитую губу языком.
Тогда я еще выпил, сам уже, я как-то знал, что только в полубессознательном состоянии смогу все это съесть.
– Не налегай. Блеванешь – я тебе еще положу. В холодильнике достаточно.
Вот это будет неделя, лениво думал я, мозг был как губка для мытья посуды, казалось, он пропитан грязной водой, меня мутило так сильно, что я едва различал вкус собственной матери.
А отец, он ел с аппетитом, каким Матенька наделила всех своих детишек.
– Поедешь к бабке с дедом в Ивано-Франковск? – спросил отец. – Там тепло. И ездят на автобусах, а не летают на вертолетах.
– Не поеду. Я хочу с тобой остаться здесь. А? Что ты про это думаешь? Ты про это думаешь?
Я цеплялся за слова, как утопающий за всякие там соломинки, я хотел говорить, чтобы не проблеваться. Но, кстати говоря, в целом это было обычное сырое мясо. Карпаччо, или что там. Стащенное из кастрюли мясцо для шашлыка. А может, мне так казалось, потому что таким меня сделала Матенька.
– Поедешь, – сказал отец хмуро. – Кто с тобой сидеть будет?
– Я сам с собой сидеть буду.
Отец криво усмехнулся, обнажив желтоватые от курения зубы.
– Да расслабься, дед твой шахтер, конечно, но теперь они вроде как не бедствуют. Не знаю, мудила в последний раз на ее день рожденья звонил.
Папашка указал вилкой себе в тарелку, меня затошнило, и я закрыл глаза.
– Не поеду.
– Ну, а что ты предлагаешь?
Ответа на этот вопрос у меня не было, прям никакого, и я не думал, что у шестилетнего мальчика он непременно должен быть. Но жизнь такая штука, да, вот такая штука. Отец работал инженером канализационных систем. Проектировал их, улучшал, строил вместе с рабочими, а потом следил за эксплуатацией, путешествовал, короче говоря, по коллекторам. В основном отец работал в Норильске, раз в две-три недели возвращался домой к нам с матерью в Снежногорск, но вообще-то и по стране ездил достаточно, был первоклассным специалистом, быстро богател. В своем деле папашка был почти что гением, ему такие вещи прощали, господи боже мой. Конечно, его никогда не будут прославлять, как Бетховена или Шекспира, потому что самые его великие произведения связаны с дерьмом, мочой и мыльной водой, с тем, о чем люди хотят забыть, а вовсе не с материями высокими и чистыми. Но, и так отец часто говорил, если бы канализации еще не существовало к его двадцатилетию, он мог бы ее изобрести.
Папашка славно чувствовал землю и спасал тех, кто на ней живет. По-настоящему, не от грязной воды. А потом приезжал домой и колотил нас с мамкой. Вот и какой он после этого?
Мама тоже спасала, но для этого ей приходилось рыть большие-большие ямы. Я лучше всего помнил ее с лопатой и покрасневшими ручками, в меховой шапке и шубе, вбивающую лезвие в мерзлую землю.
Матенька сделала нас посильнее, чем разных других людей. Мама копала большие ямы, а потом говорила мне отойти. Говорила, что всему еще научит, а сейчас не время и небезопасно.
Не научила. Не настало время.
А чего я еще помню всегда – пульсацию темноты с другой стороны мира. Ее везде много, но под землей прям страх берет сколько. Там настоящие раны.
А она не научила, да.
Короче говоря, сидели мы с отцом долго-долго, он включил радио, и мы подпевали всяким песенкам. Он меня хотел усыпить, убаюкать.
Потом, когда я улегся спать, без маминого поцелуя на ночь (да и утро было, чего уж теперь), я успел тайком, через полузакрытые веки, увидеть, как отец целует каждый ее зубик. Все были отдельно от нее. Почему? Это я через много лет понял.
Ну а через неделю в этом красивом гробу мы снесли на могилки ее косточки. Зарывали и плакали, горько-горько. Как мамка любила говорить, океан в мире слез.
Яму отец копал сам, он не подпускал людей работать с землей, было это для него величайшим преступлением.
А над ней, на простом железном кресте с недавней фотографией, было написано: Екатерина Владимировна Шустова. В девичестве она была Щур. Прям натурально – крыса по-украински. Папашка говорил, что так с нашими часто бывает, все Волковы, все Кошкины, все Лисицины, а также Фоксы, Катцы и Вольфы с большей вероятностью из наших будут.
Екатерина, значит, она Владимировна была. Во-ло-ди-ми-ров-на, если уж так. А ее отец называл мамку Катечкой. С моим отцом познакомились они в вагоне-ресторане поезда Москва – Львов. Такие были пьяные, что нюх отшибло, друг друга сначала не узнали, полюбили просто так, в момент, без всего. Мне мамка рассказывала, что смотрела на него и думала: убегу с ним, пусть даже он человек, пусть не простят.
Но ей повезло – не человек, и даже не иной какой зверь он был.
Вот и поженились они через три недели, в восемьдесят девятом, а в девяносто первом году у них появился я. Они меня очень ждали, и я получился похожим на них обоих, почти поровну. Получился, как их любовь. Вот чего мамка говорила, пока у нее еще был рот.
Мы стояли у могилы, и было холодно, но мы этого не замечали. Отец меня обнимал, и рядом с ним я чувствовал себя в безопасности, хотя мир вдруг стал каким-то пустым, безвкусным и тайно угрожающим.
– Я ее люблю, – сказал я. – Пап, а что делать теперь, когда ее нет, а я ее люблю?
– Книжки читать и смерти ждать.
Он сплюнул желтоватую слюну прямо на могилу, поймав мой взгляд, сказал:
– Да нет ее там все равно, хотя по-разному говорят, но я так считаю. Она в нас.
– Как – в нас? Как в «Короле Льве» по видику, что ли?
Папашка хрипло засмеялся.
– Да навроде. Только не совсем. Ты поймешь.
И мне вдруг такая штука вспомнилась: папка всегда наливал стопку для дяди Коли, пусть его и два года не было на свете.
Ветер поднялся страшный, холодный, пронизывающий, до самых костей меня продрал, до всех уголков души.
– А цветы ей носить надо?
– Цветы будешь девкам на свидание носить. Ничего ей не надо, только чтобы ты здоров был.
А я был здоров. От этого настроение у меня чуточку улучшилось, теперь я понимал, что мамка довольна.
– Собирай вещи. В четверг, когда вертолет прилетит, доберемся до Норильска, оттуда полетишь в Москву, из Москвы поедешь на поезде в Ивано-Франковск.
Это же сколько километров мне предстояло преодолеть, ух ты!
– А я один полечу?
– С другом моим. У меня работа.
Всегда у него была работа, а Бори как будто и не было. Я вдруг так на него обиделся, ну так обиделся, думал, помри и ты тогда. И так мы стояли еще, а ветер становился все сильнее.
– А у ней крест не наклонится?
– Ну если и да, то что?
Он гладил меня по голове.
– А полюбят меня там, у деда?
– Хохляцкий же знаешь?
Я кивнул.
– Полюбят тогда, нашел проблему.
А я ее нашел, в том все дело и было: все будут чужие, а я – один, и ни одного знакомого лица, я деда с бабкой и не видел никогда, да язык еще – мамин, не мой. Я всегда думал, что у меня впереди только тайга – гладкость никогда не сходящих до конца снегов, их плоский мир. Может и стоило послать все эти снега да морозы к херам, да даже точно. И все-таки как там вольно дышалось.
Про Снежногорск я с детства замечал, что люди тут до старости как дети, потому что всегда они от кого-то зависят, отрезаны от страны и надеются только на то, что их тут не забудут. Это годами развивало в них детскую доверчивость и детскую же цепкость, непременное желание уж своего-то не пропустить. Вот оно как выглядит – вечное детство – немножко домов, затерянных на дальнем-дальнем Севере, и вечно зависимые от ребяток на вертолетах люди.
А я другого мира тогда не знал, даже Норильска не видел, папашка только говорил, что тот богатый и грязный (в точности как он сам).
– Пойдем. Замерзнешь.
Он грубо потянул меня за собой, не дав с ней попрощаться. И я тогда думал: а захочется мне ее косточки повидать, так сюда придется ехать, как в сказку какую-нибудь, в тридесятое царство.
– А Ивано-Франковск красивый?
– Да нормальный. Привыкнешь.
Отец положил руку мне на голову, погладил.
– Ты подумай, какая широкая страна была. Отец твоей матери с Украины, мать твоей матери из Белоруссии, мой отец из Нижневартовска, моя мать – из Твери, а живем мы в Снежногорске.
Ой, ну вот сейчас будет ругаться, какую ему страну развалили.
– А ты будешь ко мне приезжать? Будешь?
Я запрокинул голову, чтобы заглянуть ему в глаза. Отец кивнул.
– Ты меня туда отправляешь, потому что я тебе не нужен?
– Тупорылый ты, Боря.
– Вообще я не тупорылый.
А вечером, пока я вещи собирал, он принес с кухни сладких-сладких яблок, такая большая редкость, и я понял, что он их мамке привез, с Большой, значит, земли. Но не успелось. Она яблоки любила, и я расплакался. Тогда и получил по уху, быстрым таким движением он меня ударил, я скорее его испугался, чем боли.
– Ныть будешь, я тебя отдам в детдом. Мужиком надо быть. Все в мире страдают, все умирают, в этом одном вся правда.
Такая вот у него была мудрость, и с моей она в тот момент совпадала. У меня все в желудке крутило, я не мог даже смотреть на те краснобокие яблочки, и думал, то ли маме их снести, то ли птицам оставить, потому что слышал где-то, что птицы – это души мертвых. Дома у них нет, и они летают в небе, прямо чистые мертвецы.
Отец посмотрел на меня этим своим холодным, странно остекленевшим взглядом, покивал самому себе, да и ушел пить. Пил он люто и безжалостно к себе и к другим. Это был его конек – нажраться и впасть в бешенство, в тупое, сокрушительное отчаяние. Была в этом какая-то достоевщина, только разве что алкогольная, быдловская, нарочито уродливая – отец всегда был склонен по-черному тосковать, даже когда смеялся.
А я забросил собирать вещи и смотрел на него, чуточку приоткрыв дверь, как он сидит за столом на кухне и опрокидывает в себя стопку за стопкой. Отец был тощий от злости и пьянства, болезненно-бледный, весь такой небольшой, с туберкулезно заострившимися чертами – в нем что-то возвышенное было, торжественное, как похороны или венчание. То была невзаправдашняя хлипкость, силы в нем было много, больше, чем даже обычно в таких, как мы. Он был закален тяжелым физическим трудом и большими потерями.
Я закрыл дверь, лег на кровать да подумал сразу: Матенька, ты почему со мной так? Говорят, у тебя для каждой крыски своя судьба есть, все для нее готово, она еще в мир только пришла, а ты уже и финал знаешь. Тогда почему?
Она мне не ответила, я только слышал братишек и сестричек, такой далекий скрежет коготков. Ночью, когда я вышел на кухню, чтобы попить воды, они стояли на полу и блестели маленькими глазками, а когда я наклонился к ним, принялись лизать мне руки.
Ждали меня три девчонки и двое пацанов – все молодые и любопытные. Я с ними говорил. Как с людьми с ними нельзя, у них нет слов, однако я чувствовал их волнение, их печаль – они знали про мамку.
Они даже предложили мне жить с ними, но где они живут, там бы я не пролез. Я открыл холодильник, чтобы чем-нибудь их покормить, и наткнулся на свою маму. Она, конечно, была скорее набором для жарки, но меня все равно стошнило.
Хорошо, что отец уже уснул и не мог на меня разозлиться.
А когда и у меня получилось заснуть, то снилась мне мамка, она тонула, но почему-то не звала на помощь, будто все равно ей стало. Была она пьяная и счастливая, как студентка, ничего в ней не было страшного, даже в том, что она умирала. А проснулся я со слезами на глазах и пошел к папе. Я залез под их с мамкой кровать да смотрел на деревянное ее основание, оно сладко пахло кедром и гробом, а всякий раз, когда папашка переворачивался, матрас вдавливался между полосками дерева, почти доставая до меня.
Я считал про себя, и хотелось мне снов без снов, как там, у нее.
А она меня любила, любила – я верил. Не сама с собой это сделала, а то б я ей не простил.
На другой день все было спокойно, я больше не плакал. Я знал, что нужно быть сильным, чтобы жить хорошо и сладко, чтобы быть здоровым. Она бы этого хотела.
Время до четверга тянулось медленно, оно надо мной издевалось. У меня потом долго было такое ощущение, будто я все время был один, хотя отец не выходил из квартиры, только квасил.
А я его и не замечал, играл с братишками, играл с сестренками, они скакали по мне и пищали о том, как им радостно, пока мне тоже не стало весело. Я спросил их про Ивано-Франковск, но никто не знал, где это.
Только к четвергу, когда мы доели мамку, отец достаточно протрезвел, чтобы выйти из дома. Тогда и надо было.
В вертолете, ворочавшем лопастями, я все смотрел вниз, на отдаляющиеся коробки домов. Все дома в Снежногорске можно было легко посчитать, и с высоты они казались фигурками в тетрисе, сложившимися странным, безнадежно проигрышным образом. А на бочках домов были красивые граффити – цветы и птицы, и огромные землянички.
– Не вернусь сюда, – сказал я.
Но отец только пожал плечами.
– Ты только Богу под ноги не лезь, без тебя разберутся.
Потом было много скучной тайги в гребнях деревьев и туманах, я стал зевать и улегся в конце концов у отца на коленях. Вот его правда – нечего Богу под ноги лезть.
А про то, какой он, Бог, никто из нас не знал, мама немножко верила, а папа до конца света (так он говорил) был коммунистом и верил совсем в другое. Многие из нас считали, что Бог создал мир и населил его разными созданиями, и что мир был прекрасным, пока все не случилось, и мы не зажили там, где по сей день пребываем.
Мамка говорила: сколько зверей, столько историй, так что вот моя версия, наша, то есть, большой крысиной семьи.
Жил-был Бог, и он был добрый, хороший, он всех нас любил и не придумал ни боли, ни смерти, а придумал множество прекрасных вещей, чтобы мы плакали от счастья, когда смотрели на солнце. Жили тогда только звери да духи. Ну и духи тоже были зверьками, раз на то пошло, потому что Бог создал их, а они уже материализовали многих своих детей в настоящей плоти. Вот Матенька, она, к примеру, большая крыса, сделанная из ничего. Ну и да, суть да дело, а Бог ушел отдыхать, и духам поднадоело творить только самих себя. Тогда они стали развлекаться и лепить существо, чтобы было жальче всех и смешнее, придумали, значит, лысое, с хохолком, без когтей, со смешным вытянутым носом на плоском лице, и стали над ним смеяться. А потом подумали, что еще смешнее будет дать этому существу на себя посмотреть и узнать, какова его доля. Так они придумали разум и зеркало. Посмотрели люди на себя да заплакали, всё поняли, всё узнали. И через их сознание, через способность помыслить что-то абсолютное, оно и пришло.
Пришло, рассказывают, с другой стороны мира. Говорили: пустота, но для меня это была страшная темень. Все от нее стало трескаться, болеть, с ума сходить, само себя пожирать и умирать.
Обидной своей шуткой духи впустили в мир смерть, и она с тех пор, как радиация, повсюду распространяется и портит Божий Сад. От нее в мире болезни, от нее в мире войны и от нее в мире так много сумасшедших.
Стали духи плакать, смотря на то, как львы пожирают антилоп и как умирают в прудах рыбки. Они хотели до прихода Бога со всем разобраться, словно нашкодившие дети, а слез у них натекло так много, что с тех пор мы зовем их морями и океанами. Думали, думали, да решили: раз они напортачили, то надо исправлять. Если не исправлять, так хоть придержать мир в порядке. Если не придержать в порядке, так пусть хоть не лопнет для начала.
Вот они взяли себе по смешному человечку, по девочке, превратили их кого в собаку, кого в кошку, кого в крысу, кого в птицу, да и случились с ними, войдя в тела земных зверей и птиц небесных, потом вернули девочкам человеческий облик, и стал звериных детей целый зоопарк. Выглядели они как люди, и кровь в них словно текла людская, но они были быстрее и сильнее, и видели всё по-настоящему – испещренный дырами, изъеденный, испорченный мир, печальный конец прекрасной такой задумки.
Духи обучили их, каждый – своему, своим языкам, своим умениям. Вот как я мог есть гнилое и не бояться, что отравлюсь, это для примера. Обучили их духи, значит, да и отправили исправлять все сделанное на земле, хранить секрет и латать дыры, сквозь которые втекает все плохое. В нижнем мире, значит, под землей, набухали болезни и росли природные катастрофы, посередине бродили войны, а с неба, с дождем, проливалось безумие. Стали мы все исправлять, каждая порода – по-своему. Вот мы, например, крысы, мы не даем оттуда, с самого дна, подняться всяким страшным болячкам, а когда даем, то все потом плачут от испанки или, например, от чумы. Плачут да умирают.
А вот кошки, это мне еще мамка говорила, они убивают всяких плохих людей, а если не успеют убить, то люди плачут потом от Гитлера. Про лис вот слышал, что они сидят в правительстве и не дают людям глупости делать, потому что всякими там Хиросимами и Нагасаками они еще больше дырявят наш мир.
Короче, мамка меня учила, что мы хорошие, что делаем свою работу, что так было всегда. Это опасная работа. Мамка всякий раз болела после ямы, а у папки, например, в мокроте все чаще появлялись красные прожилки. Умри он, никто бы не определил, чем папашка заболел, врачи таких болезней еще не видели, еще не знали. И если отец будет работать хорошо (а он будет, он всегда говорил, что будет), то и не увидят.
Подземные зверики болели или погибали в эпицентре бедствий. Земные, вроде кошек и собак, могли терять над собой контроль, поддаваться ярости (вот, казалось бы, папашка мой подземная тварь, а той ярости у него, как у бешеного), а птицы на небе сходили с ума.
Вот такая была работа, но, как папашка говорил, кто-то ведь должен ее делать.
Ну и вот, ходили слухи, что когда вернется Бог, то будет на всех тут страшно зол, но моя мамка говорила, что раз он создал такое прекрасное, хотя бы в теории, место для заботы о грядущей жизни, то когда он придет, будет любить и жалеть нас, вот прям как нам самим себя надо. Прям так. Она хорошее говорила. И не бросил он нас, говорила, просто для него миллион лет, как для меня минутка.
Вот о чем я думал, пока мы летели, вспоминал ее слова и певучий, ласковый голос.
Потом, минут через сорок, когда в салоне окончательно стало скучно и жарко, тайга кончилась и под нами протянулся такой громадный, такой грязный, трубный, мусорный Норильск, я словно проснулся, хотя и не спал. Дома были разноцветными, веселыми, но какая-то в них и в торчащих леденцами трубах теплостанций была запыленность. Норильск был такой ровный, как если бы его строил аутист, и этим, а вовсе не грязью, он мне с первого взгляда как-то не понравился. Чуть погодя, меньше минутки, я понял, почему отец не перевез нас в Норильск. Еще в небе были темные всполохи, но вся земля была такая, что вырви глаз, ползали они по земле как змеи.
– Па…
– Это не так чтобы очень, – он заметил мой взгляд, – но в Снежногорске чище. Поэтому. И чтобы шлюх в ту квартиру водить. Теперь-то можно признаться.
Он хрипло засмеялся, всхрапнул как конь и закашлялся, принялся бить себя в грудь, пугая других пассажиров.
– А там есть кино?
– Да все там есть.
И он пообещал сводить меня в кинотеатр «Родина», который, он с мрачной усмешкой это сказал, собираются продать каким-то воротилам.
– Там, – сказал отец, – куплю тебе сладкого попкорну. Если будешь себя хорошо вести.
Но вел я себя плохо, потому что собирался убежать на свалку, чтобы все у братишек и сестричек вызнать про этот огромный, так мне тогда казалось, город. Я даже почти прыгнул в первый попавшийся автобус, но отец меня буквально за шкирку поймал.
Ну а чего? Я ведь города, настоящего, а не Снежногорска, прежде не видел, и было все там так интересно, так славно, несмотря на жестокий, горьковатый воздух и многоглазые, запыленные дома.
В общем, отец оставил меня в квартире, а сам ушел, и никакого там сладкого попкорна, а за кино у меня был грязно-мятный фасад соседнего дома и тетенька с колясочкой, глядевшая, запрокинув голову, на ржавые балконы. А я смотрел на темные вихри пустоты, один был прям совсем рядом с коляской, крошечный такой выход в ничто, тетенька и не знала.
Квартира у папашки была славная, трехкомнатная и такая просторная, с цацками, с совсем новым видиком, здоровым телевизором и электрическим чайником, который я включал то и дело просто от скуки, потому что у него была совершенно неземная подсветка. Еще я забрался в огромный шкаф-купе с зеркалом во всю дверь и там нюхал вещи, которые отец не удосужился постирать.
А кровать у отца была, как в киношной гостинице, мягкая и с бархатным таким одеялом. И на кухонном столе стояла вазочка с конфетами, а новый холодильник блестел хромированными бочками.
Такое все было, ну такое, я б умер, может, чтобы это увидеть.
Я лежал на мягком ковре, почти тонул в его ворсе и ел шоколадные конфеты «Степ», не то с семечками, не то с орехами, так вкусно было, что я и не понял.
Когда пришел отец, у меня болел живот, за окном стало совсем темно, пустота черной плесени уже едва различалась. Отец принес мне целый пакет жвачек, но не дал ни одной, запихал их в мою сумку.
– Это в Ивано-Франковске есть будешь. Меня вспоминать.
– А ты не злишься, что ли?
– Не злюсь. И помни, что ты русский. Что ты Шустов. Это важно.
Для кого важно, я не спросил, потому что отец принялся ругаться на то, что ближайший рейс до Москвы только завтра и он не сможет меня проводить.
А назавтра он ушел на работу, и я поехал в аэропорт с дядей Петей, выглядевшим слишком прилично, чтобы быть папиным другом. На нем был хороший костюм, он ничем не пах, а очки-половинки делали его похожим на университетского профессора. У него было обрюзгшее, красноватое лицо со следами вечных холодов и спокойный голос. Мне дядя Петя сразу понравился, и мы проговорили с ним всю поездку, обо всех странах и континентах, которых я знал только названия, а он везде был.
На здании аэропорта буквы были красные как кровь, а сам он был похож на огромный корабль. Из того, что было внутри, в тот первый раз я запомнил только какое-то мифическое количество неудобных стульев и толпень людей, одетых не по погоде жарко, они-то думали, что здесь у нас холодно всегда, приехали в толстенных пуховиках.
Ну и я ощутил ту страшную тоску по живому, славному существу рядом, сказал:
– Вот, дядя Петь, я по вам скучать буду, буду грустить, когда уедете.
Он поправил очки, почесал дурно выбритую щеку и ответил:
– Да мы с тобой аж до Ивано-Франковска еще доедем. Хочешь, я тебе бутерброд куплю?
Ему было неловко с чужим, привязавшимся к нему за полчаса ребенком. И человек он был хороший, потому что хорошим людям обыкновенно от всего неловко, от жизни нашей, не абсолютно соответствующей их высоким запросам.
А потом мы сидели на неудобных стульях и ели бутерброды с колбасой, и дядя Петя аккуратно выковыривал крупные кусочки жира.
– Жена запретила, – сказал он, заметив мой взгляд. – Вернее, врач. Сказал, мне вредно для сердца.
– Вот папашка бы вам выдал.
И я тоже стал выковыривать из колбасы кусочки, а потом их все съел. И у дяди Пети забрал. Руки у меня долго были скользкие и вкусно пахли.
Там, в аэропорту, гудящем, звенящем, по-морскому шумном, я впервые увидел зверика не из моей семьи. Мимо нас прошла девушка, и мне в нос ударил ее запах – густо потянуло псиной и еще чем-то хлестким, озоновым, так пахнут дýхи – словно огурцы.
У нас с ней не было ничего общего – она была хорошо одета, прическа у нее была как из журнала, а пухлые губы блестели от помады, я подумал, что она из Москвы. Такая она была далекая, даже когда прошла мимо меня, а пахла душно и вкусно, заграничными духами. И, проходя мимо, едва заметно, но она потянула носом, бросила на меня короткий взгляд, а я смотрел на нее. Такой это был взгляд, я весь от него подтянулся, собрался, заулыбался. Она спрашивала меня одними глазами: все в порядке?
Все было в порядке, и я кивнул ей. Милая, милая девушка, никогда тебя не забуду, решил я. И будешь ты мне – светлый образ детства, московская моя принцесса. Такие мне были мысли.
А дядя Петя, он цокнул языком и сказал:
– Хороша Маша, да не наша.
– А это вам жена не запрещает?
Мы засмеялись.
Она прошла и исчезла, но ничего. Жизнь такая штука, и что ты сделаешь?
– Скоро будет регистрация.
Дядя Петя теребил в потных ладонях папку с документами: доверенность, мое свидетельство о рождении, что там еще было нужно сопровождающему.
– Вот подумают, что я тебя украл.
– Вы тогда в беду попадете? Ой, беды я для вас не хочу. Если скажут, что вы меня украли, я молчать не буду.
Он потрепал меня по волосам. И чего он с папашкой дружит, а?
К тому моменту, как мы встали в очередь на регистрацию, я уже думал только о том, будет ли у меня в Ивано-Франковске корова или хотя бы коза. Я представлял себе сельский, неопределенно-южный город, представлял маленький домик и деда с бабкой, чтобы все в морщинах и с вилами, это непременно.
– А вы были на Украине?
– Ну, при Союзе еще.
– Дядь Петь, а там хорошо?
– Везде хорошо, Боря, надо только с открытым сердцем ехать.
Ну такое себе высказывание. Сердце у меня было скорее закрыто, мне так казалось.
Перед нами стоял вонючий такой дед, еще и выглядел так, словно прям тут коньки отдаст. Я уткнулся носом в воротник куртки, стараясь лишний раз не дышать. Когда выложил свой билет перед сонной тетькой, я услышал отцовский голос.
– Боря!
И прежде чем я подумал, что мне только чудится, он подхватил меня на руки и крепко, пьяно поцеловал, на щеке остались кислый запах и влага, ну без удовольствия, надо сказать, я это воспринял.
А потом понял, что папашка здесь, что он пришел попрощаться, и так я в него вцепился, и обнимал его, и целовал. Все, кто нас тогда видел, должны были думать потом, какая у нас счастливая семья. Ничего не поняли.
– На хуй эту Хохляндию, деда твоего на хуй, – сказал он, прижав меня к себе. – Мы и сами с тобой справимся.
Это только в сказке бы мы справились, а так – я уже знал, что не справимся. Прям в тот самый момент, без шуток. Но я хотел не справляться с ним вместе, а не где-нибудь там, где все чужие, где не к кому приткнуться, где душа моя луной на небе – совсем одна. Поэтичное такое было настроение, смирение было с несчастьем и даже любовь к нему. Я смотрел на него и не мог насмотреться, а он был такой пьяный, что даже стоять ровно не мог, и под впадиной ноздри у него был напухший прыщ. Отцовские тощие, сильные руки меня обнимали, и я чувствовал себя в безопасности.
– Будем жить с тобой вместе. Что за тоска быть одному совсем?
– Правильно ты решил, Виталик, – сказал дядя Петя.
Голос у него стал гнусавый-гнусавый, поди расчувствовался, такая сцена – сентиментальнее некуда.
– Все хорошо будет, Боря, я пить брошу.
Тут бы мне угарнуть над ним, но я не решился, только надавил пальцем на прыщ у него под носом.
– Поехали отсюда, – сказал он дяде Пете. – Выпьем. Слышишь, Боря, я в последний раз выпью и больше никогда не буду.
И он понес меня к телефону-автомату, поставил у него, не переставал гладить, пока звонил в Ивано-Франковск и орал на деда матом.
– Пошел ты, – говорил он. – Пошел ты, сука, на хуй, это – мой сын. Мой сын, не только твоей дочери, услышал меня? Я тебя спрашиваю, ты меня услышал? Ты из меня идиота решил сделать? Наебать меня решил? Какая Матенькина воля, твою мать? Да ей поебать на то, кто будет его воспитывать. Ах, алкаш? А ты судись. Судись, блядь!
Ну, я быстро заскучал, когда поток папиного мата стал совсем уж однообразным. Я пошел посмотреть на бутерброды, и вот тогда, в толпе, я впервые ее увидел.
Она стояла в том же платочке, в каком лежала в гробу. Когда отец поставил гроб на стол, у нее, от резкого движения, открылись глаза, и мне еще помнилось, хоть и смутно, что я тогда заплакал, думая, будто она живая, просто ей плохо. Отец объяснил: веки расслаблены, у нее не живые глаза.
Вот и сейчас глаза мамкины были открыты. Они были мутными, а лицо ее оставалось таким же утопленнически-припухлым. Она стояла около таксофона напротив, задумчиво водила пальцем по стеклу. Из-под платка выбилась и закудрявилась от влаги черная прядь, под длинной юбкой ноги распухли, казалось, будто она в сапогах, а на самом деле была в одних колготках. Мама посмотрела на меня, когда я на нее посмотрел, улыбнулась, и сквозь щелочку между зубами (папашка ее очень любил, а мне такой щелочки не досталось) потекла вода. Она прошептала, одними губами:
– Боречка.
Но, господи боже мой, да никто б не поверил, да как описать, не была она злодейской и черной, ничего дурного я в ней не видел. Это была моя мамка, только что мертвая. Она улыбалась мне, потому что любила меня, я ничего не испугался.
Она подняла руку с потемневшими венами, поманила меня к себе, и я знал, что она только хочет поцеловать меня и обнять, утешить.
– Мама! – крикнул я. – Мамочка!
Дядя Петя схватился сначала за голову, потом за меня, не знал, короче, куда руки деть.
– Какая мама, Боря, ну какая мама?
Он схватил меня крепко, а я рвался из его рук и кричал:
– Пусти, пусти, она там стоит!
Мама приложила палец к губам, глаза у нее стали лукавые, как когда мы брали деньги из кошелька спящего отца и шли в продмаг, покупать себе апельсинов (такое нельзя пропустить!).
Отец, наконец, положил трубку.
– Говорит, маму видит, – грустно сказал дядя Петя. – Валерьянки бы ему. Или пустырником пои.
– Да он сильный. Это у тебя дочка в постель ссалась, когда мать твоя, старуха, померла. Ребенок должен узнать смерть.
– Давай не будем.
– А чего не будем? Ты меня не учи, тогда не будем.
Это папашка все еще был в запале. Меня он только погладил по голове, теперь быстро, почти грубо. А я все смотрел на мамку, молчал, ведь она велела быть тихим.
– Борь!
На секунду глаза отвел, и она исчезла. Я посмотрел на отца, он держал в руке две пятитысячных купюры.
– Поехали, отметим, Петька.
– Ну я не знаю, Виталик.
– Ты меня так выручил, я тебя должен отблагодарить. Да тебе завтра не надо никуда. Скажешь Людке: скатался в Москву, я вас там догнал. Ну?
Дядя Петя посомневался-посомневался для приличия, да и согласился. Мы вышли из аэропорта в ночной холод и темноту, глянули на небо без звезд и нырнули в такси. Город был весь в огнях, я до того ничего не видел, что бы так сияло. Когда мы проехали по сверкавшей синей подсветкой кольцевой развязке в центре, я запищал от восторга. Когда меня везли в аэропорт, то я и не замечал, как все красиво, а теперь у меня глаза болели от всего прекрасного. Такая была красота, все сверкало, в центре каждая бетонная коробочка горела, и сколько было магазинов, некоторые еще работали, и я смотрел на блистающие вывески.
Не Москва, надо думать, не Москва, а как меня тогда торкнуло. Москвой уже так не впечатлишься, подумал тогда я, и мелькнула у меня еще какая-то смутная, взрослая мысль: сильнее меня, может, ничто в жизни не впечатлит, чем вся эта ночь. Я думал о маме, но без страха. Мне радостно было, что она существует, радостно было прорезать в вонючем такси, где меня укачало, такой красивый город. Мы приехали в гостиницу «Полярная звезда», чтобы, как выразился папка, в настоящем ресторане всю ночь кутить. Это было волшебно и празднично, было магией, сказкой.
Здание было строгое, мятное, как жвачка, и напомнило мне скорее музей, не так я представлял гостиницы. В самой архитектуре его была какая-то особенная сдержанность, делавшая его старше, чем оно есть. И там были колонны с очевидными от подсветки кудряшками-завитками, я долго рассматривал их. Еще это мог быть не музей, а какой-нибудь дворец века, может, восемнадцатого, я такие видел в передаче про Питер. Надо сказать, черный от ночи и истаявшего после резкого потепления снега асфальт и делал это волшебное место кусочком Питера, киношного Питера, императорского. А на тяжелых дверях, ведущих в ресторан, были такие кованые штуки, похожие на витые травы, я этому так удивился, кажется больше, чем всему остальному. Тоненькие такие железные завитушки, словно живые.
Я полюбил это место, всем своим сердцем. Теперь, думал я, сердце у меня точно открыто.
А в самом ресторане были длинные столы, накрытые белыми скатерками, похожими на распластанных призраков – вот такими они были чистыми, аж светились. Все в ту ночь светилось. Были красивые салфеточки, торчком стоявшие на тарелках, и ножи, в которые можно было смотреться, словно в зеркало. Отца тут знали.
В детстве я почему-то думал, что отец пьяный всегда. Отчасти для меня так оно и было: приезжая в Снежногорск, он себя не ограничивал. Трезвого отца я не помнил, увидел бы его – принял бы за чужого дядю.
А люди его не любили и боялись, но денег хотели, потому вели себя подобострастно. Мы сидели за красивым столом и ели красивую еду: черную икру, красную рыбу, оленину. Папашка с дядей Петей вели себя развязно, как какие-нибудь бояре, все подзывали вышколенных официантов, требовали еще чего-нибудь. Я таскал у них с тарелок закуски, а сам ел салат за салатом, овощи ассоциировались у меня с чем-то особенным, дорогим. У еды от свежести была какая-то прозрачность, звонкость вкуса, но я запихивал ее в себя быстро, потому что боялся, что мы уйдем.
После четвертой стопки водки появилась в дяде Пете какая-то развязность, расхлябанность, дерганность, весь он заалел, и я стал понимать его врача. Дядя Петя скинул пиджак, расстегнул пуговицу на выглаженной белой рубашке.
Папашка дурно на него влиял, дядя Петя был алкоголик в завязке, вот теперь мне это было видно.
Они заедали водку бутербродами с красной рыбой и говорили о распаде Союза.
– Суки, никогда им не прощу свою молодость.
– А я рад был, хоть дышать теперь можно.
– И хорошо тебе дышится?
А меня мама в честь Бориса Ельцина назвала, папашка в шутку ей предлагал меня на дядю Колю переписать, чтоб я был Борис Николаевич. Вот как она Ельцина любила, у нее было много надежд. Где теперь надежды ее?
Молоденький официант принес мне тетрис, и я игрался себе в удовольствие, надеясь попробовать каждую из «9999999 игр». Брехня конечно, даже с повторами их было меньше. Но мне нравилось бы даже просто жать на пластиковые кнопки, главное, жевать вяленую оленину и слушать взрослые разговоры. Все было залито таким светом, казалось, волшебство в ресторане стало таким сильным, что могло отодвинуть от себя ночь, и оно отодвигало – здесь всегда бодрствовали. Ну и пусть их, официантов, для которых ночные дежурства – скучная рутина, я этого не знал, не хотел знать. Для меня здесь – всегда Новый год, когда засиживаешься допоздна, вкусно ешь и получаешь подарки, а взрослые становятся такими добрыми.
Ради одного этого дня можно было всю жизнь прожить, он меня изнутри согрел, я весь растаял.
Отец заказал мне мороженого – пять шариков: шоколадное, фисташковое, клубничное, крем-брюле и ореховое. Я дегустировал их и мешал, поливал горячим чаем, словом баловался. Дядя Петя говорил:
– Ты понимаешь, на чем я живу, Виталь? Было в жизни чудо где-то и когда-то. Не факт, что в моей, и отношение к этому у меня неоднозначное.
Так он хорошо говорил, с чувством, с интеллигентской красотой сказанного и с каким-то высоким надрывом.
– Ну да, – неожиданно согласился отец. – Было. Может, в детстве еще было, может, не с тобой, а как от этого живется на свете легко. Когда думаешь, что все бывает. Я, может, только для того живу, чтобы быть счастливым.
А я молчал, хотя до того время от времени встревал в их разговор. Мне хотелось сохранить мой маленький секрет: чудо происходило, сейчас и со мной.
В шесть утра папашка расплакался над салатом оливье, потому что вкус у него был точь-в-точь как у того, что мамка готовила.
– Я ее любил, – говорил отец. – Петь, я ее любил. Бил ее смертным боем иногда, но ненависти у меня не было никакой. Я ее даже бил от любви.
Выплакавшись, отец оставил две пятитысячные купюры на столе, и мы отправились домой. Тетрис я умыкнул, играл в него, пока мы ехали в такси, ловил слабые всполохи огней на пластиковой поверхности. Утро после бессонной ночи – это всегда отходняк, чистый ты или нет.
У меня болела голова, от прокуренного салона меня тошнило, огней стало меньше, и отец был такой пьяный, что все время засыпал, я думал, сумеет ли он дойти до квартиры.
Он меня поразил, дошел, да еще и ключ в замок вставил, проворно так. Воздух стал совсем холодным, у утра был морозный привкус, и оно было очень черным.
В квартире было тихо-тихо, когда мы вошли, и совсем темно. Дядя Петя принялся цитировать Мандельштама. Вернее, это я потом узнал, что Мандельштама, а тогда мне казалось, что дядя Петя просто поехал. Отец неопределенно махнул рукой:
– Туда иди. Там спи.
– Спасибо, Виталь, не забуду тебе.
Отец порывисто обнял его, потом привалился к стене.
– А ты иди туда.
Я решил его не злить, по пьяни-то он силу так себе рассчитывал.
Я вошел в темную комнату, увидел удобный, широкий диван, на нем была подушка, вся в пятнах от чая, но такая мягкая, а в шкафу я нашел плед со всякими смешными индийскими огурцами. Меня охватила приятная усталость, от нее что в голове, что в груди разлилось отупляющее тепло. Я вышел на балкон, отрезвев от холодного воздуха, попялился на водовороты темноты, из которых лезла смерть.
Но мы хорошо справлялись. Мы, и все другие люди, ведь жили, и жили лучше, чем сотню лет назад. А чего еще надо Матеньке? А чего еще надо нам?
Я лег в постель, укрылся пледом и обнял украденный тетрис, прижался губами к прохладному пластику. И не заснулось сразу, и не прояснилось, я полежал в приятном тумане какое-то время, но в конце концов отрубился.
А утром папашка ходил по квартире так угрожающе (я знал этот шаг), так жутенько, что я не стал показываться. К полудню отец с дядей Петей ушли, ни слова друг другу не сказав, а я вышел позавтракать молоком и черствым хлебом. Часа через два вернулся папашка, раскрасневшийся от холода и с целым пакетом книг. Выглядели они так, будто он их с помойки достал и, скорее всего, оно так и было.
– Буквы знаешь?
– Почти все.
– Будешь учиться читать, пока меня не будет. Займешь себя. Я приеду, проверю. Лучше тебе не деградировать тут перед теликом, пока я работаю.
– А где ты будешь?
– В Питер поеду. Я с соседями поговорил, денег им дал. Если проблемы будут, ты к ним иди. И кормить они тебя будут. Я тебе кое-какие деньги оставлю на всякий случай, они под комодом, в конверте, приклеенном скотчем.
– А чего, я все могу потратить?
– Потратишь все – я тебе башку отверну. Там много.
Вот бы ему такое вчера кто сказал.
Он поцеловал меня в лоб и уехал, я неделю его не видел. Зато учился читать. Я знал многие буквы, но не все, это было как детективная история: угадай слово, сравни с другими. Ну так чего? Это что за буква?
Среди книжек, которые отец привез, были не только детские сказки, но и «Жизнь двенадцати Цезарей», и «Архипелаг ГУЛАГ», и «Прощай, оружие», а мне все было интересно. Вообще-то античной литературы было особенно много, всякие Софоклы там и прочие Еврипиды, был даже парень по имени Витрувий, который скучно что-то там про архитектуру объяснял, я не осилил.
Я себе хорошо представлял хозяина этих книг – разочарованного во всем филолога-латиниста, ставшего охранником или торгашом. Правильно, мужик, в книгах-то оно все не так, как в жизни. Тебе там такого наобещали, а ничего не сбылось.
С соседями я познакомился, ходил к ним, главным образом ради общения, ради человеческого, значит, тепла.
Я был ласковым ребенком и болтливым, а что еще им надо было, чтобы полюбить меня? И я не доставлял им проблем, ну боже мой, кому это теперь важно, но правда – не доставлял.
Прошло, наверное, дней пять, и все было в порядке, только ночами становилось одиноко. Однажды в дверь позвонили. Я еще не спал, поэтому не испугался. Поставил к двери табуретку, встал на нее, заглянул в глазок и увидел маму. Вода вытекала у нее из носа, но я знал, что все будет хорошо.
Я открыл ей дверь, и мы пошли пить чай.
Глава 2. Бог велит помирать, а я не хочу
Ну чего, дядя Коля и мамка моя кончились, когда им время не пришло, если по факту. Но старики не легче помирают, может сложнее даже. У них привычка к жизни формируется, к миру, они с трудом с него слезают.
Даже очень слабые, даже очень больные, вцепляются в тебя, чтобы ты не отпускал их в смерть. Это мне отец рассказывал. Его мамка, моя, значит, бабка, тяжело умирала – по онкологии, что-то женское еще, какая-то темная страшная тайна. И вот они с дядей Колей ее досматривали, а она бросалась в них вилками, кричала, била по голове со всех своих увядающих сил.
Потому что они были здоровые, были молодые, а она уходила отсюда к чертовой матери. До кровавых соплей она им завидовала. Не хотела умирать. На изголовье родительской кровати (теперь родительской) оставила она такие толстые проплешины из-под ногтей, что в детстве я думал, будто отец держал в квартире чудовище.
Бабка пожила, ну, нормально, с двадцатого что ли года, она не крыса была. Это мы много болеем, если делаем, что надо, болеем, а потом умираем. Так что я ее никогда не жалел – больше себя она никого (из живых) не любила, и ее так, как она себя, никто не любил. Одинокий была человек.
Но иногда на нее, старую, злобную суку, нападала вдруг какая-то томительная печаль, и она садилась между отцом и дядей Колей, которого всегда, даже швыряясь в него стаканами, называла Коленькой, и склоняла свою облысевшую голову.
Она была совсем маленькая от болезни, чего-то в ней вечно недоставало, было от нее уже ощущение наполовину ушедшего человека, а в такие моменты оно усиливалось.
Ну и вот, бабка говорила:
– Бог велит помирать, а я не хочу.
Она не смела просить ни о чем Волка, хоть всю жизнь и прослужила ему честным трудом (никому ничего не спустила и была справедливой). Она не смела просить Бога.
– У ней глаза были, – рассказывал отец, – что у задушенного котенка.
И начинала она горько плакать, ее плечи дрожали, а отец с дядей Колей сидели неподвижно.
– Всю жизнь я трудилась, всю жизнь работала, мне и вспомнить-то нечего, а умирать не хочу. Это как так получилось?
Никто не знал, что ей ответить.
– А может, я там с Гришкой встречусь, – говорила она, и лицо ее вдруг светлело.
– Да, – рассказывал папашка. – Она излучала какой-то странный внутренний свет. У Рембрандта такой на картинах, понимаешь?
Отец был советский инженер. Он знал картины Рембрандта.
Ну про Гришку-то, кстати! Хер с ними, с историями про смерть, кого хочешь они замучают, так что будет история про любовь. Но, тут надо сразу предупредить, у отца моего отчество – Иванович.
Если у зверика с человеком случится, то их ребенок, скорее всего, человеком и будет, без всякого особенного. Ну, может в одном из четырех случаев зверик получится. Если между звериками такое случится, то ребенок станет как отец. Бабка моя волчицею была, а дед крысой, и сыновья его – тоже крысы. Но история-то почти не о них.
У бабки моей был человек, они тогда, молодые да горячие, строили коммунизм на Урале, она приехала туда из села под Тверью, и сердце у нее пылало. Ну чего, суть да дело, в восемнадцать лет полюбила паренька и на волне всеобщего освобождения от буржуазных условностей задумала с ним жить, расписаться.
А в нее ходил влюбленный мой дед. И вот (а годы были опасные) увозят ее милого на черном воронке в дальние дали, из которых он никогда не вернется. Она и не знала, за что. Дед мой, конечно, тут как тут, и поможет по хозяйству, и родителей ей схоронил, и такой покладистый малый, слова ей против не скажет, ну да, пьет, как все, да хоть не гуляет.
Думала она всю жизнь, что использовала его, что обманула, потому что не любила, а жила с ним – по расчету. По расчету с ним в постель легла, по расчету ему детей родила под самый климакс, по расчету ему жрать готовила, по расчету трусы стирала, по расчету досматривала его, когда задыхался и гноился весь.
Ну и умер он, а бабка все виноватится, но и про Гришку своего вспоминает, любовь у нее столько лет прожила.
Они уже давно с дедом из Нижневартовска уехали, в Норильске осели, уже и дети их выросли. И вот открывают архивы. Ей нужно было родственников Гришкиных найти, и она искала, хотя давно все концы в воду. Потом, значит, я родился, на руинах рухнувшего мира, последыш соцлагеря. А потом у бабки получилось о Гришке разузнать, хоть она уже и больная была, а как старалась. Вместе с сестрой его какой-то, седьмой водой на киселе, получили они Гришкино дело. И чей донос-то оказался?
Шустова Ивана Алексеевича, значит.
Она, между прочим, уже тридцать с хреном лет его фамилию носила, и дети ее носили.
Ну, она вернулась домой, взяла мусорное ведро, сходила на кладбище да вылила на могилу помои. Долго плакала, что он ее жизнь украл, а теперь и его нет, чтобы отомстить. Она б его убила, может, да он успел на тот свет свалить лет семь как. Теперь и ей пора.
Вот, значит, про любовь история, про то, как мертвый Гришка помог моей бабке смириться и со своей будущей смертью. Хороший был человек. Так она рассказывала.
* * *
А что про меня, ну я рос и дальше, с папой, в нашей квартире, я остался в Снежногорске и собирался пойти тут в школу – все шло своим чередом. Мамка приходила не часто, но в любом людном месте я ее непременно видел. Когда приходила, я ставил перед ней чашку чая, а она не пила (не то потому что мертвая была, не то потому что она лишь мое воспоминание), а только руки грела.
Смотрела на меня, расспрашивала, а о себе ничего не отвечала. Я подолгу рассказывал ей, как живу, читал книжки и показывал ей все игры на тетрисе. Она смеялась, говорила, смотрела на меня пронзительно и темно, она даже обнимала меня ночами, и хрен с ним, с холодом ее рук, мне было плевать.
– Ну, сынок, совсем ты у меня взрослый, – говорила она с гордостью. – Скоро пойдешь в школу.
Когда пошел в школу, стала спрашивать, куда буду поступать. Была бы жива, подумал я, никогда б не спросила. Но на том свете не побухаешь, в этом я был уверен.
Годы шли, и я взрослел. Любил отца, ненавидел его, смерти желал ему, а потом доброго здоровья.
Он меня отправил обратно в Снежногорск, там подолгу оставлял одного, в отрезанном от мира, морозном городишке, и я учился быть взрослым и ничего не бояться, слушался мамку, когда приходила, а в остальном был в ответе только перед самим собой. Ходил в Снежногорскую школу под номером двадцать четыре (удивляясь, вместе со всеми, где остальные двадцать три школы на наши двадцать домов), учился когда хорошо, а когда так себе, книжки читал – много читал. У нас в Снежногорске вообще много читали, мы были у мира на самом краю, даже новости смотреть не интересно, одно волнует – что там в вечности.
Жалел я, что не доехал до Ивано-Франковска?
Когда как. В основном, нет. Вот дядя Петя, наверное, жалел, он в ту ночь сорвался, и лечился потом с переменным успехом в наркологичке, там его, говорил, привязывали к кровати и кормили старыми глазированными сырками – не в качестве лечения, а для экономии денег.
Был у меня и друг, Юрик. Отличный парень, со скуки он нюхал клей. Я пару раз пробовал, но то ли не было мне так скучно, то ли отец вовремя заставил меня с ним бухать – меня не тянуло.
Мы с Юриком забирались на крышу и обсуждали, как так вышло, что Нина Заречная любила театр, а он ее нет. Юрик был безобидный, почти интеллигентный человек, рост его в четырнадцать, однако, равнялся ста восьмидесяти сантиметрам, и комплекция у него была соответствующая. На Большой земле ему пришлось бы туго, его бы все боялись. Но здесь, в нашем единственном восьмом классе, было всего семь учеников, пятеро из которых вообще ученицы. Они вкусно пахли, особенно девушка с прекрасным южным именем Лада. Мне ее хотелось, а ее отец работал на ГЭС и приучил ее к мысли о том, что за физикой – будущее.
Ну и пусть, что по мне будущее было за поцелуями взасос.
Еще что? Ну, историк у нас был шикарный, убежденный старичок из шестидесятников, едва дышал, но говорил вдохновенно, любил потрепаться про великие ценности, в том числе и культурные. Мне нравилось слушать, я иногда даже записывал за ним. Вот какие вещи он, например, говорил.
«У человека не может быть, а просто должен иметься эмоциональный капитал, вера, надежда и любовь к ближнему. Нельзя жить без этого, без этого не жизнь. Помогать слабым, отстающим, вот что должен делать сильный, вот для чего сила вообще».
Прекраснодушный он был старичок, не разбавился к концу своих дней кислым цинизмом, и тем меня очаровал раз и навсегда.
Из столовой я воровал котлеты, и мне это прощали.
А соседи, две улыбчивые бабули-близняшки, всегда приглашали меня на Новый год – подвигать стол и поесть. Они меня любили – отдали свою жизнь ГЭС, и теперь не знали, куда ее девать, а тут – совершенно чужой ребенок, о котором некому заботиться.
Я и все мои знакомые, это, ох, не объяснишь, были в тайном сговоре. Каждому было выгодно, чтобы ситуация со мной оставалась мутной, непонятной. Эмоциональный капитал они так доставали: веру, надежду и любовь к ближнему.
Но я был не в обиде, у меня с этого свои выгоды имелись.
Это я хочу рассказать, как я жил: про мертвую мою мамку, про школьные котлетки, про милых, добрых людей вокруг, про город, с мясом оторванный от всего на свете, про книжки и пьянки с отцом.
Отец, ну ни хера он не исправился, и странно, если б по-другому было. Всякий раз, ощупывая мне нос или смотря на какой-нибудь особенно классный синяк, он обещал купить мне что-нибудь. Уже видики сменились ди-ви-ди плеерами, он даже начал обещать мне компьютер, но все было по-прежнему. Но и успокаивающая была это, если честно, мысль. Что-то в жизни есть постоянное, это всегда радость.
Мы с ним много разговаривали, он вдруг, где-то между тем, как выбил мне коренной зуб, и тем, как мне исполнилось тринадцать, начал воспринимать меня как равного: наливать мне водки и делиться своими мыслями. Он говорил, что через пару лет возьмет меня под землю, покажет, что я буду делать, когда окончательно вырасту.
Отец не хотел, чтобы я приступал раньше, потому что любил меня. Ему было нужно, чтобы моя жизнь сложилась лучше, чем его. А кашлял отец все страшнее и страшнее, один раз, не то от водки, не то от смертной темноты, у него начались сильные судороги, угарный он был такой, совсем на отца не похожий.
Я старался жить без жалости в сердце, ну к нему так точно. Но я любил, когда он приезжал. Однажды мы с ним глушились водярой на кухне, и отец, закурив, вдруг сказал:
– Ты помнишь, ты мне в детстве говорил, что надо себя жалеть? Борь, я ведь совсем не помню, чтобы боялся умереть. В детстве, может, но как-то чуть-чуть. Человек должен за что-то умереть.
Он сплюнул в пепельницу, показал мне желтые зубы.
– Нам с тобой повезло. Нам есть за что умирать.
Ну так себе заявление, конечно. Я чуть не подавился.
– За шкуру свою трястись – последнее дело. Ты ж ничто. Ты так, пыль. Есть вещи лучше, больше – семья, Родина, мир. Всегда что-нибудь найдется. Себя любить нельзя, а то начнешь жалеть. Тогда и оскотинишься, тогда желудок набить важнее будет, чем…
Он посмотрел на меня. Зрачки у него были почти неподвижные, как у мертвой мамки. Вот потому и говорят: мертвецки пьян. Как мертвец – натурально.
– …чем большая история. Чем чтобы наступило завтра.
– Прикольненько, – сказал я, закуривая.
Я покачивался на табуретке, напряженно на него посматривая.
– Что тебе прикольненько, Боря? Поколение твое – зажравшиеся мудаки. Людовики, блядь, Пятнадцатые, Тиберии, мать вашу.
Во прикол. А как же деграднуть хорошенько у себя там, в подземелье?
– Ну и? – спросил я. – Я натурально прям не понял, что в этом такого? У тебя, папаш, великое сердце, но ты пропился.
Он стукнул кулаком по столу, так что стаканы подпрыгнули, по-девичьи жалобно звякнули. Я замолчал, конечно. Отец крепко затянулся и сказал:
– Я твою душу спасти хочу. Ты не понимаешь. Умирать все равно придется. От смерти нечего бегать.
Он знал мою страшную тайну, что жить я хочу хорошо, не как он.
– Пап, – сказал я, наливая ему водки. – Ты в коммунизм верил?
Он усмехнулся.
– Да кто им, паскудам, верил?
– А почему все ругаешься, что коммунистов выгнали?
Он задумался.
– Мне нравится, – сказал он, – жить в большой стране. В империи. Моя маленькая жизнь, маленькая работа, она тогда значительнее, яснее. Крысы, Борь, живут колониями, мы социальные существа. Сама Матенька завещала нам держаться рядом.
– А мы друг друга кусаем.
– Так кто теперь Матенькину волю-то помнит?
Я затушил сигарету, во рту было горько, больно в голове, и я смотрел в окно, на бесконечную полярную ночь – всюду темень, словно навсегда.
– Ну и вот, – сказал я. – И вот. Ты, значит, себе придумал, что ты коммунист.
Он отреагировал неожиданно спокойно, едва заметно кивнул, позволяя мне продолжить.
– Так и все остальное придумал. Не важно тебе, за что умирать. Тут первично, что ты умереть хочешь, а не большая там, великая цель.
– Чего, не веришь никому и ничему?
– Не-а.
– Я тоже. Но меня это хотя бы парило.
– Я вдруг подумал, па, что жизнь – это баблосы. И вокруг тебя полно банков, куда их можно вложить. Вот, не знаю, баба Света с бабой Томой, они выбрали ГЭС, всю жизнь ей отдали, ты канализации строишь и землю очищаешь, кто-то молитвы читает, кто-то пишет стихи. Все куда-то вкладывают. А я не хочу вкладывать, я же знаю, что это не окупится, не в этой жизни. Я хочу тратить. Ты понял меня, па? Что я тебе сказать хочу, ты понял?
Отец захохотал, закашлялся, снова сплюнул мокроту – плевок весь был в тоненьких, прорастающих в вязкой слюне кровяных прожилках. Красиво.
– Мозговитый ты у меня. Думаешь, всех наебали, а тебя нет?
Он схватил меня за подбородок, больно, до хруста, сжал, я чувствовал его большие пальцы на своих деснах, будто он собирался выдавить мне зубы. Но я смотрел на него, только и всего. И ничего-то страшного в тебе нет.
Это я маленький был, боялся, а сейчас – обычное дело. Отец задумчиво посмотрел на меня.
– Смелый ты стал. Взрослеешь. А я не вижу.
Еще некоторое время мы курили и молчали, потом отец плеснул себе еще, взглянул слепыми глазами в окно, рукой коснулся дрожащего от вьюги стекла.
– Мы с тобой поедем в Лос-Анджелес. Так что со всем прощайся.
Я так и замер с незажженной сигаретой в руке. Вот ничего я абсурднее не слышал, слово «Лос-Анджелес» прозвучало в Снежногорске, как заклинание на шумерском языке. Какой Лос-Анджелес? Я в такую вьюгу даже не был уверен, что он существует.
Отец смотрел на меня, глаза у него были холодные, бесцветные. Он был серьезен.
– Круто, когда едем? – спросил я, стараясь оставаться спокойным.
– Послезавтра. Так что давай, попрощайся со всем, скажи «пока-пока, Снежногорск», и все дела.
– Ты мне только сейчас собирался это сказать?
– Нет, часа три назад, когда приехал. Забыл просто.
Я не мог представить, как это – оказаться под самым солнцем, в городе, который облизывает океан, в городе, где можно спать на улице.
– Одни проститутки там и фитнес-тренеры. Дерьмовый город. Но я работу хорошую нашел. Надолго.
Тут он темнил. Хорошая работа у него была всегда.
– Тебя уволили за пьянство, что ли?
Он меня ударил, не сильно, так, за наглость врезал по плечу. Но сработало.
– Нет. Это крысиные дела. Есть там мужик, любитель жар чужими руками загребать, конечно, но вещи говорит правильные.
Отец снова посмотрел на меня, сказал:
– Неважно. Тебе рано пока знать. Но ты будь готов. Как пионер.
Он постучал пальцем по пепельнице, поднял пару пылинок.
– Я все знаю, что ты скажешь, я ж не даун. Знаю, что ты не выбирал. Знаю, что хочешь по-другому жить. Знаю, что сейчас многие по-другому живут. Что забили на все, чтобы не страдать лишний раз. Вот и тебе хочется. Но ты у меня умрешь за то, что любишь. Я тебе обещаю.
– Ну, так себе перспектива. Я, может, люблю вкусно есть и книжку листать.
– Это ты себя обманываешь. Борь, ты послушай. Ты мог быть чьим угодно сыном, ничего не знать про темноту, про пустоту, про Матеньку, но родился ты у нас с Катькой. Мы ж тоже не выбирали.
– Все – заложники обстоятельств.
Вот к чему пришли даже.
Я встал из-за стола, принялся убирать посуду, но отец вдруг перехватил меня за запястье, дернул, тарелка выпала у меня из рук и разбилась.
– Да не обращай внимания, – сказал он, дыша перегаром. – На счастье. Борь, так нужно, ты мне просто поверь.
Ну будто ты знаешь, каково это – быть ребенком, таскаться за тобой, ублюдком, как на поводке. Я обрадовался, и в то же время нет. Нечто в его голосе (беспросветно унылое, если что) говорило о том, что уезжаем мы очень надолго, если не сказать навсегда.
Мне хотелось повидать мир, я представить себе не мог жару, потных копов с пончиками, девчоночек в мини-юбках и рестики с суши, и мне хотелось ощутить, как бесконечен океан. Но в то же время у меня была моя жизнь, какая есть, моя, одна такая.
А он просто взял и переставил меня, как фигурку на доске. Забыл, значит, сразу сказать, ведь какая разница?
Было мне четырнадцать годков, переходный возраст, гормоны и все дела.
Тут я охренел, конечно, начал убирать тарелку, потом сказал:
– Да хер с ней. Я спать.
Отец ничего мне не сказал, закурил еще одну сигарету и снова уставился в окно. Что-то он там видел, может, мамка моя под окном стояла. Или дядя Коля.
Я лежал на кровати, сбивая схематичные самолетики в игре на телефоне и думал: может, к дяде Пете сбежать. Он и в наркологичке часто лежит, мешать не будет, и в целом мужик хороший. Юрик написал мне смс-ку, спросил, будет ли завтра английский, я ответил, что пьяный в жопу и не знаю, что было не совсем правдой. Подождал, пока телефон ойкнет, почитал, как Юрику досадно, да и написал: я в Лос-Анджелес сваливаю, братан.
Прозвучало, как будто я все придумал, отчужденно совершенно. Даже не написал – а скопировал, слизал. Такое не выдумаешь.
Я посмотрел на три хохочущих смайлика и спрятал телефон под подушку. Как тогда выл ветер – с ума было сойти можно, честно, я чуть крышей не поехал.
Я думал о том, что где-то есть места, докуда этот ветер не достает. Мне с трудом в это верилось, и совсем уж я не думал, что скоро окажусь в таком месте сам.
Но истинная причина моей обиды, и на самом деле она была мне совершенно ясна, а чего обманываться-то, заключалась в том, что я не хотел иметь ничего общего с крысиными делами, потому что они убивали отца. Это, может быть, не так уж плохо, но я не хотел, чтобы то же самое случилось со мной.
До меня, а было мне, ну да, четырнадцать лет, вдруг начала доходить вся смехотворность дебильного нашего положения. Дауны, расплачивающиеся за чужие шутки, от которых мир херачит на части.
Мы не выбираем, где родиться, но хотя бы кем стать выбрать можно?
Уже засыпая, в мути подступающей темноты, думал я об Агамемноне и дочке его с идиотским именем, Ифигении. Ну, короче, греческий этот царь прикончил лань, обидел этим самым Артемиду (ее это была лань, а может, ей лани в принципе нравились), и она наслала штиль на море, чтобы греческие войска не могли направиться в Трою, а им надо было срочно там чего-нибудь учинить.
Такое дело – просто штиль, и ничего больше. Никаких огненных дождей не было, это понятно?
И Агамемнон этот, он все маялся, как целочка, прирезать дочь или как? Соберется – и откладывает, соберется – и откладывает. Там все благополучно кончилось, умерла вообще левая телочка, да еще и самоубилась, но суть-то была не в том.
Агамемнон, этот чувак, он думал, прикончить ли дочку, чтобы поднялся ветер.
Прирезать ли дочку, чтобы поднялся ветер?
Ножичком пырнуть ли дочку, чтобы поднялся ветер?
Снова, и снова, и снова. И я все думал – вот это прикол, мелочный ты чувак. А мой отец, он ведь тоже – Агамемнон.
Когда я, еще маленький и совсем одинокий, в Норильске, прочитал эту историю, то решил, что я выбрал бы дочку. Да если б надо было решить, дочка или весь мир, если б дочка тоже умерла со всеми на свете, все равно бы ее выбрал. Пусть бы знала, что мы умрем, но я ее люблю.
Вот какой я видел любовь, я думал, нужно так любить. А не любишь так – сердце у тебя из камня. Заснул я романтиком, а проснулся от того, что отец, мудила, стоял надо мной с сигаретой. Щека горела, как от укуса, секунду спустя я понял, что папашка скинул на меня пепел.
– Борис, вставай.
– А? Я тебя так завтра разбужу, понял?
– Я подумал, что надо дать тебе выбор. Всегда должен быть выбор у человека. Иначе это детсадовец, он живет без ответственности, без полного понимания.
Ты, скотина похмельная, думал я, великий, блядь, ум Красноярского края.
– Либо едешь со мной, либо вали в Хохляндию. Тебя там пригреют.
– Да я деда в жизни не видел.
– Вот и познакомишься.
– Круто это ты, конечно, придумал. Сразу захотелось сала, пойду билет возьму.
Отец был выбрит до синевы, я видел красноватые сосуды под его бледной кожей, акцентированные, болезненные. На руках у него были золотые перстни, в свете лампы они переливались, как куски летнего солнца. За окном еще было темно. Ближе к полудню спрятавшееся солнце будет отбрасывать чуточку света – наступят сумерки, чуточку побудут, да и сменятся новой ночью.
Я где-то слышал, что чукчи или еще какие эвенки считают, будто солнце – это большая грустная рыбина, плывущая по небу. Огромная и печальная, значит.
Ну хрен знает, может брехня, но история-то красивая. История мне нравилась.
Я потянулся к тумбочке, взял отцовскую пачку сигарет, не спеша закурил. Отец не отреагировал.
– Завтрак приготовь. И подумай о том, что я тебе сказал.
– Да я уже забыл, что ты мне там сказал.
Но отец только включил телик, сел перед ним в кресло. Раньше он любил шоу «Окна», до упаду над ним смеялся, а после него, говорил, ничего круче не придумали. С тех пор только новости смотрел. Красивая кареглазая телочка что-то вещала, но я не слушал, встал, зажав в зубах сигарету, чтобы не прижечь простыню, и пошел на кухню, готовить завтрак.
Ну, яичница подгорела, да и нечего горевать, съест и так. Кофе еще убежал, паскудно залил собою всю конфорку. Я ведь только и думал, что о Лос-Анджелесе. Там, наверное, все яркое такое, всего много. И мне было смешно, потому что я любил свою жизнь такой, какая она была, свой северный городок на краю мироздания.
А ведь должен был радоваться – отправлюсь в теплое, богатое место, буду там суши есть, мне про них отец рассказывал, ходить в кино и купаться. Еще вот на скейтах там люди гоняли, а я не умею. Я их вживую, надо сказать, и не видел, эти скейты, хотя мы с Юриком пытались один раз колеса от магазинной тележки, куда в продмаге складывали дешевку всякую, приделать к доске.
Правда, без особого успеха.
И все они там, в Лос-Анджелесе, не будут знать моего языка и понимать меня не будут, разные мы.
А все-таки любопытно, как там живется. Я Америкой не бредил, хотя отцу почему-то так казалось, но отчего бы мир не посмотреть?
Мы с отцом ели яичницу у телевизора, и в этот момент очень отчетливо не хватало мамы. Не потому, что она была ангельской домохозяйкой, выгнала бы нас на кухню и наварила каши. Не хватало здесь, рядом, в нашем семейном этом натюрморте.
Точно, натюрморте, не в портрете.
А ведь забыл бы ее, если б она не приходила ко мне и мертвой. Отец собирал хлебом желток, бездумно уставившись в телик. Он воспринимал его, может, как источник красок, будто рыбка аквариумная.
– Ну и что?
– Да ничего. В Хохляндию мне не особо хочется. Надо будет, поеду. А в Лос-Анджелес я когда еще сгоняю?
– Ну, ты езжай без радости все равно. Люди там лицемерные скоты.
– Да ладно?
Он легонько толкнул меня в бок, засмеялся, как всегда обнажая зубы. Рубашка у него на локте протерлась до прозрачности.
– Ну, иди тогда земные дела заканчивай.
– Я б неземные дела закончить хотел, но девчонка моя в Норильске.
Отец снова загоготал, настроение у него стало отменное.
– Да пиздуй уже, а то к вечеру метель опять.
Он прижал меня к себе и поцеловал в макушку – такое было высшее выражение отцовской нежности, он так любил. Было в нем и человеческое что-то, хорошее, ласковое. Пока я собирался, отец, не отрывая взгляда от телевизора, рассказывал мне:
– Видел про индусов передачу недавно в самолете. Про секту одну, как же их, туки или тухи, или тукхи, да и хер с ними, смысл в том, что они убивали ради богини разрушения, ради Кали, прям ритуально душили людей и ритуально их грабили. Вот, думаю, как можно грабеж обставить. Во славу своей богиньки. Такие лютые дядьки, ты представляешь? Говорят, прикончили два миллиона человек, ну за продолжительное время.
– Ну, прикол вообще. Это они грамотно рассудили, бандюков-то никто не считает, а тут религия, высший смысл. Разве плохо. Но вообще плохо, они ж людей убивают.
– Одно дело, когда себя защищаешь, а другое, когда так.
А в молодости, папашка еще студентом был, он одного парня так бил, так бил, и все по голове. Бил он его камнем, много-много раз, такая у него ярость была, а от чего – он никогда не рассказывал. Вроде говорил, что парнишка жив да на своих ногах ходит, а я даже маленьким не был уверен, что это так.
– Хорошо, что ты меня не в Индию везешь.
– Индусов, скотов, в Лос-Анжелесе много, кстати. Улыбаются тебе, улыбаются, а потом придушат. Восток – дело тонкое.
Отец выдохнул дым в экран телевизора, напомнив мне курителя опиума из старой викторианской иллюстрации к какому-нибудь детективу.
– Хорошее кино в самолетах показывают. Ну, я пошел.
– Подожди. Слушай, в Лос-Анджелесе там, ну, черным-черно. Хреново все. Как в любом большом городе. Людей много, тащат свою боль. Грязное все. Тебе сложно будет. Ты мало темноты видел. Будешь привыкать. Ничего этого трогать нельзя, помнишь?
Он помолчал и добавил уже совсем другим тоном, небрежным таким:
– Сигареты купи. «Мальборо».
– Приличным человеком, что ль, заделался?
Тут он швырнул что-то в мою сторону, я, правда, не увидел, какую вещь, надеялся, что не мою. Успел закрыть дверь.
Первым делом зашел я в продмаг, купил три коробки шоколадных конфет, импортных, и сигарет. Снабжали нас теперь получше, мамка б радовалась – сладкого было много.
Вторым, значит, делом зашел к бабе Томе и бабе Свете. Они были две одинаковые старушки, сухие-сухие, с пушистыми головами, как вербочки. По всему дому у них были книги, физика да инженерия всякая, и классика, конечно, целый шкаф с Толстым, Чеховым и Достоевским – без них никуда.
От мата они дрожали, как осиновые листочки, верили только в хорошее и тихонько плакали, когда наступал День Победы. Я их любил беззаветно, они меня тоже любили, мне хотелось напоследок сказать им какое-нибудь доброе слово.
Открыла мне баба Тома (я их отличал по шрамику на руке, это баба Тома в детстве ракушкой на реке порезалась).
– Боренька!
– А, привет. Я тут конфет принес, тебе и бабе Свете.
С детства был у них такой пунктик – у каждой должна быть своя вещь, все разное. Они отлично знали, где чья ложка, где чья тарелка, никогда не брали их наугад.
– Проходи скорее, Боренька, мы тебе чаю нальем.
Она положила свою дрожащую руку мне на плечо, у нее были костлявые, как у смерти, пальцы. Я испытывал особую слабость к несчастным людям, к стареньким, больным, к сирым и убогим, к людям в печали, в раздрае. Мне рядом с ними было по-человечески хорошо.
От бабы Томы пахло мукой и чуточку – жаром, наверное, пироги пекли. Пока длилась полярная ночь, им было совсем уж нудно от этой жизни, они читали да готовили, больше ничего не делали. Хорошо, что глаза сберегли, а то не осталось бы радости.
– В доме-то капремонт затеяли. Ты отцу скажи, как приедет, хорошо?
– Да он приехал.
Мне так захотелось ее обнять, она посмотрела на меня с этой любовью в вечно поблескивающих старых глазах, и я сразу весь нагрелся, оттаял, хотя собирался хранить мужество.
Кухня у них была узенькая, тесная, но такая аккуратная, такая чистая, и пахло здесь всегда хорошо, не только едой, но и каким-то иным теплом. Баба Света как раз запихнула пирожки на противне в духовку, сказала:
– Будут с вишней, ты подождешь?
– Я за ними вечером зайду, на чуть-чуть пришел.
– Нет уж, нет уж. Энтропия растет.
Поздравляю с наступающим, энтропия растет, так пел Егор Летов. А баба Света имела в виду, что пирожки будут холодные уже и не такие свежие к тому же. Еще баба Света любила говорить, что энтропия – величина аддитивная, когда я рассказывал ей что-нибудь о нашей семье. Это она имела в виду, что мудачество семейства равно сумме мудачеств всех его членов. Справедливо, так-то.
Баба Света любила энтропию несмотря на то, что та угрожала ее вот-вот поглотить.
Ну и пришлось ждать пирожков. Мы пили чай, баба Тома и баба Света открыли обе коробки конфет – для справедливости. Они б и ребенка разрубили. Хорошо, что ни у одной детей не было.
Я хотел было быстренько сказать, что уезжаю, а получился разговор на два с половиной часа. Они смотрели на меня и кивали, гладили по руке, и за одно это я им готов был всю квартиру языком вылизать, миллион мешков муки притащить.
Хотел я ласки.
Ну, они сочувствовали, конечно.
– Толку с твоего отца не будет, хоть голова у него и светлая была. Ты учись хорошо и в институт там поступай.
Я чуть не расплакался, честное слово.
Прощались мы с ними, как перед войной, они меня крепко в щеки целовали и благословляли атеистически (стоические они были атеистки семидесяти восьми лет).
Ладно. В-третьих, зашел я к своему историку, молча выдал ему коробку конфет, что уезжаю не сказал, чтоб проблем не было.
Он обрадовался, пригласил чай пить, но тут уж я отказался. Тогда вдруг он на меня посмотрел и говорит:
– Тебе бы, Борис, больше к учебе рвения проявлять.
– Да я буду, вы не волнуйтесь.
– У тебя светлая голова.
И заиграло это странно, потому что про светлую отцовскую голову только что сказали баба Тома с бабой Светой.
– Жутко смотреть, как ты себя губишь, Борис.
Я вот чего заметил, учителя называют детей по имени до нудного часто – такое у них, значит, нейролингвистическое программирование. Может, доминирование устанавливают или еще чего.
– А я себя не гублю, это у вас зрение, видать, плохое стало, что вы так смотрите.
– Такая душа у тебя, чувствительный, искренний юноша, такое сердце, такой ум, а ты из себя кого делаешь?
– Человека из себя делаю, Ярослав Михайлович. Как вы сказали.
– И не издевайся. Я тебе говорю – потенциал у тебя есть стать хорошим, умным человеком. Как же его гробить можно?
– Хорошего человека угробить нельзя, я в это искренне верю, вы меня сами такому научили. Ну, бывайте, я пошел.
– Борис, у тебя, может, случилось что?
– Не. До понедельника тогда.
А потом будет у него сопливая история, как я приходил, а он не понял, что я прощался.
К Юрику я пришел без коробки конфет, вообще без всего, потому что клей в продмаге нам давно уже не продавали. Он вышел поговорить на лестницу.
– Ты извини, меня наказали. Теперь дома сижу.
– Ну, понятно все с тобой. У меня все наоборот, я теперь по миру пойду.
– Да не верю я тебе.
Юрик почесал затылок этим своим неосторожным, размашистым, медвежьим движением.
– А я за ум решил взяться, – добавил он.
– Ну и даю тебе добро. Можешь с Ладкой закрутить, если хочешь. Она меня не любит.
– Тебя послушать, никто тебя не любит.
Тут уж какая у кого доля.
– Но я зато всем нравлюсь. Но я не про то. Ты чего без меня делать будешь?
– С девчонками тусоваться, наверное. Но, может, у родителей на следующий год с Питером получится. Тогда туда махнем.
Он неопределенно двинул рукой куда-то влево. Я лично не был уверен, что Питер – это туда.
– А ты скоро вернешься?
– Да хрен знает. Когда-нибудь точно вернусь, когда ностальгия замучает.
– Ты приколись, там такое все, как в кинохах. Типа как в «Форсаже» или в «Большом Лебовски».
– В «Бешеных псах» еще.
– И в «Без лица». Вдохновляюще, не?
Я засмеялся. Тут Юрикова мама крикнула:
– Юр, всё! Поговорил и будет. Ты ему скажи.
– Да говорю я.
Он прошептал:
– Слушай, я на тебя все свалил.
– Ай, да не страшно, я б так же поступил.
– Ну, друзья навсегда тогда.
– Надолго так точно.
Мы обнялись по-мужски, повздыхали немного да и расстались навсегда. Я еще некоторое время стоял на заплеванной лестнице, курил, и от дыма у меня слезились глаза (только от дыма, честно!).
Наконец, я зашел домой, кинул отцу сигареты, взял мамину лопату и опять умотал. Папашка и не спросил ничего.
Уже темнело, холод совсем лютый, я пока дошел до кладбища, весь стал красный. Но хоть метель не поднялась.
Там, на кладбище, я нашел мамкину могилу. Весь день мамку увидеть думал, а она и не пришла на меня посмотреть.
Могила, подумаешь, не так оно важно. Во мне ее могила была. А поди ж ты – проняло. Снега намело, это жуть, я его стал снимать слой за слоем, руки болели от мороза, но я был упрямый.
Вот, наконец, черная земля показалась, я тогда отбросил лопату, согнул и разогнул пальцы, с трудом, надо сказать, посмотрел на фотку мамину – всегда она молодая.
– Я тебя люблю, – так я говорил. – Ты бы мне дала совет, или что?
Но никаких советов, вообще никаких ответов. Молчание, и я один.
– Вот как мне уезжать оттуда, где мы с тобой были счастливы?
Да бери и уезжай, Боречка. Это я сам себе ответил. Не она.
И так мне было холодно, я сам себя обнял и весь дрожал. А потом вдруг опустился на колени да прижался губами к мерзлой земле на ее могиле, к самому сердцу страны моей, такой моей.
Могилу, значит, целовал.
Глава 3. Умственная работа
Ну а прадед мой, дедов, значит, отец, отцов дед, он в НКВД служил, прям тем, кто стрелял, когда говорили, безоружным людям в затылки. Стоял у расстрельного рва. Какие были приказы – такие становились люди. Было время.
Что он об этом говорил? Работа, говорил, не мешки, конечно, ворочать. Ему нравилось, и платили хорошо, за вредность, так сказать.
Ну, еще говорил, что работа в первую очередь умственная. Так-то рука, конечно, устает на курок нажимать, но в остальном это прежде всего дело ума – стрелять, не стрелять. Каждый раз надо себя заставить, каждый раз надо решить, на вопрос на важный ответить.
Но это прадед деду рассказывал, дед – папашке, а тот уже мне – через третьи руки, значит, все быльем поросло. Ну, а чего теперь? Я для чего все это помнил и хранил? Не чтобы рассказать кому-нибудь, это точно, но чтоб подумать. Для умственной работы.
Прадед говорил, что решение стрелять принимаешь не сердцем, а головой, сердцем его принять невозможно – разорвется, не выдержит. Такой был чувствительный человек. Его после войны и самого расстреляли, когда были чистки. Бабка послушала-послушала, как дед ноет, да и сказала:
– А и не жалко.
Чекистов она до смерти не любила.
Ладно, значит про меня. Пришел я когда, весь до костей промерзший, отец меня так стукнул башкой об стену, что у меня в глазах потемнело – как-то с одной стороны.
– Ты какого хуя шляешься в такую метель?
У него испуг за меня был какой-то спорадический, как появлялся, так и исчезал, и снова появлялся. Оставлять меня одного неделями он совсем не боялся, а что я в метель помру, то его вдруг взволновало.
От злости у меня потом весь вечер язвы мои чесались. Я их с детства помнил, еще маленький был, когда они появились – крошечные язвочки на спине, на животе, под коленками, да везде, если честно. Одни проходили, другие появлялись. Эти язвочки подгнаивались, не были они похожи ни на прыщи, ни на ссадины, ни на псор. Скорее как стоматит были, только не во рту. Баба Тома говорила, что это от грязи и надо мыться хозяйственным мылом.
Весь вечер я сдирал ногтями желтовато-красные корочки и так кипел, что даже не грустил о том, что уезжаю, только думал, что ночью его как-нибудь по башке молотком ударю. Он и не поймет, что случилось.
Это тоже умственная работа, как у прадеда моего, – готовиться к тому, чтобы человека убить.
К вечеру отец стал кашлять – с ним бывало. Приступы у него были затяжные, он хватался за что-то, как утопающий, и долго дохал, пока у него носом не шла кровь и сосуды в глазах не лопались.
Я ему часто говорил: надо врача вызывать. Но то ведь как: ну поохает врач, поахает, вызовет вертолет, чтобы в Норильск его везти, а сделать и в Норильске ничего не смогут, и в Москве, и в Тель-Авиве. Тут уж неважно, надо помирать так надо.
Кашлял он долго, но я на него даже не смотрел, желал ему легкой смерти, или чтоб после всего добрый и ласковый стал – с ним бывало.
Я уже и в постель лечь успел, почти даже заснул, когда приступ его прекратился так же внезапно, как и начался. У кровати моей стоял чемодан, папашка споткнулся об него, когда ко мне подошел.
– Борь, ты спишь?
Голос у него был спокойный, ласковый. Страшно поди одному помирать, вмиг подобрел.
– Ну, более или менее, а тебе чего?
– Ты меня тоже пойми.
– Чего мне тебя понимать, нужен ты мне, что ли, тебя понимать?
Он сел рядом, положил руку мне на голову, шишку потер, словно на удачу.
– Ну, завтра поедем в Лос-Анджелес. Там у тебя все будет, что ты захочешь. Денег много, я для тебя ничего не пожалею.
– Ну, круто теперь.
И он вдруг мне такое сказал:
– Борь, а ты думаешь мне не обидно, что ты умирать, как я, не хочешь?
– Ты меня по голове ударил, я теперь вообще не думаю, отгребись уже.
Я перевернулся на другой бок, но отец продолжил гладить меня по голове.
– Я и сам на деле не знаю. С одной стороны, я хочу, чтобы ты жил лучше меня, а с другой – у меня нет наглости думать, что моя жизнь важнее всего мира.
И чего он привязался? Как чувствовал все, что я ему говорить и не собирался. Я делал вид, что сплю.
– Ты – мой единственный сын, ты от меня кусочек, от женщины, которую я любил больше всех на свете. Думаешь, мне тебя не жалко? А все-таки, где б мы были, если б друг друга жалели?
Тоскливо ему теперь, захотелось хорошим отцом стать, но я ему такого удовольствия не дам, так я решил. Ничего не ответил, а он все гладил и гладил меня по голове, пока я не уснул.
Утром пришлось со всеми братиками и сестричками попрощаться, они, пушистые комочки, и понять не могли, что я насовсем уезжаю, спрашивали, ухожу ли я умирать, пищали. Я им скормил все, что оставалось в холодильнике, пока отец мылся.
Я знал одно: американские братишки и сестрички будут понимать меня точно так же, как русские. Если будет совсем плохо, стану с ними общаться.
Разумеется, я боялся, ну а кто б не боялся – на моем-то месте? Жалел вот о том, что английский прогуливал, но все-таки знал, что приспособлюсь. Это головой я был нервный, а сердце у меня оставалось спокойным.
– Вот уеду, – говорил я. – Кто вас будет кормить?
Ну, Матенька-то корм всегда даст, надо только по сторонам глядеть, а все-таки приятно быть значимым.
– Борь, собирайся давай, а то с тобой опоздаем.
– А, ну я да, я почти уже.
А человек, он в любом случае ждет хорошего. Он и от смерти ждет хорошего – оттого все мечты о рае. Мамка не пришла попрощаться, и это меня даже чуточку успокоило. Значило, должно быть, что она за мной последует. А все остальное можно было и оставить.
Взял я чемодан, и мы пошли. Снега вокруг, ну просто горы, смотреть невозможно, глаза щиплет от белизны и холода. И еще мело. Я крикнул отцу:
– А к тебе она приходит?
Он сразу понял, о чем я говорю.
– Да, конечно. Не так часто, как мне б хотелось. Но она со мной.
– А которая из них настоящая?
– И та, и та. Это все она, мы ж ее разделили.
Была одна мамка, а стало, значит, две. Метель хоть чуточку, но унялась, а то б мы не улетели, а у нас самолет и билеты. Снова я смотрел на тайгу с высоты, но теперь она была белая-белая, только острые верхушки деревьев из этой белизны выныривают, и все.
Отец говорил:
– Будешь счастлив. Там тепло, солнце. Будешь счастлив, но Родину не забывай. Где родился, там и пригодился.
– Ты ж сам себе противоречишь, ну что ты несешь?
А все-таки я знал – не забуду, любить буду до конца своих дней и всю тайгу, и неровный десяток низких типовых многоэтажек. Нечего было любить, а я любил – такая там была свобода.
В Норильске я с тех пор бывал уже несколько раз, привык к нему, а обожал все равно – со всей его грязью, со всей унылостью бетонных коробок, со всей горечью воздуха.
У входа в аэропорт мы покурили. Отец сказал:
– В Москве будем один день. Так что погоняем по ней, поглядим на столицу.
– Круто, давай погоняем.
Где-то тут была Лада, я ей встретиться предложил, в аэропорту уже, но она отказалась, ну я ее на хуй и послал. Может, Юрику даст, как знать.
– За девку не переживай. Будут у тебя еще девки.
– А, ну ладно тогда. Сразу сердце на место встало, может и с ней поговоришь?
На этот раз подзатыльник был слабый, так, играл он со мной.
– Как она вообще?
– Один раз меня дрыщом назвала, так я ей врезал немного. Мне потом так стыдно стало, хотя я совсем легонько.
– Вот почему у тебя и не вышло. Женщин до свадьбы не бьют.
А вокруг самолеты летают, огромные такие махины. Матенька сделала наш народ выносливым и сильным, чтоб мы выживали везде и все собой заполоняли, только небо мы, крысы, заселить собою не в состоянии, вот оттого и трепет такой к нему.
Но неба я не боялся, доля есть доля, с ней не сладишь. Если судьба умереть от аварии, значит, не в самолете, так в машине умрешь. Все равно не страшно – это очень быстро обычно. Вот мамка, она сложно умирала, тонуть – кошмар вообще. Утонуть бы я не хотел.
На самолете-то я в первый раз в жизни полететь готовился. То вертолеты были, они смешные скорее, а вот самолет – эпичная штука.
– Восемь часов лететь, а кино не показывает. Книжку взял в ручную кладь?
– Ага. Аммиана Марцеллина. Там интересно, типа Рим гниет.
– Дался тебе тот Рим. Если хочешь что-нибудь скучное почитать, Герцена б почитал или Чернышевского.
В аэропорту все было блестяще и светло, нигде больше в Норильске такого чистого места не было. Кафе теперь еще всякие блестели, красным, зеленым и синим, словно камушки драгоценные. В одной кафешке мы с папой и сидели, он пил водку, а я ел соленую-соленую курицу-гриль, разгрызал ей косточки.
– Я люблю эту штуку, – говорил я. – Знаешь, такую сгущенную кровь внутри.
– Костный мозг это.
– Он же в позвоночнике.
– То спинной.
Отец курил и посматривал на девушку за соседним столиком, слишком молоденькую для него.
– Было б больше времени, – сказал он шепотом, – я б тебе показал, как оно с девчонками делается.
– Типа деньгами?
– Идиот ты, одними деньгами ничего не сделаешь, смеяться над тобой будут. У женщины душа, кто бы что ни говорил.
Ну, я не знал. У Ладки, как по мне, души не было.
В самолете оказалось на самом деле скучно. Я читал, пропадал ненадолго во сне, просыпался, ковырял порошковую картошку на пластиковом подносике (как формочка, в которую песок засыпают – и картоха на вкус как песок), перезнакомился со всеми соседями. Впереди нас ехал бизнесмен с необычайно добрыми для такой профессии глазами, сбоку сидела молодая учительница русского и литературы, навещавшая родителей, позади – фольклорист, изучавший народы Севера. Я спросил, представляю ли я народы Севера, и он сказал, что есть разные трактовки, но скорее нет, чем да.
Он мне рассказал корякскую сказку про мальчика, который убил бога. Вернее, бог сам себя убил, потому что мальчик выиграл у него в прятки.
– Бред какой, это жесть.
– Тебе так кажется, Борис, потому что ты мыслишь категориями нововременной европейской культуры. Бог у тебя ассоциируется с чем-то могущественным, бессмертным. Для большинства примитивных культур боги – это персонификации загадочных сил природы. Могущественные, конечно, и пугающие, непредсказуемые, но подверженные человеческим слабостям.
Он был очень умный, но без очков, у него на лице топорщились смешные усы, хотя таким уж старым он не выглядел, еще он носил добротный костюм. Мне казалось, что отцу он сразу не понравился, но отец быстро налакался и стал спать.
– Ну, я понял. Типа не бог это был, а какой-нибудь колдун.
– Нет-нет, все-таки бог.
– Ну, вы определитесь.
– Будоражащий смысл сказки именно в том, что это несомненно сильное и опасное существо, у него другая природа, чем у нас с тобой.
Вот, подумал, ему было бы интересно узнать про нас, и про Матеньку нашу, и что она завещала нам. Я-то в сказке жил, а ему это было непонятно.
Он пах человеком, чистым запахом: одеколон, мыльце, пот – чуточку. Еще: недолеченными зубами, утренним бутербродом, стопкой коньяка для храбрости и какой-то женщиной. Не знал даже, что я его так хорошо чую. Я свой нюх мог настраивать: хочу – все нюансы различу, а не хочу, так и не отвлекаю себя. Так с детства было, отец с мамкой не учили, и их никто не учил.
– А на лбу у тебя что, Борис?
– Это я упал.
Тут мне разговаривать перехотелось, я объявил, что спать, а сам не спал. Ждал Москвы.
А Москва оказалась прекрасная, я влюбился в нее сразу, она вся была золотая, как икона.
– Вот, – сказал отец. – Это столица нашей страны.
Говорил он так, будто лично ее построил, ну или хотя бы мерлоны на Кремлевской стене вырезал.
Улетали мы ночью завтрашнего дня, так что никакую гостиницу снимать не стали, гуляли по Москве всю ночь и весь день, вплоть до следующего вечера, ели чебуреки в какой-то советской забегаловке и бродили по центру бесцельно и ошалело.
Про Москву на самом деле просто так и не скажешь, она была сшитая из разных кусков – бетонная, кирпичная, золотая, всего в ней было много, и я смотрел на витрины магазинов с тем же восторгом, что и на башни Кремля.
Мы с отцом зашли в магазин «Картье», попялились на часы, и продавцы нас терпели. Мне стало смешно: у папашки были деньги на такие вещички. Ночью мы гуляли под мутным небом по Александровскому саду и пили, сильно пили, чтобы согреться. В «Охотном ряду» я в первый раз попробовал еду из Макдональдса, которая была еще солонее норильской курицы-гриль. Я потом еще долго облизывал губы, вспоминая вкус картошки фри.
Это был особенный мир, где все куда-то спешили, а метро показалось мне городом под городом. Запорошенная снегом Москва, советская и царская одновременно, казалась мне точкой, где пересекаются все истории. У нее были и свои цвета – кирпичный красный, розовато-серый, черный, и свои запахи – бензин и воедино слитые ароматы сотен видов духов.
Днем отец сводил меня в Третьяковскую галерею, мы были такие грязные, что мне становилось стыдно перед каждой разодетой девчонкой на картине. Вообще заценил я «Неизвестную» Крамского, вот что меня впечатлило больше всего – такой у нее был надменный вид, цаца и все дела.
– Это его дочь, на самом-то деле, – сказал отец. – Ну, так я читал. Он ее изобразил типа как шлюху.
Я смотрел. Такие глаза у нее были с поволокой.
– В смысле?
– Ну, она едет в открытом экипаже, еще без вуалетки, дама полусвета такая, ну ты понял. И наглая, смотрит в превосходством. Пошли «Сирень» смотреть. Я Врубеля люблю. В Пушкинский сгоняем?
– Ага.
Я склонил голову набок, рассматривая эту удивительную девушку. Вот бы встретить телку с такими глазами и замутить с ней, чтоб она меня любила еще.
В Пушкинском музее отец показал мне Рембрандта.
– Называется «Артаксеркс, Аман и Эсфирь». Что-то про жидовскую историю, этот хрен, он вроде царь персидский. Но ты на нее смотри. Она – святая. Вся золотая, мать ее.
И его лицо тоже на секунду просветлилось, а радостно мне было даже и оттого, что увидел его таким – спокойным, умиротворенным – и не в гробу.
– Правда, сверкает она немножко.
– Эта картина, ты послушай, Боря, и запомни, она как все тайны – рождение, смерть, что там внутри происходит. Смотри, как темно, а что-то сияет. Это – Бог.
Бог – это тайна. Я так запомнил.
Вечером мы гуляли по набережной, ветер дул мне в лицо, и я от этого жутко тосковал, может, воздуха не хватало. Я думал о прадеде своем, том, который чекист. Он потом из расстрельных рвов темень выкорчевывал, там было черно, как в космосе, должно быть.
Сам стрелял, сам проращивал темноту, и сам же ее потом искоренял, здоровьем своим жертвовал, чтобы чисто было там, где люди мертвые лежали.
Это зачем еще?
Я у отца спросил, а он пожал плечами.
– Да платили хорошо.
А смерть – это семя пустоты, и если оно всходит, то дерево даст еще очень-очень много семян, и так пока на всей планете не станет этот темный лес. Но жить тут ничего уже не будет к тому времени.
– Да он же сам все исправлял, – сказал отец. – Миру от этого хуже не стало.
Ну тут хоть сразу на могилки ползи – так безысходно, такое никого не обрадует.
– А как же «даже один-единственный человек»?
– Да никого не ебет один-единственный человек. Это ты у себя один-единственный, а для государства ты только один из многих. Точно не единственный. Для мира и государства ты – ничто.
Отец долго пытался закурить, но своенравный ветер тушил огонек зажигалки, опять и опять, а отец ругался и чиркал колесиком – я это очень хорошо запомнил. Его в старом синем шарфе и дорогом, но облезлом пальто, чиркающего зажигалкой у каменного загона Москвы-реки. Он у меня в памяти там остался, хотя прошло с тех пор очень много времени, когда мы были вместе.
Я с того времени думал: у каждого есть, может, момент, когда он сильнее всего проявляется. В такие моменты человека надо фотографировать, а потом эту фотку на могилку привешивать. Чтобы можно было все узнать, только взглянув. Такой характер у него был в тот момент, как на рисунке у хорошего художника, а закурил – и прошло все, пошли мы дальше, и он уже обычный.
– Я сюда еще хочу.
– Может, приедем. Люблю Москву. Мы с мамкой твоей тут свадьбу гуляли, расписались да самолетом сюда. Потом еще приезжали – тебя тут сделали.
Он засмеялся.
– Так что, считай, был тут уже, две клетки всего, а был.
– Теперь эти две клетки читают Аммиана Марцеллина и пьяные спят.
Погладил меня папашка по голове, да пошли мы дальше. Ехали по заснеженным дорогам хорошие машины, пару раз я поскользнулся и испугался, что прямо на дорогу полечу – а нет, повезло вот.
В аэропорту почти плакал, так не хотелось уезжать оттуда, где все свое, только лоску навели, в совсем чужую страну. И чего я тосковал, если вдуматься? Интересно же это – в Америку попасть.
В толпе снова видел мамку свою, она утирала воду со лба, скидывала капли вниз. А есть предсмертный пот, когда тонешь, или так холодно, что и не пробивает?
Отец ее не видел. К нему она приходила в другое время, в свое время.
– Иногда ночью, – сказал он, когда я спросил. – Как женщина.
Вдруг захохотал.
– А то я б тебе мамку уже новую нашел.
Мы прошли мимо мамки, отец смотрел вперед, в сторону бара, с тягомотной такой тоской – до регистрации нельзя, а то не пустят.
– Мама, я уезжаю.
– Я знаю, Боречка, что уезжаешь. Не грусти и не скучай, я с тобой поеду.
И сердце сразу отпустило что-то, так сжимавшее его все это время. Мы с папашкой отправлялись так далеко, но и она позади не осталась.
Я подумал, будем ли мы лететь над океаном днем и сколько будет длиться океан. Все мне было любопытно, и думал я, что взгляд не отведу от иллюминатора, а уснул через двадцать минут после того, как самолет поднялся в небо.
Два дня без сна, и я вырубился так, что пропустил и завтрак, и обед, и то, что кресла были неудобные.
Мне долго ничего не снилось, потом перевернулся на другой бок, отца не без удовольствия отпинав (ноги я на него положил), и стали мне сниться абрикосовые косточки.
Были мы не то на даче у кого-то, не то еще где за городом, яркое было солнце и целая гора ебучих этих косточек. Отец их бил молотком, а из них кровь шла.
Проснулся я, и мы уже летели над Америкой. Я приложил руку к иллюминатору, он был горячим.
– Ебнешься в обморок от жары – полетишь на неделе в Хохляндию, – предупредил отец.
– А я не хворый, это уж скорее ты ебнешься.
– И не матерись.
Ай, а рассказать чего хотел, про Москву еще. Было там такое множество наших, что я растерялся даже. Мешались запахи: медвежьи, волчьи, собачьи, кошачьи, крысиные, разные птичьи – да легче сказать, каких не было, и я знал, что, проходя мимо, все эти существа обращают внимание и на меня, отмечают как бы, что я есть.
Я был маленький крысенок, детеныш еще, но уже что-то значил. Тут объяснить бы: фанаты одной музыкальной группы, например, по тайным для других значкам всегда друг друга узнают. Вот такое было ощущение: большого общего дела.
* * *
И в Америке оно потом только усилилось, потому что были это уже не мои люди, а вот зверики были мои. У нас ни единого словечка общего не было, а происхождение – одно, секрет был один на всех.
Ну, собственно, расскажу про Америку. Как мы там очутились, что увидели, чему удивились.
– Город ангелов, – сказал отец, едва мы сошли с самолета и оказались в блестящем и ярком аэропорту. – Одни бомжары, торчки да проститутки. Ну, если учесть, что программа партии – приютить мытарей да блудниц, все верно.
Он улыбнулся этой своей кабарешной улыбкой и взял себе кофе на вынос, крепкого-крепкого, потому что в самолете опять налакался до бесчувственности.
– Ты летать, что ль, боишься?
Отец незаметно, но очень больно наступил мне на ногу.
– Помолчи.
Первым делом мне Лос-Анджелес не понравился – из-за ослепительного солнца, бившего прямо в глаза, из-за весеннего тепла зимой, от которого я тут же задохнулся. Потом мы, правда, прошли огромный серый скелет динозавра, ну хоть интересно стало. Указатели, реклама – все почти как в Москве, но как-то плотнее. Мы двигались вслед за потоком людей, и я рассматривал новый мир сквозь большие окна.
– Формы он такой ебанутой, – говорил отец. – Выйдем – увидишь.
– А жить-то мы где будем? А ты тут часто бывал?
– Я потихоньку гнездо готовил. У тебя будет комната.
– Натурально?! Своя комната?! Ты прям сейчас серьезно?
– Серьезнее некуда, – ответил отец с какой-то несвойственной ему напыщенностью. – Район у нас так себе, но квартирка ничего.
– Да хрен с ним с районом, блин, своя комната, прям реально! Хоть подрочить можно будет!
Нет, ну серьезно, конечно, меня это волновало, отец ведь теперь чаще будет дома, а я привык к приватности, что ли. Ну и стыдно тут же стало, не без этого. Папашка меня вежливо проигнорировал.
Я рассматривал вывески всех цветов и форм, меня затягивало в какую-то световую, блестящую воронку, я думал уж от этого в обморок упаду, всего было слишком.
– Знаешь, что странно? – спросил отец.
– Что ты еще не выпил?
Он только усмехнулся. Никогда нельзя было узнать заранее, разозлится он на что-то или нет. Я чего с ним вообще говорил? Во-первых, любитель я поболтать, во-вторых, скучно. Ну не было стабильности в нем. То спускал мне что угодно, то наказывал ни за что.
– Странно тут с указателями всякими. Обычно, значит, они на языке страны, куда приехал, а внизу английская сноска. А тут – один английский, и все, оттого, может, шрифт больше.
– Ну, это ты у нас специалист по аэропортам, – ответил я с завистью.
– Есть хочешь?
Даже и не вопрос толком, есть я хотел всегда, тем более что и завтрак, и обед я проспал. Отец говорил, что тоже, но я сомневался. Единственное, что могло его пьяного разбудить, – запах еды, он скорее всего и мою порцию сожрал.
– Ну, смотря покормишь ты меня или нет.
– Нет, не покормлю, так, поржать над тобой хотел.
А повел он меня в красно-белый «Фрайдис», где раздавал комплименты официанткам со значками на фартуках. Английский у него был плохой, так что всякие там пошлости до адресаток не дошли. Я заказал себе самый большой бургер и молочный коктейль со вкусом сникерса.
– Пьют они, – сказал отец. – Вискарь. Ну, многим нравится, а по мне так дерьмо жидкое.
– Все-то тебе не нравится, – сказал я, вгрызаясь в свой бургер. Он был поджаристо-хрустящий, сладко-соленый, а если запивать его молочным коктейлем, то вообще закачаешься, просто ух ты, аж вообще.
– И названия у них тут такие сопливые. Дух, солнечная страна, горизонт. Хиппарская бредятина.
Я был так увлечен бургером, что не очень-то и понимал, о чем там папашка говорит, что за названия, что за горизонты.
– Ага, – сказал я. – Бредятина.
Бездумное повторение последнего слова обычно срабатывало. А у меня тут жареный лучок был, который, если макнуть в кетчуп, то опять же ну вообще. Не до папашкиного нытья мне было.
– Тощий такой, – вдруг сказал отец. – Еще тебе заказать?
– Закажи.
Пока я ел второй бургер (с плесневелым сыром, вот как), отец лениво ковырялся в пюре, розовом от крови, натекшей со стейка.
– А что за парень? – спросил я.
– М-м-м?
Отец перевел на меня свой вечно холодный, вечно стеклянный взгляд.
– Ну, про которого ты говорил, что он тебя пригласил.
– А. Да. С квартирой сильно помог, с документами. Уолтер. Мутный он мужик, ну, как все америкосы в принципе.
– Ну, ты как-то без милосердия, без широты души.
– А не надо было Сербию бомбить. Да и Ирак. Хотя на Ирак мне плевать, если честно. Борь, ты запомни, у нас особый путь, нам это все чуждо – рестики хорошие, одежда.
Хорошие рестики и одежду он, надо сказать, любил.
– Душа, вот что главное. Вся наша история – она не про материальное.
– А как же Маркс с материализмом?
– Ну Маркс с Лениным – это уж объективная реальность, данная нам в ощущениях.
Он засмеялся, хотя я не слишком понял, над чем.
– В русском человеке всегда двое. Бессребреник и беспредельщик. Вот и не выберем.
– А по-моему, стали хорошо жить, – сказал я. – Но чтоб был путь, может, выбрать надо. Чтоб был один человек в одном человеке. А то шиза какая-то получается.
– Умный ты парень растешь. Мог бы брат у тебя быть или сестра там, а не сложилось.
Я вычерпывал длинной ложкой остатки сливок из стакана.
– Тебе когда два года было, мать твоя опять беременная стала. С тобой я был уверен, что ты – мой, мы с ней только вдвоем были месяца три, наверное, тогда. А потом уже неделя – есть я, неделя – нет меня. И хрен ее, суку, знает, с кем она гуляет. На аборт ее заставил. Теперь жалею.
Он закурил.
– Она потом больше не могла.
– А. Ну да, то есть блин.
Короче, не знал я, что сказать ему, а папашке, видно, очень надо было все это выговорить.
– Плохо, что ты один у нас. Нас было двое, а ты один.
Я почесал ложкой нос, наблюдая за дымом от отцовской сигареты. На потолке крутились вентиляторы, брали дым в оборот, раз – и следа уже нет. Такая и наша жизнь. Ну, тут я нашелся что сказать:
– А ты сам от нее блядовал?
Надо ж беседу поддержать.
– Не матерись.
Отец чуточку помолчал, мотнул рукой вниз, потом вверх, так и сяк мол, более или менее.
– Ну, не особо. Не по-серьезному. Любил только ее.
Он затушил сигарету, сказал:
– Ну, пошли уже. Надоело сидеть.
Глава 4. Мой папа живет под землей
Я вот лучше еще про одну яму смерти расскажу, совсем про другую, с женщинами и детьми.
Прабабка моя, мать матери матери моей, во время войны жила под Минском. Она была русской, муж ее – белорус, ушел на фронт, не в партизаны, дочка годовалая опять же на руках (то бабуля была), в общем, невесело, но расстреливать прям сейчас ее никто не собирался. Но голодно было до боли и обмороков, а дочка совсем маленькая, и ходила моя бабка разрывать расстрельные ямы. Доставала, что полицаи еще не забрали, хоть пояса кожаные, колечки, бывало, затеряются, зубы золотые вырывала, ну и все такое.
Ей тоже хотелось есть, она продавала вещи с мертвецов.
Ну и пустоты закрывала, не без этого. Но, как говорила мамка, не ради того она к ямам шла и всегда себя винила, что не волновали ее тогда черные водовороты и все, что от них идет. Волновало ее, что она завтра будет кушать, что будет кушать маленькая ее дочка.
Ну и вот, как-то копает она эту яму (лезвие лопаты все время входило в трупы, она к этому уже привыкла, не сложнее, говорила, чем картошку располовинить), видит – ребенок. С живых детей почти никогда ничего не снимали, может, кулон найдется, так она думала, или серебряная заколочка, если девочка.
Оказался мальчик, да еще живой, дышал он едва-едва, и сердце у него билось медленно.
Котяток жалко и других разных детенышей, а тут – человечонок. И куда его? Она ему землю из носа, изо рта вытягивала, тормошила, била по щекам, пока глаза не открыл. Малыш, может, шести лет. Она на него смотрит, и у нее слезы из глаз.
У нее же дочка маленькая. Она видела, что немцы делают с семьями партизан, с семьями тех, кто еврейских детей укрывает, да с семьями вообще.
Думала, думала, а все равно взяла его к себе.
А хотела бы она, чтобы дочку ее так оставили – в яме с мертвыми? То-то и оно.
Им повезло, она его укрыла, прошла война, и они оставили пацана себе, он стал братом моей бабушки. До шестнадцати лет он отвечал, когда его спрашивали о родителях, вот что: мой папа живет под землей.
А в остальном – совершенно нормальный парень. Вырос прабабулин жиденочек Левочка и стал мужиком, Львом Самуиловичем. Прабабка, конечно, хотела, чтобы он женился на бабуле, но у них любви не было, они были друг другу брат и сестра. Бабулю замуж увез дед аж в Ивано-Франковск, а Лев Самуилович стал преподавать философию в Минском университете, как настоящий еврей прям.
Его друзья прабабку не любили, она называла их жидами, но его обожала невероятно. Вот она его случайно в яме нашла, а он ее досматривал вместе с ее родной дочерью, и саму в яме схоронил, когда время пришло.
То есть прабабка умерла, конечно, но все хорошо закончилось.
Вот, ну а я чего вспомнил? Лос-Анджелес – город ангелов, а прабабка, наверное, тоже в городе ангелов, ну или где там. Она же хороший была человек.
* * *
В моем городе ангелов мне поначалу было странно. Самое ужасное, конечно, – все говорили на чужом языке. С английским у меня было не так плохо, как я думал, схватывал я быстро, но как же невыносимо было слушать беглую и совершенно чужую речь. Мне казалось, что вокруг меня разыгрывается какой-то спектакль или, ну к примеру, снимают кино – казалось, это такие глупости, все эти люди не могут говорить на другом языке постоянно. В какой-то момент, я это представлял, они отложат свои сценарии и станут говорить, как все, на русском. Иностранная речь казалась мне вычурной, ненатуральной, постановочной, и, как по мне, это был ужасно неудобный язык для того, чтобы думать.
Запахи тоже были другими: бензин, не прибитый морозом, какой-то густой смог, тянет чем-то вкусным из каждой забегаловки. Да и хрен с ними, с запахами, даже цвета были другие из-за непривычной солнечности.
Особенно мне запомнилось, как мы ехали в такси в первый раз. В машине пахло какими-то индийскими благовониями, от которых звенело в ушах, а у мужика за рулем на голове хитро свернулось какое-то полотенце. Отец к этому отнесся без восторга, назвал, значит, адрес и замолчал, а я расспрашивал словоохотливого индуса о том, что здесь вообще-то есть интересного.
Индус мне клялся, с горячностью, которой от его народа и ожидаешь, что лично видел Брэда Питта.
– Голливуд – это вещь! Аллея, звезды! Звезды на улице!
Говорил он слишком быстро, так что я улавливал только части фраз. Получалось что-то вроде: «Голливуд – это вещь, бла-бла-бла-бла, аллея, звезды, звезды на улице, бла-бла-бла».
Ну, я кивал, конечно.
– Еще есть постройка такая, похожа на консервную банку. Что-то такое диснеевское. И вся она блестит! Очень красиво!
– А музеи какие есть? – спросил я.
– Тебе с динозаврами понравится. Или с машинами. Есть и тот и другой.
– Долбаеб, – сказал отец. – Еще про телок восковых пусть скажет.
– А, ну и с куклами из воска есть, но сам я не был.
– А обсерватория есть? Я хочу в обсерваторию! А театры?
– О, есть обсерватория! И театры есть какие-то! Все есть!
– На Родео-драйв съездим с тобой, – сказал отец. – Там все буржуйское, ужас что такое. Купил что-нибудь – всю жизнь в долгах, всю жизнь хуй сосешь потом. Еще в научный центр надо. Вот это дело. И музей искусств вроде не паскудный у них.
Отец закурил, индус покосился на него неодобрительно, однако ничего не сказал, может, у них тут было принято чаевые таксистам за такое оставлять? Я б засунул доллар ему в шапку.
И, блин, какая у папашки была серьезная пачка долларов – сам бы не увидел, ни за что бы не поверил.
– Русские? – спросил индус.
– Да.
– Москва?
– Не-а. Снеж-но-горск.
Индус пробормотал что-то такое невразумительное, отец скривился, а я засмеялся.
– Ну и ладно, мы ваших названий тоже выговорить не можем. А вы откуда?
– Калькутта.
Что-то среднее между калькулятором и барракудой. Я даже растерялся чуток.
– Понятно.
– Здесь всех много, всем рады.
Я посмотрел на отца. Знали б они его – никогда б визу не дали.
А еще я в Диснейленд хотел, но как-то уже стыдно было в этом признаваться, так там и не побывал. Я вполуха слушал болтовню прикольного индуса и смотрел в окно. Солнца было так много, что глаза тут же стали больными, я все время их тер. В машине было ужасно жарко, я обмахивался открытой ладонью и хватал воздух.
В каком-то смысле этот город ангелов был адом. Я спросил у отца, почему тут так жарко зимой.
– Тут нормально зимой. Как у нас, когда летом жарко. У тебя акклиматизация просто.
Все вокруг было странным, казалось картонным, я в это не верил, как в английскую речь. Были пальмы, настоящие, как на «Баунти», со взъерошенными такими шевелюрами. Верхушка как кисточка, если долго возить ею по бумаге. Дают они кокосы или нет? А если дают, то срывать их можно? Вдалеке было много небоскребов словно из серебра и меди, они купались в солнце, и оно заставляло их блестеть. В остальном мне казалось, что дома тут скорее приземистые. Архитектура была странной – много всего ребристого, одно не сочетается с другим, так, мне казалось, часто бывает на юге. Было много бежевого, много грязно-желтого, каких-то архетипических цветов курортного, солнечного города.
Да господи боже мой, мне даже пахло солнцем, всякая моя мысль была о нем, оно из моей головы не убиралось.
А издалека небоскребы были похожи не то на зажигалки, не то на мобильники, такой был в них лоск, такой хай-тек, или что там. Все было в жарком тумане, я считал пальмы, и сердце у меня подскакивало в груди, когда мы так быстро проносились под очередным нагретым бетонным мостом, мне казалось, он от жары расплавится, он на нас упадет.
– Каменные джунгли, – сказал отец. – Но по ночам тут красиво. Как будто пожар.
Мимо нас проехала черномордая, белобокая ментовская машина – ну все, совсем кино, так я подумал.
– Живете в Даунтауне, – сказал индус. – Как будто неплохой район, но ночью там неуютно. Как только клерки расходятся.
На клерках тут все держалось.
– А что там? Бандиты?
Слово, которое он сказал, я вообще не понял, удовлетворился тем, что если вокруг будут одни бандосы с пушками, то это даже интересно. Чем дальше мы продвигались к центру города, тем выше и внушительнее казались мне стеклянные коробки.
– А я думал, в центре всегда элитное жилье.
– Ну, я тоже. Не, тут неплохо. Но мы с тобой могли бы позволить себе жилье и получше. Я выбирал по сестрам и братьям, чтобы их было много, походил там, поговорил с ними.
Братишки и сестрички – вот что чудно. Во-первых, всегда предупредят об опасности, если пожар там, или ураган, или землетрясение, или воры, а во-вторых – ну вдруг я ни с кем не подружусь.
Лос-Анджелес в целом был как понтовый, но пропитой и изрядно скурвившийся красавчик. Списанная в утиль кинозвезда, как-то так.
В нем было что-то южное, по моему разумению даже совсем не американское – эти кремовые домики и зелень, было в то же время и нечто до боли киношное – тачки, закусочные, маленькие магазинчики и гипермаркеты.
Все это вышибло из меня дух, я вообще-то едва дышал, каждая вывеска была как откровение. Английские и испанские слова, незнакомые до тоски. У меня в голове все время крутилась песня про подмосковные вечера, хотя я ни одного вечера там не провел, если не считать вечер в Шереметьево, конечно.
И вот мы доехали, а выйти из машины теперь значило попасть во всамделишный Лос-Анджелес, в мой новый дом.
– Тут и кинозвезды бывают иногда. По утрам, – сказал индус.
– Круто.
Отец расплачивался с ним, а я выскочил из машины.
– До свиданья! Спасибо!
Асфальт казался нагретым, и думалось мне – сейчас станет рекой какой-то лавы, такой жаркий и серо-черный. А сколько было стекла, мне сразу вспомнились те репортажи про самолеты и небоскребы, про то, как все посыпалось – от этого тоже стало неуютно.
Я теперь жил в большом городе, это Снежногорск никому не был нужен, а здесь могло случиться что угодно. Нужно быть настороже, я так решил.
Рядом с небоскребами дом наш казался совсем маленьким, и все в нем было причудливым. Вроде бы та же бетонная коробка, а совсем другого типа – уже чужие длинные окна, странные пожарные лестницы, выступающая вперед платформа на крыше, какая-то другая серость, какая-то другая мрачность. На первом этаже нашего дома был какой-то отстойный, бесхитростный ювелирный магазин с желтой вывеской. Крупные буквы шли прямо по лимонной арочке над дверью, черные, а мне ведь хотелось, чтобы ночью они горели.
Все здесь было странным, как во сне, и я не мог испытать восторга, потому что ничего моего тут не было. Через дорогу, у лавки, смеялись две девочки-цветочницы, одна покуривала, другая перехватывала волосы резинкой, а позади них были розы и орхидеи, и все такое. Я не верил даже в живые цветы.
Отец сказал:
– Все, пошли, после на баб поглядишь. Что как идиот стоишь с чемоданом своим?
А я и не замечал его тяжести.
Подъезд тоже был странный: все было белым и зеленым, вроде логично, а оттенки совсем другие. И белый и зеленый – безо всякого синего подтона, свеженькие, не мертвенные – мне совершенно такие цвета не нравились. Все цифры, которые обозначали этажи, огромные, как для слепошарых, а свет – яркий: так неприятно, так слепяще.
Нас встретил широкий лифт с зеркалами сбоку и сверху. Я увидел отражения двух тощих, изможденных, грязных людей. Я расцветкой весь пошел в маму, а вот черты лица скорее были отцовские. Вот я рассматривал его и себя. От пота папины волосы казались темнее, чем на самом деле, и мы стали совсем похожи. Отец это тоже почувствовал, задумчиво положил руку мне на голову, словно прикидывая, каким я вырасту.
Мы жили на последнем этаже. На лестничной клетке только две квартиры – вот это да. Еще я нигде не заметил мусоропровода.
– Это что, мусор типа выносить на улицу?
– Не для людей страна. И не для крыс.
Отец долго искал ключи, со злости пинал железную дверь, ничем не обитую – ни кожзама, ни смешных металлических кнопочек на нем. Голая какая-то была дверь, унылая.
Первым делом из духоты запертой квартиры выплыли ко мне запахи алкоголя, сигаретных бычков и грязных носков. Наше гнездо отец уже обжил.
Коридор был совсем темным, отцовская комната, в которую он сразу пошел, тоже – из-за тяжелых коричневых штор. В полумраке я видел силуэты пустых бутылок. Крошечная сестричка выбежала к нам, отец подставил ей ладонь, на которую она прыгнула.
– Здравствуй, девочка. Присматривала за домом? – спросил я.
– Ага.
Я прошел к окну, раздвинул шторы, а отец включил свет, и в этом двустороннем сиянии увидел я свой новый дом. Все как бы стандартно – двухкомнатная квартира с просторной гостиной, и все же – совсем не так. Какая-то была другая, не наша, планировка, а под потолком в отцовской комнате висела люстра-вентилятор, она лениво разгоняла воздух, как в «Апокалипсисе сегодня».
Все было темным, не слишком чистым, но богатым – огромный плазменный телик, плоский и широкий, кожаные диваны. От письменного стола сладковато несло кедром, горько и солоно – пепельницей. Стены были голые, никаких украшений, скучная белизна, ну разве что заляпанная пятнами, которыми стали прибитые насекомые.
Отец умел одновременно превращать все, к чему он прикасался, в мусор, жить в изумительной аскезе, и в то же время понтоваться – это получалось у него естественно.
Кухня была просторная, с выходом на балкон. На полу лежала коробка из-под пиццы, сыр и крошки с нее доедали трое братьев.
А холодильник, мать его, он показывал время. Меня это отчего-то удивило до вставшего сердца.
– Крутота! А микроволновка есть, как у тебя в Норильске?
– Ага. И плита электрическая.
На кухне тоже был телик. И какое-то шестое чувство подсказывало мне: есть телик и у меня в комнате. Я, склонив голову, еще раз взглянул на кухню. Желтый свет лампы и зеленоватый цвет стен делали все каким-то мертвенным. Это я любил.
Вот с ванной вышла лажа – она была низкая и неглубокая, ну как в такой лежать и отмачивать язвы. Это таз дурацкий скорее, мне не понравилось.
– Ну, они так делают, – сказал отец. – Я тут особо ничего не контролировал, и без этого занятия были.
Зато умывальников почему-то стояло два.
– Это они случайно?
– Да, я тоже спросил. Не, это если мы с тобой оба опаздываем, чтобы чистить зубы вместе.
– А зачем ставить два умывальника, только чтобы чистить зубы одновременно? Можно рядом постоять.
– Ну я не ебу, Борь. Слушай, а знаешь, чего еще прикупил? Кофеварку да тостер. Завтракать будем, как буржуи.
– О, ну это вообще.
Тут я, конечно, пошел смотреть свою комнату. Если гостиная и кухня уже с хозяином были, обжитые, везде папашкины личные вещи, то моя комната осталась совсем чистой – только побеленные стены да новенький, хоть и маленький, телик. Не, ну еще кровать там, тумбочка, часы даже, но все безликое какое-то. Кровать была без простыней, а матрас такой высокий, что я еще минут пять пытался пропихнуть его ниже, пока не понял, что так все и задумано.
Комната была совсем небольшая, зато из замка торчал настоящий ключ. Мне стало так приятно, и в то же время я вдруг понял, какое это наебалово – раньше у меня своей комнаты не было, но фактически была своя квартира. Теперь моим будет только этот уголок.
Зато тут было большое окно, странное – без подоконника, с такими узкими рамами, что их тоже почти не существовало. Будто прорубили дыру в бетоне и все.
Первым делом я достал из чемодана «Котлован» Платонова и положил под подушку. Я другой такой книги не знал, чтобы стала частью меня, чтобы так в меня вгрызлась.
Все там было, и ямы, и могилки, кашляющие, умирающие, обманутые люди. Не книга – жизнь моя.
Вот тот интеллигент, который выбросил в Норильске книжки свои, он и не знал меня, не знал, как он на Бориса Шустова повлиял. Не знал, что прочитав его неожиданные подарки, я стал добывать себе другие книжки. Уже не «Илиаду», а «Одиссею», не Солженицына, а Платонова, и шел по той дороге, которую мне этот неизвестный мужик проторил.
Уложил в шкаф книги, а поверх них сложил одежду, но почему-то долго маялся, не выходил, не мог устроиться.
Незаметно наступили сумерки – здесь они были незнакомого, розового цвета. Или нет, на самом-то деле были они слоистые, как какой-нибудь коктейль, – сверху полоса почти бесцветная, с легкой голубизной дрожащего воздуха, потом широкий розовый слой, потом наступающая темно-синяя тень. Сбоку надо всем этим был кружок полной луны.
Я долго смотрел в окно, наблюдал, какие в этом мягком свете становятся небоскребы, как скрадываются их острые очертания. Машины так гудели, так ездили – будто у меня в голове, я не знал, смогу ли заснуть, даже если движение станет вдвое тише, я не привык к шуму.
В Москве я тоже устал, но у меня были мысли о доме, тайная мечта о тишине. Тут я понял: она не сбудется. Мой новый дом – очень шумное место. Зато как блестели эти стеклянные бочки высоток под вставшей луной.
Когда я, наконец, вышел, отец курил, вытянувшись на обитом черным в красную полоску атласом кресле, на совершенно ужасном кресле. Спинка была откинута назад, а из-под кресла выглядывала смешная подножка.
– Ты как тощий Гомер Симпсон.
– Тогда принеси мне пива. В холодильнике.
Я и себе взял банку. Она была красно-белая, напомнила мне не то тот суп, который рисовал Уорхол, не то этикетку колы.
– Кстати, – крикнул отец. – Есть кабельное. Разберешься.
Этим я всю ночь и занимался, потому что совсем не мог заснуть. То есть нет, сначала я долго читал, потом устали глаза, ну и я включил телик. Щелкал по бесчисленным каналам, пока не устал и от яркой рекламы. Потом долго смотрел сериал про какого-то детектива, мало что понимал, уж очень быстро говорили.
Значит так: был там унылый детектив, у которого в кабинете разные телочки все время плакали и признавались в убийствах. Я смотрел серию за серией, не врубаясь в основную интригу, курил и пил пиво, пока не стал такой пьяный, что мне удалось уснуть.
Снились мне кошмары, ну а чего теперь? Тяжкий день. Снилась мамка, рыдавшая в ментуре.
– Не хотела я, не хотела. Я не топилась, клянусь.
Ее уговаривали что-то подписать, а она влажно шмыгала носом. Я смотрел на все как бы со стороны, из правого верхнего угла комнаты, что ли. Я смотрел, пока до меня не дошло, что мамка-то умерла, и мент умер, и я умер, и все на свете умерли.
Больше не надо волноваться, что кто-то чего-то не подписал. Тогда я проснулся, не то от этого-то осознания, не то от светившей мне прямо в лицо луны. Перевернувшись на другой бок, я долго смотрел на электронные часы, стоявшие на тумбочке рядом с кроватью. На них были красные цифры, я водил пальцами по их изгибам.
Эти цифры на электронных часах, они меня все время удивляли. На простом трафарете, стоит провести пару линий, проявляется либо цифра, либо полная бессмысленность. Только шаг в сторону, и такое все сразу идиотское.
Я осторожненько вышел из комнаты. Отец так и уснул в своем кресле перед работавшим телевизором. Симпатичная блондиночка рассказывала о войне в Ираке, потом стали рекламировать антидепрессанты. По моей ноге вверх забралась сестричка, которая первой встретила нас. Она была совсем молодая, еще непокрытая, вчерашний крысенок.
– Пойдем с тобой дрыхнуть? – спросил я. Пошевелив вибриссами, она согласилась. Ради меня, несомненно, так-то крысы скорее ночные животные. Такая молодая, а во мне видела маленького.
Когда я вернулся, то увидел мокрые следы на полу. Мамины следы. Ее не было ни в шкафу, ни под кроватью, но она сюда приходила, я ощущал водяной, мясной ее запах.
Значит, с нами сюда вошла.
Утром я проснулся от папашкиного голоса.
– Боря, еб твою мать, где сигареты?
– А хуй знает.
– Не матерись. Во, нашел. Лазанью будешь?
Он открыл дверь, и первым делом в комнату вплыл вонючий дым его сигареты.
– Давай лазанью.
– Ну, как тебе? Все вообще.
– Жарко. В остальном пока не понял.
Отец хрипло засмеялся, влажно закашлялся, но мокрота не отошла.
– Похоже на город из «ГТА: Сан Андреас». Я у Юрика на плейстейшн играл.
Отец посмотрел на меня странно, с какой-то трогательной беспомощностью, сказал:
– Ну и хорошо, – развернулся и ушел. От него только дым остался – как от демона какого-нибудь. Сестричка лежала на подушке рядом со мной, свернулась там калачиком, как ребенок, как взаправдашняя сестра (которая у меня могла бы быть).
Смерть детеныша – великая печаль для Матеньки, потому что ей все нужны, она всех привечает, всем рада. У Матеньки для каждого своя гибель найдется, а помер малым ни за что ни про что – так вроде и не жил.
Отец позвал меня за стол, я сел на высокий стул, пахнущий вишневым деревом, покачался на нем, значит, для пробы. Обычные вещи, и тех я не знал. Как влюбиться – я не понимал, а еще где я и отчего все незнакомое. Мамка моя, должно быть, так тонула – думая, как глубоко и какое все чужое.
А в лазанье был такой горячий сыр, который тянулся за моей вилкой, как макаронина. Отлично было, фарш в каком-то томатном соусе и склизкие кусочки вкусного теста, я и не думал, что мне понравится. На вид лазанья, даже после того, как я убедился, что она хороша, меня пугала. Я вытащил из мусорки упаковку из-под нее и долго читал, понял где-то половину слов.
– Ты сразу в школу не пойдешь. Сначала надо экзамен будет сдать. Калифорнийский, мать его, тест.
– А если я не сдам?
– Значит, с дебилами пойдешь английским заниматься.
Отец отодвинул пустую тарелку, вырвал у меня из рук упаковку и затолкал ее обратно в мусорку, закурил и снова сел. Пепел он скидывал прямо в томатный соус.
Ну, подумал я, специально, что ли, все завалить. Учиться мне было лень, заниматься одним английским легче будет. Да и будут там со мной всякие другие эмигранты, вот найдем с ними общий язык, будем вместе ничего не понимать.
Отец достал из холодильника клубничное молоко. Оно было в канистре как из-под антифриза.
– Ого, пап, клубничное молоко? Ты себе и женщину тут завел?
– Еще слово скажешь, я из тебя душу выбью.
Прозвучало внушительно, так что я-то рот сразу захлопнул, без напоминаний. А клубничное молоко тоже оказалось вкусным. Вот какой был мой первый завтрак, совсем не как в Снежногорске, где я ел хлеб с маслом и пил сладкий чай перед тем, как отправиться в школу.
Сегодня все было празднично, школы еще никакой не было, и я сам еще нигде, посередке бушующего во все стороны моря. За окном гудели машины, все было восторженно, утренне.
Я стал по-особому чувствовать, весь заострился, весь подобрался. Смотрел на солнце и не щурился. Такой был мир вокруг – новый, необычный, во всем была радость, во всем была грусть. Я налил в крышку молока, напоил сестричку, а отец все курил, пока не сказал мне вдруг:
– У кровавой истории – кровавые дети.
– Это ты про чего?
– Да читал где-то, и вот вспомнил сейчас.
А у него ведь тоже что-то происходило, там, за стеклянным взглядом, за тем, что снаружи. О чем-то думал он, понимал, может, что теперь мы с ним вдвоем. Раньше по одному были, а между нами она, мертвая, в воде своей. А теперь никуда друг от друга не деться, привез меня с собой, значит.
– Отец мой, – сказал папашка, – меня бил смертным боем. Он человек был вообще-то мирный, безобидный, но иногда, бывало, как нажрется, на него такая ярость нападет. Никогда на мать не замахивался, все мы с Колькой виноватые у него ходили. Раз ребро мне сломал.
– Правда, что ль?
– Да чистая. Еще один раз думал: убьет меня, так я нож схватил и всадил в него, в плечо прям.
Он осторожно коснулся пальцами места чуть левее плечевой кости, потом с силой надавил.
– Вошел нож, как в масло, я даже не ожидал, что будет так легко. Мне одиннадцать лет было. Думал, надо его убивать, а то он сейчас нож вытащит и башку мне нахуй отрежет. А он вдруг такой стал бледный, на пол осел, глазами хлопает. Виталик, говорит, вызови скорую. В момент протрезвел.
Отец неприятно, острозубо ухмыльнулся, почесал висок.
– Я вызвал, конечно. Вот с тех пор хорошо так повзрослел.
– А теперь-то чего?
Я задумчиво посмотрел на нож, которым отец вскрывал упаковку лазаньи. В блеске лезвия его было что-то вроде моего отражения, неясные очертания.
– Да ничего теперь. Ты мне благодарен будь, что я с тобой не так.
Мне вдруг и мамина фраза вспомнилась сразу. Когда отец мне зуб-то выбил (хотя он и так шатался), я себя сразу стал жалеть, маму спрашивал, почему отец меня ненавидит, а она мне отвечала:
– Любит он тебя, Боречка, любит. Как умеет, так и любит. Как его самого научили.
Уж как научили.
Горько его учили жить на земле, и он меня горько учит – без жалости.
– Ножом тебя, что ль, пырнуть, – задумчиво сказал я.
– Я тебе пырну.
Он залпом, как водку, допил клубничное молоко – со всем так делал, старая привычка была. Вторая натура.
– А такой безобидный был человек, – сказал он. – И не подумаешь. В гробу на него смотрел, думал, ну чистый профессор филологии. Ну да ладно.
Я вылизывал тарелку из-под лазаньи, потом пальцем водил по застывшим каплям соуса, старался все под ноготь загнать, чтобы вкусный был.
– Ну ты пойди, – сказал отец, – пошароебься. Поисковое поведение развивай. Может, найдешь что интересное. А мне с Уолтером надо встретиться. Ночью работа будет. У них ужас тут под землей живет, да и канализация тот еще кошмар, затопления одни.
– А я на этого Уолтера посмотрю?
– Ну, посмотришь, чего б нет-то?
Он пнул мой стул.
– Все, иди погуляй уже. Надоел.
– Ну и ладно.
Проходил я мимо него, а он как схватит меня за руку, словно волчок за бочок в колыбельной.
– Это еще что такое? – Отец соскоблил гнойно-кровяную корочку с язвы моей, маленькой, меньше копейки.
– Юрикова мама говорит: это стафилококки.
А она медсестра, правду-то знает.
– Ну, йодом, что ль, намажь. Девок, небось, уже хочешь, а ходишь, как чушка. И причешись.
Он щелчком отправил корочку к пеплу в тарелку, пригладил свои волосы и как-то устало глянул в окно, будто день предстоял долгий, а в конце и помирать пора.
Я зашел в ванную зубы почистить, потом сел на кафель, рассматривая начинающие чернеть стыки между плитками. Не такое все и новое, все поживет да почернеет.
Зашел отец, переступил через меня, тоже принялся зубы чистить, тщательно, хоть белыми они б никогда не стали, сплевывал розовую от крови пену – как бешеный.
– Чего расселся?
– Чтоб сосредоточиться, ты мешаешь.
Пробормотал он что-то недовольное, а я стал нюхать. Сильнее всего был отцовский, конечно, запах: потный, водочный, крысиный, одеколоновый. Дальше паста зубная да кровь его. Всякий домашний мусор, пицца тухлая, капли алкоголя в пустых вроде бы бутылках, пыльный ковер. Если глубже – ржавчина труб, хлорированная вода, бегущая по ним, муравьи в ложбинках в бетоне, братишки с сестричками. Вот наша квартира, я мысленно все запахи по уровням разложил, запомнил и двинулся дальше. Пройти я мог этажей на пять вниз, но остановился на следующей же квартире. Оттуда кошатиной несло и чем-то водяным, огурцовым, озоновым, еще старостью и натуральными тканями, духами.
Я весь подобрался, вскочил на ноги. Отец ухмыльнулся.
– Нашел?
– Да! Да! У нас кошка в соседках!
– Ну и познакомься с ней иди.
– А может, и с ним, может, это кот!
– Кошка. Старая кошара.
Но я его не дослушал, в момент у двери оказался, открыл ее привычным каким-то движением, выскочил на лестничную клетку. Только к кошкиной квартире подошел, не звонил еще, а дверь уже распахнулась. И я услышал, на русском, между прочим, вот что:
– Я тебя еще вчера учуяла, крысеночек. Привез тебя все-таки отец.
На вид ей лет сто было, наверное. Но она все еще была красивой, как бы даже не просто красивой, не как картинка там, не как дама какая-нибудь с «Титаника», а будто женщина, которую еще в постель к себе хотят. Она была тощей, с чертами лица, которые старость хоть и обточила, но будто бы с каким-то художественном замыслом, как скульптор.
Глаза у нее были пронзительные, синие, на старческом лице вообще невероятные, молоденькие совсем. Ай, до чего красивая была, напудренная, накрашенная, аж стыдно стало за себя, глядя на нее. Старушки иногда бывают ни то ни се, а чаще такие, что в гроб краше кладут, но эта, казалось, никогда не откинется.
А откинется, так все с ней к черту полетит.
У нее губы были тронуты холодным красным, ресницы – длиннющие от природы, а волосы все одно серебро, длинные, до лопаток, с локонами кинозвезды. А платье на ней было сказочно красивое, как на королеве, темно-зеленое, шелковое, со складчатым воротом. В ушах целомудренные бриллианты, в колье – тоже. Даже туфли – на каблуках.
Она со временем спорила и выиграла, я аж дышать забыл. Она (как старушкой-то ее назвать?) протянула мне свою белую, без единого пигментного пятна, руку. Ноготки были длинные, острые, как у девочки.
– Мисс Клодия Гловер.
– Боря Шустов.
Я не сразу понял, что руку нужно не пожать, а поцеловать, так она мне ее протянула, чтобы я губами коснулся простого золотого кольца. Мисс, значит.
Когда она назвала свое имя, «мисс Клодия Гловер», ее акцент показался мне прямо британским, как в фильмах по Шекспиру, которые мы иногда смотрели на уроках английского.
– Я никогда кошек не видел.
– О, я видела достаточно крыс, – она снова заговорила на русском, и вполне чисто, надо сказать. – Проходи. Ты хорошо знаешь английский?
– Не очень. Ну, терпимо. А вы хорошо знаете русский, кстати.
– Вполне. Я знаю много языков.
– Вас, что ль, тоже этот Уолтер позвал?
Она вскинула тонкие, причесанные бровки, демонстрируя презрение к простым словечкам. И откуда только она их знала? Так хорошо, да так уверенно, мисс Гловер продолжала говорить со мной по-русски:
– К сожалению, я уже слишком стара, чтобы принимать участие в его безусловно благородном начинании. Я давно отошла от дел. Хочешь верь, а хочешь не верь, но мы с твоим отцом стали соседями совершенно случайно. В противном случае я предпочла бы избежать такого соседства. Но что есть, то есть.
Она очаровательно улыбнулась, зубки у нее были сахарно-белые, наверняка ненастоящие. Мисс Гловер провела меня в комнату, и такой у нее там был будуар. Комната всего одна, а какая богатая. Кровать стояла у окна, большая, с прозрачным балдахином. Был туалетный столик с большим зеркалом посередине и двумя, поменьше, по бокам, раздвигающимися, как створки алтаря. Этот бело-серебряный столик на тонких ножках весь был уставлен косметикой и дорогущими на вид флаконами с духами. На черных обоях расцвели силуэты экзотических цветов, они были вычурные, но не безвкусные. Аккуратненький чайный столик, а возле него ампировская (я тогда и слова-то такого не знал, а уж мебель того времени даже представить не мог, это она мне потом рассказала) кушетка – все было в готовности для приема гостей. На столике стоял серебряный поднос, на нем ожидали применения чайник, молочница. На тарелочке лежали аккуратные, крохотные пирожные, совсем мне незнакомые.
И я вдруг подумал: мисс Гловер меня ждала. Не из вежливости, а отчаянно. В старости так одиноко, так хочется свои знания кому-нибудь оставить, чтобы твою историю в себе понесли, а хоть и за руку кого подержать, душу живую хочется рядом, короче.
А у нее небось такая история, ну такая история – королей соблазняла, топила корабли на море, возводила дворцы – не меньше.
И чайник горячий оказался.
– У меня очень хороший слух, – пояснила мисс Гловер. – Прослышала о приходе гостей.
На стенах висели в золотых рамках ее еще черно-белые фотографии, совсем молодая она была на них. Но ебануться просто, какая она везде была красивая.
Я снова принюхался, пахло от нее старчески: чуточку мочой, чуточку еще чем-то кислым, но в то же время запахи эти покрывали фальшивые ароматы – пудра и какие-то духи, персиковые и горькие в то же время.
– Какой запах красивый.
– Это «Митцуко». Герлен. Выпущен в год моего рождения.
– В семидесятых, что ли?
Она сдержанно засмеялась.
– А ты очаровательный крысеночек.
Слово «крысенок» она снова произнесла на английском, хотя в остальном ловко управлялась с русским. Крысеночек. Ратлинг. Скорее «крысенок», конечно, но я ощущал сладкий, почти издевательский подтон, уменьшительно-ласкательный суффикс, сахарно скрипящий на зубах.
– Тысяча девятьсот девятнадцатый, – сказала она. – Садись, пожалуйста. Не хочу, чтобы чай остыл.
Я сел, сразу потянулся к пирожным, но мисс Гловер посмотрела на меня так, что рука у меня замерла и не желала двигаться.
– Для начала я налью тебе чаю.
Уж ее никак нельзя было назвать милой бабулечкой, которые мне так нравились, в ней не было ничего теплого, наоборот, она была будто ледяная скульптура. Рядом с ней я чувствовал себя одновременно комфортно и нет.
– Знаете, – сказал я, все-таки справившись с собой и сумев ухватить маленькую корзиночку с клубничным джемом, ну на один зуб вообще. – Я никогда прежде не разговаривал с другими такими, как мы.
– О, я и не такая, как вы.
– Ну да, мисс Гловер. Я в целом. Я имел в виду, с другим звериком.
– Звериком? В моем окружении принято называть себя детьми духа.
– Это как-то тупо.
Сливок у нее в чашечке с золотым орнаментом было намного больше, чем чая.
– Что ж, – сказала она так сладко, словно бы я этого не произнес. – Значит, ты немного знаешь о других, как ты говоришь, звериках.
– Ну, так. По верхам. Знаю вот, что кошки не убили Гитлера.
Мисс Гловер звонко, совершенно по-девичьи засмеялась.
– Да, тут мы полностью признаем свою вину, однако вам стоит поблагодарить нас за смерть Делакруа и Манфреда.
– Это кто вообще?
– Вот именно.
Мисс Гловер перенесла одну пироженку на маленькую тарелку, принялась терзать ее маленькой вилочкой, ну точно как девчонка играет с кукольными вещичками.
– Некоторые люди как пустота, как очередная каверна, из которой смерть лезет в мир. И бывает так, что они еще сами об этом не знают. Не знают, что заражены.
Да, мама поэтому никогда не разрешала мне лезть с ней в яму и смотреть, что она делает. Отец поэтому не хотел, чтобы я жил в Норильске, пока не стану старше. Маленькие дети могут заразиться, тогда тьма не просто вызовет болезнь, не просто навлечет злую судьбу, несчастный случай например, но и будет расти внутри. Такими темными ранами занимаются уже совсем другие зверики.
И это все тоже об особой доле каждого из нас. Бывает, свалятся два ребенка в яму или, может, искупаются в темном месте – одного назавтра собьет машина, а другой жизнь проживет, один заболеет да помрет, а другой до старости дотянет, один войну развяжет, а другой ее остановит.
Бывает, что пронесет, но лучше не рисковать, так мамка говорила.
– Мы таких, как Гитлер, чувствуем за тысячи километров, кто почует, того и добыча. Но бывает, что сколько ни пытайся, ничего не получается. Я лично на Гитлера никогда не охотилась, но мне говорили, что он был верткий, словно угорь. Ему невероятно везло. Может, у темноты, как многие говорят, и есть нечто вроде разума.
Не-а, в это я верить не хотел. Никакого ей разума, никакого ума. Просто материя, этого достаточно.
– Чаще всего охота начинается, когда им исполняется двадцать. Еще недостаточно могущественны, но уже не детеныши.
– Добрые вы, что ли?
Мисс Гловер посмотрела на меня своими пронзительными глазами.
– Нет, просто смерть человеческого детеныша – это всегда скандал. Очень заметно. Но мы часто начинаем наблюдать за ними с детства, чтобы не упустить случая.
Смотришь, смотришь за ребенком, он вырастает, а ты, может, привязался к нему. И тут хрясь, тебе его надо убить. Пожалел Лай маленького Эдипа, сразу не убил его, упустил, бросив к Киферону, а надо было вырастить, как бычка, и зарезать. Но бесчеловечно ж это как-то, хоть и на пользу, хоть и многие беды предотвратит.
– Бывает, – продолжала мисс Гловер, довольно жмурясь от вкуса сливок, – что мы обнаруживаем их поздно. Лично моя заслуга – Улоф Пальме. Премьер-министр Швеции.
Розовенький ее язычок пробежал по губам, не смазав матовую помаду.
– Человек он был, может, и неплохой, но какие из-за него были бы жертвы, пусть бы он этого даже не желал.
– Да ну. Это ж Швеция. Какие жертвы?
– К счастью, мы никогда не узнаем. Легко говорить о том, что мы упустили Гитлера или, к примеру, Пол Пота. Однако трагедии, которые не осуществились благодаря нам, так нелегко представить.
Мисс Гловер указала пальцем на одну из фотографий, на которой она, уже пожилая красавица, стояла рядом с обычным таким мужичком – в Улофе Пальме не было ничего зловещего. Мужичок был в хорошем костюме и профессионально улыбался.
Ну и умер.
– Вам не понять. В подземном мире исполнять свой долг куда проще.
– Ну я б не сказал. Видели бы вы, как папашка мой болеет.
– У каждой твари свое назначение.
Я встал и принялся рассматривать фотографии. В основном мисс Гловер позировала с молодыми людьми. Она становилась все старше, а мужчины и женщины, что позировали рядом с ней, умирали в юности.
У мисс Гловер на этих фотографиях была неизменная загадочная улыбка, она будто знала самую главную тайну. Ну, она и знала. Мисс Гловер явно было по вкусу ее дело. Мужчины и женщины всех рас и расцветок, которым она не дала погулять по земле и оставить после себя разруху и войны, не вызывали у нее никакого там сочувствия, она просто охотилась.
Кошачья безжалостность, так отец говорил.
– А мы потом от ваших убийств следы убираем, – сказал я.
– Таков круговорот. Мы предотвращаем худшее, а вы за нами подчищаете.
И никто не понимает, откуда все-таки столько тьмы в нашем мире, сверху или снизу она идет.
– Кроме того, – сказала мисс Гловер, мгновенно поняв, о чем я думаю, в чем ее обвиняю, – эти бедные детишки, на которых мы, кошки, охотимся, заражаются тьмой, которую не убрали, жалея себя, вы, крысы.
И все друг друга обвиняют в том, что тьмы все больше, и выясняют, кто нужнее вещи делает. Вот у них, наверху, социалочка, а у нас, внизу, – одиноко себе умирай, а в небе и вовсе все странно, об этом я тоже скоро расскажу.
– Ладно, – сказал я примирительно. – Значит, вы такие типа одинокие ассасины?
Мисс Гловер засмеялась.
– Можно сказать и так.
К нам вышла белая кошка, тут же глянула на меня, примерилась, заняв охотничью позицию, но так и не прыгнула. «Не на зуб он мне, значит, – подумала, видимо, про меня. – Пахнет крысиным дитем, а выглядит человеком».
– Иди сюда, Фелисити, познакомься, это ребенок духа. – И мисс Гловер обратилась уже ко мне: – Как твое полное имя?
– Борис.
– Борис, – повторила она. Кошка подошла ко мне, коротко втягивая носом воздух, затем прыгнула на колени к мисс Гловер. Кошка была такая же сказочная, как и ее хозяйка – синеглазая, длинношерстная.
– Турецкая ангора. Прекрасная родословная.
– А у ней и паспорт есть? Покажете?
В любой другой ситуации я бы, наверное, стал расспрашивать про фотографии, про работу мисс Гловер, про то, как она была киллером и убивала всяких там злодеев. Но не было на фотках ни одного генерала в очках-авиаторах, ни одного змееглазого политика.
Были молодые люди и этот самый Улоф Пальме с красивой улыбкой. А таких было жалко. Не хотел я знать.
– Конечно, с радостью покажу.
И полчасика, наверное, мы ее кошку обсуждали, единственную ее родную душу. Мисс Гловер налила себе бурбона и курила тонкую сигарету, вставив ее в черный мундштук.
– Старость, конечно, всегда случается неожиданно, – вдруг сказала она, отложив альбом с выставочными фотографиями Фелисити. Уж лучше бы их на видном месте держала, всяко приятнее, чем смотреть на фотографии людей, которых она убила. – Вот ты живешь, живешь своей жизнью, насыщенной, яркой, а секунду спустя она уже уплывает от тебя. Тело не то, разум – тоже. Ну что я тебе рассказываю? Ты до моих лет не доживешь.
– Ну, может, и слава богу, – сказал я, улыбнувшись как можно более лучезарно. Она посмотрела на меня с уважением.
Никак я понять не мог, нравится мне мисс Гловер или нет. Она была как я, и в то же время совсем другая. Людей убивала, и все такое, и от нее, может поэтому, а может из-за отточенных, принцесскиных манер, такой мороз исходил, продирал прям.
– В любом случае, – сказала она, – еще одна кошачья особенность, которую тебе не вредно бы знать, это наша изумительная родословная. Я состою в родстве почти со всеми аристократическими семьями Европы.
Точно, то ли от отца, то ли от мамки я такое слышал, что кошки мешаются с людьми (богатыми и влиятельными, конечно) чаще, чем остальные виды наших. Считается, будто от союзов людей и кошек чаще рождаются котята, чем люди.
– Круто. Габсбурги там всякие? А я знаю своих родичей до шестнадцатого века. Аж до опричников.
– Должно быть, есть чем гордиться.
Тут у нее вовсе не вышло меня подколоть. Ну, частенько бывало, что у медведей, например, военные семьи. Или вот есть многие поколения мышей-ученых.
Мы, крыски, в этом плане попроще. Среди нас много всяких чекистов, опричников, короче, вот этого сорта людей. Много бандитов. Много нищих, бездомных. Шахтеров еще много, ну понятно почему.
Матенька любила всех грязных, душой и телом, всех беспомощных и подлых, всех изгоев и больных. Как бомжам на вокзалах добрые медсестры обмывают раны, так и Матенька нас таких принимала и вылизывала.
И мисс Гловер было не понять, как это красиво, какая у меня на самом деле безупречная родословная с точки зрения Матеньки моей.
– А как вы называете вашего духа?
– Как же это будет на русском? – Мисс Гловер задумалась.
Говорила она так гладко, что я уже и забыл, что мой язык ей не родной.
– Охотница, я думаю. Королева Охоты. Нежная наша мать.
Глава 5. Собачка-таксочка
А вот брат мамкиного отца, звали его Сережей, жил во Львове, в коммунальной квартире. Был у него сосед, такой тихий мужичок в рубашке на размер больше, чем надо. Ходил, как тень, на работу и с работы, больше никуда.
В остальном – почти нормальный, даже и поговорить можно, только рассказывал, что снится ему все время один и тот же сон.
Значит, так, сейчас процитирую: лежал он, играл со своей крысой. Тут к нему подошла собачка-таксочка и сказала:
– Съем твою крыску.
И съела. А потом собачка-таксочка стала танцевать, пока не умерла. А сам он повесился на веревочке от торта.
Такой сон, значит, снился ему все время, в остальном – нормальный мужичок. Любил безответно Сережину жену, а больше никаких от него проблем. Вот, а потом взял да и зарезал Сережу. Сам повесился на веревке от торта.
Ну, как отец мой говорил: умер, и хорошо. Еще он любил говорить: вот все умрем и сразу заживем по-человечески.
А чего я про мужичка вспомнил? Ну, может от того, что на столике у мисс Гловер, убийцы, как-то незаметно появился тортик со сливочным кремом, весь этой вкуснятиной покрытый, и я в волнении облизывался. Мисс Гловер отрезала мне кусочек и, наклоняясь, чтобы положить его на тарелку, сказала, сладко-сладко:
– А если вы, крысы, разведете мне здесь грязь, что безусловно будет не по-добрососедски, я вас обоих убью.
Ого. Это она не шутила, но тортик все равно вкусный был. Руки у мисс Гловер чуточку дрожали, но она с ними отлично управлялась, легко, показывая, что ей не нужна никакая помощь, убрала со стола.
– Что ж, прости меня, пожалуйста, Борис, я чуточку устала, и мне хотелось бы прилечь.
– А, ну я понял. А можно еще кусочек тортика с собой?
– Разумеется, нет.
– Тоже понял.
Вдруг, когда мы уже стояли в прихожей, она достала из маленького ящичка пятьдесят долларов.
– Это чего?
– Сходи в аптеку и купи себе лекарств.
– Каких лекарств? Я не болею.
Болеешь – это же когда простуда, когда из носа течет да горло дерет, а со мной ничего такого не было. Мисс Гловер мягко, но сильно обхватила меня за плечи, развернула к зеркалу.
Ну тощий я был, ну бледный, и уголки глаз гноились. Это она мои язвочки не видела еще, а то бы на порог не пустила.
Мисс Гловер сказала:
– Следи за собой. У тебя, кроме себя, ничего и нет.
– Вот это какая неправда, у меня есть душа.
Она только засмеялась, а потом открыла передо мной дверь. Не вытолкнула, но казалось, что вытолкнула – странно. Фелисити любопытными, синими, как у хозяйки, глазами смотрела на меня, высоко вздернув хвост.
– До свидания, мисс Гловер. Спасибо, что вы со мной поговорили. Я вам этого не забуду.
– Я не сомневаюсь, Борис, буду рада увидеть тебя как-нибудь.
Слово «как-нибудь» она произнесла как «иногда» да и закрыла дверь. Я постоял еще пару секунд перед закрытой дверью, попредставлял ее, сидящую в одиночестве со стаканом бурбона. То есть не так уж чтоб совсем одну.
Из-за нашей двери пасло псиной, я понял, что это тот Уолтер. Значит, он сам к отцу приехал, надо же. Хотелось мне зайти и познакомиться, но из-за двери несло и очень злым папашкой, так что соваться я не стал. Я знал, как острится его запах, когда с ним лучше не связываться.
Больше в нашем доме никакого звериного духа не было, ну разве что домашние животные, я все исследовал.
Интересно, подумал я, а если мисс Гловер узнает, что папашка-то богатый и я зазря взял ее полтинник, убьет меня или нет?
Может нет, а то кто к ней ходить будет?
Я вышел на улицу и прям сразу весь напрягся от шума, а машины, мне казалось, ездили так быстро, до головокружения просто. Вжух – и нету ее, как не было. Чернокожий парень с плакатом, на котором маркером было написано «на сегодняшний ужин», докурил забычкованную, судя по запаху, сигарету. Какая-то дама с пуделем, похожая на персонажа мультика, спешила к остановке. Проехал на самокате мальчик, пахнущий сахарной ватой.
Мне все было любопытно, но больше всего – местная темень, непролазная, просто кошмарная. Такого я еще не видел, а мне-то казалось – Норильск заражен. На всем оно наросло, как слой плесени, я вчера и не заметил толком, такой ошалелый был, да так это все слилось с городом. Ну, что-то вроде полупрозрачных пленок, удушающие такие штуки. В Москве такого в достатке было, а тут и вовсе.
То есть, ну, приучиваешься не замечать, приучиваешься не видеть, а страшновато все равно. Это как если бы можно было посмотреть на радиацию.
От каждой пленочки шло то, чего в мире не должно быть. Ну или то, что хороший мир делало нашим.
Я не знал, как их снимать, прикасаться к ним тоже не хотел – так это было отвратительно. А я, на секундочку представьте, однажды с голодухи корочки свои гнойные с язвочек ел.
Вот какая была в этом мерзость невероятная, я не то чтобы испугался – я бояться не так уж хорошо умел, и все-таки стало мне в момент не по себе и неуютно. Стал я думать, значит, куда потратить мой полтинник. Хотелось особенного чего-нибудь, но я не знал, продадут ли мне бухло. Можно было, например, зайти в книжный или попробовать унюхать, кто тут толкает травку. А где-то на углу так маняще пахло заварным кремом.
Люди все не кончались, их было так много, и все они куда-то спешили, от них разные запахи исходили, они по-разному были одеты. Небо наверху подзатянулось тучками, но все равно было светло. И я не мог представить себе, что сейчас зима.
По мозгам мне бил даже грохот далекой автострады, я от всего охренел, но в то же время у меня был восторг от яркости вывесок в дрожащем, вибрирующем, как у да Винчи на картинах, воздухе.
Ночью все было правда, как в огне, в разноцветных всполохах, не верилось, что назавтра тут что-то кроме пепла останется. А вот.
Выглядел я, должно быть, ужасно тупо. Просто шлялся по улицам без малейшего понятия о том, где я. Нюх, я знал, и через полгорода приведет меня к отцу. Я не боялся потеряться, а развивал поисковое поведение, глядел, как какие-то парни развешивают по витринам рождественские звезды – хоть и в декабре, но в дождь. Ну да, он пошел все-таки, только теплый, и как-то даже привнес света. Хороший такой, летний, грибной дождь.
Интересно, подумал я, зима у них похожа на весну. Считается такая зима тут, в Лос-Анджелесе, холодной или жаркой?
А Уолтер тот, он чем так папаню разозлил?
Столько у меня было вопросов. Я снова посмотрел на небо, на прозрачный кружочек солнца между тощими тучками. Мамка мне говорила, что когда дождь идет, это Матенька пускает всех мертвых о нас поплакать, о том, что мы тоже умрем, и вообще о том, что никакой справедливости в мире нет, и о том, какие мы дурные, какие ошибки совершаем. Каждый о своем, в общем, плачет, но всем грустно.
Я теперь в это верил: много ошибок делаешь – есть о чем твоим родственникам погрустить дождем вниз. А раньше я думал, что жизнь – сплошная радость.
Вот, короче, нашли на меня тоскливые мысли, сердце затянуло, я постоял, покурил, погрустил со всеми мертвыми вместе и все-таки весь промок. Ну и решил завернуть в супермаркет. На продмаг он совсем не был похож, скорее уж на московские магазины, только название было незнакомое. Свет внутри был, как в операционной. Люди расхаживали между полок с продуктами, а я почему-то подумал о библиотеке. О том, что здесь еды, как книг, Господи. И все так упаковками зазывало, такое пластиковое и радостное было, что я увлекся даже углем для жаровни.
А соки у них тоже были в канистрах как из-под антифриза. Одного апельсинового сока, может, наименований десять, как в Москве, я в них совсем запутался. Молочные продукты почему-то были под знаком «дневник», перепутали с канцелярией, может (это потом я все слова узнал, а тогда стоило буковку перепутать, и такая ржака наступала). Я молоко больше всего на свете любил, мне мама в детстве его с сахаром мешала. Когда с деньгами плохо было, так я им только и питался, вот была моя детская радость – пить его целый день.
Я бродил по супермаркету и на все смотрел, как будто очнулся вдруг на другой планете. Салатов у них был миллиард только фруктовых. Даже поговорил с одним:
– Нет, ну серьезно, блин, им что, лень фрукты самим порезать и смешать?
Ладно б оливье, но яблоки уж с морковкой-то натереть, ну вообще никакого мастерства не надо.
А еще были у них порезанные и очищенные кусочки арбузов и ананасов. И хлеб был для сэндвичей квадратный, как в фильмах, и булки для хот-догов золотились. И еще куча сиропов. Стал я думать, что купить на полтинник, смотрел на цены, и на все мне было жалко денег. Вот мороженое за четыре доллара, это как вообще, не для этого я на свет появился. А арахисовое масло, которое я мечтал попробовать, два доллара стоило, вот его я решил купить. Расхаживал с ним еще долго, пытаясь заметить камеры, потом увидел паренька, пихающего в рукав пакетик «Эм-энд-эмс», и понял, что где он стоит, там, видимо, и попастись можно. Ну, я верил, что паренек местный, доверял ему. Он еще что-то умыкнул и пошел дальше, насвистывая, а я, чуть погодя, занял его место. В рукав толстовки я напихал незнакомых мне шоколадок всяких, белых и пористых, одна мне особенно понравилась – на ней рычал такой комиксовый лев, очень круто она выглядела. И тут я глазам своим не поверил. Лежал прямо на виду фиолетовый пакетик драже из «Гарри Поттера». «Берти Боттс» они назывались, или как-то так. Я смотрел на них и чесал в затылке, а руку мне колола обертка одного из шоколадных батончиков. Нет, ну я, конечно, понимал, что они не настоящие, и все-таки это была какая-то запредельная штука. Мне обещали, что там может быть и черный перец, и сера ушная, и блевотня, и яйцо тухлое, и зефир, и много чего еще. Я не мог поверить, что в неволшебном мире существует конфета со вкусом тухлого яйца, и американец готов заплатить за нее деньги. Однако запихать в рукав пакетик было не так просто, как батончик. Я примеривался, примеривался, а потом услышал у себя над ухом английскую речь с каким-то странным, похожим на русский, акцентом:
– Нет, это для опытных, пока лучше не надо. Они шумят.
В нос мне ударил еще незнакомый, но явно нечеловеческий запах. Он учуял меня, наверное, раньше, вот и подошел. Я сказал:
– Ну, тогда куплю.
Я водрузил пакетик с «Берти Боттс» на банку с арахисовым маслом и посмотрел на него, того самого паренька, у которого в рукаве была пачка «Эм-энд-эмс». Он был очень красивый – золотистый блондин, волосы у него чуть завивались, как на античной скульптуре, а глаза были большие и светлые, черты – очень правильные, и такие пухлые губы, ну прям античный мальчик, пидорок какой-нибудь типа Ганимеда. Смазливая у него была морда, но в то же время в нем блестело что-то лукавое, живое. Одежда для его облика была странно современная – скейтерские джинсы, длинная, поношенная толстовка. В его конверсах были разноцветные шнурки. И кем он все-таки пах?
– Не благодари за совет. Ты новичок?
– Ну, где я раньше жил, никак нельзя было.
– Тогда не попадись, а то копов вызовут. Они всегда вызывают.
– И плакать не помогает?
– Ну, здесь я еще не попадался, думаю, нет.
И снова акцент его показался мне смутно знакомым, не таким, как мой или отцовский, но близко-близко. Я спросил:
– Говоришь по-русски?
Лицо у него мгновенно сделалось надменным.
– С чего бы это мне по-русски говорить? А ты по-польски говоришь?
– Немного по-украински.
Парень ответил что-то, я ничего не понял по факту, но смысл уловил через его интонацию – так еще хуже. Он закатил глаза, и я понял, кого этот парень мне напоминает. В коллекции у моего давнего благодетеля, чьи книжки с помойки принес отец, были новеллы Томаса Манна и там, среди них, «Смерть в Венеции». Про писателя, который всю жизнь не жил, а потом стал педиком, педофилом и закономерно умер от холеры.
Хотя было у меня подозрение, что я ничего не понял.
В общем, этот парень, он был как Тадзио, тот мальчик, в которого влюбился писака. А может, я так теперь стал думать, оттого что он был смазливый поляк.
– Я – Мэрвин.
Он назвал свое совершенно американское имя и добавил:
– Мэрвин Каминский.
– Боря Шустов. Типа Борис.
– Да я понял. Ты – крыса.
– Ага. А ты? В смысле, я не могу понять, как-то странно пахнешь, непохоже ни на что.
Он почесал в затылке, я услышал легкий перестук «Эм-энд-эмс» в его рукаве.
– Летучая мышь, – сказал он, чуть помолчав. Мне показалось, что Мэрвин смутился. Тут я угорел.
– Типа Бэтмен. Прикольно прям. А ты вроде птичка, или нет?
– Скорее да, чем нет. Но я на самом деле не знаю, короче сложно.
Теперь он почесал затылок, вытащил из-под воротника кулоны на цепочках, их было много, и все они так переплелись, что трудно было различить, какой кулон какой цепочке принадлежит. В ярком свете поблескивали один из знаков Зодиака (Скорпион), ангел, покрытый синей глазурью скарабей египетского вида и какие-то уж совсем мудреные штуки. На запястье у Мэрвина я увидел шрам в виде цифры девять.
– Ну, и кстати, у тебя они тоже гремят. «Эм-энд-эмс».
– А мне везет, вот увидишь.
– У тебя особое везение? Это летучие мыши так делают?
– Не-а, не делают. Это я делаю.
Я посмотрел на него пристально, оценивая, потом улыбнулся:
– Я сейчас хлеб возьму. Для сэндвичей. Знаешь место, где мы с тобой можем поесть?
– А вообще-то знаю.
Когда я вернулся с хлебом, Мэрвин сказал:
– Я все-таки немного знаю русский. Блядь. Ебать. Хуй. – Матерился он, кстати, чисто, почти без акцента, так что я подумал, что он по-русски и еще чего-нибудь знает, просто говорить не хочет.
– А я не сомневался.
Мы оба засмеялись и пошли к кассе. Ему правда повезло, еще повезло мне, и через полчаса мы уже сидели на куцо-зеленом пятачке перед автострадой.
– Серьезно, это типа в Лос-Анджелесе место для того, чтобы поесть?
Сидели мы под мостом, над нами и перед нами с невероятным грохотом проносились машины.
– Сюда точно никто не придет. Никаких тебе бездомных. Никаких там копов, ну, если они тебя не любят, это плюс.
– А тебя не любят?
Он пожал плечами.
– Ну, скорее маму.
Мы глотали пыль, в горле першило, но мне было так клево – ото всех этих тачек, от того, что казалось, будто мост сейчас обвалится.
– Короче, никого вообще. Можно расслабиться. Мне такие места нравятся. Еще я знаю вот что.
Он подобрал какой-то камушек и кинул на дорогу.
– Они не остановятся, чтобы меня обругать. Слишком быстрое движение. А если мне повезет, будет авария.
– Или если не повезет, это уж как посмотреть.
Мы вывалили всю свою добычу прямо на слабенькую травку, сосредоточенно намазывали арахисовым маслом хлеб и заедали сэндвичи шоколадными батончиками, меняясь ими.
– Вкусно, – говорил я.
Еще говорил:
– Да ну, такое себе.
«Берти Боттс» мы тоже разделили – мне досталось тухлое яйцо, я съел его, пожав плечами, не так плохо, как могло быть, а Мэрвина чуть не стошнило от ушной серы.
– Слабак, – сказал я. – Слушай, а ты здесь давно?
– Да вот родился.
– А чего у мамы твоей с копами? Она типа тоже ворует?
– Раз мы поляки, так сразу все и воруем?
– А то не так?
– А вот не так.
Он легко заводился и легко остывал, была в нем такая горячность, скорее даже приятная. Когда я злился, то обычно себе не нравился. А Мэрвин, он становился надменным, тут же задирал нос, за ним забавно было наблюдать. Еще оказалось, что русский он знает, хуже, конечно, чем мисс Гловер, но все-таки объясниться я с ним мог. Выяснилось, и что я отчасти могу понять польский – с помощью украинского. Словом, установилось некоторое взаимопонимание.
– Ну, кем она работает?
– Да не скажу я тебе.
– А отец кем?
– Отцом точно не работает. Моя мамка из Закопане. Это в Карпатах. Типа зимняя столица Польши, но на самом деле там такая скука. Знаешь, что на кладбище там написано? «Нация – это народ и его могилы»! Прям на воротах!
Тут я стал так смеяться, что чуть не подавился сэндвичем.
– Да это ж потому что он Закопан! За-ко-пан! Понимаешь? В земле!
– Закопане, – холодно повторил Мэрвин, а потом тоже засмеялся, я так и не понял, он врубился, или я его просто заразил.
Когда у нас остались только крошки и парочка драже, мы закурили, смотря на проносящиеся мимо машины. Я тоже швырнул камушек, даже не успел заметить, как себя повел водитель, обернулся хоть, заметил ли.
Мы с Мэрвином говорили на смеси английского, польского, украинского и русского, я не понимал, как так вышло, но мне было неожиданно комфортно.
– Но вообще, – серьезно добавил я, – я согласен. Все так. У меня миллион историй про могилки есть.
– И про ямы, и про расстрелы, и про то, как кто-то по пьяни умер. Ты ж русский. У меня прадеда под Катынью расстреляли.
– Может, мой прадед. Он был энкавэдэшник.
Слова «энкавэдэшник» Мэрвин не понял. А вот слова «секретная полиция» и «Сталин» многое для него прояснили. Так мы в первый раз подрались. Мы катались по маленькому, просоленному выхлопными газами пятачку земли и могли в любой момент скатиться вниз, прямо под бешено ревущие машины. Но никто не остановился, всем было плевать, они проезжали слишком быстро, чтобы осознать, что мы в опасности.
И чувство это было освобождающее. В Снежногорске люди один у одного на виду, всегда бы разняли, всем друг до друга дело есть. А тут – ты делай, что хочешь, хочешь даже умирай, совсем один. Я был азартный и остервенелый, даже злой какой-то. Раньше я только с Юриком дрался, ну если не считать уроки от отца, которые скорей уж были избиениями. Зато Юрик был куда крупнее Мэрвина, так что с поляком сладить оказалось проще. И вот, когда я навалился на него, стукнул локтем в грудь, совсем прижал к земле и готовился победить, Мэрвин вдруг сказал:
– Все, надоело теперь.
И выбрался так быстро, так невозмутимо, что я даже не успел его остановить – настолько меня ошеломил этот непринужденный тон. Мэрвин слизнул каплю крови с разбитой губы, пересчитал свои кулончики, улыбнулся уголком губ и сказал:
– Так я о чем говорил, про Закопане значит. В общем, она забеременела, причем от видного человека, намекала, что от политика, ну и поехала делать аборт. Приехала в Германию, значит, а там передумала. Польшу послала. Потом послала и Германию, моталась по Евросоюзу, доехала до Ирландии, а оттуда мотнула в Америку. Вот здесь-то меня и родила. Интересный выдался год, говорит.
– А она – летучая мышь?
– Что ты привязался к летучим мышам-то? Она – волчица.
Про волков я знал. Они, в общем-то, занимаются тем же, чем кошки, только в каком-то мелком смысле, в бытовом скорее. Пасут, значит, людей на вверенной им территории (у кого – деревня, а у кого, например, школа) и не дают им увеличивать прорехи в мироздании.
Это иногда значит: объяснить ребенку, который убивает котов, что они живые и им тоже больно.
А иногда – убить серийного убийцу. В общем, они такие санитары леса, это я знал. Стараются держать людей в чистоте, чтобы хуже не делали и без того израненному миру.
Мэрвин взял одну из оставшихся конфеток, выплюнул, схватился за горло:
– Это прям рвота!
Он заругался на польском, потом на русском.
– А говоришь, везет тебе.
– Ты не представляешь как.
– А у меня трава. Она вкусная.
Будто жуешь желе из клевера.
Мэрвин растянулся на земле, вытянул руку и потрогал витиеватое граффити, какую-то нечитаемую, ну мной уж точно, надпись.
– Короче, мы нелегалы. Поэтому копы ее не любят. А я не люблю рассказывать про духа своего, потому что я мало о нем знаю. У меня отца не было, чтоб рассказать.
Я вспомнил своего отца и пожал плечами. Ну, может и повезло тебе, Мэрвин.
Мэрвин снова закурил, оставил на фильтре пятнышко крови.
– Слушай, я никогда не видел птиц. Ну и, тем более, летучих мышей. Вы правда умеете летать?
Мэрвин как-то кривовато улыбнулся, а затем сказал:
– Мы летаем во сне.
Он не очень охотно говорил о своем происхождении, зато вдруг выдал мне страшную тайну:
– Так-то моя мама проститутка.
Он сказал об этом нарочито спокойно, беспечно. Спросил:
– А твоя?
– Она утонула. Когда жила с отцом, то не работала, а до того училась только. Но она всегда хорошо рисовала.
– Училась на художницу?
– Нет, на электрика вроде. В ПТУ каком-то. Это школа для рабочих типа.
Я понял, что совершенно не могу представить маму в университетской аудитории, что при всем желании не могу выдумать ей последующего безалкогольного будущего. А ведь она могла быть жива. Остался бы я тогда в Снежногорске или нет?
– А твоя мамка? – спросил я. – Она училась?
– Да, вроде на преподавателя немецкого.
– А зачем тогда ебется с мужиками за деньги? Работать не хочет?
Я растянулся на траве, она была колючей, какой-то неживой. Надо мной был грязный бетон моста, угрожающий, грохочущий.
– Ну ты идиот, – сказал Мэрвин.
– Сам ты.
Я ждал, что Мэрвин мне еще что-нибудь скажет, но он молчал с таким загадочным видом, словно знал какую-то страшную тайну.
– Нет, ну правда?
– Не скажу.
– А чего?
– Ну, того. Ты еще не заслужил мое доверие.
– Это потому, что я русский?
– Да, я боюсь, что ты используешь эти сведения, чтобы захватить часть Польши.
Мэрвин все время перебирал свои кулончики, старался, безуспешно конечно, распутать их, и наконец я спросил:
– Да на хрена они тебе? Ну то есть педиковато ж выглядит.
– Ты педиковато выглядишь.
– Вот уж неправда.
Я взял еще один камушек, швырнул на дорогу, а Мэрвин, помолчав, сказал:
– Это все про удачу. Ты веришь в удачу? А в судьбу?
Его обычный игривый тон вдруг стал торжественным, каким-то официальным, а выпрямился он так, словно кто-то треснул его хорошенько линейкой.
– Блин, ну ты чего?
Я даже расстроился, все ж отлично шло, кому нужно быть серьезным?
– Нет, ты послушай, – сказал Мэрвин. Он с нажимом провел ногтем по шраму в виде цифры девять. – Мать какое-то время увлекалась астрологией. Она вообще-то страстная натура, ей много чего нравится, быстро загорается – быстро остывает. А мне в душу запало. Вообще не только астрология меня прет, я и на картах гадать умею.
– Типа экстрасенс?
– Не-а. Это знание. Просто наука слишком примитивна, чтобы понять судьбу и удачу. Почему нам везет, почему нам не везет, и зачем это нужно. Понял?
– Нихуя не понял, если честно.
Курили мы одну за одной, до легкости и кружения в голове. Я смотрел вниз, туда, где как река двигался поток машин, и думал, что скатиться вниз, пока мы дрались, было даже слишком легко. От этой идеи у меня сердце пело, честно. Я ликовал, потому что я выжил, мне было искренне хорошо от того, что были совсем другие варианты.
Мэрвин продолжал:
– Короче, может, это магнитные поля или еще что, но как иначе объяснить, что звезды влияют на нашу жизнь? Что в удачный день у тебя все получается, потому что все части механизма сошлись правильно. Я думаю, что там – гигантские небесные машины. Что звезды вроде шестеренок. Понимаешь меня?
– Ты шизофреник, вот это да. Но это прикольно, я никогда не видел шизофреников. А голоса ты слышишь?
– Нет!
– Мужские или женские?
Мэрвин засмеялся.
– А я знаю эту уловку, когда маму забирали в наркологическую клинику, ее тоже так спрашивали.
– Для нарколожки это странно. Небось твоя мама произвела на них впечатление.
– Это уж точно. Она на всех производит. Но ты не слушаешь.
– Да слушаю, слушаю.
Глаза у Мэрвина сверкали. Я не думал, что он правда чокнутый, не-а, люди верят во множество странных вещей, в конце-то концов. Я знал, например, что, когда хоронят человека, нельзя, чтобы что-нибудь упало в гроб, а то в следующем году в могилу еще кто-нибудь ляжет. Тупорыло вроде как, а что-то скребется, говорит: правда, Боря, правда умрет человек оттого, что ты к косточкам дяди Коли брелок с фонариком уронил, зря ты туда светил, зря ты туда смотрел, оттого и мамка твоя умерла, что ты брелочек уронил.
– Ну, я не говорю, – продолжал Мэрвин, – что это прям настоящие машины. Скорее какой-то аналог. Не технология, но что-то очень точное.
Я не считал его сумасшедшим, а ведь он с неизбежностью чокнется, как все, кто летает, пусть даже во сне. Так папашка говорил – они все ездят крышей.
Мэрвин вертел в руках позолоченный знак Скорпиона.
– Я родился, и все для меня уже определено. У меня большая роль. Только идиоты думают, что судьбу можно изменить, и только придурки думают, что поделать вообще ничего нельзя. Нужно понять, для чего ты рожден в этот мир, и тогда ты оседлаешь свою волну. Свою Колесницу.
Слово «колесница» Мэрвин сказал неожиданно легко и быстро, на русском и почти без акцента – это меня очень впечатлило, почти мистическая правильность этого слова в его устах.
– Какую, блин, колесницу, когда это вообще случилось, что мы заговорили о колесницах?
– Это карта Таро такая. Для бешеной гонки, для успеха.
Тут я уже окончательно перестал понимать, что он несет.
– Нет, Боря, ну не отвлекайся.
– Я не отвлекаюсь.
– Ты выглядишь так, как будто не веришь.
– И не верю. Слушай, ну я тоже думаю, что судьба есть. Ну, раз без тебя определено, где тебе родиться, то логично, что без тебя определено, и где ты умрешь. Но ты уж как-то слишком самонадеянно говоришь, кого-то там оседлать, то да се. Если это можно оседлать, то оно и не судьба вовсе.
– Я тебе говорю о тайном знании. О способах повлиять на удачу, на судьбу. Надо все делать в нужное время, в нужном месте, и тогда у тебя будет получаться.
Ну, если судить по старым скейтерским джинсам и корке, которая осталась от надписи Diesel на толстовке, у Мэрвина пока получилось оседлать только любимого конька, не удачу какую-нибудь, не судьбу.
– Ну вот ты понимаешь, мир – это театр.
– И люди в нем – актеры.
– А Бог в нем – Шекспир.
– Матенька говорит, что Бог ушел отдохнуть и здесь его нет.
– Ну, мне никто ничего не говорил, так что я имею свое мнение. В общем, у тебя роль. Там, наверху, тоже кто-то играет в кости, и это – твои кости.
– Вот жуть какая. Ты – католик?
– Конечно, я католик. Я ж поляк. И мама моя – католичка. Отец тоже католик был, хотя мы с ним и не знакомы.
Тут я начал смеяться, это все показалось мне почти таким же уморительным, как про могилы в Закопане.
– Чего? – спросил Мэрвин. – Заткнись ты, блин. Нет, правда, а ты сам во что-нибудь веришь? Хоть во что-нибудь?
– Ну, в правду верю, и в волю. В березки вот еще.
Я засмеялся еще сильнее, до самой хрипоты.
– И в могилки! И в ямы! И в заброшенные деревни! И в ядерные реакторы!
Ой, мне смешно было, а Мэрвин смотрел все с тем же нарочито серьезным, гордым выражением на красивом лице – польский пан, еб его мать. Утер я слезы, да и сказал:
– А так ни во что не верю, конечно. А ты вокруг погляди. Во что верить?
Мэрвин поднял упаковку из-под «Берти Боттс», которую едва не унес ветер.
– В магию.
Тут и он засмеялся, мы одновременно посмотрели на светлое, низкое после дождя небо, совсем позабыв о гуле машин.
Потом я долго рассказывал Мэрвину о Снежногорске, о продмаге, вертолетах, о гребне тайги и грязном Норильске. А у Мэрвина о Польше не было ни единой истории, а вместо – дохерища рассказов про бомжей, дерущихся за крэк.
Он мне вообще-то много говорил о Лос-Анджелесе. И такой у его рассказов был привкус: химический – модных сладостей, гнилостный – больших свалок, хлорированный – бассейнов во дворах Пасифик Палисейдс, горький – загазованных трасс, свежий – кондиционированных баров. Ну и еще много-много запахов – перечислять просто задолбаешься. Я теперь чувствовал их все, Мэрвин учил меня по-нашему. Я больше узнал о Лос-Анджелесе. Вот, например, что: движение здесь сумасшедшее (ну и чего? для меня, после Снежногорска-то, всякое сумасшедшим и было), что полно полуголых телок в блестках, согласных за двадцатку отсосать в презервативе, что городских сумасшедших дохрена и больше, и у них такие, ну такие глаза, а местные индусы поят своих детей молоком со специями, когда те болеют.
– Латиносы, – говорил Мэрвин. – Они вот прикольные. У моей ма был парень, он из наших, кот. Марко. Мексиканец, что ли. Щедрый чуви, только пропал куда-то.
– Да застрелили небось. – Я пожал плечами. – Это ж город, как в кино. Не, не, ты послушай сюда. Этот город и есть – кино. Тут же Голливуд и все такое.
Ой, когда тебе четырнадцать – такие вещи в голову приходят, тупорылые, но в голове как светятся. Гениальные мысли, которые до тебя, долбаеба, уж точно в голову никому не приходили.
Мэрвин кивнул.
– Глубоко, – сказал он.
– Спасибо, я же русский. Глубокие мысли, глубокие могилы, глубокие…
– Экономические проблемы.
– Я хотел сказать ямы в дорогах, конечно.
Мы помолчали, долго глядели на трассу, на то, как блестели у машин лобовые стекла и задние, иногда швыряли камушки, и была у нас тайная надежда на большую аварию. Я лучше о том, как быть четырнадцатилетним, и не скажу: тайная надежда на большую аварию. Ну а по-другому-то как? А никак.
Я сказал:
– Алкоголя бы.
Ну так, крючочек бросил осторожненько, поглядел на Мэрвина, на то, как весь он залоснился, заблестел.
– Ой, да, прям молодец ты.
– Слушай, я из дома могу взять чего-нибудь, ну, если подождешь тут. Там просто отец, у него гости, ну и все такое.
– Ага, – сказал Мэрвин. – Только давай без обмана. А то бросишь меня еще здесь.
– А чего, тебе здесь плохо?
В машины камнями кидать да пальцем вымазывать остатки арахисового масла – я б и сам этим вечность занимался.
А отправился домой, шел за отцовским запахом, за запахом гнезда и дома. Матенька нам дала нюх, чтобы мы не теряли друг друга, и мертвых наших – для того же самого. Пару раз в разношерстной толпе (бизнесмены, укуренные студенты, бродяги, кришнаиты в оранжевом) мелькнула и моя мамка. Смотрела она на меня без интереса, поскольку знала все. Кинет взгляд и исчезнет, то в метро спустится, то под вновь разразившимся коротким дождем нырнет в ближайшую, пропахшую специями вегетарианскую кафешку.
Я за ней не следовал, одно знал – она придет. Как надо ей будет, как сможет.
Я глядел по сторонам, не запоминая дороги. Запах Мэрвина был слишком узнаваемым, чтобы я потом потерялся.
Стало не то что жарко, а душновато, как после кошмара ночью, и меня все время кто-то толкал, я плохо ходил в толпе, мне все казалось странным, нереальным. Я чувствовал под городом братишек и сестричек – их тонкие тоннели, вены Лос-Анджелеса, чувствовал, как вкусно тянет мясом, жиром и солью из Макдональдса. Так я был перегружен, всего мутило да качало, что пришла мне странная, словно сновидная мысль: может, не пить?
Глупости, конечно, а подумал.
Я добрался до дома, поднялся по лестнице, покурил где-то на середине пути, оставив черное пятно от затушенной сигареты на аккуратно выкрашенной в салатовый стене. А чего чистюлями быть? Перед кем стараемся? Для вечности оно неважно, а для жизни даже вредно – забываешь, где живешь.
Запах отца все еще был острым, злым, но я решил рискнуть, в конце концов, перед автострадой меня ждал Мэрвин, а мы уже стали друзья.
Насчет отца и злобы его, тут я не знал. Могло быть так, что с самого утра пес этот его чем-то бесил, а могло быть так, что, между этими приступами злости, отец его братом звал и говорил, что жизнь за него отдаст.
Он бы, в правильный момент, и отдал – такой был человек. В неправильный момент зато мог молотком по голове ударить или зарезать – тоже такой человек.
Вот я и парился, сколько себя помню, на тему: а какой тогда человек?
Не он, не папашка мой, а вообще человек – он какой, если уж разный такой, если в нем с самим собой общего ничего может не быть через минуту.
– Па! – крикнул я. – Я на кухню, воды попью.
В полутьме коридора я подумал, что ошибся, что отца нет и того пса – тоже, вот я один, возьму сейчас из холодильника что-нибудь, да и пойду к Мэрвину, а отец даже и не узнает, что я заходил.
Потом глаза к темноте привыкли, и я увидел, что отец сидит в кресле у выключенного телика, рука у него так отставлена, что все понятно – с рюмкой.
– Папа? Все нормально?
Я заглянул в гостиную, посмотрел на упрямо-черный экран телевизора, потом в сторону и вздрогнул, наткнувшись взглядом на Уолтера. Я как-то сразу подумал, что это он, имя ему очень подходило.
Уолтер был ростом под два метра, широкоплечий такой блондин с унылыми, серовато-голубыми глазами. Сравнить бы его с солдатом, но выражение лица он сохранял такое постное, что на ум приходил только учитель математики.
Я как-то понял, что он – богатый. Не было у него золотых колец, вычурных часов, подчеркнуто дорогих ботинок, как у моего отца, но весь он излучал внутреннее превосходство, такое спокойствие неземное – это я только у богатых видел да у просветленных.
Ну, на просветленного Уолтер похож вообще не был, ни на какого, а вот денег у него было, видно, столько, что сердце его успокоилось. Уолтер стоял у стены, не касаясь ее, между ним и отцом была тоненькая полоса его правильности, убогой вежливости.
Конечно, он мне не понравился – от того, какой я вдыхал отцовский запах, сам вид Уолтера мне стал противен. Он так отца разозлил. Они оба молчали.
Уолтер был старше моего отца лет на десять, может на пятнадцать, но выглядел куда лучше. Лощеный такой мужик, ему б тетеньку соответствующую, в «Шанели» да в «Диоре», и можно пустить в какой-нибудь закрытый клуб, чтоб курил там сигары да чесал языком про геополитику, или что они там любят.
– Извините, – сказал я на английском. Отец и головы в мою сторону не повернул, а Уолтер сказал:
– Здравствуй, Борис. Мы с Виталием как раз говорили о тебе.
– Здрасте. А чего вы обо мне говорили?
Если с моим именем Уолтер справлялся сносно, то папино произносил как «Витали», с глуповатым, растянутым «и» в конце.
– Ничего, блядь, не говорили, кому ты нужен. Вон отсюда пошел, – сказал отец, даже не посмотрев на меня. Он почти тут же добавил на английском, с акцентом хуже обычного:
– Он еще очень маленький. Даже не думайте.
– Но решительно не хватает…
– Никаких вариантов, – с нажимом сказал отец, и я почувствовал, что если не хочу получить рюмкой в голову, мне лучше всего хоть куда-нибудь исчезнуть. Из холодильника я взял бутылку «Абсолюта», сунул ее под толстовку, весь дернулся от холода, прошедшегося в животе, достигшего спины и вынырнувшего из позвоночника. Я слушал спокойный, почти лишенный интонаций голос Уолтера:
– Он рожден для этого. Ты знаешь.
– И будет делать все, на что способен, когда придет время. Тебе непонятно? Ты меня не понял?
Я выскочил за дверь, понесся вниз, думая о том, что идиотский Уолтер, пес, мать его, Анубис, серьезный, загробный, хотел кинуть меня под землю так рано, еще раньше, чем планировал мой отец.
Так мне стало обидно – ты меня секунду всего видел, и я для тебя только мясо, а мне ведь хочется вырасти хорошим, здоровым. Никакое лицо учителя тут не поможет, когда у тебя сердца нет, когда нечему биться в груди да сочувствовать чужим детям.
Я не его был детеныш, он хотел моими руками жар загребать, это я сразу понял, хотя подробностей не знал, и решил: ты мне будешь враг навеки, Уолтер. Даже фамилии его не знал.
К тому времени, как я вернулся к Мэрвину, бутылку уже отогрел своим телом.
– Ну гадость, теплая.
– Да потерпишь. Слушай, а ты про Уолтера знаешь? – спросил я. – Пес такой. Серьезный.
– Да немного. Мутный чувак. Мамке хорошо помог, когда она к копам в последний раз загремела. Ходит чаи гонять, не трахает ее, что странно. А может и не странно – у него вроде жена есть.
Мэрвин помолчал, поискал в кармане сигареты, а я все глядел на розоватые полоски начинающегося вечера – подзаживающие шрамы на небе. Я видел, как время течет, мне это так нравилось.
– Короче, у него есть суперплан, утопия такая. Типа сделать из нас организацию. Собрать детей духа разных всяких видов да заставить их всех работать и не увиливать. Гитлер, короче. Это я тебе, как поляк, о любом так скажу, кто меня захочет заставить работать. Вот, в общем, у него все просто – организуемся, объединим усилия, будем заниматься поиском наиболее опасных каверн во всех сферах мироздания.
– И сдохнем все дружно.
– И чокнемся.
– И поубиваем друг друга.
– Короче да, это если вкратце. А маме-то нравится. Надо же!
Да что со взрослых взять-то.
Пили мы прямо из горла, и у меня перед глазами не то по пьяни, не то еще по какой-то причине всплывало все время лицо отца, когда он сидел перед телевизором, – глаза стеклянные, рот приоткрыт, ну овощ овощем сидит, мертвец мертвецом, взгляд на мне задержать не может.
С Мэрвином мы вдруг стали друзьями до гроба и плакали, обнявшись, над историей о его помоечном щенке, которого он схоронил в парке. Я рассказал, как мы съели дядю Колю, а потом и мамку мою.
– А родители ее, – говорил я, – которые меня хотели забрать, они даже есть ее не приехали. И это называется любовь? Это они любили ее так? Может, ей отец до сих пор не простил, что батьку моего выбрала и с ним уехала. Но я тебя спрашиваю, как так можно с родной дочкой – и навсегда попрощаться?
– Что-то есть в твоих словах неправильное, – сказал Мэрвин, покручивая один из кулонов со странным символом, потирая его. – Но я слишком пьяный. Так что ты меня лучше послушай.
Он приподнялся, уставился на меня синими глазами с большущими зрачками и сказал:
– Моя мама убивает людей, а я пью их кровь. Вот почему это все не произвело на меня должного впечатления.
– Ого.
– Ну, она убивает мужиков, которые хотят убить ее. Маньяки, в основном, всякие, да экспериментаторы. На трассе такой херни полно.
Ну да, вполне по-волчьи – такая у Мэрвиновой мамы была территория.
– Ну я понял, у меня бабка была волчицей. При ней на заводе не воровали, во. Но я не понял, почему ты кровь пьешь.
– Чтобы спать. Я без нее не могу спать. Мне немного надо, но мать все сливает, говорит: добру пропадать нечего.
– Интересно, а если сожрать левую бабу или мужика, то они тоже будут потом ко мне приходить? Как тогда с Матенькиным даром?
– Я ее из банок пью и бутылок. Не из людей. Но все равно противно. А когда мать кормила меня, то надрезала сосок.
– У мамки моей могилка вдали от земли, где родилась. Так там одиноко ей, тоскливо – и нас уже нет. Говно какое, а?
Такие мы были пьяные, все плыло, и контуры у всего сделались мерцающими. Я с отцом пил и больше, но никогда так не расслаблялся, а тут мне хотелось блевать, смеяться и плакать, у всего открылось второе дно, я готов был говорить всю правду и слушать всю правду.
И мне плевать было на окровавленные трехлитровые банки (как из-под томатного сока), которые мне представлялись, когда Мэрвин рассказывал, что он пьет, чтобы спать.
Я никогда не откровенничал так со звериком моего возраста, с кем-то, кто мою последнюю правду понимал. Кто мог бы не охуеть с того, что я мамино мясо ел.
И мы с Мэрвином стали лучшими друзьями навек, и плакали друг у друга на плече уже не пойми от чего.
А вот я о чем подумал под небом, распадающимся на волокна от того, что я тер и тер глаза – какая-то другая боль у него была, у Мэрвина, карпатская, темная, но не нутряная. Тайная тайна у него была, это да, но какая-то другая. Схожая с моей, и – не та.
Вот чего с панславянизмом-то случилось, провалился он.
Я вдруг придумал, как доказать Мэрвину, что я не трус, и чтоб он мне доказал, тоже захотелось.
Так мы оказались на автостраде, то есть на автомосту, или как там это назвать. Долго шли по холмику, усыпанному мусором, под уходящим, еще жарким солнцем. Думал, может, и вышли из Лос-Анджелеса уже, под водкой я мало что понимал. Шли и шли, по колючей траве, по пластиковым бутылкам и блестящим пачкам, выброшенным из окон, пока не уткнулись в автомобильный мост, по которому машины неслись с величайшей скоростью. Я смотрел.
– Ого, – сказал Мэрвин. – Тут все заканчивается.
– Ага, земля – все. А что за река?
– Лос-Анджелес.
– Да город это, даун.
– Сам даун, это как Москва-река. Мо-сква.
Он икнул и сказал:
– Ты вообще уверен?
– Я тебе говорю, ты трус или как?
Река была гладкая, серебряная, глубокая, с искусственными, бетонными берегами, она шла глубоко в траншее, запавшая, как вена у нарика.
– Боря, мы можем вернуться?
У заката оставались последние минуты, бетон вдалеке был розовато-желтым, такие цвета, как на картине, типа Возрождение или барокко там. По реке плыла банка из-под кока-колы. Красивое место, подумал я, а над ним столько машин – пройтись бы спокойно.
Мы стояли на последнем пятачке сухой земли, ловили оставшиеся закатные всполохи, некоторые водители уже включили фары. Нас шатало, и нам совсем не было себя жалко.
– Ну, ты не бойся, – сказал я, подумав о том, что бы мне в такой ситуации посоветовал отец. – Один раз живем и умираем тоже один.
– Вот это ты меня утешил, спасибо.
Не то назад повернуть, не то выйти на мост. Мы стояли. В чужой стране я вдруг совсем перестал бояться смерти. Мы допили по последнему глотку, бросили бутылку на обочину, и я сказал:
– Все, вперед.
Я хотел идти первым, но Мэрвин выскочил вперед меня.
– Со мной ничего не случится, – сказал он. – У меня судьба. Все решают звезды, стечение обстоятельств. Можно выжить в разбившемся самолете, а можно умереть младенцем у матери на руках, просто уснув. Мне повезет!
Он и еще что-то говорил, но дальше я его уже не слышал, да и не слушал. Все заглушил рев машин. Мы шли, прижавшись к обочине моста, к самому, самому краю. Все так естественно произошло, я и думать забыл, что будет страшно.
Смотреть на мост (никаких пешеходных дорожек, одна крошечная обочина, где сбоку от тебя только река в бетонном рукаве) – совсем не то же самое, что идти по нему. Все сузилось, я протрезвел мгновенно, до хрустальности просто, но тело теперь водило из стороны в сторону от волнения. Я был такой маленький по сравнению с грузовиками, которые неслись за нами, издавали протяжные, отчаянные гудки.
– Еб твою мать! Какого хуя ты гудишь! Я что, исчезну, по-твоему, от этого?!
Я кричал до хрипоты, мне правда было страшно, а еще стыдно, и остановиться я не мог. Честное слово – ну обоссаться можно, как страшно, а ноги все равно идут, сами по себе тебя спасают.
Грузовики были огромные-огромные, как в детстве. В Норильске мне все машины казались очень большими, но особенно, конечно, грузовики. Я тогда читал про Гигантомахию и Титаномахию, и почему-то огромные машины сложились у меня, близко-близко, даже один в один, с хтоническими тварями, порожденными безразмерной землей – Геей.
Вот я тогда боялся на мосту, мне казалось, что машины появляются оттуда, откуда и все дурное. Теперь эти детские воспоминания во мне вскинулись, взбодрились. Всякий раз у меня внутри все перехватывало, когда очередной грузовик сначала оповещал о себе ревом, а потом (все-таки!) проносился мимо. А перехватывало до боли, до спазма, до подступившей к горлу рвоты. Во рту было горько и кисло, и я кожей чувствовал приближение очередной машины, закончилось бы все – зарыдал бы от облегчения.
Мэрвин шел впереди. Несмотря на все его разглагольствования об удаче, плечи у него дрожали, он дергался, сводил их еще сильнее и казался совсем маленьким ребенком. Впереди я увидел кусок фары.
Ага, подумал я, значит, они сюда въезжают. Значит, еще вероятнее, что следующая машина оставит от меня ведерко костей, органов и свежего мяса. Такая скорость – папашке даже не придется меня разделывать.
А буду я осознавать себя, когда стану приходить к нему, или это буду уже не совсем я? И что со мной будет-то? Куда я отправлюсь?
В принципе, эти вопросы я себе задавал, чтобы не наблевать перед собой, а не от большого интереса к смерти. Хотя я, конечно, представлял, как все случится. Даже сообразить не успею, у меня будет всего секунда, думал я, но мысль о ней казалась отчего-то еще более отвратительной, чем представления об агонии и мучениях ракового больного.
Как неожиданно просто перестать существовать. Это же самое чувство исходило от напряженного тела Мэрвина. Слишком они быстро едут, думал я, а мы – как те камушки, которые кидал Мэрвин. Только с большей вероятностью можем привести к аварии. Ха-ха же. Мы шли и шли, казалось, что бесконечно долго, а потом мост вдруг кончился, река потекла в свою сторону, а мы скатились вбок, на жесткую траву, в самые колючки.
– Мы не трусы, – говорил я на русском и на английском, и то же самое повторял Мэрвин на польском.
– Не трусы, не трусы.
Внизу по дорожке бегали потные телочки в бриджах, не подозревали они, что с нами было, плевали они на это. Перед глазами у меня дрожала пленка темноты – не то в мозгу помутилось, не то дурное что-то отсюда лезло, я уже не понимал.
– Не трусы, не трусы. Точно нет.
– Друзья навсегда.
– Никогда не забуду.
– Да.
– Точно будем друзьями.
Тут меня стошнило.
Зачем я это придумал, зачем сделал? Я не знал. И когда пришел домой, с больной головой, с надеждами на самую чистую дружбу – ясности не прибавилось. Было уже темно, но весь город полыхал оранжевым – зарево такое, что не уснуть будет, глаза болели.
Сестричка моя тут же по штанине моей забралась, поприветствовала меня.
– Ой, привет, – ответил я.
Никакого папашки, пустая квартира, но в Снежногорске мне и на отходосах одиноко не бывало, а тут я пошел в ванную, долго умывался и плакал, себя жалел.
В холодильнике стояли кукурузные хлопья «Эппл Джекс» и то самое клубничное молоко. Я сначала думал, что буду долго блевать, если хоть что-нибудь съем, а потом со скуки поужинал, пошел почитать «Труды и дни» и уснул на «железном веке».
Проснулся от ее холодных рук. Из каких она далей приходила?
– Боречка? – спросила она меня хриплым голосом, в легких ее была вода – она говорила странно. – Ты зачем себя не жалеешь?
– А я жалею себя. Очень даже. Я над собой сегодня плакал.
На ней все белое было, не такое, как когда в гробу лежала, не в земном была.
– А чего над собой плакать, Боречка?
Тонкие губы у нее вытянулись в синеватую ниточку. Она обняла меня, поцеловала и остудила мне лоб.
– Боречка, не надо с собой так. Я же люблю тебя. Я тебя и там люблю, как здесь любила.
А мне вдруг так обидно стало: тогда почему ушла? Чего ты, пьяная, туда упала? Или сама полезла? Где ты там, как тебя там кормят, любят ли тебя, как я любил? Как мы с отцом любили.
– Тебя никто там так не полюбит, Катенька, – это отец говорил, пьяный, на могиле ее.
А она обнимала меня, и не было жарко.
Я все-таки понимал, что это не совсем мамка, а только какая-то ее часть, и мне чего-то недоставало, но я был благодарен Матеньке и за этот дар.
Уложила она меня спать и долго гладила по волосам, рукава у странной ее одежды были прозрачные, сквозь них я видел луну.
Глава 6. Холод могильный и скрежет зубовный
Это все было – про меня, а вот еще о любви и смерти. Мы как-то застряли в Вальке, откуда вертолеты летят до нашего Снежногорска, то было почти уже лето, но вдруг стало морозно. Мне было тринадцать, и я жутко важный расхаживал в отцовском плаще, он был мне велик, я в нем так путался, а из кармана у меня торчала бутылка минералки. Я гулко шествовал везде, из людей, кроме нас, была одна только бабулька со слезящимися глазами, то впадала в сон, то просыпалась, вздрогнув, как со старыми людьми часто. Мы застряли, ждали, когда вертолет пустят, и я все выглядывал в окно, но вертолеты так и стояли, как сломанные игрушки.
Был желтый свет и неудобные ряды стульев, отец был пьяненький, но догнаться нечем было, и он читал какую-то книжку, вроде бы «Улисса».
– Лошадность – это чтойность вселошади. Что, блядь? Нахуя они это перевели? Вообще теперь все можно, что ли?
Он швырнул книжку через весь зал, она ударилась о стену и шлепнулась вниз, забрала с собой небольшой кусок штукатурки.
Ум, говорил отец, надо тренировать. Чтобы не отупеть от водки – надо читать, но у всего, видать, был предел.
– Не, ну тут понятно. Лошадность это типа качество лошади такое. Типа то, что делает ее лошадью. Чтойность. Типа так номиналисты считали. Универсалии.
– Борь, ты дебил конченый, это реалисты считали. А номиналисты, наоборот, утверждали, что это слова всё, термины, понятия – ничего за ними божественного нет, да и универсально оно только условно. Имена, блин, имен.
– Ну, по названиям я по-другому запомнил.
– Это потому что ты тупой.
Бабулька наша на шум не реагировала, был в ней покой умирающей, столетняя, морщинистая обреченность. На ней была такая толстая, облезлая шуба, будто она этих морозов ждала.
Я снова стал ходить, бутылка с водой тряслась у меня в кармане, и я от этого чувствовал себя почему-то таким важным.
– Да не будет сегодня ничего.
Уже и темно стало, а снег не унимался. Когда я проходил мимо бабульки, она открыла вдруг глаза, они у нее были мутные, младенческие. Вот открыла глаза да сказала:
– Вся земелька померзла.
– А все одно, бабушка, на ней ничего не растет, – сказал отец. – Иди сюда, Борь, не маячь.
И я сел рядом с ним, и он перезастегнул мне плащ.
– Мы с твоей матерью, когда после свадьбы в Москве были, каждый день ходили в театр, в оперу, на балет, а потом всю ночь пили на кухне и плакали. У нас мозги были так водкой расшатаны – нас что угодно брало. Даже очень плохие спектакли.
А в темной земле ее косточки лежали, в померзлой земле, и из нее не вырастет ничего. Вот он об этом подумал – и глаза у него, обычно светлые, вдруг потемнели.
– А когда умирает человек, – сказал он вдруг, – все действия должны быть неправильные, обратные. И саван шьют наоборот, с другой стороны.
Закурил он, а бабулька только еще поморгала, ей это было вообще до фени, абсолютно все равно.
Я про все это думать не хотел, меня в смерти другое интересовало – где глаза материны, где голос, почему их нет? Самые физичные вещи. И еще надо было, чтоб вьюга улеглась, мне домой хотелось, под одеяло или в ванну горячую.
– Замерз уже? – спросил отец. Глаза пьяные были да холодные, он засмеялся, в горле у него захрипело – никогда не поймешь, закашляется или нет.
– Иди сюда.
Он меня обнял, и там мы лежали. Я был в его плаще, а он в одном только костюме, дрожал, трезвея и от холода. Обнимал меня, и мне было тепло.
– Па?
– А?
– Я когда на могилки ходил, то эпитафии видел. Пишут типа там «я уже дома, а ты в гостях», или «ты здесь тоже ляжешь». Это отчего?
– Это от зависти большой, и чтоб ты не забывал.
Он погладил меня по голове, пальцы у него были сильные, цепкие, а прикосновения всегда жесткие, быть нежным его никто не учил. Матенька говорила: раз родили и не любили, то и крысенок вырастет и никого не приласкает.
Еще она говорила, что любить больше всех надо тех, кому сейчас больно, потому что только тем они и живут.
Матенька вообще хорошая, она всегда кормит детенышей, оттого у нее на жизнь такой взгляд, щедрый, любовный.
– А мы, родственники усопших, мы, наоборот, как бы кричим: вы есть, вы в сердце, и мы встретимся, и будет радостно.
– Да я не верю. Им Матенька не рассказала, как встретиться.
– А столько хороших слов, – говорил я, – потом пишут. И чего при жизни такого не говорят? Типа люблю тебя, мы встретимся, мы будем вместе, никуда не отпущу, никогда не забуду. Чего не говорят? Чего конфеты не дают?
– Ты бы меньше по могилкам шлялся, Боря.
– А там иногда чего оставят, а оно уже никому не нужно.
– И то верно.
Так мне тепло было, и я почти не понимал, что сам он мерзнет. Так мне тепло было, что я и не верил в холод могильный, что и мои косточки там будут мерзнуть однажды, в глубокой какой-нибудь яме, я думал, что буду жить вечно – в такое я не верил с тех пор, как умерла мама.
А он зубами чуть скрежетал от холода, шмыгал носом.
– А она нас там ждет? – спросил я.
– Ждет не ждет. А ты спрашивал?
– Нет. Мне страшно, если ждет. Как бы ждет, что умрем.
– Она с любовью ждет.
Ой, сколько в мире грязи, и какие в то же время есть ясные, холодные выси. Задолбался я тогда от всего изрядно, устал, замучился ждать, то да се, все не мог про смерть остановиться.
– Па, а ты боишься смерти?
Он покрепче прижал меня к себе, и был в этом на самом деле какой-то страх.
– А чего бояться? Ты тогда съешь меня.
– А ты меня, если понадобится, выпей. Как в «Алисе в стране чудес».
Он хрипло засмеялся. Мы еще о чем-то болтали, я потихоньку засыпал, такое марево было, вьюга шумит, завывает, морем, зверем, такая большая, весь свет в ней, кажется. Так и жизнь проведем.
Он меня так по голове гладил, и было мне безопасно, ничего страшного, я знал, не случится, а что случится – все пройдет.
Папашка говорил что-то, а я в тепле тонул, в жа́ре.
– И любил я ее без меры, и когда не нужно было любил, – рассказывал он.
А я слушал.
– Однажды любил, когда и нельзя уже было, говорят вредно, но мне так нужно было. Ты уже был, шевелился, я чувствовал. Я ей, значит, того, руку на живот положил, а там – живое, мое что-то. Я еще тогда не знал, кем ты родишься, как тебя звать будут, я ее пузо вообще-то не трогал, противно было, а в тот момент по-другому все стало. Она меня обнимала одной рукой, ласково так, а другой живот гладила, все время.
Эта история была противоположная всем историям про смерть.
– В общем, я почувствовал, что ты там живой, настоящий маленький крысенок, а отдельно еще не можешь. Так это меня поразило, такое у меня удивление было, радость какая-то от того, как человек возникает. Ничего еще нет, а вот уже под рукой. И ей тогда хорошо так было, она после плакала, как ей хорошо, говорила, что хочет долго жить, и чтобы всегда так было.
Гладил меня и гладил, рассказывал, значит, как мамка мной беременная была, а он ее – вот. И такой был в этом абсурд – в пустоте, на краю мира, на неудобных стульях мы лежали тесно-тесно, и была какая-то тайна, в которую он меня посвятил.
– А смерти бояться, – сказал отец вдруг совсем другим тоном, – это для шкурников, это паскудно, нет ничего высокого в том, чтобы за шкуру свою трястись, тебе проигрывать нечего, все одно ляжешь. Вот и не трясись.
– А я видел надпись «сынок, прости за короткую жизнь».
Он выдохнул мне в макушку, поцеловал.
– А будешь смерти бояться, у тебя и короткой не будет. Ничего не надо бояться.
И я даже уснул ненадолго, когда он посильнее закутал меня в плащ. Уснул, ничего не боясь.
Это я все к чему вспоминал, к чему так подробно-то? Ну, хотел показать, наверное, что когда его нрав утешишь, такое бывало иногда, он становился почти как нормальный человек. Ну как – нормальный? И все-таки, все-таки.
* * *
Ну а началось все с того, что Калифорнийский тест по английскому языку я завалил специально. Ну а не хотелось мне в новую школу, где я буду хуже всех, да и вообще. Написал чуть ли не наугад, так что училка, проглядев его, посмотрела на меня вообще без восторга.
Встретимся, подумал я, на курсах.
Да и ушел, весь день слонялся с Мэрвином, мы с ним уже совсем подружились и регулярно пили водку, а потом ходили по городу почти вслепую. Когда вернулся домой, пьяный и развеселый, отец меня встретил.
– Мне звонили.
– И чего тебе звонили?
– А ты тупой?
– А, звонили и сказали, что я тупой? Ну, блин, я думаю, проблема в том, что я тупой. Извини.
А язык у меня по пьяни развязался, и я первого удара-то не ожидал. Двинул мне папашка в живот, так что я задохнулся, так что у меня перед глазами все покраснело, я и фразеологизм вспомнил – seeing red – видеть в красном. Про ярость, значит. А чего раньше не вспомнил? Я отшатнулся, дверная ручка больно уткнулась мне в поясницу, на глазах выступили постыдные слезы.
– Извини, – повторил я, выплюнул, выдохнул. – Па, прости, я просто…
Не то «буду заниматься» хотел сказать, не то еще что-нибудь такое же бессмысленное, но он мне снова врезал, раскровил губу – так сразу солоно стало.
– Я тебя сюда привез, чтобы от тебя проблем не было, – прошипел он, взял меня за волосы, ткнул носом в косяк двери.
– Чтобы ты вел себя прилично. Не позорил меня. Внимания не привлекал. Я тебя и бросить мог, а привез.
Тут уж я не выдержал:
– А чего ж не бросил?
Нет, ну как меня правильно понять? Мне и страшно было. Очень. Такой меня ужас взял, но в то же время я и злился, мне было обидно.
– Может, бросил бы, да все б сразу наладилось. У тебя б наладилось, у меня б…
Взгляд у него оставался холодным, пристальным, но что-то в нем изменилось, стало совсем другим. Я и не договорил. Не потому, что не успел – заткнулся еще прежде, чем что-то меня оглушило. Больно не было, ну серьезно, сразу какой-то звон, все поплыло перед глазами и левая сторона лица онемела. Вокруг всех предметов расходились круги света, не то как под водкой, не то как во сне, из глаз лились слезы, но никаких чувств не было.
Я подумал: умру так. Он меня убьет сейчас. Я на него смотрел и это знал. Я больше ничего на свете не знал, все забыл, все исчезло, а это было железно.
– Блядь.
Я прижал руку к виску, у меня там было тепло, кроваво, и я от этого даже плакать перестал. Я знал: умираю или умру, но страшно не было, и не думал про могилки, ни про что не думал – одна вата внутри, стал таким чучелком.
Так я и не понял, чем он меня ударил, не увидел, у меня вообще с боковым зрением что-то случилось. Может, пепельницей мне ебнул, может чашкой, да и какая разница-то? Я весь от этого сразу заболел.
– Блядь, Боречка.
Я еще старался отползать, сучил ногами, как собачка, которую мучают, жалким таким образом, ой, а стыдно-то не было, только бы шкурку свою спасти. Я все за ручку хватался, не то дверь открыть, не то подняться. Ничего не понимал. Не плакал больше, а просить у него что-то теперь боялся, теперь дрожал.
Я себя за эти секунды так возненавидел, я эти секунды презирал потом всю жизнь. И подумал в тот момент еще: а может, это ты дядю Колю-то убил? Упал он, как же. Убил ты его, сука.
Я только поднялся, он сделал шаг ко мне, и я закричал.
– Боря, Боречка! – позвал отец.
Я прижал ладони к голове, тесно-тесно, так что под одной из них тут же кровь захлюпала, а когда руку отнял, так там все линии на ладони были красны, в них глубоко затекло. Мог убить. Но отец не ударил меня снова, только рухнул на колени.
– Боречка, пожалуйста, прости меня!
Он тоже испугался, тоже растерялся. Он меня никогда Боречкой не называл, так только мамка делала, а он говорил – она меня балует.
– Я не хотел, о Матенька, о господи, не хотел, Боречка.
Ему бы в скорую звонить, а он стоял передо мной на коленях, обнимал. Меня шатало, все было в пятнах, как засвеченная пленка: черные пятна, белые пятна, пятна с цветными краями. Только б дураком не остаться, подумал я, дважды два это сколько там?
Это сколько-то там.
– Боречка, Боречка, прости, прости меня, пожалуйста, сынок.
Я посмотрел на него – лицо отца казалось каким-то чужим, я его словно не помнил. Не в первый раз увидел, но не помнил – странное чувство. В ухе шумело. Я смотрел и смотрел на него. Вряд ли прошла и минута, но я пробыл там вечность, глядел на папашку, стоявшего на коленях, тощего, небольшого, остролицего, – смотришь и думаешь: хороший отец, безобидная крыска. А если умру, подумал я, как же мои косточки тут будут, без мамы, мне к мамке хотелось, с ней лежать.
– Прости меня, Боречка.
И тогда я крикнул:
– Пошел на хуй!
Коленкой я двинул ему по лицу со всей силы, разбил отцу нос. Я открыл дверь и рванул на лестничную клетку. Я и не думал завернуть к мисс Гловер, я недостаточно ей доверял, да и боялся, что кто-нибудь умрет, если отец будет меня оттуда вытаскивать силой. И, наверное, не она.
Я бежал вниз по лестнице так быстро, как только мог. Все мелькало, все пружинило. У мира был кровянистый запах, соленый, металльный. Ну как я бегу? Ну как я вообще двигаюсь? Все так вертелось. И в то же время у меня хватило мозгов накинуть капюшон толстовки. Мне не хотелось, чтобы врачи вернули меня папашке. Я просто должен был быть где-то далеко и мыться, мыться, мыться, чтобы он не почуял мой запах.
На коленке у меня было красное пятно – его кровь. Я все тер ее и тер, когда останавливался, ослепленный болью. Пару раз меня чуть не сбила машина, я наталкивался на людей, извинялся и двигался дальше. Все вокруг казались мне такими чужими и страшными – пустые лица и такие глаза, что помощи попросить не у кого. Это мне они такими казались, я только потом понял, что это неправда – просто город, просто люди, а я слишком быстро двигался, чтобы они успели рассмотреть, в каком я состоянии. Вот и как я умудрялся так быстро бежать?
В какой-то подворотне меня стошнило – я ничего не ел, поэтому была только вода с какой-то желтой горечью, с желчью. Я сел на асфальт и стал рассматривать надписи вокруг – все они светились. Столько битых бутылок, а я так тяжело дышал. В голове распались связи, я дрейфовал между ошибочными утверждениями и световыми пятнами.
Мне нужно было к Мэрвину, больше-то у меня никого не было.
Об отце я думал с первобытным ужасом. Пробегая через парк, я рухнул на землю, стал кататься по ней, чтобы пахнуть травой и грязью. Горячий воздух мне все выжигал, тошнотворно было даже дышать.
И кружится, все кружится, огромнейшая карусель – все мироздание. Я без конца вспоминал отца с этим его «Боречка, прости» и ненавидел его пуще прежнего. За тест по, мать его, английскому. Даже, сука, если Калифорнийский.
А у меня теперь висок кровил, и я боялся, что умру, что никаких больше тестов. Да я б его хорошо написал. Как угодно бы написал, только чтобы не было этого дня.
Я ничего вокруг себя не видел, одни обрывки, клочки всякие, да ну, и вспоминать нечего. Качается на качелях ребенок: скрип-скрип, машина выезжает из-за угла: вжжжж, пищит светофор, и все тащатся, тащатся, а я бегу.
От слез все такое жемчужное было. Ну чего я плакал? Был бы со мной кто, я б себя в руки взял, но я остался один. Пахло незнакомо, всем сразу, я и нюхать нормально не мог, мне океан доносило, а Мэрвина словно и не было, хотя его приметный запах я везде бы узнал.
Зато я не чувствовал и отца.
Бабуля какая-то кормила голубей, а они были жадные, словно пираньи.
Мамки играли с маленькими детишками, у них были такие яркие пластиковые игрушки.
Прошел парк – и снова моднявые кафехи, запах выпечки и кофе, виниловый аромат музыкальных магазинов. А с океана неслось и рыбное что-то, и солнечное. Ну приди ты в норму, ну приди.
Хоть не кровил больше, и то хорошо.
Я думал, что домой не вернусь, разве что бабла взять, да и то не скоро. Не думал, как жить, что есть, был у меня звериный страх и только, ужас животного перед побоями. Жалкая я был маленькая крыска, напуганная очень.
Такой тупой был, на мелочь купил двухлитровую бутылку воды, ну и вылил ее на себя, смыл кровь да притушил запах, а жажду не утолил.
А он мне говорил у меня в голове:
– Боречка, Боречка, прости.
Я посмотрел на свои руки, и они были похожи на его руки, только были меньше, а когда вырасту, и не отличить будет. И понял я, что всегда его с собой носить буду.
Мне отчего-то вспоминалась мамка, снова и снова картинками вспыхивала: как ест оладьи с медом, как поливает цветы, как ругается, возясь со щитком, когда вокруг такая темень, только баба Света и баба Тома глазами блестят позади.
Вспыхивала и гасла, живая-живая, не одутловатая от воды. Такая она мне была уже не родная, я от нее живой и отвык.
Казалось, кто-то пальцем нажимал мне на мозг и вырывал воспоминания о ней. Вот она курит, а вот она отравилась и вся бледная лежит, просит принести ей что-нибудь от желудка, а вот говорит мне какую-то сказку на певучем украинском, мажет «Д-пантенолом» синяк на плече, грязь из-под ногтей вытаскивает.
И тоже говорит все:
– Боречка, Боречка, прости.
Наконец я не только перестал кровить, но и весь как-то подтянулся, она мне сил придала – живые ее секунды, и я почуял Мэрвина, и даже его дурацкий, слишком взрослый одеколон, который он спиздил у кого-то из мамкиных хахалей.
И не так уж я все напутал, ну кружок лишний навернул, ну не туда заныкался, и хорошо. След свой отвел. Я потер глаза и стал двигаться уже не наугад, почти прямо, хотя мир и не встал на место окончательно. Световых пятен стало меньше, и я подумал: может, даже дураком не останусь, ведь дважды два – четыре.
Купил еще банку вишневой колы и стал ее неторопливо пить, она была холодная, вкус ее вдруг показался мне таким аптечным. Сделал глоток и банку к виску приложил, это еще шагов пять без боли.
Вот самый ужас этого дня, он был, что смешно, в том, что, когда я писал свой тест, ошибки у меня были нарочито дурацкие, я думал, что мы с Мэрвином над ними посмеемся, да что уж там – и отец в другом настроении мог посмеяться вместе со мной.
Все мне казалось веселой игрой, и вот у меня разбит висок, и я не собираюсь возвращаться домой. А от слов-то я от своих не отказывался – пошел он. Мало я ему ебало разбил, и больше надо было.
Ой, как мне хотелось увидеть маму, спросить у нее совета и чтобы она пожалела меня. Я весь был взмокший, потный, дрожащий, я словно температурил. У вишневой колы был еще привкус крови, я не сразу его различил. Ухо и висок горели, весь огонь из моего тела туда ушел, в остальном я был вялый, бродил в тумане.
Я почти дошел до Мэрвина и размышлял, сумею ли сосредоточиться и найти его квартиру. Остановился, чтобы подумать, даже так – это было отдельное напряжение. Я не был в порядке. Ну просто вообще. И у меня тут вообще никого не было.
А Мэрвин, он, короче, мне навстречу вышел. Я его сперва пятном блестящим увидел, а потом проявившегося, подумал, прикольно.
– Я тебя услышал, – сказал он. – У тебя так сердце билось – вот это жесть. У меня как набат в голове. Бам-бам-бам. Ты вообще как?
Я откинул капюшон, Мэрвин присвистнул.
– Ого тебя как! Круто!
– Круто, – согласился я. – Сейчас наблюю тебе на кеды.
Он ловко отступил назад, и я согнулся, спазмы, спазмы – и ровно ничего. Ничегошеньки. Ну мать твою, ну как так-то?
– Мне помыться нужно.
– Ты прям уверен, что только помыться?
– Запах надо смыть.
Тут я на него глянул. Такой он был взволнованный, такой дерганый – самого дрожь брала.
– Я пожить у тебя могу?
– С этим проблема. Ну дай подумать, пока помыться пущу.
Дом у Мэрвина был старый, на пожарной лестнице курила, свесив ноги вниз, полуголая девица с длинными, спутанными волосами, глаза у нее были такие упоротые, вот свалится, и всё. Она окинула нас невидящим взглядом и швырнула окурок вниз. На бедре у нее была татуха, запомнил я ее на всю жизнь. Это был увядший цветок, а под ним кривое такое «навсегда». Сама себе могила. Ну да, лучше про подъезд – он был старый, заплеванный, исписанный граффити.
Везде мне слышался шум, пахло травкой, блевотиной и пиццей, отовсюду неслись эти запахи. Мэрвин помогал мне идти, хотя мне оно было не нужно, я сам, я сам.
Меня больше волновала все та же мысль: ну никуда мне от отца не деться, весь он со мной, во мне, и в зеркале он, и в словечках, которые я за собой даже не замечаю. От этого я, главным образом, чуть не плакал. А почетное второе место отдаем навязчивой головной боли. Но почему-то было не страшно. Умру, да и ладно. Да и калекой стану – так хоть жить буду.
Я протянул банку колы Мэрвину, тот сделал большой глоток.
– У мамы скоро хахаль приедет. Говорит, он из медленных, так она серийных убийц называет. Осторожный довольно, раскрутить сложно. На трассе такие не ловятся. Но он уже убивал. Она его хочет… гладенько убрать. А я так долго не спал. Хоть крови принесет.
Он вдруг мазнул пальцем по моему виску, облизал ноготь.
А в подъезде еще такая чернота была, каждая дверь – в темноту, в пустоту, да все липкое – ссорятся, ругаются, угрызают друг друга, всю жизнь в нищете, а чего хорошего-то?
Грязь эта не была опасной, но копилась потихоньку в будущее несчастье. И я впервые задумался, а кто из земных зверей это убирает? Коты – убивают, собаки – защищают, волки – очищают. Медведи вот разбираются со зверями, кто так грязью пропитался, что готов во всех вокруг стрелять там и прочее. Такое с земными зверями бывало – встал с утра, зарядил ружье да палишь, пока патроны не кончатся.
А потом говорят: псих, псих, псих.
Псих, да не совсем. Это сердце загрязнилось. Про лис вот еще знал, что они живут, как короли, все в политику суются, то явно, то тайно, обманывают, интригуют, чтобы уберечь людей от дурного. Говорят, и ядерную войну они предотвратили, но может и херня, бают, может.
Все такие классные, серьезные. А кто ж подъезды моет?
Мэрвин о своем о чем-то трещал, я и слушать не стал.
– Боря!
– Что?
– Ты чуть с лестницы не упал.
– Это от головы.
Крепкие мы уже стали друзья, с ним можно было не бояться, что правда упаду.
Жил Мэрвин на пятом этаже, я это понял даже до того, как мы поднялись, – запахло кровью. Человек бы не учуял, а я все понял еще за пролет до нужного этажа.
Вспомнилось мне мгновенно: я так долго не спал.
Глянул на Мэрвина, а у него синяки под глазами и такая бледность смертная.
– Слушай, а можешь потом ватку кровавую не выбрасывать? – спросил он.
– Да могу, чего там.
В дверь он звонил долго, пока не послышалось сварливое английское «иду, иду». Открыв дверь, мама Мэрвина тут же перешла на польский.
Она была рыжая, фигуристая, по ее лицу сразу был виден крутой нрав – но обаятельная – невероятно, как нос морщит, как улыбается. Кожа у нее была молочно-белая, а тело – подтянутое, с соблазнительными изгибами. От нее пахло дешевым парфюмом, запах шел главным образом от лобка, вместе со всем женским.
Выглядела она будто вечно голодна, что-то хищное было в разрезе ее глаз и в том, как с ее губ срывался этот шипящий польский. На ней был только атласный халатик, и она совершенного этого не стеснялась, тряхнула густыми волосами, глянула на меня хитрым глазом.
– Ванда.
Была она совсем молодая, и не скажешь, что она Мэрвинова мамка, может сестра.
– Привет, я Боря.
– Друг Мэрвина, – сказала она по-русски с заметным акцентом. – Я знаю.
Рука ее быстро коснулась моей головы, на ногтях у нее я заметил обгрызенный золотистый лак, совсем уж девчачьи лапки у взрослой все-таки женщины. Она была как тряпичная кукла, которой по ошибке пришили не те части – гладкие, детские руки с обкусанными золотистыми ногтями.
– Бедный малыш, – сказала она и добавила что-то на польском, так быстро, что я совсем не разобрал.
Она отошла от двери, впустила нас и скрылась в комнате.
Квартира была бедная, но все-таки скорее чистая. Запах крови, без сомнения ощутимый всеми не совсем людьми в округе, перебивал (да не до конца) оглушительный аромат благовоний. Под батареей стояли чисто вымытые банки – десяток, может.
Всюду была развешана одежда, даже на кухонном столе лежало какое-то блестящее платье. Со стен на меня смотрели прекрасными глазами всякие безупречные Девы Марии, изумительные, с прозрачными, крупными слезами. Не иконы – картины, но очень важные. На одной из таких картин я увидел отпечаток красной помады, след прикосновения в минуту отчаяния или надежды.
Мэрвин затолкал меня в ванную, совсем уж тесную, с маленьким, замазанным белой краской окошком, отдающим чем-то далеким, советским, отцовскими рассказами о летнем лагере, может. На бортике ванной стояли всякие пахучие женские штучки – крема и гели, пены для ванны. В раковине валялась розовая одноразовая бритва, в ней запутались рыжие волосы. Я взял ее, понюхал. Сразу определил, какой у Ванды сегодня день цикла и почему она так привлекательна. Кто-то стукнул в дверь так сильно, что я вздрогнул:
– Борис, только недолго! – крикнула Ванда. – А то упадешь и сломаешь себе голову!
На русском она говорила медленнее, чем на польском, это придавало ее голосу роковой такой тягучести. Атас просто, я и про голову забыл.
Не спеша разделся и мыться полез, и мылся долго, несмотря на все Вандины увещевания, стоял под горячей водой, но дрожал все равно. Запах свой надо было сделать тише, и я мылил себя всеми гелями по очереди, чтобы вонять иланг-илангом, мороженым, да чем угодно.
Ну а чего теперь? Уйду, и не найдешь меня никогда, ну и все, и конец истории.
– Ты живой? – крикнул Мэрвин.
– Ага! Я скоро!
Но не скоро. Долго я намывался, и из-под душа выйти было страшно – сразу в какой-то холодный новый мир.
Мэрвин дал мне свою одежду, а Ванда налила горячего сладкого чая.
– Сотряс у тебя, – сказал Мэрвин, поцокав языком.
– Да ничего мне не будет.
– Ничего ему не будет, – согласилась Ванда. – Я так ударялась головой, о-о-о.
Она потянулась вперед, хрустнула косточками, локтями проехалась по платью, все еще лежавшему на столе.
– Отец тебя так?
– Ну да. Учился плохо.
– Учиться надо хорошо.
Она добавила мне в чай еще сахара, сказала на русском:
– Крыска-малыш.
– Крысенок.
– Иди в комнате полежи. Мэрвин, уложи его у себя, пусть поспит. Джастин-я-не-убиваю-на-первом-свидании сказал, что опоздает. Может, с хлороформом проблемы.
Она звонко засмеялась, с английского снова перешла на польский, заговорила обо мне, что я здесь долго быть не могу, и что Мэрвину тоже лучше не показываться раньше завтрашнего утра.
У Мэрвина в комнате было хорошо – кровью здесь пахло еще сильнее, все стены были в астрологических картах и каких-то странных графиках, а на столе, среди комиксов, возвышалась коробка с хлопьями, с которой на меня смотрел широко улыбавшийся мультяшный лепрекон, он раскинул руки, и по дуге радуги от одной его ладони до другой бежали смешные штучки – сердечки, подковки, больше похожие на конфеты, чем на хлопья. Играли Deftones, но тихо, на грани слышимости. Я подумал, что для Мэрвина, может, все было довольно громким.
– Вот моя натальная карта, – сказал он. – У нас есть соседка, она астролог, учит меня. Я и твою могу заказать. Ты когда родился?
– В несчастный день.
– Бля, ты русский.
– Не, это цитата.
Я помолчал, потом добавил:
– Из пьесы про репрессии.
Мы оба так засмеялись, что голова у меня снова заболела, слезами обожгло, но я не расплакался, сел на кровать и уставился на натальную карту. Ничего схожего со звездным небом в ней не было, круг с какими-то линиями, углами – что-то скучное, геометрическое, ну хоть разноцветное.
– Слушай, не-не-не, об этом с тетенькой той говори, нет, не буду слушать, Мэрвин…
Но его было уже не остановить, он тыкал пальцем во все эти линии и точки. Что-то Мэрвин говорил про планеты, зениты, куспиды, дома, асценденты. Все это было бредовое и крутилось у меня перед глазами, а только закрой, и под веками тоже линии и звезды.
– У меня восходящий узел во втором доме и нисходящий – в восьмом. Я просто не могу довольствоваться тем, что имею, всегда чего-то ищу. Мне всего вечно мало. И я такой эгоцентричный, все в Раке завязалось. Вообще-то я ненавижу раков. А ты кто?
– Я Овен, блин, и ты меня задолбал.
Я лег на его кровать, а на потолке у Мэрвина тоже были звезды, от судьбы-то не уйдешь. Ну и чего? Ну и слушал я его болтовню и засыпал, а у него все Юпитер, все Венера.
– У мамки твоей венера, – пробормотал я, а ведь даже не знал, поймет Мэрвин мою шутку или нет. Заснул я быстро, хотя слова Мэрвина и казались мне непривычно громкими: что-то директное, что-то ретроградное.
Проснулся я от жгучей боли в виске.
– Ой, прости! Я забыл тебе обработать.
Мэрвин прижимал ватку к моему виску.
– Ты, сука, больной!
– Сам ты, сука, больной.
Мэрвин отправил окровавленную ватку в рот, пожевал ее, выплюнул, на секунду закрыл глаза.
– Ну и нам с тобой пора. Мама сказала, что Джастин-я-не-убиваю-на-первом-свидании уже в пути.
Как гробик на колесиках. Я встал, отряхнулся, словно лежал на земле. Все было такое смутное, тоскливое, беспросветно-темное, не дай бог такое чувствовать еще хоть раз, ни один отходняк, ни одно похмелье, ничто не сравнится.
– Ты тоже уходишь?
– Ага.
– А ты где будешь ночевать?
Мэрвин мне подмигнул.
– Увидишь.
– Я с тобой пойду.
– Ну да, я на то и намекал. Потому и увидишь. Поедем с тобой в Санта-Монику. Там хорошо.
– К друзьям твоим?
– Ну да.
Он снова поднял ватку, потянулся ко мне.
– Ну уж нет, убери свои слюни, урод!
А через пятнадцать минут Ванда выставила нас за дверь, дала нам бутерброды с арахисовым маслом и джемом, велела не шалить, и все такое. Ну, выкинула, короче, на улицу, меня-то ладно, я ей вообще кто? А собственного сына – тоже выставила.
– Завтра приду, – сказал Мэрвин. – Посплю хоть.
– А ты когда спишь после крови, ты сны видишь?
– Такие сны вижу, в том-то и суть. Я тебе как-нибудь потом расскажу про такие сны.
Двигаться мне стало намного легче. Теперь совсем стемнело, и я шел между огнями, это было все, что я знал. Мэрвин ссал мне в уши по поводу кроличьих лапок, типа почему это может реально работать.
– Короче, тут суть в чем? Животное маленькое, его душа, она такая слабая, но на тех весах, где все рассчитывается, и одной пушинки может хватить. Хочешь сахарной ваты? А я хочу!
Меня от одной мысли тошнило. Я был неразговорчивый, хмурый и все пытался вспомнить, Санта-Моника это район или город. Мэрвин сказал:
– Слушай, а ты его любишь?
– Не люблю я его.
– Ну он же отец твой. Вот без него бы тебя не было. Как он тебя бить-то может?
– Ой, как же рука поднялась, как сердце не дрогнуло, жалеет теперь, небось, кровиночку, плачет горько-горько.
– Да не юродствуй.
– Не ерничай.
– И не юродствуй тоже.
Мы все плыли по морю огней, в жарком, обволакивающем вечере, и Лос-Анджелес, курортный мегаполис, ну как еще сказать, душил меня со всех сторон.
– Меня вот мама никогда не била.
– Ты крутой.
– А чем он тебя?
– Да хуй знает.
– А искать тебя будет?
– Это я уже не знаю, чего ему в голову взбредет.
А чего меня искать? Так мы накрепко с ним связаны. Сам найдусь. Я уже тогда это знал, только убеждал себя зачем-то, что новую жизнь начну. А где? Ну, я не заморачивался. Все шло как по маслу, никуда не спеша, словно просто проходя мимо одной из остановок, мы сели в автобус, просторный, больше похожий на туристический, с мягкими, обтянутыми тканью, а не кожзамом сиденьями. И вправду, Мэрвину везло, все ему просто давалось.
В безжалостном, ярком свете, в салоне автобуса, лицо его было совсем дерганым, взвинченным, глаза горели, и он все время их тер. Странные мы были ребята, такие ненормальные. Устроились позади, в полумраке, где толстая негритянка вязала какую-то шерстяную фигню.
– У ней глаза красивые, – сказал я.
– Да у них у всех такие. Блестят еще, шарики прям для бильярда.
Мы любили обсуждать всех вокруг на дурной смеси из польского, украинского и русского, чувствовать, как между нами и всеми остальными возводится такая специальная стена. Поплыли огни, мы тронулись.
Я, блин, тронулся, сумасшедший вышел день.
Через весь салон автобуса были протянуты ярко-желтые шнурки, пассажиры дергали за них, и автобус останавливался.
– Я б на таком повесился, – сказал я.
– Да я б уже на любом повесился.
– Потому что мы мрачные славяне.
– Это точно. Слушай, там такой пляж. Только купаться сейчас пока никак – вода плохо нагревается. Но есть долбанутые. Всегда находятся.
– Я в океане еще не купался. Ты б про друзей рассказал. Где они живут?
Мэрвин помолчал, потом выдал:
– Ну, они классные.
– Тупой ты местами.
– Тупой и еще тупее.
Мы ели сэндвичи с джемом и арахисовым маслом, следили за пробегавшим за окном Лос-Анджелесом. Люди входили и выходили, усталые, занятые самими собой. Мне захотелось затянуть какую-нибудь песню, ну настроение такое было. Думал еще, совсем башкой ударился.
А лампы наверху, от которых шел тот безжалостный свет, про них я мечтал, чтобы хоть одна перегорела. Мэрвин слушал музыку, читал смс-ки, а я снова стал спать, еще на границе между реальностью и сном, когда запахло курочкой из KFC, дешевыми духами и намного сильнее, чем прежде, морем, я осознал, что нахожусь посреди какого-то прекрасного приключения.
Я уезжал неизвестно куда и знал только, что увижу океан, в котором еще нельзя купаться. И стал я таким радостным, таким легким. Ну вот, теперь свободен, и такая ночь у тебя впереди, вот такая – здоровенная, темная, морская. У меня было радостное предчувствие, как прежде, Матенькина воля была, чтобы мы странствовали и всюду себя распространяли, и я ее исполнял.
Я был молодым и даже маленьким, и теперь у меня были достаточно теплые ночи, чтобы гулять до утра. Я не был один. И я не боялся.
А приснилась мне мамка, ну разумеется, и моя кровавая голова. Мамка меня утешала и пела мне по-украински, а потом оказалось, что это я сам себя укачивал. Затем снились мне они с папашкой. Я когда маленький был, проснулся ночью, ссать хотелось и холодно было, а они стоят в коридоре и целуются. Он ладони прижимал к ее лицу, как к огню, называл ее тихонько котенком и солнышком, в губы целовал. Никогда я его таким не видел, сумасшедший он был совсем, а мамка тихонько смеялась, они в постель, наверное, хотели.
Такими мне и приснились.
Очнулся от толчка.
– Боря, быстрее!
Мы выскочили из автобуса, голову еще покружило, да и успокоилось все. Стояли на остановке, вся она была в окурках, а вокруг – три пальмы. Покурили, потупили. Мимо нас прошла растрепанная тетенька, у которой все руки были в кошачьих царапках. По крайней мере, мне хотелось так думать, что это она не спицей себя, не тонкой иглой.
Говорила тетенька сама с собой, сама себя хвалила. Где-то уже шумело море, то есть даже океан. Мэрвин спросил:
– Тебе кошмар снился?
– Да не совсем.
– Вот ты спрашивал, чем занимаются летучие мыши.
– Слушай, я еще спрашивал, почему ты кровь пьешь. Я знаю, что есть летучие мыши, которые вампы, но то ж не в Польше.
Мэрвин засмеялся:
– Я даже и не знаю, отец у нас, летучих мышей, или мать, но думаю, задумывалось, что все будут вампиры. У сестер с братьями и рожи вампирские. Но что-то не так пошло.
Так я опять проебал момент, когда его можно было обо всем расспросить. Мы выбросили окурки в урну, я глянул на карту, но мелкие буквы в глазах расплывались, особенно в таком слабом свете.
– Я им написал, что встретимся с ними на нашем обычном месте.
– Ну, чего ты мне говоришь, можно подумать, я их знаю или место ваше обычное?
– Да ты и меня нормально не знаешь.
Остановка, надо сказать, такая была – минимализм. Один столб с железной шляпкой что твой гриб. От ветра точно не спасет. Может, чтобы бомжи тут не спали, чтобы принципиально неудобно было, неуютно. Мы тоже оттуда быстро убрались. Городок был, казалось, даже более шумный, чем Лос-Анджелес, здесь заметнее выделялись туристы, больше торговали фенечками и кепками. Домики зато были еще меньше и приземистее.
– Ребятки уже расположились, небось. На Третью идем, а оттуда на пляж, – говорил Мэрвин. – Вообще-то он огромный, без меня бы ты потерялся.
– Да уж куда мне без тебя, точно бы потерялся. Пошел бы вышибалой в клуб работать.
Музыка всюду гремела, люди шумели, но самым странным образом мне было уютнее здесь, чем в Лос-Анджелесе. Там я всем был чужим, и это угнетало. А тут такая карнавальность была, несерьезность, осознание того, что все мы тут туристы, в Санта-Монике, и даже больше – на этой земле.
Вдалеке сиреневым сияло колесо обозрения, горело на фоне темного неба. И здесь были видны звезды, огромные звезды, как сотни самолетов и спутников. В Лос-Анджелесе как-то без этого обходилось, сплошное небо да мутное.
– Я на колесо посмотреть хочу.
– Мы мимо него и пройдем. Блин, тут в том году была лавка с какой-то экзотской едой.
– Типа скорпионы, то да се, шелкопряды там?
– Ага! Закрыли, видно.
Такой близости, как сегодня, я с Мэрвином никогда не чувствовал, мы были с ним братья, совсем уж.
– Тут дальше, кстати, даже несколько домов типа как из нашего с тобой постсоциалистического мира есть. Только белее.
– Прикольно. Типовая застройка?
– Ну как бы. Тут в основном туристы и обслуживающий персонал, богатеньких не особо любят.
Хипповатые черные толкали поддельные «Ролексы», и я подумал, что стоило бы сорвать отцовский настоящий. Вдруг бы я успел? Ох, сейчас бы все пригодилось. В кармане у меня трясся один только четвертак, новенький, сияющий, но это было в целом бесполезно.
Одна иллюзия, никакой радости. Вот и я – ничего путного из меня не вышло. Брожу, хожу тут по крошечному, утыканному пальмами городку, без понятия, что с собой делать: башка ушиблена, друг лучший все ищет своих скорпионов и сам Скорпион.
Но мне все легчало и легчало, пока мы шли по Третьей. Я смотрел на веселых туристов с бокалами, в которых разноцветно блистали коктейли, смотрел на неоновые вывески, на расторопных официантов в снежно-белых рубашках, почти светившихся в темноте, на маленькие пятнышки газона в центре пешеходной улицы, в которых притаились окурки, на жутковато изогнутые манекены с гладкими, безглазыми лицами. Все было ново и чудно, я только здесь почувствовал вкус Америки – шлюховатой, пьяноватой, но неизменно очаровательной. Ночной.
Ой, а как все шумели, галдели в очереди за мягким мороженым, как по волшебству набиравшемся из автомата – шоколадно-ванильное, шоколадно-клубничное, ванильно-клубничное, что захочешь с любой посыпкой, будущее рядом! Мне хотелось купить мороженого да приложить его к своему горячему лбу. Мы прошли мимо старомодного кинотеатра с кабарешной вывеской и черными буковками в белых, словно из школьной прописи, линеечках – не только будущее рядом, но и прошлое.
Я глазел и глазел, у меня не было сил разговаривать, но мне все легчало, поднимало меня надо всеми этими огнями, как бы во сне. Из пастей пускали подсвеченную разными цветами воду смешные динозавры, пальмы колыхал легкий ночной ветерок.
Зима, но лето, будущее, но прошлое. В одном сегодняшнем дне было все, и я всему радовался. Ну кто свою долю знает, кто угадает? Кабы папашка мне не двинул, не было б такой волшебной ночи. Расчувствовался я, да и сказал Мэрвину:
– Спасибо.
– Да и не за что особенно. Короче, у нас там Восточный блок. Панславизм.
Он засмеялся старой шутке, которую я не знал.
– Мы сошлись-то, потому что на улице тусовались, на похожих языках разговаривали, короче, много общего было.
– А девчата есть?
– Девчонка. Одна.
– Прикольно тогда. Они как вообще? Ну, дружелюбные?
– Очень.
– Вот ржака, понаставили динозавров, типа Парк юрского периода.
– О, обожаю этот фильм. Сегодня, кстати, благоприятный день для новых знакомств.
– Ну, хорошо у меня судьба сложилась.
Мы свернули на пляж, и я в первый раз в жизни увидел океан. Разумеется, мне захотелось сразу окунуться. Это же большая вода, бесконечная почти, я ее и представить не мог.
Вот море – это просто, ты его хоть мыслью, а охватишь. С океаном сложнее, такая это в сущности необъяснимая вещь – откуда столько воды, не до горизонта, а дальше, в самую мякотку бесконечности, в вечность.
На пляже было полно пьяных студентов, продавцы с еще большим количеством дредов на голове продавали тут еще больше цацок. Так меня этот вечер заворожил, в такое детство закинул. Захотелось подарков, захотелось чего-то на память. Тупорылое такое было желание – что-то отсюда сохранить: от головы пробитой (ну преувеличил чутка, это для драмы), от огней, тонувших в чужих коктейлях, от лучшего моего друга, от каждой звезды на небе.
Наклонился я к чернокожему мужичку, у него по губе такой шрам шел – длинный, большой, вспухший, а в остальном выглядел он поприличнее меня, пах свежо, мылом и травой. Футболка на нем была застиранная, когда-то разноцветная, а теперь – с проседью, и торговал он феньками. Такими, ну, вроде тех, которые школьницы делают. Узоры какие-то психодельные, слова там, типа «мечтай» или «ноябрь», короче, чушь вроде, для торчков и девчонок, а захотелось.
– Привет, мужик. Слушай, у меня четвертак есть. Хватит за феньку?
Я не знал, много это было или мало, но готов был отдать все. Типа гуляй душа. Смешно, конечно. Но четвертак в кармане мне погоды в новой жизни не сделает, я знал.
– Хватит, – сказал он. – Выбирай любую.
Глянул вдруг на меня другим взглядом, скользнул по виску моему да сказал:
– А хотя нет, не выбирай.
Дал мне черно-красную, с узором каким-то заумным, и как они только плетут их так.
– Эту держи.
Я на нее смотрел, смотрел, из узоров вроде и образы вылезали, а не совсем – острые такие, негармоничные были линии. Что-то австралийское во всем этом проглядывало на мой неискушенный в плане Австралии взгляд.
– Это полинезийский оберег, – сказал он. – Для счастья, для удачи, для всего. Но главным образом, чтобы плохие вещи не случались.
– Спасибо тебе, мужик, – сказал я.
Подумал: расплачусь сейчас, так мне приятно стало. Протянул ему четвертак, а он мне еще и сдачу дал. Сунул я монету в карман, нацепил феньку, и она показалась мне теплой.
– А что у вас тут еще на удачу есть? – спросил Мэрвин. – Ну-ка, ну-ка.
Закупился он хорошо, весь браслетами обвешался.
– Слушай, они у тебя не перебивают друг друга? Ну, энергиями. Ангелы там со счастливыми девятками, подковки и обереги австралийские?
– Не-а. У них ку-му-ля-тив-ный эффект.
Отошли мы уже довольно далеко, когда до меня дошло, что монету мне вернули тяжелее, чем я дал. Достал ее из кармана, обнаружил пятьдесят центов вместо двадцати пяти. Монетка была не новая, не блестящая, затертая.
Мелочь, а приятно. Не без добрых людей мир. Так я того мужика и не поблагодарил никогда.
Дошли до горок, больших, изогнутых, как на брошюрке из «Трансвааль-парка», которую папашка как-то из Москвы привез и пообещал, что сводит меня туда, а потом там такая трагедия произошла, и так мы с ним переживали у телика, так было страшно.
Нет уж, к горкам я б не подошел. Хотя – что горки? Не было ж крыши, одно открытое небо. А вот колесо обозрения меня еще издалека зачаровало подсветкой своей сиреневой, каждая спица сияла. А уж как этот неоновый свет влажно на песок падал, как сглаживал все, какая аметистовая была вода. Я остановился и некоторое время смотрел на пирс, держался он на деревянных сваях и был, по сравнению со сверкающими конструкциями, таким древним и таким неказистым. Заканчивался ничем – ни теплоходика тебе, ни лодочки, уходил в пустоту.
– Пошли покатаемся, – сказал я.
Моих пятидесяти центов как раз хватило на два билета, и мы сели на колесо обозрения. Я смотрел на Мэрвина, от подсветки он был весь фиолетовый, так улыбался, и нас качало. Я видел всю Санта-Монику, но, главное, я не видел конца океану. Огромная передо мной простерлась гладь, невероятная, черная. Я видел, как зарождаются волны, которые набегают потом на берег, уже совсем маленькие – весь их жизненный цикл.
Я все заценил.
– Охуенно, а? – сказал Мэрвин, потом поправился: – Охуительно.
– Да неважно, и так и так правильно, на самом деле.
Он откинулся назад, сцепил руки за головой.
– Вот это я называю жизнью. Делаешь что хочешь, никто тебе не указ.
Бессонное беспокойство из него испарилось, осталась легкая взвинченность, не раздраженная, а скорее даже наоборот.
– Гармония в природе, – сказал я. – Всему свое место, всему свое время. Кажется, пора будет в могилку лечь, так я сам лягу. Все так правильно.
– Опять ты про свои могилки. О жизни надо думать.
– Как урвать побольше?
– Ну хотя бы об этом.
И я был с ним согласен. Мы остались на второй круг, долго разводили руками перед разъяренным прыщавым студентом, грозившимся отвести нас к копам.
– Извините.
– Мы же случайно! – сказал я. – Больше не будем! Ну, может, не случайно, но такая нам радость была!
Выгнал он нас к херам, и пошли мы дальше. Я б так вечно шел. Мэрвин то и дело находил ракушки, слушал их, надеясь застать внутри море.
– Слушай, а почему так? Ну откуда в них шум этот?
– Да кто его знает, физика небось.
Я почему-то совсем не переживал, что друзьям Мэрвина не понравлюсь. Знал, мы поладим.
Значит так, пляж был очень длинный, почти бесконечный, и чем дальше, тем меньше становилось пьяных студентов, и музыка уже не заглушала волны. Прилив был ласковый, все выносил и выносил на берег камушки – куриных богов. Мэрвин их тоже собирал, полные карманы набрал.
А они, кого мы искали, обнаружились у костра. Что-то у них такое было вроде самодельного мангала, огонь был неприрученный, взметался высоко. Из старого кассетного проигрывателя с хрипами доносилась эмоциональненькая рок-музычка.
От девчонки – я на нее глянул сразу, и она мой взгляд встретила спокойно – не по-девчачьи пахло беременностью. Красивая она была, неухоженная, конечно, а природу не спрячешь – скулы высокие, большие, светлые глаза. Такая крашеная блондинка с отросшими корнями, вся вроде хрупкая, но хваткая, видно, что и укусить может. У нее были удивительные губы – лук купидона, или как это там называется, такой аккуратный, с глубокой ямкой, губы кинозвезды, губы царевны. На ней были драные джинсы и мужская толстовка, сбитые костяшки пальцев придавали ей сходства с мальчиком, а ведь какие ручки изящные.
– Марина, – сказала она по-русски. – Мэрвин сказал, что ты русский. Я из Питера. Была.
– Боря. Я из Снежногорска.
Она продолжала смотреть на меня, и я пояснил:
– Это Красноярский край. Рядом с Норильском. Сибирь.
Она была мне ровесница, но взгляд был старше, жестче, я у себя такого в зеркале пока не видел. Держалась она настороженно.
– О, прикольно, типа сибирский мужик. Сколько медведей заборол?
У мальчишки, который это сказал, был сильный, яркий украинский акцент.
– А ты сколько сала сегодня съел? – спросил я на украинском.
Он засмеялся, открыто и весело.
– Говоришь хорошо, но акцент москальский. Я Марины брат. С Киева.
– Кино индийское. У меня мамка с Ивано-Франковска была.
– Ой, рагулей ненавижу. А по тому, как говоришь, я бы сказал, что ты максимум с Харькова. Я Андрей, короче.
Он был Марине брат и полная противоположность. Весь такой неколючий, неострый, с открытым, светлым лицом, тоже красивый, но по-другому. Глаза у него были распахнутые, сверкающие, неунывающие, темно-серые, в лице какая-то бесхитростность, подкупающая наивность. Он то и дело расстегивал и застегивал куртку с ярко-желтой подкладкой, сигнальную такую, в темноте хорошо видную.
– Еще кое-кто есть. Самое интересное впереди, – сказал Мэрвин загадочным, по-польски игривым тоном.
Он отошел к огню, водил над ним руками быстро, чтоб не обжечься, словно колдовал. Всем своим видом он демонстрировал, что не мешает мне знакомиться с Мариной и Андреем.
– А как так оказалось, что вы брат с сестрой?
Марина пожала плечами:
– Усыновили. Мы, причем, взрослые были довольно-таки. Оба думали, повезло.
Андрей сказал:
– Ага, короче, привезли нас в Миссисипи. Юг, блин, все дела, комаров дохерища.
– Точно, а по лавкам таких, как мы, у родителей было семеро. Типа со всего света, один даже из Чада. Ты знаешь такую страну – Чад?
– Озеро знаю.
– Вот вокруг него вроде. Короче, мы с Андрейкой быстро поладили.
И рассказали они мне, что воли им там не было. У Марины биологические родители были алкаши, а Андрейка – отказник, так что и у него тоже, небось. Они любви мало видели, думали, в Америке хорошо будет.
– Думали, – говорил Андрейка, – в малине будем. А там никакой любви, одна дисциплина.
– Ты не думай, – сказала Марина. – Нас не то чтобы насиловали. Но били часто. За любую провинность. Нам и надоело, мы взяли и сбежали. Мы ж вдвоем. Чего нам бояться?
А я все думал, ты беременная-то от кого? От Андрейки, от Мэрвина, от третьего вашего? Знаешь вообще, что у тебя ребеночек будет?
– Короче, – сказал Андрейка. – История нормальная такая.
– Ну, не как у всех.
– Я еще твою послушаю, – сказала Марина. – Ну и вот, мы полтора года уже тут тусуемся. В хорошие ночи на пляже отлично. Копы не гоняют, думают, веселимся тут, а не живем. Главное, перемещаться каждую ночь. Как холодает – тут сложнее.
– Жить можно, если знать всякие штуки.
И вправду они были как брат и сестра, мыслями соединились, заканчивали предложения друг за другом.
– Сейчас еще один придет, – сказал Мэрвин. – Тебе такую историю расскажет – закачаешься!
Вот Мэрвин откуда немного русский знал, теперь-то я понимал. Марина вытащила из кармана телефон-раскладушку, хорошенькую красную «Моторолу», для ее положения так вообще роскошную.
– Напишу ему сейчас.
Андрей и Марина были уютные. С ними оказалось легко и просто, будто мы были давно знакомы. Зашибись после такого тяжелого дня – вообще не напрягаться. Сидели у костра на мягком, чуточку влажном песке, разговаривали, пили дешевое вино с клубничным ароматизатором. Мимо прогуливались люди, но мало, досюда редко кто доходил, далековато было от центра.
Потом я почуял, как запахло небесной птицей и озоном, озоном даже сильнее. Мэрвин поднял палец вверх и объявил:
– Сейчас будет битва драматических историй.
– О, точняк!
– Крутота!
Я Андрею и Марине немножко про себя рассказать успел, и они загадочно переглядывались.
– Новая русская драма.
– Вот это чернуха!
– Скоро познакомишься с новой белорусской драмой.
– Старой белорусской драмой.
Короче, был он долговязый, тощий, как я, с деревенским, смешным носом и светлыми, как вода, глазами. Вид у него был так себе, ну поехавший, конечно, безнадега какая-то характерная. На нем были треники и белая майка с выхваченными плечами, от холода он был бледный и весь дрожал, губы чуточку посинели. В руках он нес куртку, в которую, как оказалось потом, завернул сосиски, сливочный сыр, бутылку кетчупа и пакет с бейглами.
– Это Алесь, – сказал Андрейка.
– Алесь? – переспросил я. – Типа кличка? Или это как Олеся?
– Это в честь Адамовича, – ответил Алесь. – Его моя мама обожала.
Акцент акцентом, но слова он тянул вообще как-то не по-земному.
– Ну, – сказал он. – Я накрал всего. Будем есть.
Алесь ни словом, ни взглядом мне не показал, что понял: мы с ним все одно – дети духа, или как там мисс Гловер говорила. Ему это было все равно, у него был мечтательный, уходящий вид.
Мы стали жарить на костре сосиски, проткнув их ветками, которые Мэрвин натаскал. Пахло вкусно, и сосиски эти пузырились, взрывались даже, брызгали соком. Мы почему-то (и уже не вспомнить, почему) сильно над этим смеялись.
Сейчас уже думаешь, во ржака-то, сосиски пищат, как животные, но дети ж тупые.
Пока мы так угорали, Алесь рассказывал вообще не смешную историю.
Был он, значит, из Хойников, которые почти что зараженная территория, а Алесь говорил, что вообще-то и зараженная на самом-то деле, что условно это все про тридцатикилометровую зону, нет такого, что за ней потом – раз, и никакой радиации сразу.
– Радиация, – говорил Алесь, – не ребенок, который играет в игру и не заступает за границу. Она в игры вообще не играет.
Спорить с ним было сложно, да и не нужно, все он правильно говорил, только был чудной.
Ну и, короче, отца у него не было, умер еще до рожденья Алеся, а мать болела от Чернобыля, но такая была пробивная тетенька, так сына одного не хотела оставлять, что ходила по всем инстанциям, всего добивалась, доказывала, что пострадала от Чернобыля, да и отправилась в итоге на лечение в США.
Тут и умерла.
А Алесь домой не хотел, возвращаться ему было не к кому, вот он и сбежал. Он верил, что его мать этого хотела. Что она приехала сюда умирать, чтобы он не остался в Хойниках и один. Но один-то он в итоге остался, конечно.
– Я, – сказал Алесь, – из места, где все потихоньку умирают, раз-раз-раз, и нет никого. На кладбище все.
– О, тебе там бы понравилось, Боря. Твои любимые могилки, – сказал Мэрвин.
А мне Алеся было до слез жалко – мамку свою потерял и один остался, а отобрала у него все невидимая грязь – радиация.
– Тут не угадаешь, – сказал Андрейка. – Повезет-не повезет. У нас в детдоме дети больные по этому делу были.
– Никогда не знаешь, – сказал я. – Мамку мне твою жалко. Такая она молодец. Столько в ней сил было. Это жить на чужой земле легко, а умирать – сложно.
Марина усмехнулась, Мэрвин пожал плечами, он, когда я про землю разговор заводил, всегда был очень недоволен. У него-то своей не было, он свою не видел никогда.
А сосиски были вкусные-вкусные, мы их в сливочный сыр макали и зажимали бейглами, чтоб не горячо было.
– Да, – сказал Алесь, глядя куда-то сквозь меня. – Она была самая сильная и самая лучшая, живет теперь с ангелами на небе.
– Ты что, в ангелов веришь?
– Не верю. У нас в семье их называли по-другому.
Слово «семья» он выделил, и я понял, что Алесь говорит о каком-то виде птиц.
– Говорят, растворяются они. Во всем – в земле, в воздухе, в дереве прорастают.
– Дышим, что ли, мертвецами? – спросил Андрейка.
– Как-то это совсем уж мрачно.
Алесь пожал плечами. Для него в этой идее ничего мрачного не было.
– По частичке мать разъялась, и теперь везде. Она мне говорила, что грустить не надо. Что она в этом мире, и я в нем, и никто никуда не уходит.
А моя мамка ко мне ночами приходила, мертвая, не разъятая. Я не знал, во что лучше верить.
О смерти мы не стали, уж больно вечер был хороший. Вдруг принялись вспоминать дом, он был у каждого свой, и в то же время в каком-то смысле на всех один.
Если о жаре, ледяном чае, увитых плющом стенах домов в Миссисипи Андрей и Марина рассказывали с какой-то отстраненностью, даже скукой, то теперь передо мной оживали прямые и строгие улицы Питера, черная Нева, зеленые с белым дворцы, причудливые сфинксы, вся скорбь, вся аристократичность, все раскрашенные подъезды, фонтаны и расходящиеся мосты, тайные кафешки, о которых знают только местные, и цветочные лавки и книжные магазины, работающие круглосуточно. Оживал и Киев, розовато-серый по утрам, шумный, живой, весь в каштанах, с широким Днепром и набережными, на которых продают вкусный-вкусный кофе навынос. Хойники были похожи на Снежногорск, не в пример южнее, а застройка та же, только много, как сказал Алесь, «таких типа усадеб», и есть желтый кинотеатр, размером с магазин, а так-то все такое же маленькое, образцово-советское.
Мы сидели на берегу Тихого океана, в Лос-Анджелесе, на краю земли, все в ярких пятнах от огня и, проливая на себя американское вино, говорили о городах, по которым скучали.
Все вокруг было киношное, невероятно нереальное, и мы были нереальными, а где-то далеко, за океаном, и даже не за этим, было наше место. Мэрвину все это, ясное дело, было скучно и тоскливо, он курил сигарету за сигаретой. А я тоже рассказывал о Снежногорске, о полярной ночи, полярном дне, о вертолетах, тайге и продмаге, обо всем на свете. Ну, обо всем, что и было моим миром.
Всех нас бросило в это американское, неоновое море, и места, которые мы оставили, казались светлыми, дневными.
Такие мы стали близкие от всего этого.
– Всё, – сказал я, – можно переподписать, что там в Беловежской пуще наподписывали. Другой документ давайте.
Они засмеялись, и я неожиданно добавил:
– Вообще-то я не знаю, как все должно быть, но меня назвали в честь Ельцина.
– А я, – сказал Алесь, – в капитализм не верю, он мне маму не спас.
– Монархия должна быть, – сказал Андрейка. – Вот я при одном условии согласен опять в империю, если будет царь. Царь – это красиво.
– Монарх от Бога. А я в Бога не верю, – сказала Марина. – Но, может, хорошо бы верить. А вы как думаете?
– Я думаю, – сказал Андрейка, – у нас будет как на Западе, как в Европе. А про Бога не знаю, я его не видел и не увижу.
– Может, увидишь, не зарекайся.
– А я думаю, – сказала Марина, – что скорее будет как в Америке. Типа более дикий капитализм.
– Ну, – я пожал плечами, – мне кажется, вообще-то по-другому будет. По-другому, иначе, чем у всех. Мы ж не такие, ни азиатские, ни европейские.
– Мы ближе к Европе все-таки.
– Да, по вам монголы потоптались.
– Вы забыли Польшу! – крикнул Мэрвин, и мы стали смеяться.
Я эту шутку Буша слышал уже миллион раз, и она наконец стала смешной. Говорили еще долго, пока небо не порозовело и не стало холодно. Уснули, завернувшись в свои куртки, Алесь и Андрейка, Марина растянулась на песке, обняв себя, а мы с Мэрвином все сидели. У меня опять начала кружиться голова.
– Ты как?
– Не могу спать.
Смотрели, значит, какое небо – клубничное мороженое, ну серьезно.
– А хочешь?
– А ты как думаешь?
Я встал и поднял с песка перочинный ножик, которым вскрывали упаковку сосисок.
– Чего, зарежешь меня, дикий русский?
Я только усмехнулся, снова сел рядом, резанул себе ладонь и прижал ее ко рту Мэрвина. Он сначала удивился, округлил глаза, ужасно ржачно, беззащитно выглядел, а потом так впился, что больно стало, вытягивал кровь, высасывал, вгрызся, как безумный, и я видел, что глаза у него закрывались, закрывались. Он так и заснул – просто весь расслабился, уронил голову. С носа у него сорвалась капля крови, прям на песок. Я толкнул его назад, он не проснулся, только всхрапнул.
