Читать онлайн Андрей Синявский: герой своего времени? бесплатно
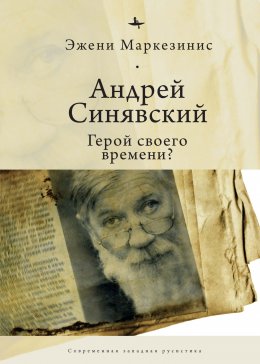
EUGENIE MARKESINIS
Andrei Siniavskii: A Hero of His Time?
© Academic Studies Press, 2013
© О. М. Поборцева, перевод на русский язык, 2020
© А. В. Разин, перевод на русский язык, 2020
© ООО «БиблиоРоссика», оформление и макет, 2020
Слова благодарности
Без любви, поддержки и терпения моей семьи мне бы не удалось написать эту книгу. Я в неоплатном долгу у вас всех за то, что верили в меня сильнее, чем я сама в себя верила; за ваше многолетнее долготерпение, пока я занималась своей работой; за вашу щедрость, которая позволила мне полностью отдаться писательскому труду.
Также моя сердечная благодарность Джейн Грейсон за то, что она первой открыла мне творчество Синявского, согласилась руководить моими исследованиями и все это время оставалась для меня бесценным источником просвещения, вдохновения и дружбы. Без нее мой труд никогда бы не был начат, тем более – завершен.
В согласии с тем, чем живет и дышит, как я теперь думаю, творчество Синявского, эта книга во многом сформировалась в результате личных контактов: Джейн Грейсон познакомила меня с Марьей Васильевной Розановой, вдовой Синявского, и Игорем Голомштоком, одним из его давних и самых близких друзей. Я необычайно признательна Марье Васильевне, с которой мы несколько раз встречались в Париже, за то, что помогла мне глубже понять жизнь и творчество Синявского, а Игорю Голомштоку и Флоре Гольдштейн – за неизменное гостеприимство и дружбу. Во время наших встреч я осознала, каким был Синявский-человек и Синявский-писатель. Я благодарю судьбу за то, что встретила этих людей.
Еще я хотела бы выразить глубокую благодарность Лазарю Флейшману за то, что он поделился собственными мыслями о Синявском, за предложение опубликовать мою работу, за постоянную поддержку и помощь и, наконец, за то, что он любезно согласился прочесть рукопись.
Оливер Риди неизменно помогал мне быть в курсе современных течений в русской литературе. Я ему очень обязана.
И, заключительная, но от этого не менее сердечная благодарность – Шароне Ведол, Деве Яшвей и Кире Немировской из «Academic Studies Press». Шарона с бесконечным терпением сопровождала проект на стадии запуска, Дева тщательно редактировала рукопись и подготавливала ее к изданию, а Кира любезно помогала мне на финальных этапах вычитки.
Я считаю, что мне очень повезло, что у меня есть возможность увидеть свою книгу на русском языке. Без поддержки людей, которым я хочу высказать свою сердечную благодарность, это было бы невозможно. Прежде всего, я хочу выразить признательность Ксении Тверьянович, редактору направления «Современная западная русистика» издательства Academic Studies Press за ее бесконечное терпение, готовность помочь и понимание – едва ли кто-то смог бы проявить столько снисхождения к моей нерасторопности при чтении корректуры. Я выражаю свою признательность и восхищение моим переводчикам, Ольге Поборцевой и Андрею Разину за их мастерское и бережное обращение с моим текстом, а также благодарю редакторов, Александру Аширметову, Елизавету Чебучеву, Юлию Булдакову и Ирину Знаешеву за их кропотливую работу. Я благодарна вам всем.
Предисловие
Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина? – Мой ответ – заглавие этой книги. «Да это злая ирония» – скажут они. – Не знаю.
М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»
Во время знаменитого процесса 1966 года Андрей Синявский, известный советский ученый и литературный критик, был приговорен к семи годам колонии строгого режима исключительно за содержание художественного произведения, написанного им под именем Абрама Терца. Дело Синявского, задуманное властями послесталинской эпохи как показательный процесс, знаменующий конец краткой хрущевской оттепели и расправу над культурной жизнью, развалилось: Синявский и его соответчик Ю. М. Даниэль отказались играть предписанные им роли и решительно отвергли свою вину. Этот процесс привлек внимание к зарождавшемуся диссидентскому движению и, по всеобщему признанию, дал ему настоящий старт.
Судьба Синявского, который буквально в единый миг обрел славу и добрую и худую, хорошо иллюстрирует те трудности, которые уже давно отравляют отношения между писателем и обществом в России – обществом, которое с одинаковой легкостью может увенчать своих писателей лаврами героев или окрестить предателями и подлецами. В то же время, как видно из протоколов процесса, случай Синявского – яркое доказательство того, насколько тяжело взаимодействовать писателю с читателем в обществе, где контроль над словесностью отдан в руки властей: весь судебный процесс походил на диалог глухих.
Эта книга – творческая биография Синявского как человека своего времени, пишущего в нем и о нем. Мы наблюдаем, как сложный и тонкий талант обретает голос и находит свой путь в биполярном мире героев и негодяев, патриотов и изменников, сперва отождествляя себя с системой ценностей и идеологией своей эпохи, а затем восставая против них. Это история диссидентства, выраженного в литературе. Одновременно цель книги – показать, как попытки Синявского дистанцироваться, сперва идеологически, затем физически, от советского режима уравновешивались творческим воссоединением с Россией через литературу.
Подобный подход к литературе приводит Синявского к новому пониманию роли и идентичности писателя в слиянии его творческой и критической ипостасей, когда не преобладает ни голос коллективного «мы», ни голос индивидуального «я», но когда читателю дан простор для взаимодействия с текстом. Этот путь естественно обусловлен фактами биографии автора, взаимопроникновением искусства и жизни и достигает кульминации в малоизвестной, опубликованной посмертно работе – «Кошкин дом» (1998), которой посвящена заключительная часть последней главы нашей книги.
Все это определило выбор заглавия с его очевидной аллюзией на лермонтовского «Героя нашего времени». Хотя наше повествование напрямую не связано с романом Лермонтова, он нужен для того, чтобы сделать двоякий вывод – вывод Синявского: литература – это не о героях и мерзавцах, диссидентах и любимцах власти, это не положительные или отрицательные характеристики персонажей. В отличие, к примеру, от Толстого или Солженицына, Синявский не делает своим героем Истину. В творчестве Синявского нет ни героя, ни объективной истины. Зато есть страстная вера в ту искру, которая возгорается каждый раз, когда читатель искренне увлечен произведением. Попробуйте найти героя здесь, в этой невидимой точке взаимодействия – «Ищи ветра в поле» [Терц 1975б: 178].
Именно взаимодействие читателя с произведением обеспечило постоянство русской литературной традиции во времена сталинских репрессий и в те долгие, мрачные годы, когда литература пребывала в застое, стиснутая инструкциями и запретами советской догмы и эстетических требований социалистического реализма. Литература передавалась из рук в руки и из уст в уста. И в этом Синявский на разных этапах своего пути, безусловно, оставался человеком эпохи.
* * *
В русскоязычной критике творчества Синявского всегда преобладала полемика, основанная на советской, постсоветской и эмигрантской литературной политике и вызванная, в частности, неортодоксальным отношением к Пушкину. Такого рода дискуссии мало что скажут читателю о творческих достоинствах произведений Синявского[1]. Они приводили не только к тенденциозной интерпретации его текстов, но иногда даже к отказу вообще их обсуждать[2]. Работы Синявского для многих остаются предметом сложным и спорным, и можно сказать, что в целом его наследие страдает от своего рода преднамеренного пренебрежения.
Я не отрицаю, что существуют благожелательные и профессиональные интерпретации. К примеру, С. Г. Бочаров одобрительно высказывался об идеях Синявского о чистом искусстве, а Г. Д. Гачев дал довольно эксцентричное толкование «Спокойной ночи» (1984), предположительно в духе Терца [Бочаров 1999; Гачев 1989]. Однако самые благодарные отзывы принадлежат критикам и писателям из круга русской эмиграции, таким как А. К. Жолковский, П. Л. Вайль, А. А. Генис и Н. Н. Рубинштейн. С самого начала, на пике фурора, созданного «Прогулками с Пушкиным» (1975), Рубинштейн предложила тонкое прочтение этой работы и взглядов Синявского на искусство [Рубинштейн 1976]. Глубокое толкование Вайля и Гениса, сумевших избежать избитой темы прений по поводу «Прогулок с Пушкиным» (хотя они говорили и об этом), признает за Синявским значительную роль в более широком культурном контексте [Вайль 1982; Генис 1994]. Возможно, «с иного берега» видно дальше, и именно такой перспективы заслуживает Синявский.
На Западе Синявскому, в отличие от Пастернака или Солженицына, не сотворили культа, как не возникло и сопутствующего потока критической литературы. На сегодняшний день существуют четыре монографии о Синявском на английском языке, две из них были опубликованы в 1970-х годах: М. Дальтон «Андрей Синявский и Юлий Даниэль. Два советских “писателя-еретика”» (1973) и Р. Лурье «Письма в будущее. Подход к Синявскому-Терцу» (1975), и две – недавно: К. Таймер-Непомнящая «Абрам Терц и поэтика преступления» (1995) и У. Ф. Колоноски «Литературные инсинуации. Что кроется за непочтительными высказываниями Синявского» (2003).
Лурье, Непомнящая и Колоноски, хотя и под разными углами, рассматривают проблему взаимоотношений писателя и читателя. Лурье дает хорошее введение в творчество Синявского и понятие литературы как «письма в будущее», отправленного наугад в надежде, что оно найдет хотя бы одного сочувствующего читателя; Непомнящая тщательно исследует духовные и метафизические стороны взаимоотношений между автором, читателем и текстом; Колоноски анализирует провокационную игру Синявского с читателем. К этим обширным трудам можно добавить ряд научных эссе и статей, написанных, например, такими авторами, как Б. Холмгрен, М. К. Левитт, Д. Фэнгер и Г. Коэн, Э. Дж. Нуссбаум, которые с большей или меньшей степенью глубины рассматривают идею о том, что Синявский как автор вышел за пределы своего «я» [Holmgren 1991; Levitt 1991; Fanger, Cohen 1988; Nussbaum 1990].
Здесь мне хотелось бы свести воедино все эти разнообразные подходы, чтобы понять, как Синявский использует контакт, или искру, проскакивающую между читателем и книгой, для активного продвижения литературы. Эта тема, прогрессирующая и развивающаяся на протяжении всей его жизни, постоянно возникает в двух последних произведениях Синявского, опубликованных под именем Терца, – эссе «Путешествие на Черную речку» (1994) и упоминавшемся выше «Кошкином доме». Хотя существует одно эссе, посвященное «Путешествию на Черную речку» [Grayson 2000] (его автор – Джейн Грейсон, и я обязана ей собственным прочтением темы), насколько мне известно, нигде более не обсуждались ни «Кошкин дом», ни три тома писем из лагерей – «127 писем о любви», подготовленных и снабженных аннотациями вдовой Синявского. И роман, и письма чрезвычайно важны для понимания творчества Синявского и, в частности, эволюции и значимости взаимоотношений между писателем, читателем и текстом.
Непомнящая, перефразируя раннее высказывание Барта, заканчивает свою книгу мыслью о том, что «смерть» Синявского-Терца в тексте приводит к освобождению читателя. Соглашаясь с этим в принципе, я бы пошла еще дальше: освобождение читателя порождает возможность постоянства и обновления литературы. В конечном счете именно об этом, а не о судьбе писателя, пишет Синявский.
Последовательное отступление автора на второй план и лакуны, которые он оставляет, чтобы дать читателю возможность поучаствовать в создании текста, естественным образом наводят на мысль сопоставить идеи Синявского со взглядами современной западной литературной критики (можно привести в пример «Смерть автора» Р. Барта) – вопрос, который разбирает М. Н. Эпштейн в статье «Синявский как мыслитель» [Эпштейн 1995]. Однако, как указывают Эпштейн и Непомнящая, творчество Синявского уходит корнями в кардинально различные «интеллектуальные, религиозные и литературные традиции», а Жолковский рисует Синявского как «русского Барта и Деррида вместе», идейно возводя его к В. В. Розанову [Эпштейн 1995; Theimer Nepomnyashchy 1995; Жолковский 1995]. Непомнящая подчеркивает религиозные, православные влияния в трудах Синявского, в то время как Эпштейн делает упор на разницу между обособленными понятиями философии и литературы в западной культуре и многогранным, текучим понятием «мышление» в русской культурной традиции.
Отказ Синявского от роли хозяина текста отражает не лишение автора божественного ореола в секулярном обществе, но христианские идеи самопожертвования. Более того, в русском контексте, как указывала С. Ю. Бойм, выражение «смерть автора» несет в себе буквальные коннотации, не имеющие соответствий в западной традиции [Boym 1991].
Точно так же можно отыскать точки соприкосновения между идеями Синявского и теориями читательской рецепции у представителей «констанцской школы», например В. Изера и Х. Р. Яусса, согласно которым лакуны, оставленные автором-рассказчиком, открывают для читателя «лабораторию» текста и приглашают стать его активным соавтором. Хотя результатом становится раскрытие многочисленных возможностей текста, к чему также стремится Синявский, делается это в духе «программном и относительно безличном», подход к литературе предлагается более «систематический» [de Man 1982]. Аналогичным образом у французских деконструктивистов все попытки «воссоединить философию и литературу, понятие и метафору, мысль и игру» подчинены дисциплине, которая чужда традициям русской мысли [Эпштейн 1995].
Синявский же прочно укоренен в русской традиции, и понятие «системы» как таковое идет вразрез с его идеями о необходимости свободы в искусстве, а абстрактное теоретизирование, с его точки зрения, мешает вовлечь читателя в текст. Это четко доказывает его реакция на некоторые труды представителей Тартуской школы, присланные ему в лагеря. Синявский пишет, что его «отталкивает машиноподобная механистичность всей этой семиотики» [Синявский 2004, 2: 74]. Ориентируясь на Синявского и его веру в важность прямого вовлечения в текст, я основываю свое прочтение его трудов на мысли, что понимание Синявским взаимоотношений между автором, читателем и текстом вырастает непосредственно из русской культурной традиции, из самой литературы, и созвучно таким писателям, как Пушкин, Гоголь, Достоевский, Маяковский и Пастернак, и таким мыслителям, как Шестов, Розанов и Н. Ф. Федоров.
Введение
Биографическая справка
Синявский родился в Москве в 1925 году, умер в 1997 году в Париже. Таким образом, его жизнь охватывает всю полноту российских событий XX века, от эпохи Сталина до оттепели, застоя и, в конце концов, распада Советского Союза. Соответствующие этапы своей жизни Синявский прожил как советский человек, диссидент, эмигрант. Формально его биография вполне типична для многих представителей русской интеллигенции того поколения, однако по сути во многом она резко от них отличается. И значение Синявского как человека и писателя своего времени определяется именно этими отличиями.
Будучи воспитан, говоря его собственными словами, «в здоровой советской атмосфере, в здоровой советской семье» в 1930-е годы, Синявский называет себя пятнадцатилетнего, в канун войны, «истовым коммунистом-марксистом» [Синявский 1986в: 134]. Как и многие будущие диссиденты, он представитель поколения, которое хотя и появилось на свет уже после революции, но почитало ее чем-то священным, мерой, «которой оно мерило политическую целостность и свою, и других людей» [Kozlov 2006: 574]. Создавая произведения под псевдонимом Терц, Синявский высказывался более эмоционально, ставя знак равенства между революцией и романтизмом, «нашим прошлым, нашей молодостью, о которой мы тоскуем», когда «пламенный порыв к счастливому будущему и мировой размах еще не были полностью регламентированы строгим государственным порядком» [Терц 1966: 435]. Следует сделать скидку на тот факт, что здесь перед нами Синявский разочарованный, пишущий о прошлом, прелесть которого вспоминалась тем ярче, чем неуклоннее надвигалась действительность 1950-х, далеко не усыпанная розами. И все же тут выражены чувства, которые в более сдержанном стиле рисует Денис Козлов.
Важно подчеркнуть, что революция была для Синявского не просто неким абстрактным понятием – нет, перед ним было живое ее воплощение, личное, очень реальное: его отец. Выходец из мелкого дворянства, Донат Евгеньевич Синявский покинул семью в 1909 году, чтобы примкнуть к эсерам. Он хранил яростную, неколебимую верность идеям революции и ее большевистско-советским преемникам еще долго после того, как они извратили прежние идеалы, и пострадал в итоге за то, что встал «не на ту» сторону. Представления Доната Евгеньевича о чести и преданности делу, его истинно донкихотское подвижничество оставили на Синявском несмываемую отметину: «Опасная жизнь, которую вел его отец, окутала идеалы, за которые тот боролся, аурой романтизма и сделала Революцию и общественный порядок, который она утверждала, священными для Андрея» [Zamoyska 1967: 49]. Пример его отца, его любовь к русской литературе начала XX века оказали, наверное, основополагающее влияние на Синявского как писателя, который сочетал в себе непочтительность иконоборца и любовь к риску и авантюре с романтическим идеализмом и неколебимой преданностью литературе.
В 1930-е годы, времена молодости Синявского, преобладала иная модель героизма. Это был расцвет сталинизма, когда представления о герое приобрели иное звучание, а героизм сузился до официального понятия о добродетели. Вместо идеала, за который нужно бороться, героизм превратился в монолитное воплощение нового порядка, который надлежит укреплять любой ценой – цель оправдывает средства. Реалии построения новой Советской России требовали сформировать человека нового поколения, тип и идеал которого нашли свое выражение в советском герое. По мере того как первая пятилетка и так называемая культурная революция близились к завершению, «культура превратилась в долгий период самопрославления и восхваления собственных достижений, горячо провозглашавшихся выдающимися людьми страны <…> Возникла целая индустрия по производству героев» [Kelly 2006: 6]. Как писал Синявский, «советской цивилизации присущ культ героического» [Синявский 2002: 165].
Эти советские герои из дней молодости Синявского, будь то стахановцы и летчики или их литературные воплощения, Положительные Герои Социалистического Реализма, были людьми действия. Их образы, чеканные, разукрашенные, отвечали требованиям советской мифологии, становясь эталонами общества в целом[3]. Любой их поступок провозглашал тотальное отождествление со Страной Советов и нерушимостью ее дела, возводя подчинение и единогласие в статус главного веяния времени. В манихейском мире, послужившем моделью советского общества, любой не желавший идти в ногу со всеми рассматривался государством не просто как неудачник, но как истинный враг. Советский режим, последовательно культивировавший героизм, столь же целенаправленно выявлял и наказывал тех, кого воспринимал как врагов, делая из них чудовищ: «внезапно целая страна начала кишеть разными невидимыми (а стало быть, еще более опасными) тварями, змеями и скорпионами» [Терц 1974: 161]. Видимо, ту же тактику использовали и во время процесса самого Синявского, а машина пропаганды задействовала прессу, где его с Даниэлем называли «перевертышами» и «оборотнями».
Такова была официальная линия: герой – и злодей – как создания режима, реализующего свои политические и общественные планы, для которого первостепенную значимость имела потребность в мотивации народа. Я не хочу сказать, что в рамках данной парадигмы героика всегда была статична. Как показала К. Келли в своем исследовании о Павлике Морозове как о юном герое и феномене своего времени, образ героя был на удивление изменчив: он приспосабливался и его приспосабливали к подвижкам идеологического климата, к меняющимся социально-политическим приоритетам государства. Так же нельзя сказать, что атрибуты героизма всегда принимались безоговорочно. Как показывает пример Павлика Морозова, людей тревожили вопросы о моральности так называемых подвигов: когда нужно ставить долг перед страной выше всех других привязанностей, особенно семейных уз? Когда можно предавать и убивать во имя идеи? Поступок Павлика Морозова, который донес на собственного отца, не был принят единогласно и без вопросов ни в одном слое общества, ни одним поколением.
Сомнения и выбор того же порядка ждали Синявского в конце 1940-х – начале 1950-х годов. Но до того времени, до тех пор, пока эти вопросы не ворвались в его собственную жизнь, он оставался человеком, глубоко убежденным в моральной, общественной и исторической правоте коммунизма.
Война
В дни Синявского «как это ни парадоксально, но отцы, а не сыновья были революционерами» [Zamoyska 1967: 50]. Поколение Синявского не имело нужды сражаться за свои убеждения. Все, что от него ожидалось, – принять предложенный ему status quo. Многие, и Синявский в том числе, ощущали из-за этого невысказанное беспокойство. Великая Отечественная война дала младшему поколению, не принимавшему участия в революции, возможность показать, на что оно способно. После революции эта война, в полном соответствии с ее русским именованием, стала следующим важнейшим событием, «определяющим национальное самосознание» [Kozlov 2006: 587].
Однако Синявский, в отличие от Даниэля и других современников, получил военный опыт не на поле боя, и этот факт не преминули отметить в ходе процесса: «Вот Даниэль… он сражался на войне, был ранен, а для вас война прошла как-то легко…»[4]. Будучи призван уже почти в конце войны, Синявский полтора года обучался в Московской летной школе, в последний военный год служил радиотехником на аэродроме под Москвой, далеко за линией фронта. Можно возразить, что принять более активное участие в войне Синявскому не позволил возраст: когда она началась, ему было всего 15 лет; но и юноши моложе его отличились на полях сражений. Скажем иначе: относительно безопасное положение дало ему возможность направить ум на проблемы, связанные с литературой. Ясно, что еще до конца войны он уже определился со своим будущим, поступив на заочное отделение филологического факультета Московского государственного университета, где появился в 1946 году, одетый в военную шинель [Белая книга 1966: 276].
Оттепель
К тому времени, когда Синявский вступил во взрослую жизнь, избрав для себя путь литературоведа и критика, хрущевская оттепель открыла возможность для героизма иного рода, который определила не терминология советской эпохи, но реакция на нее, обретшая форму диссидентского движения. Большинство наблюдателей и аналитиков, занимающихся историей России, относят начало этого движения к 1956 году, связывая с разоблачениями культа личности Сталина в «секретной» речи Хрущева на XX съезде КПСС [Lovell, Marsh 1998: 58–59].
Эта речь, ставшая для большинства потрясением основ, заставила людей, зачастую впервые, подвергнуть сомнению фундаментальные убеждения и догматы советской системы. В этом контексте процесс Синявского с типичными отголосками сталинского прошлого, еще живого в памяти, и тем мужеством, которое выказали они с Даниэлем, не пожелав отречься от своих убеждений и не признав за собой вины, должен был сделать его героем в глазах таких же, как он, русских интеллектуалов. Однако вопрос был далеко не ясен и не однозначен. Прежде всего, в обществе, где столько лет насаждались советские идеалы и методы, не имелось предпосылок для того, чтобы приветствовать какую бы то ни было оппозицию государству – любого рода и на любых основаниях. Если же говорить более цинично, то не вызывает сомнений, что многие писатели, полностью слившиеся с государственной машиной и пользовавшиеся дарованными ею благами, вряд ли желали поставить под угрозу собственное положение, не говоря уже о возможности заработать на жизнь [Garrard, Garrard 1990: 129, 136].
Самые злобные нападки против Синявского и Даниэля шли от их коллег-писателей, например З. С. Кедриной. Кедрина, когда-то коллега Синявского по ИМЛИ, настраивала против него и Даниэля общественное мнение, участвуя в организованной властями кампании в прессе, что и привело к судебному процессу, и официально стала одним из общественных обвинителей от Союза писателей [Garrard, Garrard 1990: 141–142; On Trial: 149, примеч. 3; Кедрина 1966: 2, 4; Еремин 1966[5]: 89–96]. Более того, именно члены Союза в лице своего первого секретаря К. А. Федина призывали к более суровому наказанию Синявского и Даниэля, чем готова была назначить партия.
Подобная реакция была показательна для консервативных элементов в сообществе литераторов. Своей яростной риторикой они вызывали в памяти показательные процессы 1930-х годов в духе «кто не с нами, тот против нас». Картина, однако, будет неполной, если не упомянуть, что нападки на Синявского и Даниэля отражали свойственную тому периоду неопределенность более общего масштаба, в основе которой лежали, с одной стороны, внутренние изменения, пришедшие с оттепелью, и, с другой стороны, напряженность холодной войны.
Даже более либерально настроенные интеллектуалы, которые, возможно, были более склонны поддержать Синявского, относились к его поведению неоднозначно. Для многих сам факт, что он переправил свои рукописи за границу, был достоен порицания: одно дело – осуждать сталинские репрессии, но совсем другое – становиться антисоветчиком. Создавалось ощущение, что Синявский и Даниэль работали на врага, и ощущение это разделяли очень многие[6]. Однако это совсем не входило в намерения Синявского. Действительно, хорошо понимая, что его труды могут быть использованы Западом в целях антисоветской пропаганды, он старался изо всех сил сделать так, чтобы они не попали в руки издателя, который стремился бы именно к этому [Zamoyska 1967: 62].
Тем не менее с подачи государственной пропаганды широко распространилась точка зрения, что Синявский продался Западу. Ее разделяли и более независимо мыслящие лица, к примеру влиятельный редактор журнала «Новый мир» А. Т. Твардовский. Восхищаясь творчеством Синявского как литературный критик, Твардовский опубликовал ряд его статей. Однако, помимо того факта, что произведения Терца ему не нравились, Твардовский с презрением отнесся к решению Синявского и Даниэля переправить свои работы на Запад, назвав в своем дневнике обоих «эти мазурики» [Твардовский 2002, 4: 143][7]. Однако после неожиданно строгого приговора суда это гневное чувство понемногу рассеялось перед лицом угрозы возрождения перегибов в сталинском духе [Твардовский 2002, № 4: 145][8].
Страх возрождения прошлого стал еще одной причиной двойственного отношения либеральной интеллигенции к Синявскому и Даниэлю – страх последствий подобного явления для социально-политической ситуации, когда все еще, как казалось, было таким неустойчивым [Alexeyeva, Goldberg 1993: 166–167][9]. В то время, когда память о Сталине еще была свежа в умах многих, а изменения, дарованные оттепелью, столь непрочны, взгляды либеральных кругов «резко разделились». Некоторые, стараясь не раскачивать лодку, следовали в своей риторике официальной линии (пусть и по совершенно разным причинам), считая Синявского и Даниэля «предателями»: «Как бы то ни было, мы ведь уже почти всего достигли, завтра начнется настоящая оттепель, а они нас предали, и теперь все пойдет насмарку!» Другие придерживались противоположных взглядов, считая, что Синявский и Даниэль «все же не <…> достаточно антисоветские писатели» [Нудельман 1986: 150–151]. Синявский и Даниэль, последовательно державшиеся своих убеждений на суде, привлекли внимание ко всему интеллектуальному сообществу; многих такое моральное давление отчетливо заставляло нервничать, каким бы героическим они ни считали в глубине души поведение двух писателей [Нудельман 1986: 150–151]. На деле практически все, кто во время ареста не решился на открытые действия, позже подписали письмо к властям с протестом [Нудельман 1986: 150][10].
После суда. Лагеря и эмиграция
Почти шесть лет в лагере строгого режима (1966–1971) должны были бы подкрепить диссидентскую «квалификацию» Синявского и сделать его абсолютно человеком той эпохи: террор и советская система репрессий, впервые разоблаченные в речи Хрущева, опередили революцию и войну в роли определяющих факторов национального самосознания. Публикация лагерной литературы, открывшись «Одним днем Ивана Ивановича» Солженицына в 1962 году и обсуждением соответствующих проблем в прессе, вывела эту тематику на уровень общественных дискуссий [Kozlov 2006: 585–586; Toker 2000: 49][11].
Но нет: лагерный опыт Синявского стал очередным источником полемики, в которой его имя снова упоминалось с ядовитой злобой. На этот раз «суд» над ним учинили не советские власти, а его же коллеги – эмигранты-интеллектуалы. Правда, предмет обсуждений был то же самый, а именно понятие о правилах поведения (правда, на этот раз диссидентских) и неумение жить в соответствии с ними.
Уехав из Советского Союза, Синявский яростно сопротивлялся попыткам вовлечь его в общественные или политические группы любого рода, в особенности в неоконсервативный, националистический лагерь во главе с Солженицыным. Дело было не просто в том, что он не соглашался с некоторыми идеями Солженицына, – нет, он отвергал идею конформизма как таковую. Его решение писать под псевдонимом Терц было в той же мере восстанием против конформистской этики советского общества, как и отрицанием культурной «смирительной рубашки» социалистического реализма. Он, восставший против удушающих сил советской ортодоксии, ужаснулся, обнаружив, что те же силы доминируют и в эмигрантском сообществе. Для Синявского диссидентство по своей сути было «либеральным и демократичным». Более того, диссидентство в его понимании представляло собой, в самом широком смысле слова, способность мыслить независимо наряду с этической обязанностью оставаться верным себе и своим убеждениям [Синявский 1986в: 137–142]. Склонить голову перед каким-то новым авторитетом означало бы отказаться от целостности своей личности, завоеванной столь дорогой ценой. О себе и Даниэле он говорил так: «Нам повезло остаться самими собою, вне советского “единства”» [Синявский 1986в: 137].
Синявский также не оправдал ожидания, что он выступит живым свидетельством репрессий и страданий, которым подвергают людей в России. Сам факт, что ему удалось в лагерях собрать материал не на одну, а на три книги, дал основание кое- кому из коллег-эмигрантов высказаться в том смысле, что он вообще не отбывал срок в лагере или, в самом крайнем случае, пользовался содействием КГБ[12]. Никто из лагерников, по разумению этих критиков, не имел бы возможности, необходимых средств, да просто сил писать вообще, тем более так много. Публикация трех томов писем из лагерей его женой Марьей Васильевной в 2004 году разбила эти доводы.
Но даже работы, написанные позднее на Западе, в особенности «фантастическая автобиография» «Спокойной ночи» (1984), опубликованная в тот момент, когда из печати вышла целая лавина лагерной литературы, содержат лишь косвенные упоминания о лагерях, делая вместо этого упор на проблемах искусства. Об этом пишет исследовательница из числа русских эмигрантов Л. Токер. Признавая, что Синявский «свидетельствует на свой особый манер», она указывает на запоздалый характер как его опыта, так и его признаний: «Убежденный одиночка, Синявский мог позволить себе отказаться писать о Гулаге так, как это было принято: главные свидетельства уже были сделаны другими». Высказав это, она заключает, что его «отказ следовать этим нормам стал возможен не благодаря отваге творческой личности, а просто благодаря удачно сложившимся обстоятельствам» [Toker 2000: 239, 240]. Можно было бы согласиться, если бы Синявский ограничился только этим.
Все, что он говорил, в частности, о Пушкине, вызывало такие же разногласия среди русской публики, как и то, о чем он умалчивал. Это касается в равной мере и эмигрантского сообщества, когда в Лондоне в 1975 году были опубликованы «Прогулки с Пушкиным», и его русских сограждан, когда в Советском Союзе в 1989 году впервые был издан отрывок из этого произведения. Как и в случае с его судебным процессом, большое значение играл фактор времени, особенно в последнем случае. Неортодоксальный подход Синявского к великому русскому поэту и неофициальному святому покровителю России показался многим неуместным, если не прямо кощунственным, выпадом против русских культурных ценностей (можно провести параллель с «Сатанинскими стихами» С. Рушди), на символ русской идентичности, которым русские люди за границей могли гордиться [Шафаревич 1989: 5]. Точно так же для живущих в России конца XX века Пушкин был единственным определенным явлением в мире, брошенном на произвол судьбы после распада Советского Союза [Theimer Nepomnyashchy 1991б: 35].
В конце жизни Синявский снова оказался в фокусе полемических разногласий. Вопрос о «героях и злодеях», стоявший остро в те времена, когда он покинул Советский Союз, по-прежнему разделял русское интеллектуальное сообщество, и Синявскому часто приходилось испытывать эту полярность на себе.
Искусство и диссидентство
Примечательно, что нападки на Синявского в суде по поводу его неучастия в боевых действиях звучат в одном ключе с попреками его коллег-интеллектуалов, которые считали, что (если оставить в стороне факт судебного процесса) он не принимал активного участия в диссидентском движении и борьбе за права человека. Да, Синявского нельзя причислить к активистам ни в том, ни в другом смысле. Чтобы понять путь, избранный Синявским и во многом характерный для большого числа представителей русской интеллигенции его поколения, хотя во всем остальном отличный, – нужно вернуться в конец 1940-х, к истокам его инакомыслия.
Если назвать конкретный момент, послуживший водоразделом, то для большинства русских интеллигентов им стал 1956 год; для Синявского же момент истины принес год 1946-й. Он разочаровался в советской системе гораздо раньше, чем его современники, и разочарование это было особенным образом связано с писательским творчеством и литературой. К диссидентству его толкнуло отчаяние, порожденное суровыми преследованиями со стороны Жданова писателей, произведениями которых он восхищался, – Ахматовой, Зощенко и других – и русской культурной среды в целом в то самое время, когда выковывалась его собственная приверженность литературе, которой он уже не изменит. Синявский говорил: «Эти чистки я воспринял как гибель культуры и всякой оригинальной мысли в России. Во внутреннем споре между политикой и искусством я выбрал искусство и отказался от политики». Именно инструментами искусства, а не политики Синявский подверг сомнению ценности советского режима: «А вместе с тем [я] стал присматриваться вообще к природе советского государства – в свете произведенных им опустошений в жизни и в культуре» [Синявский 1986a: 136].
Рассматривать жизнь и творческий путь Синявского с данной точки зрения, которую сформулировал он сам, означает судить о них не в узком контексте «Советы против диссидентства» или «Советы против западных моделей и ценностей», но в контексте одновременно русском и вневременном. Предметом разногласий и скандалов, связанных с Синявским и его творчеством, равным образом были природа и назначение искусства и роль писателя в русском обществе, с одной стороны, и Синявский лично, с другой. Из этого и состояли непрерывные дебаты, сопровождавшие зарождение современной русской литературы и перешедшие на советскую эпоху.
Атмосфера жарких (а временами истерических) споров, спровоцированных Синявским и его сочинениями, подчеркивает значение литературы и писателя в российской культуре – значение, не свойственное западной [Mathewson 2000: 4]. Преклонение России перед письменным словом, восходящее еще к Святому Писанию, долгое время обеспечивало литературе особое место в русском обществе, где она играла роль своего рода второй власти, «некоей альтернативной реальности, зачастую гораздо более живой и непосредственной, чем действительность» [Naiman 1992: 3]. Подобные упования, возлагавшиеся на литературу и намного превосходившие ее основную функцию как искусства, высказывались самими писателями (к примеру, Гоголем и Толстым в последние годы и Солженицыным уже в наше время), критиками (Белинским и критиками радикального толка в 1860-е годы) или государством (официально провозглашенный властями социалистический реализм). Это усиливало накал споров вокруг Синявского. В частности, риторика «изменничества», звучавшая на его процессе 1966 года, могла быть направлена не только против предполагаемой измены Родине, но и против попыток подорвать «правильную», социальную, функцию искусства.
После установления советской власти исчезла всякая возможность для дискуссий, вообще для всего, что не подпадало под определение социально ответственного искусства. Разногласия Синявского с режимом Советов касались не только его специфических нападок на определенные сферы российской культуры, с которой он был тесно связан (например, на модернизм), но также более общей официальной линии, согласно которой искусство должно служить полезной цели [Синявский 1986a: 136]. Синявский восставал против подобного утилитарного подхода, каковой он полагал вредным для творчества, и выступал в пользу чистого искусства – не в смысле «искусство ради искусства» с его аллюзиями на претенциозный эстетизм конца XIX века, но в гораздо более широком значении искусства, свободного от любых социальных, политических или идеологических императивов; искусства, правда которого заключена не в узком равенстве реализму (социалистическому или любому другому), но в возможно более широкой интерпретации реальности. В последнем слове на суде Синявский заявил: «Вот вы, юристы, имеете дело с терминами, которые чем уже, тем точнее. В отличие от термина художественный образ тем точнее, чем шире» [Белая книга 1966: 306]. Для Синявского чистое искусство вовсе не означало искусство, оторванное от жизни: «Храни нас Господь от эстетизма. Художник не может и не должен быть снобом». Нет, он говорил об искусстве, свободно рисующем жизнь своими собственными средствами [Терц 1992: 565; Theimer Nepomnyashchy 1991a: 11]. Для него писательство было актом диссидентства в той же мере, что и актом выражения этой свободы [Синявский 1986a: 147].
Писатель
Судебный процесс – типичное для эпохи событие – в то же время вовлек Синявского в более обширную русскую культурную парадигму, в которой писатель становится либо «святым в миру», либо мучеником, гонимым властями. Этот образ создали и поддерживали сами писатели, начиная с Лермонтова и его стихотворения «Смерть поэта» (1837), посвященного Пушкину. Рисуя смерть Пушкина в проникновенной манере постбайроновского романтизма, Лермонтов возлагал вину за гибель поэта на двор, общество и власти; Пушкин стал для массового сознания мучеником, положив начало целой череде героев, где и самому Лермонтову было отведено место, как и многим другим писателям и поэтам, заслужившим этот статус. Образ писателя как жертвы государственного строя обрел новое значение в XX веке, когда жертвами советского режима стали многие творцы, включая и Синявского.
Однако при советской власти общественная роль писателя претерпела коренные изменения, когда контроль над его творчеством, как и над его образом, перешел в руки государства. Большое значение придавалось участию писателя в воспитании и просвещении читающей публики, а интересы последней теперь целиком совпадали с интересами советского режима, и писатель обязан был с этим сообразовываться. Уже не воплощение свободы интеллектуальных и духовных исканий, писатель отныне должен был следовать генеральной линии, говорить от имени властей и олицетворять единство коллектива [Struve 1971; Добренко 1997: 28]. В «Мастере и Маргарите» писатель не писатель, если не состоит членом «грибоедовского клуба». Автор, не числившийся в Союзе советских писателей, не имел выхода на издательства; тем самым он лишался средств к существованию и жизненно важного контакта с читателями [Garrard, Garrard 1990: 136].
Хотя Синявский был советским человеком по образованию, по характеру и по своим литературным вкусам он все же тяготел к Серебряному веку с его модернизмом и революционным романтизмом. Важность индивидуального голоса художника, его независимости от любого официоза – вот ключевой пункт его мышления и самовосприятия как писателя.
В своей критике советской системы, которую он всегда по-книжному именовал «эстетическими разногласиями», Синявский относил себя не столько к диссидентскому движению, возникшему как исторический феномен в середине 1950-х годов, сколько к традиции «инакомыслия», заложенной такими поэтами, как Ахматова, Цветаева, Мандельштам и Пастернак [Синявский 1986a: 132]. Синявский разграничивал их наследие и диссидентское движение, которое зародилось после процесса Синявского – Даниэля в середине 1960-х и было целиком продуктом советского общества. Пастернака и его современников, по мнению Синявского, нельзя причислять к диссидентам, поскольку «они всеми своими корнями были связаны с прошлым, с дореволюционными традициями русской культуры»; поэтому они рассматривали советское общество и советские представления о культуре в другой, более широкой перспективе, не связанной узкими рамками советских реалий.
Подчеркивая это различие, Синявский называет их «еретиками» русской литературы, которые в своем инакомыслии вымостили путь диссидентам, – иными словами, его естественными предшественниками. Хотя он никогда не именует еретиком себя, можно считать, что Синявский проводит себе иную линию наследственности, сознательно дистанцируясь от советской культуры и ее ценностей. В то же время понятие ереси, лежащее за пределами терминологии 1960-х годов с ее политическими наслоениями, помещает диссидентство Синявского строго в литературный контекст.
Понятие об авторе как о еретике отсылает к Замятину и новаторской литературе начала и середины 1920-х годов, одновременно усиливая связь с прошлым. «Ересь», как религиозное несогласие в первую очередь, подразумевает не только отход Синявского от советской ортодоксии, но и духовные убеждения, которые все серьезнее, хоть и неявным образом, начинают влиять на его жизнь и творчество с конца 1950-х годов.
Пастернак, Мандельштам, Ахматова и Цветаева были не только примером независимого мышления и художественной цельности, но и олицетворением – как символическим, так и вполне осязаемым – неразрывной связи с культурным прошлым России. Для Синявского они стали мостом через «пропасть шириною в тридцать, в сорок лет, когда в России практически не было словесности и, что самое главное, не было уверенности, что таковая когда-нибудь будет» [Терц 1974: 157]. Они были «ниточкой жизни, соединившей будущее русской литературы с ее героическим прошлым!» [Терц 1974: 156–157]. Синявского это «героическое прошлое» вело вспять, от творческого бродильного фермента революционных лет, их первоначального идеализма, еще не опороченного советскими потомками, к мыслителям кануна XX века – Н. А. Бердяеву, Л. И. Шестову и П. А. Флоренскому и другим с их отрицанием позитивистской философии и обращением к иррациональному и субъективному и дальше, в русский Золотой век, и еще дальше, к истокам русской культуры – фольклору и сказкам.
Вместе с тем авторы Серебряного века не были воплощением идеи писателя как пророка или наставника, естественно сопутствовавшей тому высокому значению, которое всегда придавалось литературе в русской традиции. Эта важная роль нашла соответствие и в советской культуре: писатель должен быть «инженером человеческих душ», чья задача – образовывать и дисциплинировать массы; иными словами, служить рупором официальной власти. То же относилось и к советским критикам. Напротив, такие авторы, как Пастернак и Ахматова, не имели намерения поучать или проповедовать; они хотели говорить со своим читателем – с ним и от его имени. Ахматовский «Реквием» (1963), вероятно, самый волнующий и известный пример подобного рода. Что касается Пастернака, то путеводным духом его трудов, будь то проза, поэзия или переводы, было стремление уйти в тень[13].
Именно этой линии следовал Синявский-писатель, придя к ней через свои критические труды. Двойную идентичность «Синявский-Терц» стоит рассматривать не как раздвоение между критиком и писателем, но как исследование возможностей литературы, в которую оба внесли свой вклад. По мере того как Синявский приобретал известность, единство между двумя сторонами его личности становилось все очевиднее, а различие между трудами Синявского и Терца – все менее заметным, пока, наконец, последние работы Терца не предстали перед читающей публикой истинным сплавом литературы и литературной критики.
От посредничества между автором, текстом и читателем Синявский переходит к менее заметной, но не менее действенной роли: не говорить о герое, но говорить вместе с ним и отождествлять себя с ним. В плане взаимоотношений Синявского с читателем это подразумевает, что первый отступает назад, не только оставляя второму пространство для собственной интерпретации, но и побуждая играть активную роль, чтобы обеспечить тексту будущее. Текст рассматривается не как завершенный объект, относительно которого автор (или критик) обладает правом заключительного слова, но как постоянный процесс, органически развертывающийся в единстве искусства и жизни. Литература была для Синявского во всех представимых смыслах живым и необходимым для жизни явлением.
Глава I
Однажды, в 1947 году, я спросила его, что он считает своей главной целью в жизни. И он ответил: «Быть на оси своего времени и писать о нем».
H. Zamoyska “Sinyavsky, the Man and the Writer”
Случайность или намерение? Был ли Синявский самокритичным «героем поневоле», выброшенным на берег XX столетия в переломный момент российской истории? Или же это был человек, тонко чувствующий и себя, и свое время, и роль, которая ему назначена? Ответ – и то и другое. То обстоятельство, что вместе с оттепелью Синявскому открылась возможность сказать свое слово под именем Терц, не имело бы никакого значения, если бы он уже не начал целенаправленно пролагать свою писательскую стезю как осознанный ответ эпохе сталинизма – той эпохе, когда он рос. Синявский мог бы возразить, как он это сделал на суде, что никогда не рисовал себя героем, что он «герой поневоле», и однако он сам выбрал писательство со всем, что ему сопутствует в российском контексте.
Самобытный, парадоксальный автор, настаивавший, что пишет для немногих, он тем не менее отсылал свои произведения за границу для публикации; писатель, чьим кредо было чистое искусство, свободное от традиционных для России политических и общественных запросов, стал центром жаркой полемики политиков от литературы; писатель, которого многие русские и дома, и за рубежом считали русофобом, всю жизнь оставался верен своей путеводной звезде – России или, скорее, российской культуре. Фигура Синявского, особенно его писательский образ и биография, во всех смыслах ускользает от понимания. Писатель не один, их двое: первый – «официальный», второй, Терц, – неформал; первый – советский кабинетный ученый, второй – аморальный и эксцентричный зек, да к тому же еврей. Как отличить одного от другого? Факт от выдумки? Жизнь Синявского от более противоречивой, чтобы не сказать скандальной, биографии, которую он сфабриковал для Терца и которая стала его собственной, когда по милости Терца он оказался в центре общественного внимания – обвиняемым на судебном процессе. Так кто же из них был реальным героем: Терц или Синявский, выдуманное альтер эго или его напарник из настоящей жизни?
Пытаться разделить их необходимо, но лишь в какой-то мере, иначе мы погрешим против намерений Синявского и самого духа его творчества. Терц позволил Синявскому сыграть героя – или, скорее, антигероя – чья деятельность сделала его мучеником в российской литературной традиции. Некоторые произведения Синявского позволяют предположить, что если он специально и не стремился в лагеря, то сумел со сверхъестественной прозорливостью (особенно в рассказе «Суд идет», 1960) предвидеть свою судьбу[14]. Однако, как писал Гладков о Пастернаке, «от сознания неизбежности до желания [пострадать] – расстояние большое» [Гладков 1977: 155][15].
Для Синявского исход процесса был неотвратим. Он встал на путь столкновения с советским режимом в конце 1940-х, когда послевоенная политика «культурных чисток», которую проводил Жданов и которая была нацелена, в частности, на двух авторов, которыми Синявский восхищался – Ахматову и Зощенко, – побудила его поставить под сомнение ценности режима в целом.
Литература стала одновременно и причиной – ее сохранение перед лицом мещанских нападок – и средством бросить вызов советской системе. Молодой человек, разочарованный послевоенным закручиванием гаек, которому не довелось повоевать и для которого революция, с ее романтической аурой и героическими подвигами, превратилась в несбывшуюся мечту, идеалист Синявский нуждался в выходе для своих устремлений [Zamoyska 1967: 50]. И этим выходом стала литература – не просто занятие и способ заработать на жизнь, но жизненное призвание [Белая книга 1966: 241].
Но была ли литература полноценной сферой приложения сил? Позднее, когда смерть Сталина и оттепель вывели других на улицы, уход Синявского в мир книг его коллегами из числа интеллигенции был принят с подозрением, оставившим чувство вины, но прежде всего – несправедливости, которое будет терзать его в грядущие годы: «Мы, – кричит, – пойдем по лагерям! А ты, ты, Андрей, будешь отсиживаться в башне из слоновой кости?» [Терц 1992, 2: 562][16].
С самого начала для Синявского стоял вопрос не быть ли писателем, а быть писателем какого сорта. Дни, когда голосом писателя – и критика – говорила независимая мысль и совесть общества, давно канули в прошлое. Представление Синявского о писателе как выразителе интеллектуальной и духовной свободы прямо противоречили советской модели писателя как «инженера человеческих душ». Равно чуждой для него была традиционная для России идея писателя как рупора власти, наставника или пророка с монопольным правом на истину. В те ранние годы он начинал выковывать свой собственный стиль и идентичность, выступая против соглашательства и доминирующих норм. Образ и биография Синявского с самого начала были столь же неотъемлемой частью полемики о нем, сколь и его произведения.
Сперва он обратился к поэзии. Это был очень краткий период – ни одной опубликованной работы, ни одного упоминания за пределами узкого круга друзей-студентов. Можно посчитать его недостойным упоминания, но Синявский сам привлекает внимание к этому этапу, пусть и с характерным для него отрицанием и самоуничижением, в автобиографическом романе «Спокойной ночи» (см. также [Zamoyska 1967: 54]). Зная, куда ведет эта ссылка, стоит следовать по ней с осторожностью, поскольку мы вступаем на территорию позднего Синявского. Здесь автор судит с перспективы прожитых четырех десятков лет, фантастического пера Терца; его слова несут на себе оттенок полемики, порожденной выходом в свет «Прогулок с Пушкиным». Частью апология, частью автомифологизация, «Спокойной ночи» – это сложное переплетение жизней Синявского и Терца, каждый из которых причастен к созданию образа другого. Тем не менее тот факт, что Синявский не просто ссылается на свои стихи, но и цитирует целые отрывки и делает это в заключительной главе, посвященной его превращению в Терца, говорит о том, какое значение он придавал своей поэзии в контексте собственного становления как писателя: следуя русской поэтической традиции в студенческие годы, он уже задумывался о своем образе и своей роли. Об амплуа поэта стоит помнить по еще одной причине: оно тесно связано с образом затейника и скомороха, который у позднего Синявского перерастет в писателя.
Его поэзия студенческой поры была намеренной попыткой дотянуться до прошлого, до Серебряного века, поэтому-то он и сочинял стихи в духе Блока, Маяковского и имажинистов[17]. И хотя перед нами поздний Синявский, желающий подкрепить свою писательскую квалификацию, идея непрерывности, представление о писателе как живом воплощении культурного наследия, – не просто полемический прием; это основополагающий принцип его роли как автора – передать в собственных трудах богатый культурный запас России.
