Читать онлайн Незаметные убийства бесплатно
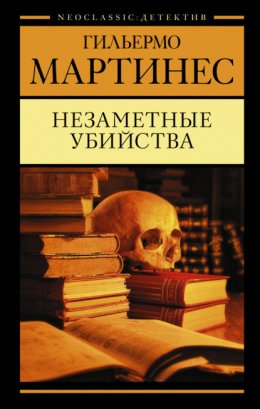
Guillermo Martinez
CRIMENES IMPERCEPTIBLES
Печатается с разрешения автора и литературного агентства Agencia Literaria Carmen Balcells, S.A.
© Guillermo Martinez, 2003
© Перевод. Н. Богомолова, 2021
© Издание на русском языке AST Publishers, 2022
Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.
Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
* * *
Гильермо Мартинес (р. 1962) – аргентинский писатель, математик по образованию и писатель по призванию, один из классиков современного интеллектуального детектива. Его книги переведены на множество языков, роман «Незаметные убийства» лег в основу сценария знаменитого фильма «Убийства в Оксфорде» с Элайджей Вудом и Джоном Хертом в главных ролях, а роман «Преступления Алисы» был удостоен престижной испанской премии Надаля.
Глава 1
Сейчас, когда прошло столько лет и все забылось, сейчас, когда я получил из Шотландии короткое сообщение – печальную весть о смерти Селдома, думается, я могу нарушить обет молчания, хотя на самом деле Селдом никогда ни обещаний, ни уж тем более клятв с меня не брал. Я хотел бы рассказать правду о событиях, о которых летом 1993 года английские газеты писали под пугающе мрачными или скандально громкими заголовками, – иначе говоря, рассказать о том, что мы с Селдомом называли тогда – не без намека на связь с математикой – либо просто «серией», либо «оксфордской серией». Все те люди действительно погибли в Оксфордшире, и произошло это вскоре после того, как я приехал в Англию. Мало того, судьба удостоила меня сомнительной чести: я оказался в непосредственной близости от первого преступления.
Мне было двадцать два года, а в таком возрасте многое простительно. Я только что окончил университет в Буэнос-Айресе, защитил работу по топологии и, получив годовую стипендию, отправился в Оксфорд. У меня было тайное намерение переключиться на математическую логику или по крайней мере позаниматься в знаменитом семинаре под руководством Ангуса Макинтайра. Моя будущая научная руководительница Эмили Бронсон весьма заботливо подготовилась к моему прибытию, иначе говоря, не упустила из виду даже самые мелкие бытовые детали. Она была профессором и членом совета колледжа Святой Анны. Мы обменялись с ней несколькими электронными письмами, и она посоветовала мне поселиться не в комнатах, предоставляемых колледжем – по ее мнению, не слишком удобных, – а снять, если стипендия мне позволит, комнату с душем, туалетом, маленькой кухней (и, разумеется, отдельным входом) в доме миссис Иглтон, очень приятной и тактичной, по отзыву Бронсон, пожилой женщины, вдовы ее бывшего учителя. Я оценил, как всегда слишком оптимистично, свои материальные возможности и послал в Оксфорд чек в качестве аванса за первый месяц проживания – таково было единственное условие моей будущей хозяйки. Через две недели я уже летел над Атлантическим океаном, еще не до конца поверив в реальность происходящего, как нередко с нами бывает в начале путешествия. Мне казалось, будто я прыгнул в бездну без страховки. Будто вот-вот что-нибудь случится, и я либо вернусь назад, либо рухну на дно морское, прежде чем внизу появится спасительная суша и меня закрутит волна забот, связанных со вступлением в новый жизненный период. Тем не менее точно по расписанию, ровно в девять утра следующего дня, самолет спокойно пробурил слой тумана, и зеленые холмы Англии с несомненной очевидностью возникли передо мной в свете, который постепенно стал смягчаться или, лучше сказать, таять, потому что создавалось именно такое впечатление, что свет, по мере того как мы снижались, делался все более блеклым, словно тускнел, просачиваясь сквозь редкий фильтр.
Моя руководительница дала мне подробнейшие инструкции: в Хитроу я должен был сесть на автобус и доехать на нем прямо до Оксфорда, причем она несколько раз извинилась за то, что не сможет встретить меня на месте – всю ту неделю ей предстояло провести в Лондоне на конференции. Честно сказать, это обстоятельство не только не огорчило меня, но даже показалось большой удачей, ведь несколько дней я буду пользоваться полной свободой – то есть успею составить собственное представление о городе и смогу вольно побродить по нему, прежде чем приступлю к занятиям. Вещей у меня с собой было немного, так что, когда автобус наконец остановился на площади, я вышел со своими сумками и пересел на такси. Стояло начало апреля, но, к счастью, я был в пальто: дул резкий ледяной ветер, а бледное солнце почти не грело. Несмотря на это, большинство людей, увиденных мною на площади, как и таксист-пакистанец, который вышел, чтобы открыть мне дверцу, были в рубашках с короткими рукавами. Я дал таксисту адрес миссис Иглтон. Пока он заводил мотор, я спросил, не холодно ли ему.
– О нет, ведь уже весна! – ответил он и в подтверждение своих слов радостно кивнул на рахитичное солнце.
Черный cab[1] торжественно двинулся в сторону главной улицы. Когда мы свернули налево, по обе стороны дороги я увидел сквозь приоткрытые деревянные ворота и металлические решетки аккуратные садики и безупречные газоны вокруг колледжей. Мы миновали церковь и маленькое кладбище с покрытыми мхом могильными плитами. Такси вскарабкалось вверх по Банбери-роуд, потом повернуло на Канлифф-клоуз. Теперь дорога вилась посреди огромного парка, за живыми изгородями из белой омелы стояли большие каменные дома, строгие и элегантные, которые заставляли вспомнить викторианские романы и описанные в них вечерние чаепития, партии в крокет и прогулки по саду. Мы внимательно следили за номерами домов, чтобы не пропустить нужный, хотя мне казалось маловероятным, чтобы та сумма, которую я послал в качестве аванса, давала право поселиться в одном из подобных особняков. В самом конце улицы мы увидели несколько похожих друг на друга домиков, гораздо более скромных, но весьма симпатичных, с прямоугольными деревянными балконами. Они производили впечатление летних. Первый из них как раз и принадлежал миссис Иглтон. Я взял свои сумки, поднялся на крыльцо и позвонил в дверь. Я знал, в каком году Эмили Бронсон защитила докторскую диссертацию, знал, когда появились ее первые научные публикации, из чего легко выводилось, что ей было лет пятьдесят пять, не меньше.
И я спрашивал себя, сколько же лет должно быть вдове бывшего учителя Эмили? Дверь открыла высокая и стройная девушка, приблизительно моя ровесница, с острыми чертами лица и темно-синими глазами. Она улыбнулась и протянула мне руку. Мы глянули друг на друга так, словно оба были приятно удивлены, хотя мне и почудилось, что уже миг спустя она с некоторой опаской отступила назад, отняв руку, которую я задержал в своей, пожалуй, на секунду дольше положенного. Она представилась: звали ее Бет. Затем девушка попыталась, хотя и не вполне успешно, повторить мое имя. Бет провела меня в очень уютную гостиную, где пол покрывал ковер с серо-красными ромбами. Миссис Иглтон сидела в кресле, вытканном цветами, и с широкой радушной улыбкой протягивала ко мне обе руки. Это была старушка с живыми глазами, очень подвижная, с аккуратно уложенными седыми волосами – высокая прическа придавала ей горделивый вид. Пересекая комнату, я заметил, что неподалеку стоит сложенное инвалидное кресло-коляска. Ноги пожилой дамы укрывал шотландский клетчатый плед. Я пожал ей руку и успел почувствовать, как дрожат ее хрупкие пальцы. Она подержала мою руку в своей, а другой рукой несколько раз легонько похлопала по ней сверху, спрашивая, удачно ли прошло путешествие и впервые ли я в Англии. Потом с изумлением воскликнула:
– А мы не думали, что вы так молоды, правда, Бет?
Бет по-прежнему стояла у двери и молча улыбалась, потом сняла висевший на стене ключ и, обождав, пока я отвечу еще на несколько вопросов миссис Иглтон, мягко заметила:
– Бабушка, ты не думаешь, что пора показать гостю его комнату?.. Он ведь наверняка ужасно устал с дороги.
– Конечно, конечно, – поспешно ответила миссис Иглтон. – Бет вас проводит и все объяснит. И, если у вас нет никаких планов на нынешний вечер, может быть, вы согласитесь поужинать вместе с нами? Мы будем очень рады…
Следом за Бет я вышел из дома. Мы спустились по лестнице, по которой я совсем недавно поднялся, потом спустились еще на несколько ступенек вниз – и очутились у маленькой дверцы. Бет чуть наклонила голову, вставляя ключ в замочную скважину, и провела меня в просторную, тщательно убранную комнату, расположенную ниже уровня земли, но где тем не менее было достаточно света благодаря двум окнам, устроенным под самым потолком. Бет расхаживала туда-сюда, объясняя, где здесь и что, выдвигала ящики, распахивала дверцы стенных шкафов, показывала посуду и полотенца – и это напоминало много раз повторенный концертный номер. Я ограничился тем, что посмотрел на кровать и заглянул в душ, а затем стал наблюдать исключительно за Бет. У девушки был здоровый вид, словно она много времени проводила на свежем воздухе и поэтому кожа ее загорела и обветрилась – кстати, именно такая кожа обычно быстро увядает. Если с первого взгляда я дал ей года двадцать три – двадцать четыре, то сейчас, при другом освещении, мне показалось, что ей никак не меньше двадцати семи, а то и двадцати восьми лет. Глаза у нее, надо отметить, были совершенно необыкновенные: очень красивого насыщенного синего цвета, и они были спокойнее, чем остальные черты лица, как будто в них с некоторым опозданием отражались обуревавшие Бет эмоции. Длинное и свободное, как у крестьянки, платье с круглым вырезом мешало как следует оценить ее фигуру, хотя худобы и стройности все-таки не скрывало и даже позволяло угадать некоторые приятные округлости. Мне почему-то сразу захотелось подойти сзади и обнять Бет, может, потому, что спина ее выглядела какой-то хрупкой и беззащитной, как часто бывает у высоких девушек. Обернувшись и встретив мой взгляд, Бет спросила, хотя, думаю, без малейшей иронии, не желаю ли я взглянуть на что-нибудь еще, и я смущенно отвел глаза и поспешно ответил, что все замечательно. Прежде чем она ушла, я довольно витиевато задал волновавший меня вопрос: должен ли я и вправду считать себя приглашенным на сегодняшний ужин? Она засмеялась и сказала, что, разумеется, они меня ждут – ровно в половине седьмого.
Я распаковал свой нехитрый багаж и положил на письменный стол стопку книг и несколько экземпляров собственной диссертации. Для белья мне хватило всего пары ящиков. Потом я решил прогуляться по городу. Взяв за точку отсчета церковь Святого Эгидия, я легко определил, где находится Институт математики – единственное здесь квадратное и, надо сказать, довольно уродливое здание. Я увидел лестницу, ведущую к входу, вращающуюся стеклянную дверь и решил, что в первый день моего пребывания в Оксфорде могу спокойно пройти мимо. Я купил сандвич и устроил себе одинокий и поздний пикник на берегу Темзы, наблюдая за тем, как команды готовятся к регате. Потом я заглянул в два-три книжных магазина, поглазел на фигурные водосточные желоба, украшающие здание театра, пристроился в хвост к группе туристов, которую вели по галерее одного из колледжей, затем довольно долго шагал через огромный Университетский парк. В одном месте я различил за деревьями площадку, на которой машина стригла газон. Это были теннисные корты. Какой-то мужчина наносил белой краской разметку. Я с жадным любопытством наблюдал за его действиями и, когда рабочие устроили перерыв, спросил, скоро ли будут натянуты сетки. Сам я забросил теннис еще на втором курсе университета, и, понятное дело, мне и в голову не пришло взять с собой в Англию ракетку. Теперь же я пообещал себе немедленно купить новую и найти партнера для игры.
На обратном пути я зашел в супермаркет, запасся кое-какими продуктами, затем поискал винный магазин, где почти наугад выбрал бутылку вина к ужину. Я вернулся на Канлифф-клоуз, когда едва пробило шесть, но уже совсем стемнело и окна во всех домах светились. Меня поразило, что ни на одном не было занавесок. Надо полагать, подумал я, сей факт объясняется чисто английской – и, пожалуй, не всегда обоснованной – уверенностью, будто тактичность и сдержанность, свойственные жителям этой страны, никогда не позволят им подглядывать за чужой жизнью. А может, тоже чисто английской уверенностью, будто жители этой страны в своей частной жизни не делают ничего такого, что следует скрывать от посторонних глаз и за чем было бы интересно подглядывать. Не увидел я и решеток на окнах, у меня даже создалось впечатление, что и многие двери здесь скорее всего не имеют запоров.
Я принял душ, побрился, выбрал рубашку, которая, полежав в сумке, измялась меньше других, и ровно в половине седьмого поднялся по лесенке и нажал на звонок бутылкой вина. Ужин прошел приятно, за столом царило искреннее, вежливое и чуть бесцветное радушие, к которому я со временем сумел привыкнуть. Бет немного принарядилась, но вот подкраситься все же не сочла нужным. Она надела черную шелковую блузку, а волосы причесала так, что они очень соблазнительно падали на одну сторону, закрывая шею. Но, как я довольно скоро понял, постаралась она отнюдь не ради меня, Бет играла на виолончели в оркестре театра Шелдона – это было то самое полукруглое здание с фигурными водостоками, которое я видел во время прогулки. После ужина ей предстояло отправиться на генеральную репетицию, и некий счастливчик по имени Майкл через полчаса должен был за ней заехать. Возникла короткая неловкая пауза, когда я спросил, заранее уверенный в утвердительном ответе, не жених ли он ей. Женщины обменялись быстрыми взглядами, и вместо ответа миссис Иглтон спросила, не положить ли мне еще картофельного салата. До конца ужина Бет просидела со слегка отсутствующим и рассеянным видом, так что в какой-то миг до меня дошло, что беседую я исключительно с миссис Иглтон. Потом раздался звонок, и Бет нас покинула, после чего хозяйка дома заметно оживилась, словно разом спало некое напряжение. Она сама налила себе еще одну рюмку вина, и я долго выслушивал рассказы об удивительных событиях ее безусловно интересной жизни. В годы войны она, как и многие другие женщины, наивно откликнулась на призыв принять участие в национальном конкурсе любителей кроссвордов. Лишь потом выяснилось, что наградой всем победительницам стала мобилизация: их собрали в отдаленной деревушке, чтобы они помогали Алану Тьюрингу[2], возглавлявшему группу математиков, которые занимались рассекречиванием кода «Enigma». Именно там она познакомилась с мистером Иглтоном. Миссис Иглтон рассказала мне довольно много забавных историй военного времени, а также подробности знаменитого отравления Тьюринга. Но с тех пор, как они обосновались в Оксфорде, сообщила мне хозяйка дома, она больше не разгадывает кроссворды, теперь ее интересует только скраббл, и они с приятелями часто играют в эту игру. Она решительно двинула свое кресло-коляску к низкому столику и поманила меня за собой, предупредив, что собирать тарелки не надо – об этом, вернувшись из театра, позаботится Бет. И тут я с тоской заметил, что она достает из ящика дощечку для игры в скраббл и кладет перед собой. Я не мог сказать «нет». И таким образом остаток моего первого вечера в Англии я провел, с трудом составляя английские слова и сидя напротив этой почти что исторической старухи, которая после двух-трех ходов смеялась как девочка, сумев использовать сразу все свои фишки.
Глава 2
На следующий день я отправился в Институт математики, где мне выделили стол в комнате для visitors и вручили магнитную карточку, с помощью которой я мог в любое – даже неурочное – время попасть в библиотеку. В комнате у меня был лишь один сосед – русский по фамилии Подоров. Мы с ним обменялись короткими приветствиями и не более того. Он сгорбившись шагал туда-сюда, иногда наклонялся над своим столом, чтобы записать какую-то формулу в большую тетрадь в твердом переплете, напоминающую книгу псалмов, и каждые полчаса выходил покурить в маленький внутренний дворик, вымощенный плиткой. Дворик располагался под нашими окнами.
Через неделю состоялась моя первая встреча с Эмили Бронсон. Это была миниатюрная женщина с очень прямыми и совсем седыми волосами, заколотыми над ушами, как у школьницы, заколками-крокодильчиками. Она приезжала в институт на слишком большом для нее велосипеде с прикрепленной у руля корзинкой – там лежали книги и завтрак. Она напоминала монахиню, казалась тихой и робкой, но вскоре я обнаружил, как часто она пускает в ход язвительный и острый юмор. При всей своей внешней скромности Эмили не смогла скрыть удовольствия, когда узнала, что название моей диссертации звучит следующим образом: «Пространства Бронсон». Во время нашей первой встречи она вручила мне для изучения оттиски двух своих последних papers[3], а также кучу всяких книжек, планов и карт Оксфорда, ведь вот-вот начнется новый семестр, подчеркнула она, и у меня останется гораздо меньше свободного времени для прогулок и экскурсий. Затем она поинтересовалась, не возникло ли у меня каких-нибудь особых желаний или вдруг мне недостает чего-то, к чему я привык в Буэнос-Айресе. И когда я обмолвился о своем желании снова начать играть в теннис, она улыбнулась как человек, привыкший к куда более экстравагантным просьбам, и заверила меня, что это легко устроить.
Два дня спустя я достал из почтового ящика записку с приглашением на парную встречу в клуб на Марстон-Ферри-роуд. Корты были грунтовыми и располагались в нескольких минутах ходьбы от Канлифф-клоуз. В партнеры мне достались: длиннорукий американец-фотограф Джон с хорошей подачей; Сэмми, канадский биолог, почти что альбинос, энергичный и не знающий усталости; и Лорна, медсестра из больницы Рэдклиффа, ирландка по происхождению, с рыжеватыми волосами и зелеными обольстительными глазами.
Я был счастлив, снова ступив на кирпичную крошку, но к этому добавилось неожиданное удовольствие: по другую сторону сетки я видел девушку, которая была не только изумительно хороша собой, но еще и обладала уверенным и изящным ударом с задней линии и отбивала все мои удары от сетки. Мы сыграли три сета и поменялись парами, так что теперь мы с Лорной составили жизнерадостный, но грозный дуэт. Всю следующую неделю я считал дни до нового матча, а потом считал минуты до того момента, когда она снова окажется рядом со мной.
Почти каждое утро я видел миссис Иглтон. Обычно она с раннего утра возилась в саду, и, когда я отправлялся в институт, мы обменивались парой фраз. Иногда я встречал ее на Банбери-роуд, когда, пользуясь перерывом, спешил на рынок, чтобы купить себе что-нибудь к завтраку. Она ехала на инвалидном кресле с мотором, ловко справляясь с управлением, словно плыла на устойчивой и надежной лодке, и милым наклоном головы здоровалась со студентами, которые уступали ей дорогу. А вот с Бет мы пересекались крайне редко, точнее, поговорить с ней мне довелось всего только один раз – именно в тот вечер, когда я возвращался с корта. Лорна предложила подбросить меня на своей машине до начала Канлифф-клоуз, и, пока мы прощались, я заметил Бет, выходящую из автобуса с виолончелью в руках. Я кинулся ей навстречу, чтобы помочь донести инструмент до дома. Стояли первые по-настоящему жаркие дни, и, кажется, я, проведя полдня на солнце, успел загореть. Завидев меня, Бет ехидно улыбнулась.
– Ого! Ты, как я вижу, уже вполне здесь освоился. Надо же! Сперва я подумала, что кое-кто приехал в Оксфорд заниматься математикой, а не играть в теннис и кататься с девушками на машине…
– У меня есть официальное разрешение научного руководителя, – ответил я со смехом и сопроводил свои слова шутливым жестом.
– Шутки шутками, но на самом деле я тебе просто завидую.
– Почему?
– Не знаю. Ты производишь впечатление совершенно свободного человека: взял и покинул свою страну, оставив там какую-то другую жизнь, и всего через пару недель выглядишь довольным, загорелым, играешь в теннис…
– Ты тоже можешь попробовать – надо только добиться стипендии, вот и все.
Она как-то грустно покачала головой.
– Я однажды попыталась, но, наверное, поздновато спохватилась – мой возраст их не устроил. В подобных заведениях открыто, разумеется, никогда ничего такого не скажут, но на самом деле предпочитают давать стипендии тем, кто помоложе. Мне ведь вот-вот стукнет двадцать девять, – добавила она таким тоном, словно этот возраст был могильной плитой, и закончила с внезапной горечью: – Иногда мне кажется, что я все на свете отдала бы, лишь бы убежать отсюда.
Я посмотрел на зеленые деревья вокруг домов, на средневековые церковные шпили и башни с зубцами.
– Убежать из Оксфорда? А мне кажется, лучше и прекрасней места просто не бывает.
Глаза ее на мгновение затянуло пеленой, словно на поверхность всплыла застарелая боль от сознания собственного бессилия.
– Наверное, да, да, если, конечно, тебе не приходится все свое время отдавать заботам о больном человеке и тратить день за днем на то, что сам уже давно считаешь не слишком важным и не очень интересным делом.
– Разве тебе не нравится играть на виолончели? – Это мне показалось неожиданностью, весьма любопытной неожиданностью. Я посмотрел на Бет так, словно хотел проникнуть под неподвижную гладь ее взгляда.
– Я ненавижу виолончель, – ответила Бет, и зрачки у нее потемнели. – Ненавижу с каждым днем все сильнее и сильнее, и с каждым днем мне все с большим трудом удается это скрывать. Иногда меня охватывает страх: а вдруг кто-нибудь заметит, а вдруг дирижер или кто-нибудь из коллег-музыкантов догадается, как мне ненавистна любая нота, которую я из нее извлекаю. Но каждый раз мы заканчиваем концерт, и люди аплодируют, и никто ничего не замечает. Забавно, правда?
– Думаю, об этом ты можешь не беспокоиться. Скорее всего не существует каких-то особых волн или излучений ненависти. Иначе говоря, музыка не менее абстрактна, чем математика: она не различает нравственных категорий. И, если ты следуешь партитуре, никто не сможет угадать твое отношение к инструменту.
– Следовать партитуре. Всю свою жизнь я только это и делала, – вздохнула она. Беседуя, мы дошли до дверей нашего дома, и Бет взялась за ручку. – Впрочем, забудь о том, что я тебе сказала, – добавила она под конец, – просто у меня сегодня был плохой день.
– Но день еще не завершился, – возразил я. – Может, я могу что-то сделать, чтобы дело повернулось к лучшему?
Она глянула на меня с грустной улыбкой и забрала свою виолончель.
– Oh, you are such a Latin man[4], – прошептала Бет так, словно эти слова должны остаться нашей тайной, и, прежде чем скрыться в доме, позволила мне опять полюбоваться своими синими глазами.
Миновали еще две недели. Лето медленно входило в свои права, сумерки стали мягкими и тягучими. В первую среду мая, возвращаясь из института, я, воспользовавшись банкоматом, взял деньги, чтобы заплатить за комнату. Я позвонил в дверь миссис Иглтон и стал дожидаться, пока мне откроют, и тут увидел, что по извилистой дорожке к дому приближается высокий мужчина. Он шагал решительно, на лице его застыло серьезное и сосредоточенное выражение. Когда он остановился рядом со мной, я бросил на него быстрый взгляд. У незнакомца были широкий, открытый лоб, маленькие и глубоко посаженные глаза, заметный шрам на подбородке, я дал бы ему лет пятьдесят пять, хотя в каждом его движении таилась энергия, благодаря которой он выглядел моложе своего возраста. Мы бок о бок стояли перед запертой дверью, так что ситуация сложилась чуть тягостная, но он быстро нашел выход из положения, нарушив неловкую паузу и спросив с заметным и очень мелодичным шотландским акцентом, позвонил я уже или нет. Я ответил утвердительно и во второй раз нажал на кнопку. Возможно, предположил я, первый звонок оказался слишком коротким. Услышав мои слова, мужчина радостно заулыбался и спросил, не аргентинец ли я.
– В таком случае, – сказал он, переходя на безупречный испанский с милым буэнос-айресским выговором, – вы, надо полагать, и есть новый ученик Эмили.
Я, не скрывая удивления, кивнул и спросил, где он выучился испанскому языку. Он поднял брови, будто заглянув в далекое прошлое, и сообщил, что это случилось много-много лет тому назад.
– Моя первая жена была уроженкой Буэнос-Айреса. – И тут он протянул мне руку и представился: – Меня зовут Артур Селдом.
В ту пору мало какое имя могло пробудить во мне равный восторг. Мужчина с маленькими прозрачными глазками, с которым мы только что обменялись рукопожатием, был легендой среди математиков. Я несколько месяцев, готовясь к одному из семинаров, изучал самую знаменитую его работу: философское развитие диссертации Гёделя[5] 30-х годов. Селдома почитали как одного из столпов современной логики, и достаточно было всего лишь пробежать глазами список его трудов, чтобы понять: перед нами редкий случай математической summa[6] и под открытым и спокойным челом оттачиваются самые глубокие и смелые идеи нашего века. Во время моего второго похода по книжным магазинам города я попытался отыскать его последнюю книгу – популярное сочинение о логических сериях, и, к большому своему изумлению, убедился, что тираж разлетелся еще пару месяцев назад. По дошедшим до меня слухам, после публикации этой книги Селдом перестал появляться на конференциях, и, пожалуй, никто не взял бы на себя смелость даже предположить, чем именно он теперь занимается. Я, кстати, понятия не имел, что он обитает в Оксфорде, и уж тем более не ожидал встретить его на пороге дома миссис Иглтон, поэтому не удержался и поспешил ему сообщить, что делал на семинаре доклад, посвященный его теореме, и, как мне показалось, ему это польстило. Однако я тотчас почувствовал в нем скрытую тревогу – он то и дело невольно и с нетерпением поглядывал на дверь.
– А ведь миссис Иглтон должна быть дома, – сказал он. – Как вы думаете?
– По-моему, да, – ответил я. – Вон стоит ее кресло с мотором. Если только кто-нибудь не приехал за ней на машине…
Селдом снова нажал на кнопку звонка, потом приложил ухо к двери, затем приблизился к окну, выходящему на галерею, и попытался через стекло заглянуть внутрь.
– А вы не знаете, может, существует еще один вход в дом? – поинтересовался он и добавил уже по-английски: – Боюсь, как бы чего не случилось.
По выражению его лица я понял, насколько он встревожен, словно он что-то знает и это что-то занимает все его мысли.
– Если желаете, мы можем просто-напросто дернуть за ручку. Я успел заметить, что днем дверь никогда не запирают.
Селдом так и сделал – дверь и вправду легко поддалась. Мы молча перешагнули порог, и деревянные доски заскрипели под нашими ногами. Откуда-то изнутри до нас доносилось тиканье часов с маятником, похожее на приглушенное сердцебиение. Мы двинулись в гостиную и остановились в самом центре, у стола. И тут я резко выкинул руку вперед, указывая Селдому на шезлонг рядом с окном, выходившим в сад. В нем полулежала миссис Иглтон, и казалось, что она спит крепким сном, уткнувшись лицом в спинку. На полу валялась подушка, как будто хозяйка случайно столкнула ее во сне. Я невольно обратил внимание на то, что седые волосы у нее аккуратно обтянуты сеточкой. Очки покоились на столике поблизости от дощечки для игры в скраббл. Наверное, она играла одна, сама с собой, потому что там же рядом находились две формочки с буквами. Селдом приблизился, легонько тронул старуху за плечо, и ее голова тяжело упала набок. Мы с ним одновременно увидели открытые испуганные глаза и две струйки крови, сбегавшие от носа к губам, а затем по подбородку – потом они соединялись на шее. Я невольно отпрянул, едва не закричав. Селдом одной рукой поддерживал ее голову, а другой пытался поправить положение тела.
Он пробормотал что-то гневное, но слов я не разобрал. Он нагнулся за подушкой и приподнял ее – в самом центре мы увидели большое красное пятно, уже почти высохшее. Селдом так и застыл с подушкой в опущенной вниз и прижатой к бедру руке. Казалось, он погрузился в глубокие раздумья, казалось, он прикидывает варианты сложных расчетов. Он выглядел по-настоящему потрясенным. Именно я предложил вызвать полицию. Селдом машинально кивнул.
Глава 3
– Они просят, чтобы мы покинули гостиную и дожидались их снаружи, у входа, – сказал Селдом, положив трубку, и больше не проронил ни слова.
Мы вышли на крытую галерею, стараясь ни к чему не прикасаться. Селдом прислонился к перилам и начал молча сворачивать сигарету. Его руки занимались листочком бумаги и без конца повторяли одно и то же движение, словно оно каким-то образом отражало сложный ход его мыслей, все его сомнения, колебания, тщательно взвешиваемые гипотезы. Если еще несколько минут назад он выглядел слишком подавленным, то теперь ему явно понадобилось отыскать смысл и логику в чем-то, пока совершенно непонятном. Мы увидели, как подъехали две патрульные машины. Они почти беззвучно затормозили у самого дома. Высокий седой мужчина с пронзительным взглядом, одетый в темно-синий костюм, подошел, быстро пожал нам руки и спросил наши имена. У него были острые скулы, которые с возрастом, вероятно, заострились еще больше, спокойный, но решительный и властный вид, как будто человек этот привык всюду, куда бы ни попадал, брать бразды правления в свои руки.
– Я инспектор Питерсен, – произнес он, потом указал на человека в зеленом плаще, который, проходя мимо, поздоровался с нами легким кивком. – Это наш судебный врач. А теперь давайте зайдем на несколько минут в дом, мы должны задать вам кое-какие вопросы.
Врач уже натягивал резиновые перчатки, затем он наклонился над шезлонгом, стараясь при этом держаться от него на некотором расстоянии. Мы наблюдали, как он осматривает тело миссис Иглтон, как берет на анализ кровь, потом образец кожи и передает все это помощникам. Фотограф тоже принялся за дело, и вспышки осветили безжизненное лицо.
– Хорошо, – сказал врач и жестом показал, что нам не следует приближаться. – Припомните поточнее, в каком положении было тело, когда вы его увидели?
– Лицо было повернуто к спинке, – заявил Селдом, – а тело… в обычном положении, какое бывает, когда человек полулежит в шезлонге… Немного… Ноги вытянуты, правая рука опущена вниз. Да. Насколько помню, именно так.
Он глянул на меня, ища подтверждения своим словам.
– Только вот подушка валялась на полу, – добавил я.
Питерсен поднял подушку и указал врачу на кровавое пятно в самом центре.
– Можете припомнить поточнее, где именно она находилась?
– На ковре, недалеко от спинки шезлонга, как будто миссис Иглтон случайно столкнула подушку во сне.
Фотограф сделал еще два-три снимка.
– Я бы сказал, – врач повернулся к Питерсену, – что преступник намеревался задушить свою жертву во сне, не оставив никаких следов. Тот, кто это сделал, осторожно вытащил подушку у женщины из-под головы, настолько осторожно, что даже не помял ей прическу и не сдвинул сеточку на волосах. Хотя, возможно, к тому времени подушка уже валялась на ковре. Преступник крепко прижал подушку к лицу жертвы, но та проснулась и, по всей видимости, попыталась оказать сопротивление. И тогда этот человек испугался, очень испугался и с силой надавил на подушку кулаком, а может и коленом, и, сам того не заметив, через подушку повредил жертве нос. Вот откуда кровь: легкое кровотечение из носа, ведь у пожилых людей очень слабые кровеносные сосуды. Отняв подушку, преступник увидел окровавленное лицо. Он, надо полагать, испугался еще больше – и бросил подушку на пол. Скорее всего он решил, что так или иначе, но дело сделано и пора уносить ноги. Я бы сказал, что этот человек совершил первое в своей жизни убийство. Да, кстати, он, безусловно, правша. – Врач вытянул обе руки над лицом миссис Иглтон, чтобы наглядно подтвердить свои слова. – Местоположение подушки на ковре соответствует вот такому жесту. Преступник держал подушку правой рукой.
– Мужчина или женщина? – спросил Питерсен.
– Трудно сказать, – ответил врач. – Это мог быть сильный мужчина, которому, чтобы повредить ей нос, достаточно было лишь как следует надавить на подушку ладонями, а могла быть и женщина, которая, боясь, что не справится с жертвой, навалилась на подушку всем телом.
– Время смерти?
– Между двумя и тремя часами дня. – Врач повернулся к нам. – В котором часу вы сюда пришли?
Селдом бросил на меня быстрый вопросительный взгляд.
– В половине пятого, – заявил он, а потом обратился к Питерсену: – Я рискнул бы предположить, что ее могли убить ровно в три.
Инспектор повернулся к нему, и в глазах его вспыхнул интерес.
– Да? Откуда вам это известно?
– Мы ведь подошли к дому не одновременно, – стал объяснять Селдом. – Меня привела сюда записка, весьма странное послание, которое я обнаружил в своем почтовом ящике в Мертон-колледже. К несчастью, сперва я не обратил на него должного внимания, хотя, по здравом рассуждении, все равно бы опоздал.
– О чем говорилось в записке?
– «Первый из серии», – ответил Селдом. – Только это и больше ничего. Крупными печатными буквами. А ниже адрес миссис Иглтон и время – словно мне назначали встречу на три часа дня.
– Можно взглянуть? Записка у вас с собой?
Селдом отрицательно покачал головой.
– Я достал ее из почтового ящика в пять минут четвертого. Время я запомнил точно, потому что опаздывал на семинар. Прочел по дороге в аудиторию и решил, честно говоря, что это очередная весточка от какого-нибудь сумасшедшего. Дело вот в чем: не так давно я опубликовал книгу, посвященную логическим сериям, и имел неосторожность включить туда главу про серийные убийства. С тех пор мне приходят всякого рода послания с признаниями в якобы совершенных преступлениях… Короче, я выбросил письмо в корзину для бумаг, едва зашел к себе в кабинет.
– Но тогда оно скорее всего там и лежит, – предположил Питерсен.
– Боюсь, что нет, – сказал Селдом. – Уже покидая аудиторию, я почему-то опять вспомнил о письме. У меня вдруг вызвал тревогу указанный там адрес: во время занятий мне пришло в голову, что где-то там живет миссис Иглтон, хотя я и не помнил точно номер ее дома. Мне захотелось перечитать письмо и еще раз взглянуть на адрес, но посыльный уже побывал в моем кабинете, навел там порядок – корзина для бумаг оказалась пустой. А я решил все-таки заглянуть сюда.
– Надо на всякий случай еще раз проверить, – сказал Питерсен и крикнул одному из своих людей: – Уилки, отправляйтесь в Мертон-колледж и побеседуйте с посыльным. Как его зовут?
– Брент, – ответил Селдом. – Но, думаю, не стоит и пытаться, ведь обычно именно в этот час проходит мусорная машина.
– Ладно, если бумага не найдется, мы пригласим вас и попросим подробно описать нашему художнику буквы, но пока мы сохраним все это в тайне, и я прошу вас обоих проявлять максимальную сдержанность. А не было ли в том письме еще чего-нибудь примечательного, о чем вы не упомянули? Ну, скажем, сорт бумаги, цвет чернил или что-то другое, привлекшее ваше внимание?
– Чернила были черные, по-моему, из чернильницы. Бумага белая, обычная, стандартного формата. Буквы большие, четкие. Лист был аккуратно сложен вчетверо. Да, кстати, вот одна весьма загадочная деталь: под текстом был старательно выведен круг, тоже черными чернилами. Маленький круг, очень ровный.
– Круг, – задумчиво повторил Питерсен. – Вместо подписи? Или вместо печати? А может, вам это напомнило что-нибудь еще?
– Пожалуй, круг как-то связан с той главой – о серийных преступлениях – из моей книги. Я там доказываю, что если оставить в стороне детективные романы и фильмы, то обнаружится, что логика, лежащая в основе серийных преступлений – по крайней мере тех, о которых история донесла до нас достоверные сведения, – как правило, весьма элементарна и в первую очередь указывает на психические отклонения. Все примеры весьма незатейливы и примитивны, типичное – однообразие и повторяемость, и в подавляющем большинстве своем такие преступления спровоцированы каким-либо травматическим опытом или детской фиксацией. Иначе говоря, подобными случаями должен заниматься скорее психиатр, это вовсе не настоящие логические загадки. В той же главе я прихожу к следующему выводу: преступления с интеллектуальной мотивацией, совершаемые исключительно из тщеславия, из желания доказать какую-либо теорию – скажем, в духе Раскольникова, или, если говорить о конкретной писательской судьбе, то следует в первую очередь назвать Томаса Де Куинси[7], – так вот, эти преступления не имеют никакого отношения к реальному миру. И еще я в шутку добавил, что авторы таких преступлений часто были очень хитроумны и раскрыть их до сих пор не удалось.
– Если я правильно понял, – сказал Питерсен, – вы пришли к мысли, что кто-то, кто прочел вашу книгу, принял якобы брошенный вами вызов. И тогда круг – это…
– Да, тогда круг – это первый символ в логической серии, – продолжил Селдом. – Если так, то выбор сделан удачно, ведь в исторической перспективе именно круг допускал наибольшее количество толкований как в рамках математики, так и за ее пределами. Круг может означать почти все что угодно. В любом случае это весьма остроумное начало для серии: символ максимальной неопределенности, так что трудно угадать, каким будет продолжение.
– Вы хотите сказать, что преступник может быть математиком?
– Нет-нет, ни в коем случае. Моих издателей больше всего поразило как раз то, что книга заинтересовала самую широкую и пеструю публику. И мы, собственно, пока не имеем права утверждать, что символ и на самом деле надо понимать как круг, иными словами, я сразу воспринял его как круг, вероятно, исключительно благодаря тому, что я математик. Но почему бы ему не оказаться символом каких угодно эзотерических учений, или древней религии, или чего-то совершенно противоположного? Астролог, допустим, увидел бы здесь полную луну, овал лица.
– Отлично, – прервал его Питерсен, – а теперь давайте вернемся к миссис Иглтон. Вы хорошо ее знали?
– Гарри Иглтон был моим научным наставником, и они с женой несколько раз приглашали меня сюда. Достаточно сказать, что я получил от них приглашение на ужин, когда защитил диссертацию. Я был другом их сына Джонни и его жены Сары. Они погибли – разбились на машине, когда Бет была совсем маленькой. Бет осталась на попечении миссис Иглтон. В последнее время я довольно редко с ними обеими виделся. Я знал, что миссис Иглтон больна, что у нее рак и она перенесла не одну операцию. Несколько раз я встречал ее в больнице Рэдклиффа.
– А эта девушка, Бет, она по-прежнему живет здесь? Сколько ей сейчас лет?
– Примерно двадцать восемь, а может, тридцать. Да, они продолжали жить вместе.
– Нам надо поскорее побеседовать с ней, я должен задать ей кое-какие вопросы, – заявил Питерсен. – Вы не знаете, где ее можно сейчас найти?
– Скорее всего она в театре Шелдона, – пояснил я. – На репетиции оркестра.
– На обратном пути я как раз пойду мимо театра, – сказал Селдом. – Если вы не возражаете, я в качестве друга этой семьи хотел бы лично сообщить Бет о несчастье. Думаю, ей потребуется моя помощь и в том, что касается оформления бумаг, похорон.
– Конечно-конечно, как же иначе, – закивал Питерсен, – хотя с похоронами придется немного повременить – сперва будет сделано вскрытие. И передайте мисс Бет, что мы ждем ее здесь. Наши люди работают с отпечатками пальцев, мы пробудем в доме еще часа два, не меньше. Это вы позвонили нам по телефону? Да? А что вы трогали здесь, кроме телефона, не помните?
Ничего. Мы дружно отрицательно покачали головой. Питерсен позвал одного из своих помощников, тот явился с диктофоном.
– Теперь прошу вас дать короткие показания лейтенанту Саксу о том, чем вы занимались сегодня после полудня. Это формальность… А потом можете быть свободны. Хотя, боюсь, мне придется еще раз побеспокоить вас в самые ближайшие дни, наверняка возникнут новые вопросы.
Селдом две-три минуты беседовал с Саксом, и я заметил, что, когда настал мой черед, он не ушел, а подождал в сторонке, пока я закончу. Я решил, что он хочет должным образом проститься, но, повернувшись, увидел, что он подает мне знаки, приглашая выйти из дома вместе с ним.
Глава 4
– Я подумал, что мы можем вдвоем пройтись до театра, – сказал Селдом, начиная свертывать сигарету. – Мне хотелось бы знать. – Он запнулся, словно ему было нелегко сформулировать свою мысль. Уже совсем стемнело, и во мраке я не мог различить выражение его лица. – Мне хотелось бы удостовериться, – произнес он наконец, – что мы оба видели там одно и то же. Я имею в виду, до приезда полиции, до того, как прозвучали некие гипотезы и были сделаны попытки объяснить случившееся. Первый кадр, увиденный нами. Меня интересует ваше впечатление, ведь вы, в отличие от меня, ни о чем таком не подозревали.
Я на миг задумался, стараясь напрячь память и восстановить каждую деталь, при этом я прекрасно сознавал, что мне ужасно хочется, блеснув остротой ума, произвести впечатление на Селдома, по крайней мере не разочаровать его.
– На мой взгляд, – произнес я, старательно подбирая слова, – все совпадает с версией судебного врача, кроме, пожалуй, одной мелочи, упомянутой им в самом конце. Он сказал, что убийца, увидев кровь, бросил подушку и поспешил покинуть место преступления, даже не попытавшись еще что-то сделать.
– А вы полагаете, что все было иначе?..
– Возможно, он действительно не попытался навести хотя бы видимость порядка, но одно он безусловно сделал, прежде чем уйти: он повернул лицо миссис Иглтон к спинке шезлонга. Ведь именно в такой позе мы ее нашли.
– Вы правы, – очень медленно произнес Селдом. – И о чем это, по вашему мнению, свидетельствует?
– Не знаю, наверное, он не вынес открытых глаз миссис Иглтон. Если он и на самом деле убивал впервые, то, пожалуй, лишь увидев эти глаза, понял, что натворил, и захотел любым способом избавиться от мертвого взгляда.
– А как вы считаете, был он прежде знаком с миссис Иглтон или выбрал жертву по чистой случайности?
– Вряд ли здесь можно говорить о чистой случайности. И еще. Позднее вы обмолвились, что миссис Иглтон была больна раком. Вот что мне пришло в голову: а вдруг убийца знал о ее болезни, то есть знал, что она все равно скоро умрет. Тогда это вполне укладывается в гипотезу о чисто интеллектуальном вызове, словно преступник старался причинить поменьше зла. Даже способ, который он выбрал для убийства, можно было бы считать достаточно милосердным. Он ведь рассчитывал, что миссис Иглтон не проснется… Но он, думаю, наверняка знал, что вы знакомы с миссис Иглтон. Он верил, что вы непременно среагируете на его записку.
– Возможно, да, возможно, – сказал Селдом, – кроме того, я с вами целиком и полностью согласен: некто замыслил убить ее наиболее безболезненным способом. Именно об этом я и подумал, слушая судебного врача. А как бы повернулось дело, если бы план удался и нос миссис Иглтон не начал кровоточить?
– Никто, кроме вас, не заподозрил бы, что это отнюдь не естественная смерть. А вы узнали бы правду только благодаря записке.
– Совершенно верно, – отозвался Селдом, – и сперва полиция не обратила бы внимания на смерть миссис Иглтон. Полагаю, первоначальный замысел был именно таким – бросить мне личный вызов.
– И что он будет делать теперь, как вам кажется?
– Теперь, то есть когда полиция знает о преступлении? Понятия не имею. Полагаю, постарается в следующий раз быть осторожнее.
– Иначе говоря, следующее преступление никто не сочтет преступлением?
– Да. Именно так, – промолвил Селдом едва слышно, – это я и имел в виду. Преступления, которые никто не сочтет преступлениями. Да, кажется, я начинаю что-то понимать: это будут незаметные убийства.
Мы немного помолчали. Селдом, очевидно, погрузился в свои думы. Мы уже почти дошли до Университетского парка. На противоположной стороне дороги у ресторана притормозил лимузин. Из него вышла невеста, за которой тянулся тяжелый шлейф свадебного платья. Рукой она придерживала украшавший ее голову изящный головной убор из цветов. На тротуаре уже стояла небольшая шумная толпа, сверкали вспышки фотоаппаратов. Я заметил, что Селдом не обратил абсолютно никакого внимания на эту сцену – он шел, сосредоточенно глядя вперед, у него был совершенно отсутствующий вид, как у человека, целиком поглощенного своими мыслями. Но я все равно решился прервать его размышления и спросить о том, что больше всего меня заинтриговало:
– Я все думаю про то, что вы сказали инспектору по поводу круга и логической серии. Но ведь тогда должна существовать какая-то связь между символом, в данном случае кругом, и выбором жертвы, вернее, выбранным способом убийства, разве не так?
– Да, разумеется, – отозвался Селдом как-то рассеянно, словно уже успел проанализировать этот вопрос много раньше. – Проблема в другом: мы не можем с уверенностью утверждать, что речь идет о круге, а, например, не об излюбленной гностиками змее, пожирающей собственный хвост, или не о букве «o» из слова «omertá»[8]. Вот в чем трудность. Если знаешь только первое звено серии, как определить контекст, в котором следует прочитывать символ? Что я хочу сказать? Надо ли воспринимать его с чисто графической точки зрения, скажем, в синтаксическом плане, лишь как фигуру, или же в плане семантическом, по какому-либо из возможных смысловых значений. Есть одна очень известная серия, которую я описываю в качестве первого примера в самом начале книги, дабы наглядно показать такую двойственность. Подождите, надо посмотреть, – сказал он и принялся рыться в карманах, затем вытащил оттуда ручку и блокнот. Он вырвал листок, положил на блокнот и, продолжая шагать, старательно нарисовал три фигуры и протянул мне, чтобы я на них посмотрел. Мы дошли до Модлин-стрит, и я без труда смог разглядеть рисунки благодаря редкому желтоватому свету, падавшему от фонарей. Первой фигурой была, вне всякого сомнения, заглавная «М», вторая напоминала сердце, подчеркнутое прямой линией; третья представляла собой цифру «8»:
– Какой, на ваш взгляд, должна стать четвертая фигура?
– «М», сердце, восемь… – повторил я, стараясь найти в этом какой-либо смысл.
Селдом, откровенно забавляясь, подождал еще пару минут.
– Уверен, что вы решите задачу. Поломайте над ней голову сегодня вечером, когда вернетесь домой, – сказал он. – Я хочу продемонстрировать вам одно: мы в данный момент получили только первый символ. – Он закрыл рукой то место на листе, где были нарисованы сердце и цифра восемь. – Если бы вы увидели только вот эту первую фигуру, только букву «М». Как бы вы ее истолковали?
– Я бы подумал, что речь идет о серии из букв или же о начале слова – слова, которое начинается на «М».
– Вот именно, – подхватил Селдом. – То есть для вас данный символ был бы не просто буквой – буквой вообще, – а конкретной, точно обозначенной прописной «М». Но ведь стоит вам увидеть второй символ, как ход ваших мыслей резко изменится, так? Вы ведь сразу поймете, что речь идет не о каком-то слове. С другой стороны, второй символ достаточно отличается от первого, он из совсем другого ряда, он может, допустим, натолкнуть на мысль о французской колоде карт. В любом случае появление второго символа ставит до определенной степени под вопрос изначальное толкование, которое мы дали первому символу. Мы по-прежнему будем утверждать, что это буква, но теперь нам уже не будет представляться столь важным, какая именно это буква – «М» или любая другая. А когда в игру включается третий символ, снова возникает первоначальное желание – перестроить все в соответствии с тем, что мы знаем, если мы будем воспринимать третий символ как цифру восемь, то нам придется разгадывать смысл серии, которую начинает буква, продолжают сердце и цифра. Но заметьте, мы все время рассуждаем о значении, которое придаем – почти механически – тому, что по сути является всего лишь рисунками, набросками на бумаге. В этом кроется злая ирония всякой серии: трудно отделить эти три изображения от их самого очевидного и непосредственного толкования. Так вот, если вам, хотя бы на краткий миг, удастся увидеть в них чистые символы – просто определенные фигуры, – вы обнаружите константу, которая перечеркивает все предыдущие значения и дает ключ к цепочке.
Мы прошли мимо освещенного окна заведения под названием «Орел и дитя». Внутри люди столпились у стойки и, как в немых фильмах, молча смеялись, поднимая кружки с пивом. Мы пересекли дорогу и повернули налево, обогнув какой-то памятник. Перед нами возникла круглая стена театра.
– Вы хотите сказать, что в нашем случае, чтобы выявить контекст, необходима по крайней мере еще одна составляющая.
– Да, – подтвердил Селдом, – имея только первый символ, мы пребываем в полной темноте, пока мы не в состоянии даже определиться с первым разветвлением, не знаем, как отнестись к начальному символу – всего лишь как к закорючке, начерченной на листе бумаги, либо придать ему некий смысл. К несчастью, нам остается только ждать.
Продолжая разговаривать, мы поднялись по ступеням театра, потом я дошел вместе с Селдомом до вестибюля – мне очень не хотелось с ним расставаться. Внутри здания было пустынно, но ориентироваться помогали звуки музыки, которые несли легкую радость танца. Стараясь шагать потише, мы одолели одну из лестниц и далее последовали по устланному ковром коридору. Селдом приоткрыл боковую дверь, украшенную ромбами, и мы попали в ложу, откуда был виден маленький оркестр, расположившийся в центре сцены. Они репетировали, играя что-то напоминающее венгерский чардаш. Теперь музыка долетала до нас отчетливо и мощно. Бет сидела на стуле, наклонившись вперед, тело ее было напряжено, смычок яростно поднимался и опускался над виолончелью, я слышал головокружительную последовательность звуков, словно хлыст непрерывно обрушивался на круп лошади. И я, обратив внимание на контраст между легкостью и жизнерадостностью музыки и отчетливо видимым напряжением музыкантов, сразу вспомнил, что сказала мне Бет всего несколько дней назад. Теперь лицо ее было искажено от усердия. Пальцы двигались с невероятной быстротой, но даже при этом можно было заметить в глазах девушки отсутствующее выражение, словно только часть ее находилась здесь, на сцене.
Мы с Селдомом вернулись в коридор. Он замкнулся и посерьезнел. Я понял, что он сильно нервничает. Он механически стал скручивать сигарету, которую здесь, само собой разумеется, закурить никак не мог. Я пробормотал какие-то слова в знак прощания, и Селдом крепко пожал мне руку, еще раз поблагодарив за то, что я согласился проводить его.
– Если вы свободны в пятницу в полдень, – сказал он, – давайте позавтракаем в Мертоне; возможно, мы вместе до чего-нибудь и додумаемся.
– Договорились, пятница меня вполне устраивает, – ответил я.
Я спустился по лестнице и снова очутился на улице. Было холодно, и начался мелкий дождик. Дойдя до уличных фонарей, я снова достал из кармана листок, на котором Селдом нарисовал три фигуры, и принялся их рассматривать, стараясь уберечь от мелких капель. Я чуть не расхохотался вслух, когда вдруг понял, насколько простое решение за этим кроется.
Глава 5
Оставив позади последний поворот и приблизившись к дому, я увидел все те же полицейские машины, правда, к ним прибавились «Скорая помощь» и голубой фургончик с логотипом «Оксфорд таймс». Долговязый мужчина с упавшей на лоб седой прядью подошел ко мне, когда я собирался спуститься по лесенке к себе в комнату, в руках он держал маленький диктофон и блокнот. Он не успел представиться, потому что как раз в этот миг в окно, выходящее на галерею, высунулся инспектор Питерсен и знаком подозвал меня к себе.
– Я хочу попросить вас не упоминать имени Селдома, – сказал он тихо. – Газетчикам мы сообщили только о вас, то есть что это вы обнаружили тело.
Я кивнул и вернулся к лестнице. Отвечая на вопросы репортера, я увидел, что у дома остановилось такси. Из него вышла Бет с виолончелью в руках и прошла мимо, явно никого и ничего не замечая. Она назвала свое имя полицейскому, дежурившему у дверей, и только после этого он пропустил ее в дом. Голос Бет звучал едва слышно и сдавленно.
– Значит, это и есть та девушка, – сказал репортер, глянув на часы. – Я должен побеседовать и с ней тоже… Кажется, поужинать мне нынче не придется. Последний вопрос: что вам сообщил Питерсен, подозвав к себе?
Чуть поколебавшись, я ответил:
– Что скорее всего им придется побеспокоить меня еще и завтра – они должны задать мне несколько вопросов.
– Не волнуйтесь, вас они не подозревают, – бросил репортер.
Я засмеялся и спросил:
– А кого подозревают?
– Точно не знаю, но, по моим предположениям, девушку. Ведь эта версия сама собой напрашивается, разве не так? Именно ей должны достаться деньги и дом.
– Я не знал, что у миссис Иглтон имелись деньги.
– Пенсия ветерана войны… Не бог весть что, конечно, но для одинокой женщины…
– Бет в момент убийства была на репетиции.
Мужчина быстро перелистал странички своего блокнота в обратном порядке.
– Сейчас посмотрим. Смерть наступила между двумя и тремя часами дня – так установил врач. Некая соседка столкнулась с девушкой, когда та выходила из дома, чтобы ехать в театр, – было чуть больше двух. Я недавно звонил в театр, и меня заверили, что девушка приехала на репетицию без опоздания – ровно к половине третьего. Но ведь остаются эти несколько минут – до того момента, когда она покинула дом. Иначе говоря, сразу после двух она еще находилась в доме и, значит, могла сделать это, и она единственная, кому смерть старухи выгодна.
– Вы собираетесь изложить свои домыслы в газете? – спросил я, и, кажется, в голосе моем прозвучали нотки возмущения.
– А почему бы и нет? Это куда интереснее, чем свалить все на заурядного вора и посоветовать домохозяйкам покрепче запирать двери. Пойду попробую поговорить с ней. – Он глянул на меня со злорадной улыбкой. – И не забудьте прочесть завтра мою заметку.
Я спустился к себе в комнату и, не зажигая света, рухнул на кровать, потом прикрыл глаза согнутой в локте рукой и попытался снова восстановить в памяти тот миг, когда мы с Селдомом вошли в дом, всю последовательность наших действий, но ничего нового не припомнил. По крайней мере ничего, что заинтересовало бы Селдома. Перед моим взором очень явственно всплыли вывернутая шея миссис Иглтон, ее лицо, открытые испуганные глаза. Я услышал шум заводящегося мотора, встал и выглянул в окно. Я увидел, как на носилках выносят тело миссис Иглтон, как его грузят в карету «Скорой помощи». Две патрульные машины с зажженными фарами старались выехать на дорогу, и от мелькающего желтого света по стенам комнаты бегали фантастические тени. Фургончика «Оксфорд таймс» у дома уже не было, и, когда последние машины скрылись за поворотом, тишина и мрак впервые показались мне тягостными. Я попытался вообразить, что делает сейчас Бет – там, наверху, совершенно одна. Я зажег лампу и заметил на письменном столе статьи Эмили Бронсон с моими пометками на полях. Я сварил себе кофе и сел, решив продолжить работу с того места, на котором ее не так давно прервал. Я читал больше часа, но далеко не продвинулся. Иначе говоря, мне никак не удавалось достичь милосердного успокоения, работа не становилась для меня особым интеллектуальным бальзамом, не даровала иллюзию порядка среди окружающего хаоса, которую человек обретает, следуя за доказательством теоремы. Вдруг я услышал что-то вроде приглушенного стука в дверь. Я рывком отодвинулся назад вместе со стулом и замер в ожидании. Стук повторился – уже более отчетливо. Я открыл дверь и различил в темноте смущенное и даже пристыженное лицо Бет. На ней был фиолетовый пеньюар, на ногах – комнатные туфли без задников, волосам не давала рассыпаться широкая лента. Впечатление возникало такое, будто что-то вынудило Бет спешно покинуть постель. Я жестом пригласил ее войти, но она продолжала стоять на пороге, скрестив руки на груди. Губы у нее едва заметно дрожали.
– Я хотела попросить тебя об одолжении. Только на сегодняшнюю ночь… – проговорила она прерывистым голосом. – Я не могу заснуть, там, наверху. Можно я побуду до утра у тебя?
– Конечно, конечно, – ответил я. – Сейчас я разложу кресло-кровать, а ты устраивайся на моей постели.
Она с явным облегчением кивнула, потом поблагодарила меня и буквально рухнула на стул. Рассеянно огляделась по сторонам и заметила разложенные на столе бумаги.
– Ты занимался, – сказала она. – Я помешала.
– Нет-нет, я как раз собирался сделать перерыв – мне никак не удавалось сосредоточиться. Хочешь кофе?
– Лучше чай.
Мы помолчали, пока я кипятил воду и отыскивал подходящую к случаю формулу соболезнования. Но тут снова заговорила она:
– Дядя Артур сказал мне, что вы вдвоем ее обнаружили. Наверное, это было ужасно. Мне тоже пришлось на нее взглянуть: меня заставили опознать тело. Боже мой, – сказала она, и взгляд ее сделался прозрачным, текуче голубым и мерцающим, – никто не догадался закрыть ей глаза.
Она повернула голову и чуть задрала подбородок, словно желая таким образом удержать слезы.
– На самом деле мне очень жаль, – пробормотал я, – представляю, что ты теперь чувствуешь.
– Нет, вряд ли ты это представляешь, – сказала она. – Вряд ли вообще кто-нибудь может такое представить. Я ждала чего-то подобного. Много лет ждала. Ужасно в этом признаваться, но… Ждала с тех пор, как узнала, что у нее нашли рак. Я воображала, что все случится почти так, как оно и случилось: кто-то придет и сообщит мне новость прямо во время репетиции. Я молилась, чтобы все произошло именно так и чтобы я ее не видела, чтобы ее увезли без меня. Но инспектор решил, что я должна опознать труп. Ей даже не закрыли глаза! – снова прошептала она жутким шепотом, словно была совершена необъяснимая несправедливость. – Знаешь, я остановилась рядом, но долго не решалась посмотреть на нее, я боялась, что каким-то образом она все еще может навредить мне – схватит и не выпустит. И кажется, ей это удалось. Они ведь подозревают меня, – проговорила Бет. – Питерсен задал мне кучу вопросов – и все с такой подчеркнутой, такой наигранной вежливостью. А потом этот ужасный газетчик, он-то даже не старался скрыть свои мысли. Я сказала им единственное, что знала: когда я в два часа уходила из дома, она крепко спала – рядом со столиком, на котором лежала дощечка для скраббла. Но чувствую, у меня не хватит сил на то, чтобы защищаться. Я ведь, если честно, по-настоящему желала ей смерти, наверное, даже больше, чем тот человек, который ее убил.
Казалось, она никак не может справиться с нервами; руки ее не переставали дрожать, и, заметив мой взгляд, она спрятала ладони под мышки.
– На самом деле, – сказал я, протягивая ей чашку чаю, – вряд ли Питерсен всерьез подозревает тебя. Они знают кое-что еще, о чем предпочитают помалкивать. Разве профессор Селдом ничего тебе не говорил?
Она отрицательно покачала головой, и я пожалел, что проболтался. Но, увидев ее голубые, вспыхнувшие нетерпением глаза, которые все еще не решались обрести надежду, подумал, что латиноамериканская опрометчивость более милосердна, чем британская сдержанность.
– Я могу сказать тебе только это, потому что нас попросили хранить секрет. Тот, кто убил, оставил Селдому записку в почтовом ящике. Там значился адрес дома, а также час: три пополудни.
– Три пополудни, – медленно повторила она, словно понемногу с нее спадал тяжкий груз. – В три я была на репетиции. – Она испуганно улыбнулась, как будто долгий и трудный бой сулил победу, и вспомнила о своем чае. На меня она посмотрела с благодарностью – поверх чашки.
– Бет, – произнес я. Лежащая на колене рука оказалась совсем рядом с моей, и я едва удержался, чтобы не коснуться этой руки. – Раньше ты говорила… Если я могу чем-то тебе помочь с устройством похорон или еще чем-нибудь, обязательно скажи. Наверняка профессор Селдом или Майкл уже предложили тебе помощь, но…
– Майкл? – переспросила она и сухо засмеялась. – На него мне особенно рассчитывать не приходится, он в полном ужасе от всего случившегося. – И добавила с легким презрением, словно описывала невероятную трусость: – Он ведь женат.
Она встала и, прежде чем я успел помешать ей, приблизилась к умывальнику у письменного стола и начала мыть чашку.
– Зато я всегда могу обратиться к дяде Артуру, это мне часто повторяла мама. Видно, только она одна понимала, какой ведьмой была бабушка. Под маской. Мама не раз говорила, что, если я останусь одна и мне понадобится помощь, надо обратиться к дяде Артуру. «Если, конечно, тебе удастся оторвать его от любимых формул!» – добавляла она. Он ведь гений в математике, правда? – спросила она не без гордости.
– Один из самых великих, – ответил я.
– То же самое утверждала моя мама. Сейчас, оглядываясь назад, я рискнула бы предположить, что она втайне была чуть-чуть в него влюблена. Она всегда ждала визитов дяди Артура. Ой, но лучше мне помолчать, а то расскажу тебе сразу все свои секреты.
– Я бы с удовольствием их послушал.
– «Что такое женщина без секретов?» – Она сдернула с головы ленту и положила на тумбочку у кровати, потом двумя руками откинула волосы назад, сперва чуть приподняв их вверх. – Не обращай на меня внимания, – сказала она, – это начало старой уэльской песни.
Она подошла к кровати и сняла покрывало. Затем поднесла руку к вырезу пеньюара.
– Отвернись, пожалуйста, на минутку, – сказала она, – я хочу снять это.
Я взял свою чашку и двинулся к умывальнику. Когда я закрыл кран и вода перестала течь, я постоял еще какое-то время спиной к Бет. Затем услышал свое имя, она произнесла его старательно, споткнувшись на двойном «л». Она уже лежала в постели, и волосы ее соблазнительно рассыпались по подушке. Одеяло закрывало тело до самого подбородка, но одна рука лежала сверху.
– Я хочу попросить тебя еще кое о чем, и это будет моя последняя просьба… Знаешь, когда я была маленькой, мама держала меня за руку, пока я не усну. Прости.
– Ну о чем ты! – Я погасил лампу и сел на край кровати. Лунный свет слабо пробивался сквозь расположенное под самым потолком окно и освещал ее обнаженную руку. Я накрыл своей ладонью ладонь Бет, и мы сплели наши пальцы. Ее рука была горячей и сухой. Я разглядывал нежную кожу, длинные пальцы с короткими и аккуратно обрезанными ногтями, пальцы, которые она так доверчиво соединила с моими. Но вдруг что-то насторожило меня. Я чуть повернул свою кисть, чтобы разглядеть ее большой палец. Да, так оно и есть, он был до странности тоненьким и маленьким, как будто принадлежал совсем другой, детской руке. Я заметил, что она открыла глаза и пристально смотрит на меня. Она хотела отнять у меня свою руку, но я сжал ее сильнее и погладил своим большим пальцем ее палец.
– Ну вот, ты открыл самую страшную мою тайну, – сказала она. – Ведь я до сих пор сосу по ночам палец.
Глава 6
На следующее утро, когда я проснулся, Бет в комнате уже не было. Я с долей недоверия созерцал мягкую впадину, оставленную ее телом на постели, потом протянул руку, отыскивая часы. Стрелки показывали десять. Я буквально выпрыгнул из кровати, ведь Эмили Бронсон назначила мне встречу в институте, а я еще не прочел до конца ее статьи. Не без колебаний я сунул в сумку ракетку и костюм для тенниса. Дело было в четверг, и в распорядке моего дня значился, как обычно, послеобеденный теннисный матч. Выходя, я еще раз окинул разочарованным взглядом письменный стол и кровать. Мне хотелось найти там хотя бы маленькую записочку, хотя бы пару строк от Бет, и я задался вопросом: а может, такое ее исчезновение – без записки, без единого слова прощания – и следует понимать как своего рода послание?
Стояло теплое и спокойное утро, поэтому минувший день показался мне совсем далеким и в какой-то степени даже нереальным. Но, выйдя в сад, я не увидел там миссис Иглтон, занимающейся привычными своими делами, а вдоль дома тянулась оставленная полицейскими желтая лента.
По дороге в институт я наткнулся на газетный киоск на Вудсток-роуд и купил свежую газету. У себя в комнате я включил электрическую кофеварку и развернул на столе газету. Страницу с местными новостями открывала заметка под заголовком «Убита героиня войны». Там же помещались фотография миссис Иглтон, молодой и совершенно неузнаваемой, и снимок дома, рядом с которым стоят патрульные машины. В заметке сообщалось, что труп обнаружил аргентинский стажер-математик, снимавший у вдовы комнату, и что последней видела миссис Иглтон в живых ее внучка Элизабет. Ничего нового я там не обнаружил, по всей вероятности, проведенное уже под утро вскрытие тоже не принесло неожиданностей. В дополняющем материал комментарии без подписи рассказывалось о ходе расследования. Под внешне бесстрастным стилем я сразу узнал особый настрой репортера, который накануне задавал мне вопросы. По его утверждению, полиция склоняется к мысли, что преступление не мог совершить никто посторонний, хотя входную дверь миссис Иглтон обычно не запирала. В доме все осталось на своих местах – никаких признаков кражи. Был вроде бы один след, но инспектор Питерсен не пожелал поделиться с прессой подробностями. Репортер счел себя вправе высказать весьма рискованную догадку, надо полагать, «след наводит на кого-то из самого узкого семейного круга миссис Иглтон». И тут же пояснял, что единственная близкая родственница миссис Иглтон – Бет, которая «унаследовала скромное состояние». Так или иначе, говорилось в заметке под конец, пока нет других новостей, «Оксфорд таймс» присоединяется к совету инспектора Питерсена: хозяйкам пора забыть старые добрые времена и в любое время запирать двери на ключ.
Я перевернул страницу, отыскивая раздел, где печатают извещения о смерти. Свои соболезнования по случаю кончины миссис Иглтон выражали люди, чьи фамилии составили длинный список. Фигурировали здесь также Британская ассоциация скраббла и Институт математики в лице Эмили Бронсон и Селдома. Я сложил газету и сунул в ящик стола. Потом налил себе еще одну чашку кофе и погрузился в изучение статьи моей научной руководительницы. В час дня я спустился к ней в офис и увидел, что она завтракает. Расстелив поверх бумаг салфетку, Эмили ела сандвич. Когда я заглянул в дверь, она радостно вскрикнула, будто обрадовалась тому, что я живым и невредимым вернулся из опасной экспедиции. Несколько минут мы поговорили об убийстве, и я поведал ей что мог, ни разу не упомянув имени Селдома. Казалось, она по-настоящему беспокоилась за меня.
Затем словно между прочим Эмили спросила, не слишком ли донимает меня полиция. Ведь иногда эти люди ведут себя не очень учтиво, особенно с иностранцами. Она чуть ли не извинялась за то, что сама предложила мне снять комнату в том самом доме. Мы еще немного побеседовали, пока она заканчивала свой завтрак. При этом она держала сандвич двумя руками и откусывала маленькие кусочки по краям, как будто клевала его.
– Представьте, а я и не знал, что Артур Селдом живет в Оксфорде, – словно ненароком вырвалось у меня.
– Да он, насколько мне известно, никогда отсюда не уезжал! – с улыбкой откликнулась Эмили. – Артур полагает, что надо только выждать какое-то время – и все математики съедутся в Оксфорд, как паломники к святыне. У него постоянное место в Мертоне. Хотя он не слишком общителен и редко показывается на людях. А где вы с ним встретились?
– Я видел его имя под некрологом, – уклончиво ответил я.
– Если хотите, я вас познакомлю. Он, как мне помнится, отлично говорит по-испански. Его первая жена была аргентинкой. Она работала реставратором в Музее Ашмола[9], занималась большим ассирийским фризом.
Эмили замолчала, словно невольно совершила маленькую бестактность.
– Она… умерла? – спросил я робко.
– Да, – ответила Эмили. – Уже очень давно. Между прочим, в той же автомобильной катастрофе погибли родители Бет. Их было четверо в машине. Они были неразлучны. Ехали в Кловли на выходные. Выжил один только Артур.
Она сложила салфетку и аккуратно бросила в мусорную корзину – так чтобы ни одна крошка не упала на пол. Потом сделала маленький глоточек из бутылки с минеральной водой и ловко нацепила на нос очки.
– Ну что? – спросила она, стараясь сфокусировать на мне взгляд бледно-голубых, словно выцветших глаз. – У вас нашлось время, чтобы прочитать мои работы?
Когда я вышел из института, было два часа дня. Впервые жара стояла действительно невыносимая, и мне почудилось, будто улицы задремали под летним солнцем. Прямо перед моим носом повернул за угол – с неуклюжестью черепахи – красный двухэтажный автобус «Экскурсии по Оксфорду» с немецкими туристами в кепках и шапках с козырьками, они восторженно размахивали руками при виде красного здания Кебл-колледжа. В Университетском парке студенты устроили пикник прямо на газоне. На меня накатило острое ощущение того, что никакого убийства вчера не было и быть не могло. Незаметные убийства, сказал Селдом. Но ведь по сути и любое преступление, любая смерть едва успевают всколыхнуть поверхность воды – и тотчас превращаются в незаметные. Прошло меньше суток – и снова тишь да гладь. Разве, скажем, сам я отказался от теннисного матча, который должен состояться сегодня, как и в любой другой четверг? И тем не менее точно вокруг и вправду подспудно произошли маленькие перемены, я, повернув на извилистую дорогу, ведущую к кортам, был удивлен непривычным затишьем. Слышны были только ритмичные удары мяча о стенку, и стук многократно повторялся вибрирующим эхом. На стоянке я не обнаружил машин Джона и Сэмми, зато красный «Вольво» Лорны стоял на газоне у сетчатого забора. Я двинулся к зданию, где находились раздевалки, и увидел Лорну, которая сосредоточенно отрабатывала удары. Я издалека полюбовался ее красивыми ногами – крепкими и стройными, едва прикрытыми коротенькой юбочкой, заметил, как при каждом взмахе ракетки напрягаются и поднимаются ее груди. Она остановилась, поджидая, пока я подойду, и улыбнулась каким-то своим мыслям.
– А я думала, ты не явишься, – проговорила она, тыльной стороной ладони утирая пот со лба. Потом быстро чмокнула меня в щеку. Потом оглядела с загадочной улыбкой, словно не решалась о чем-то спросить или словно мы с ней вместе участвуем в каком-то заговоре, то есть принадлежим к одному лагерю, но не до конца понимаем, какая именно роль нам отведена.
– А где Джон и Сэмми? – спросил я.
– Понятия не имею, – ответила она и с самым невинным видом распахнула свои огромные зеленые глаза. – Мне они не звонили. Я уже подумала, что вы втроем сговорились и решили бросить меня одну.
Я пошел в раздевалку и быстро надел форму, слегка удивляясь своему везению. Все корты были пусты, Лорна ждала, стоя у проволочной калитки. Я поднял задвижку, Лорна вошла первой и, пока мы одолели совсем маленькое расстояние, отделявшее калитку от скамейки, еще раз обернулась, чтобы взглянуть на меня, – и опять мне показалось, что в глазах ее таится странная нерешительность. Наконец, не в силах больше сдерживаться, она выпалила:
– Я видела в газете сообщение об убийстве. – Во взоре ее сверкнуло что-то вроде восторга.
– Боже мой! Я ее знала, – произнесла она так, будто все никак не могла прийти в себя от изумления. Или будто ее слова могли послужить несчастной миссис Иглтон щитом. – Внучку я тоже несколько раз видела в больнице. Неужели это и вправду ты обнаружил труп?
Я кивнул, вытаскивая ракетку из чехла.
– Обещай, что потом все мне расскажешь.
– С меня уже взяли одно обещание – ничего никому не рассказывать.
– Да ну? Тогда это еще интереснее. Я так и знала: за этим что-то кроется! – воскликнула она. – Ведь старуху убила не она, не внучка, правильно? И вот что я тебе должна заявить, – проговорила она, ткнув меня пальцем в грудь, – нечестно иметь секреты от своего лучшего партнера по теннису.
Я засмеялся и послал ей мяч над сеткой. В тишине пустынного клуба мы начали обмениваться длинными ударами с задней линии. В теннисе, пожалуй, только одна вещь нравится мне больше, чем напряженный поединок, и это именно такой вот обмен ударами в самом начале, для разминки, когда вопреки логике состязания хочется как можно дольше продержать мяч в игре. Дважды Лорна была изумительно точна: обороняясь и готовясь к атаке, занимая нужную позицию, чтобы после этого перейти в наступление. Оба мы играли, посылая мяч то под линию, то к сетке, чтобы сопернику пришлось побегать, и постепенно увеличивали силу ударов. Лорна защищалась храбро, она пришла в заметное возбуждение, и ее тапочки оставляли длинные следы, когда она скользила с одной стороны корта к другой. После каждого розыгрыша она возвращалась в центр и, тяжело дыша, изящным жестом откидывала назад завязанные хвостом волосы. Солнце било ей в лицо. Но я чаще смотрел на стройные загорелые ноги, едва прикрытые короткой юбкой.
Мы играли молча, сосредоточенно, словно на корте начало решаться что-то куда более важное. Мы обсуждали только плохие удары. В одном из самых длинных розыгрышей, когда надо было вернуться от сетки после очень сильного удара, ей пришлось резко повернуться, чтобы достать мяч, который перелетал через нее. Я увидел, что одна нога у нее подвернулась. Она тяжело рухнула на бок и осталась лежать на спине, ракетка отлетела довольно далеко в сторону. Я почувствовал легкую тревогу и кинулся к сетке. И понял, что Лорна не столько ушиблась, сколько устала. Она тяжело дышала, откинув руки назад, будто набиралась сил, чтобы подняться.
Я нырнул под сетку и наклонился над Лорной. Она глянула на меня, и в ее зеленых глазах, отражающих солнечные блики, вспыхнули искорки – разом и веселые, и выжидательные. Когда я подсунул руку ей под голову, она чуть приподнялась на одном локте и, в свою очередь, обняла меня за шею. Ее губы оказались совсем рядом с моими, и я почувствовал жар ее дыхания, все еще неровного. Я поцеловал ее, и она снова медленно повалилась на спину, увлекая меня за собой, при этом поцелуй наш не прервался. Потом мы на миг разъединились и обменялись теми первыми глубокими взглядами, счастливыми и слегка изумленными, какими смотрят друг на друга только любовники. Я снова поцеловал ее и, прижимая к себе, почувствовал, как ее соски упираются мне в грудь. Моя рука скользнула ей под блузку, и Лорна позволила мне какое-то время гладить ее тело, но, когда я попытался другую руку запустить ей под юбку, запротестовала.
– Эй, погоди, погоди, – прошептала она, оглядываясь по сторонам, – в твоей стране что, занимаются этим прямо на теннисном корте?
Лорна мягко отвела мою руку, потом быстро поцеловала меня.
– Пошли-ка домой. – Она встала, небрежно отряхнула пыль и кирпичную крошку, одернула юбку. – Иди быстрей за вещами и не трать время на душ. Я жду тебя в машине.
Она вела машину, храня молчание, не проронив ни слова, улыбалась своим мыслям и иногда чуть поворачивала голову, чтобы искоса глянуть на меня. Перед светофором она протянула руку и погладила меня по щеке.
– Погоди, погоди, – озарило меня вдруг, – выходит, Джон и Сэмми…
– Нет! – Она захохотала, спеша оправдаться, хотя голос ее звучал не слишком убедительно. – Они тут ни при чем! Разве вы, математики, не верите в случайность?
Мы припарковались на одной из боковых улиц Саммертауна. Потом поднялись на второй этаж по маленькой, покрытой ковром лестнице. Квартира Лорны представляла собой что-то вроде мансарды в большом викторианском доме. Мы вошли и снова бросились целоваться – прямо на пороге.
– Ты отпустишь меня на минутку в ванную, ладно? – спросила она и двинулась по коридору к двери с матовым стеклом.
Я остался в небольшой гостиной и принялся с интересом разглядывать все вокруг. В комнате царил весьма милый и пестрый беспорядок: отпускные фотографии, куклы, киноафиши и очень много книг на стеллаже – им явно уже не хватало там места. Я подошел и взглянул на названия – сплошь детективные романы. Потом сунул нос в спальню: кровать была тщательно застелена, с боков края покрывала касались пола. На прикроватной тумбочке лежала раскрытая книга – обложкой вниз. Я подошел и перевернул ее. Прочел название, а также имя автора, напечатанное чуть выше, и почувствовал что-то вроде ледяного озноба: это была книга Селдома о логических сериях. Книга была прямо-таки яростно исчеркана, неразборчивые пометки покрывали поля. Я услышал шум воды в ванной, потом шлепанье босых ног по коридору и зовущий меня голос. Я положил книгу так, как она лежала раньше, и вернулся в гостиную.
– Ну что, – бросила мне Лорна, стоя голой у двери и позволяя себя разглядеть, – ты все еще в брюках?
Глава 7
– Есть разница между полной истиной и частью истины, и это можно доказать: таков по сути вывод Тарского из теоремы Гёделя, – сказал Селдом. – И разумеется, судьи, судебные врачи, а также археологи усвоили это куда раньше математиков. Возьмем для примера любое преступление с двумя подозреваемыми. Каждый из них знает всю правду, то, что первостепенно важно в данном деле: «это был я» или «это был не я». Но правосудие не может напрямую использовать их правду, ему приходится двигаться к ней извилистыми и трудными путями, собирая доказательства: проводить допросы, изучать и проверять алиби, искать отпечатки пальцев… И очень часто очевидных вроде бы фактов оказывается недостаточно ни для того, чтобы доказать вину одного, ни для того, чтобы снять подозрения с другого. По сути, Гёдель в 1930 году убедительно продемонстрировал в своей теореме о неполноте, что нечто подобное случается и в математике. Имеется в виду механизм доказательства истины, восходящий к Аристотелю и Евклиду, весь этот набор приемов, с помощью которых, опираясь на постулаты и правила вывода, путем логических дедукций получают утверждения (теоремы) данной теории – иначе говоря, то, что мы называем аксиоматическим методом. Но и он порой может оказаться столь же неудовлетворительным, как и шаткие критерии приблизительности в глазах правосудия. – Селдом на миг прервался, протянув руку к соседнему столу за бумажной салфеткой. Я подумал было, что он хочет написать на ней одну из своих формул, но он лишь быстро вытер салфеткой уголок рта и вновь заговорил: – Гёдель показал, что далее на самых элементарных математических уровнях существуют идеи, которые не могут быть ни доказаны, ни отвергнуты на основе аксиом, и последние находятся вне зоны достижения формальных механизмов и не поддаются никаким попыткам доказательства. Есть случаи, относительно которых ни один судья не может сказать, где правда, а где ложь, виноват человек или невинен. Когда я впервые познакомился с этой теоремой, Иглтон был моим официальным научным руководителем, и вот что поразило меня больше всего, как только я сумел разобраться и – главное – принять истинное значение теоремы: мне показалось весьма любопытным то, что математики на протяжении столь долгого времени пользовались, не испытывая особых неудобств и сомнений, абсолютно – и безусловно – ошибочным принципом.
Мало того, поначалу почти все полагали, что это сам Гёдель совершил какую-то ошибку и что вскоре в его доказательстве обнаружится некая трещина; даже сам Зермело[10] оставил все прочие работы и два года жизни полностью посвятил попыткам теорему опровергнуть.
Первый вопрос, который я себе задал, был таким: почему математики не спотыкаются да и не спотыкались на протяжении нескольких веков ни об один из этих недоказуемых постулатов, почему и после Гёделя, то есть в настоящее время, математика способна идти своей дорогой – в любом направлении, куда ей заблагорассудится?
