Читать онлайн Вальпургиева ночь бесплатно
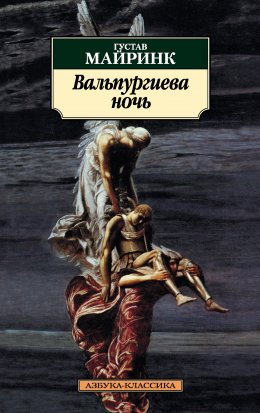
© В. Фадеев (наследник), перевод, комментарии, 2018
© Г. Снежинская, комментарии, 2018
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2018
Издательство АЗБУКА®
Оформление обложки Валерия Гореликова
* * *
Вальпургиева ночь
Глава первая
Актер Зрцадло
За окном взлаял пес.
Раз и еще.
Потом настороженно умолк, будто вслушиваясь в ночь и пытаясь учуять, какими она чревата событиями.
– Мне кажется, это всполошился Брок, – сказал старый барон Константин Эльзенвангер, – надо полагать, сейчас пожалует господин гофрат.
– Тем паче нет резону брехать, – строго заметила графиня Заградка – старуха с белоснежными буклями, орлиным носом и кустистыми бровями, осенявшими черные, как тихие омуты, глаза, – словно ее покоробило дерзкое нарушение приличий. Она начала еще проворнее тасовать колоду для игры в вист, хотя уже полчаса только этим и занималась.
– А что, собственно, он делает весь божий день? – полюбопытствовал императорский лейб-медик Тадеуш Флюгбайль. Умное, гладко выбритое лицо в глубоких морщинах и старомодное кружевное жабо – этого господина можно было принять за призрак давно опочившего предка, который примостился напротив графини в кресле с подголовником, подтянув свои бесконечные тощие ноги так, что колени чуть ли не упирались в подбородок.
Здесь, на Градчанах, студенты окрестили его Пингвином и провожали неудержимым хохотом всякий раз, когда ровно в полдень он усаживался у ворот замка в крытые дрожки, с которыми кучеру приходилось изрядно повозиться, приподнимая и вновь закрепляя верх экипажа, чтобы в нем могла поместиться почти двухметровая фигура Флюгбайля. Столь же канительная операция проделывалась через несколько минут пути, когда седоку предстояло ступить на тротуар перед дверями трактира «У Шнелля», где господин лейб-медик имел обыкновение поедать второй завтрак, рывками сгибаясь над столом и по-птичьи склевывая горячие куски.
– Кого ты имеешь в виду? – спросил барон Эльзенвангер. – Брока или гофрата?
– Разумеется, господина гофрата. Чем он занят весь день?
– Небось играет с детьми в Хотковых садах.
– С детями, – поправил Пингвин.
– Нет! Он-играется-с-детьми, – вмешалась графиня, раздельно и со значением отчеканив каждое слово домотканого немецкого языка градчанской аристократии.
Смущенные старики молчали.
В парке вновь залаял пес, вернее, теперь уже глухо взвыл. И тут же открылась темная, красного дерева дверь с живописным изображением пастушков и пастушек, и в комнату вошел гофрат Каспар фон Ширндинг, как обычно поспешая в урочный час сыграть в вист с гостями городского замка барона Эльзенвангера.
С быстротой горностая и не вымолвив ни слова, он подбежал к креслу, бросил на ковер свой цилиндр и церемонно поднес к губам руку графини.
– И что это он нынче так разошелся? – задумчиво пробормотал Пингвин.
– На сей раз он имеет в виду Брока, – пояснила графиня Заградка, рассеянно взглянув на Эльзенвангера.
– Господин гофрат просто упарился. Смотрите у меня, не простудитесь! – с озабоченным видом воскликнул барон и вдруг по-петушиному, но с фиоритурами оперного певца крикнул в сторону смежной комнаты, где, как по мановению волшебной палочки, тут же зажегся свет: – Божена! Божена! Бо-жена-а! Будь любезна, supperläh![1]
Все проследовали в столовую и сели за большой обеденный стол. Только Пингвин, гордо выпрямившись, будто трость проглотил, прохаживался вдоль стен и восхищенно, словно впервые видя, разглядывал на гобеленах сцены поединка Давида и Голиафа и рукой знатока поглаживал роскошную гнутую мебель времен Марии-Терезии.
– А я был в низах, в Праге! – выпалил гофрат фон Ширндинг, прикладывая ко лбу аршинный носовой платок в красно-желтую крапинку. – И не преминул постричься.
Он сунул палец за воротник, как бы почесывая шею.
Эту новость как свидетельство неукротимо буйного роста волос он обыкновенно сообщал раз в четыре месяца – будто никому не было известно, что он носил парики, попеременно с длинным и коротким волосом, – и всегда в подобных случаях слышал изумленный шепоток. Но на этот раз – никакого почтения: всех шокировало упоминание места, где он побывал.
– Что-что? В низах? В Праге? Вы? – остолбенев, ужаснулся лейб-медик Флюгбайль.
– Вы? – не веря ушам своим, вторили барон и графиня. – Там? В Праге?
– Так… надо ж было… мост… перейти! – обретая дар речи, но запинаясь, произнесла графиня. – А кабы он рухнул?!
– Рухнул!! Помилуйте, сударыня! Не приведи Господь! – хрипло запричитал барон. – Чур меня! Чур!
Он подошел к каминной нише, перед которой еще с зимней поры лежало полено, трижды сплюнул и бросил его в холодный камин.
Божена, служанка, в драном халате, косынке и с босыми ногами – как это заведено в старых патрицианских домах Праги, – появилась с великолепным тяжелым блюдом из чеканного серебра.
– Ага, бульон с колбасками! – пробормотала себе под нос графиня и с довольным видом опустила лорнет. Пальцы служанки в великоватых для нее лайковых перчатках едва не омывались бульоном, и старуха приняла их за колбаски.
– Я ездил на трамвае, – задыхаясь, доложил гофрат, все еще взволнованный пережитым приключением.
Барон и графиня обменялись взглядами: так мы ему и поверили. А лейб-медик сидел с окаменевшим лицом.
– Лет тридцать назад я последний раз был внизу, в Праге, – простонал барон и, мотая головой, повязал себе салфетку, кончики которой стали как бы продолжением ушей, придавая ему сходство с большим напуганным зайцем. – В те дни, когда мой брат был со святыми упокоен в Тынском храме.
– А я за всю жизнь ни разу не спускалась в Прагу, – с дрожью в голосе сказала графиня Заградка. – Я бы с ума там сошла. На Староместской площади казнили моих предков!
– Но когда это было, почтеннейшая? В Тридцатилетнюю войну, – попытался успокоить ее Пингвин. – Дела давно минувших дней.
– Полно вам. Для меня это как сегодня. А все проклятые пруссаки!
Графиня тупо уставилась в тарелку, обескураженная тем, что в ней нет ни одной колбаски, и, подняв лорнет, обшарила взглядом весь стол в поисках похитителя.
Но тут же впала в глубокую задумчивость.
– Кровь, кровь, – тихо закрякала она. – А вы знаете, как она брызжет, когда человеку отсекают голову… Вам не страшно, господин гофрат?! Что, если бы внизу вы попали в пруссачьи лапы? – уже возвысив голос, обратилась графиня к фон Ширндингу.
– Какие там лапы, сударыня, – подал голос Пингвин. – Мы с пруссаками рука об руку – я имею в виду теперешних пруссаков, с коими нас связал союз в войне против русских («Вот именно связал!» – веско вякнул барон Эльзенвангер), и мы ведем ее плечом к плечу. А он… – Пингвин деликатно умолк, заметив ироничную, скептическую улыбку на лице графини.
Разговор пресекся. И в течение получаса тишину нарушало только позвякивание ножей и вилок и легкий застольный шум, когда босая Божена подавала новые блюда.
Барон Эльзенвангер вытер салфеткой губы.
– Ну что ж, господа! А теперь прошу к другому столу, вист…
Какой-то замогильный, протяжный вой пробился сквозь летнюю ночь в окна залы и прервал речь хозяина…
– Йезус Мария… Это же зловещий знак. Смерть бродит вокруг дома!
– Тихо, Брок! Цыц, кабыздох проклятый! – донесся из парка приглушенный голос слуги, прежде чем Пингвин раздвинул атласные шторы и открыл стеклянную дверь, ведущую на веранду.
Поток лунного света хлынул в залу, и под натиском прохладного, напоенного ароматом акаций ветерка затрепетали и начали гаснуть огоньки свечей в хрустальных люстрах.
За парковой стеной расплывалась красноватая дымка выдыхаемого Прагой чада, там, внизу, на том берегу Влтавы, а по узкому, не шире ладони, карнизу стены медленно шагал какой-то человек с неестественно прямой спиной и вытянутыми, как у слепого, руками.
Призрачная фигура, временами пропадавшая в черном кружеве ветвей, казалась то гроздью капель лунного света, то воспарившим над мраком существом с четкими очертаниями.
Императорский лейб-медик Флюгбайль отказывался верить глазам, он уж было подумал, что все это лишь сон, но внезапный яростный лай вывел его из забытья. Тут раздался пронзительный крик, и Пингвин увидел, как фигура на стене покачнулась и мгновенно исчезла, словно ее сдуло бесшумным ветром.
По треску и шуршанию ветвей он догадался, что человек упал на землю в парке.
– Убийцы! Грабители! Стража! Позвать стражу! – завопил фон Ширндинг, вскочив со стула с душераздирающим криком. Наперегонки с графиней он бросился к двери.
Константин Эльзенвангер со стоном бухнулся на колени, уткнул лицо в подушку кресла и, продолжая сжимать в руке ножку жареной курицы, начал нашептывать «Отче наш».
Повинуясь зычным командам лейб-медика, который, подобно гигантской птице, размахивал в темноте своими бесперыми крыльями над перилами веранды, из домика привратника в парк прибежали слуги с допотопными фонарями и принялись, перекрикивая друг друга, обшаривать заросли.
Брок, вероятно, уже обнаружил злодея, поскольку лаял теперь громко и с выжидательными паузами.
– Ну что, дождались прусского казака? – сердито кричала в распахнутое окно графиня, которая с самого начала не выказала ни малейших признаков страха или волнения.
– Матерь Божья, он же шею сломал! – жалостливо заголосила Божена.
Безжизненное тело незваного гостя вынесли из мрака, сгустившегося у основания стены, и бросили на газон против окна, как раз на полоску света.
– Тащите его наверх. Да побыстрее. Пока он не истек кровью, – невозмутимо и бесстрастно распорядилась графиня, не обращая внимания на визгливые протесты хозяина дома, который настаивал на том, чтобы мертвеца сбросили с обрыва за стеной, а то, упаси Господи, еще оживет, каналья.
– Или тогда уж несите его хотя бы в галерею, – взмолился Эльзенвангер, при этом ему удалось затолкать графиню и Пингвина, прихватившего канделябр, в зал предков и прикрыть за ними дверь.
Никакой мебели, кроме резных стульев с золочеными спинками да одного-единственного стола, а само помещение, длинное, как коридор, с застоявшимся спертым воздухом и ровным слоем пыли на каменном полу, по всей видимости, не проветривалось с тех давних пор, когда сюда в последний раз ступала нога человека.
Портреты без рам – изображенные в полный рост предки – были как бы врезаны в деревянные панели стен: суровые мужи в кожаных колетах и с пергаментными свитками во властных дланях, а на дамских портретах – высокие, как у Марии Стюарт, воротники и рукава с буфами; рыцарь в белом плаще с мальтийским крестом; молодая дама в пышной шапке пепельных волос, кринолин, мушки на щеке и подбородке, хищно-сладострастная улыбка, руки изящной лепки, узкий прямой нос, нервные, трепетные ноздри и тонкие выгнутые брови над синими с зеленоватым отливом глазами; монахиня-барнабитка; паж; кардинал с костлявыми пальцами аскета, свинцово-серыми веками и тусклым взором опущенных глаз. Вот так и расположились они в своих неглубоких нишах, словно явившись сюда из темных закоулков замка, когда их длившийся веками сон потревожили огни свечей и суматошные крики за окном. Казалось, все они затаили желание раскланяться друг с другом, но крайне осторожно, чтобы шорох одежд не выдал их немого общения; порой даже возникало впечатление, будто они о чем-то говорят движениями губ, шевелят пальцами, поднимают брови, чтобы опять застыть в полной неподвижности, задержать дыхание и остановить сердце, едва уловив на себе взгляды двух стоявших внизу живых фигур.
– Вам его не спасти, Флюгбайль, – сказала графиня и почему-то выжидательно уставилась на дверь. – Будет, уж вы-то знаете! Ему вонзили кинжал в самое сердце. Опять скажете: человеческое искусство тут бессильно.
Императорский лейб-медик сначала не понял, о чем она. И вдруг догадался. Он знал кое-какие причуды графини. Она путала прошлое с настоящим, и временами это выражалось в ее поступках.
Тот же образ, что затмил в ее памяти настоящее, внезапно ожил и в сознании Флюгбайля. Много лет назад в покои градчанского замка графини внесли тело ее заколотого сына. И этому предшествовали тревожные знаки – крики в саду и собачий лай. Все как сегодня. И стены залы, где тогда находилась графиня, были увешаны портретами предков, а на столе стоял серебряный канделябр. Власть воспоминаний была столь велика, что лейб-медик пребывал в сомнении относительно бедолаги, которого уже доставили на носилках в галерею и осторожно опустили на пол. Флюгбайль сочувственно смотрел на графиню, подыскивая слова утешения, как тогда, десятки лет назад, пока вдруг не осознал, что это вовсе не ее сын, а рядом не молодая дама прежних времен, а убеленная сединами старуха.
И тут его охватило ощущение, опережавшее всякую мысль и всякую попытку логического уразумения, это была смутная и мимолетная догадка: так называемое время есть не что иное, как дьявольский комедийный трюк, которым всесильный незримый враг морочит мозг человека.
И теперь его страшило только одно – забыть мгновенное внутреннее озарение, на которое он раньше не был способен; теперь он мог объяснить странные душевные состояния графини, когда она воспринимала стародавние события семейной хроники как вчерашние и сегодняшние и как бы вживляла их в повседневную жизнь.
Словно повинуясь неодолимой силе, его уста произнесли: «Воду! Бинты!», как и тогда, он склонился над неподвижным телом и извлек из нагрудного кармана ланцет, который по старой, уже ненужной привычке всегда носил с собой.
Только когда чуткие пальцы лейб-медика подсказали ему, что перед ним вовсе не бездыханное тело, и взгляд случайно скользнул по обнаженным белым ляжкам Божены, которая со свойственной чешским молодухам беззастенчивостью высоко задрала юбку, присев на корточки, он окончательно вернулся к реальности: картины прошлого отступили при виде ужасающего контраста между цветущей юной плотью и мертвенно-бледным телом, между призрачными образами парадных портретов и неприглядно-старческими чертами графини; прошлое рассеялось, точно кисея тумана, застилавшего все сущее.
Камердинер поставил канделябр на пол, при его свете отчетливо обрисовалось лицо, поражавшее почти фантастическим своеобразием: бескровные губы пострадавшего казались отлитыми из свинца и какими-то противоестественными на ярко-красном фоне размалеванных щек; незнакомец скорее напоминал восковую балаганную куклу, чем человека из плоти и крови.
– Святой Вацлав, это ж Зрцадло! – ахнула служанка и смущенно оправила юбку, будто почувствовав на себе похотливый взгляд пажа, который благодаря освещению, казалось, внезапно прозрел в своей стенной нише.
– Кто? – удивленно спросила графиня.
– Зрцадло, то бишь Зеркало, – пояснил камердинер, переведя чешское имя на немецкий, – так его прозывают здесь, наверху, наши градчанские, а как его звать на самом деле, не могу знать. Он снимает угол у этой… – камердинер стыдливо замялся, – у… как ее… ну… у Богемской Лизы.
– У кого?
Божена прыснула в кулак, да и вся прочая челядь едва сдерживала смех.
– У кого? Я спрашиваю!
– Богемская Лиза была когда-то знаменитой гетерой, – вмешался лейб-медик, вставая во весь рост. Тот, кого сочли было мертвецом, уже подавал признаки жизни, по крайней мере заскрипел зубами. – А я, право, не знал, что она еще жива и таскается по Градчанам. Должно быть, совсем одряхлела. Скорее всего, она живет…
– В Мертвецком переулке, – услужливо подсказала Божена, – там распутных девок как грязи.
– Так приведи сюда эту прелестницу! – распорядилась графиня.
Служанка поспешила расстараться.
Между тем человек на носилках пришел в чувство, какое-то время он не сводил глаз с горящих свечей, затем медленно поднялся, не удостоив окружающих ни малейшим вниманием.
– Вы думаете, он замышлял грабеж? – вполголоса спросила графиня, обращаясь к слугам.
Камердинер покачал головой и постучал пальцем по лбу, намекая на то, что считает незваного гостя сумасшедшим.
– Я полагаю, это случай так называемого сомнамбулизма, – изрек свое заключение Пингвин. – В полнолуние страдающие этим недугом люди испытывают необъяснимую тягу к хождению, что сопровождается всякими странными, бессознательными действиями, взбираются на деревья, крыши и стены и зачастую могут уверенно шагать по узкой, как жердь, дорожке на головокружительной высоте, скажем, по водосточному желобу, на что никогда не осмелились бы в бодрствующем состоянии.
– Эй, пан Зрцадло, – окликнул он своего пациента, – до дома-то доберетесь?
Лунатик ничего не ответил, хотя, похоже, услышал вопрос, даже если и не понял его. Он медленно повернулся к императорскому лейб-медику и остановил на нем взгляд своих неподвижных пустых глаз.
Пингвин невольно отпрянул, задумчиво поскреб рукой лоб, роясь в памяти, и недоуменно произнес:
– Зрцадло? Нет. Первый раз слышу. Но ведь я знаю этого человека! Где же я его видел?!
Перед ним стоял высокий, худощавый и смуглый мужчина. Спутанные лохмы седых волос, узкое безбородое лицо, тонкий крючковатый нос, покатый лоб, впалые виски и кривившиеся в вечной усмешке губы да еще нелепые румяна и потертое пальто из черного бархата – все это составляло столь несуразный образ, что он казался порождением нелепого сна. «Прямо древнеегипетский фараон, выбравший облачение комедианта, чтобы никто не узнал его мумию», – эта сумбурная мысль мелькнула в голове лейб-медика, когда он ломал голову: «Почему же я не могу вспомнить, где видел столь экстравагантного типа?»
– Да это покойник, – произнесла графиня то ли себе под нос, то ли адресуясь к Пингвину, и без тени страха и смущения, точно перед ней стояла статуя, принялась рассматривать чудака, чуть не тыча ему в лицо лорнетом. – Такие высохшие глазные яблоки могут быть только у трупа. Сдается мне, он совсем окоченелый. Как по-вашему, Флюгбайль?.. Да не трясись ты, Константин. Ну прямо как старая баба! – крикнула графиня в сторону столовой, в полуоткрытых дверях которой показались бледные испуганные физиономии гофрата фон Ширндинга и барона Эльзенвангера. – Идите сюда. Вы же видите, он не кусается.
Имя «Константин» будто всколыхнуло все существо незнакомца. Он вздрогнул, а выражение лица стало меняться с невероятной быстротой, на какую способен только мастер мимической техники, который строит перед зеркалом всевозможные гримасы. Создавалось впечатление, что кости носа, челюстей и подбородка обрели вдруг мягкость и пластичность, и на глазах произошло полное преображение – надменная личина фараона, претерпев ряд странных мимических метаморфоз, постепенно приняла черты, в которых нельзя было не узнать родовой тип Эльзенвангеров.
Не прошло и минуты, как от прежних перевоплощений не осталось и следа, и все присутствующие изумленно смотрели на совершенно другого человека.
Пригнув голову с распухшей, как от флюса, левой щекой, отчего глаз заплыл и превратился в щелочку, выпятив нижнюю губу, он на полусогнутых обошел мелкими шажками стол, будто искал чего-то, затем начал похлопывать себя, чтобы – как всем показалось – ощупью добраться до карманов и пошарить в них руками.
Наконец, заметив онемевшего от ужаса барона Эльзенвангера, который вцепился в руку своего приятеля Ширндинга, он кивнул ему и проблеял:
– Как хорошо, что ты здесь, Константин, а я весь вечер искал тебя.
– Господи Иисусе, Дева Мария, святой Йозеф! – возопил барон и бросился к дверям. – Смерть в доме! Помогите! Спасите! Это мой покойный брат Богумил!
Фон Ширндинг, лейб-медик и графиня, знавшие когда-то барона Богумила Эльзенвангера, тоже дрогнули: лунатик и впрямь говорил голосом усопшего.
Не обращая на них никакого внимания, Зрцадло засуетился, забегал по комнате. Он трогал и передвигал какие-то воображаемые, доступные только его взору предметы, очертания которых стали вдруг улавливать и зрители этой пантомимы, настолько выразительны и точны были движения лицедея.
А когда тот навострил уши, сложил губы в дудочку, подкатился к окну и просвистел несколько тактов, словно приветствуя невидимого скворца в клетке, а потом из воображаемой коробочки вытащил невидимого мучного червячка и протянул его своему любимому певчему питомцу, все, кто наблюдал это, были настолько заворожены представлением, что совершенно забыли, где они находятся, вернее, как бы вдруг очутились в покоях живехонького барона Богумила.
И лишь когда Зрцадло отошел от окна и в свете горящих свечей стал ясно виден потертый бархат его пальто, иллюзия на какой-то миг развеялась, сменившись ужасом. И все молча и безвольно застыли в ожидании дальнейшего действа.
Зрцадло как будто о чем-то задумался, поднося к ноздрям нюхательное зелье из невидимой табакерки. Затем сдвинул резное кресло к середине помещения, где стоял воображаемый стол, и, склонив голову чуть набок, начал выводить в воздухе буквы, после того как привычными движениями очинил гусиное перо, и это было проделано с такой ужасающей, завораживающей естественностью, что всем послышалось, как поскрипывает перочинный нож.
Господа, затаив дыхание, следили за этими манипуляциями, а слуг уже не было – по знаку Пингвина они на цыпочках покинули помещение. Глубокую тишину временами нарушали лишь жалобные стоны барона Константина, который не мог отвести взгляд от своего «покойного брата».
Наконец Зрцадло, видимо, закончил письмо или то, над чем он трудился воображаемым пером, и сделал витиеватый росчерк, вероятно завершая им свою подпись. Затем с шумом отодвинул кресло, подошел к стене, запустил руку в какую-то нишу и извлек из нее самый настоящий ключ. После чего повернул деревянную розетку, украшавшую панель, и отпер оказавшийся в углублении замок. Потом выдвинул ящик, положил в него «письмо» и запер тайник.
Напряжение зрителей было так велико, что никто не услышал доносившийся из-за двери голос Божены: «Милостивый пан! Господин барон! Дозвольте войти!»
– Вы видели? Флюгбайль, вы тоже это видели? Натуральный выдвижной ящик, который открыл мой у-у-усопший братец! – запинаясь и всхлипывая, нарушил молчание барон Эльзенвангер. – А я даже не подозревал, что там есть такое. – Стеная и заламывая руки, он возопил: – Богумил, видит Бог, я ведь тебе ничего не сделал! Святой Вацлав, неужели он лишил меня наследства за то, что я тридцать лет не бывал в Тынском храме?!
Императорский лейб-медик двинулся было к стене, чтобы убедиться в наличии потайного ящика, но стук в дверь помешал ему сделать это.
Порог переступила высокая, стройная женщина, одетая в какую-то рвань. Божена представила гостью как Богемскую Лизу.
Некогда дорогое, с бисерной отделкой платье своим покроем и линиями, обтекающими плечи и бедра, все еще наводило на мысль о том, сколько усилий было потрачено на него мастерами. Измятая до неузнаваемости, заскорузлая от грязи обшивка выреза и рукавов была сработана из настоящих брюссельских кружев.
Женщине, вероятно, было далеко за семьдесят, но черты ее лица, несмотря на страшную печать, оставленную на нем нищетой и страданиями, еще хранили следы замечательной былой красоты.
Уверенность, с какой она держалась, и спокойный, почти насмешливый взгляд, устремленный на троих господ, – графиню Заградку она и им не удостоила – красноречиво говорили о том, что сие общество ей явно не импонирует.
Какое-то время она как будто наслаждалась смущением господ, которые в молодые годы, несомненно, имели с ней более короткие отношения, чем им хотелось бы продемонстрировать перед графиней. Выдержав паузу, женщина многозначительно ухмыльнулась и прервала лейб-медика, который начал мямлить что-то невразумительное.
– Господа послали за мной. Позвольте узнать, чем обязана.
Пораженная необычайно чистой немецкой речью и приятным, хотя и чуть хрипловатым голосом, графиня вскинула свой лорнет и, поднеся его к грозно сверкнувшим глазам, уставилась на старую шлюху.
По растерянному виду мужчин она безошибочным женским инстинктом угадала истинную причину их смущения и спасла положение – почти безнадежно неловкое – чередой прямых, остро заточенных вопросов.
– Этот человек, – она указала на Зрцадло, который застыл перед портретом дамы с пепельными волосами, чаровницы эпохи рококо, – час назад вломился сюда. Кто сей? Чего ему надо? Он живет у вас, я слыхала? Что с ним? Он сумасшедший? Или напил… – Графиня откусила конец слова. Стоило только вспомнить то, чему она была свидетельницей несколько минут назад, как ей снова стало не по себе. – Или… или… его лихорадит? Не болен ли он? – смягчила графиня резкость вопроса.
Богемская Лиза пожала плечами и медленно повернулась лицом к строгой дознавательнице. Взгляд воспаленных, без единой ресницы глаз, устремленный куда-то в пространство, словно перед ней было пустое место, а не фигура старой аристократки, стал настолько высокомерен и презрителен, что графиня, вопреки своей натуре, покраснела.
– Он упал со стены в парке, – поспешил вмешаться императорский лейб-медик. – Мы уже подумали, он зашибся насмерть, и потому послали за вами. Кто он такой и чем занимается, – Пингвин выжимал из себя поток слов, опасаясь дальнейшего обострения ситуации, – не суть важно. По всей видимости, этот господин – лунатик… Вы ведь знаете, что сие означает?.. Я сразу подумал, что знаете… Да… Вот… И в ночное время за ним надо бы присматривать, чтобы не убился… Не окажете ли вы любезность проводить его домой? Лакей или Божена, если пожелаете, помогут вам… Вот… Да… Не правда ли, барон? Надеюсь, вы позволите?
– Еще бы. Только бы он убрался, – заскулил Эльзенвангер. – Да поскорее! О Господи!
– Я знаю только, что его зовут Зрцадло, и, по всей вероятности, он актер, – спокойно сказала Богемская Лиза. – Ночами он бродит по кабакам и дурачит публику… Да и знает ли он сам, кем себя считать, – женщина пожала плечами, – одному Богу известно… У меня хватает такта не интересоваться делами моих постояльцев. – Пан Зрцадло, нам пора! Пойдемте! Вы же видите, здесь все-таки не трактир.
Она подошла к лунатику и взяла его за руку.
Зрцадло покорно двинулся к двери. Черты покойного барона Богумила были окончательно стерты с его лица. Он как бы вырос и подтянулся. Походка обрела уверенность и упругость. Постепенно он становился самим собой, хотя по-прежнему не замечал окружающих, словно был наглухо закрыт для внешнего мира, как при погружении в гипнотический сон.
Но и надменная гримаса египетского царя тоже бесследно исчезла. Маски слетели, остался только актер. Но какой актер! Он тоже был маской, личиной из плоти и крови, в любой момент готовой к новым, неожиданным метаморфозам, – маской, которую облюбовала бы смерть, пожелай она затесаться в толпу живых людей. «Вот лик существа, – подумал императорский лейб-медик, вновь охваченный смутной тревогой при мысли о том, что где-то уже видел этого человека, – существа, которое способно быть сегодня одним, а завтра совершенно другим, иным в глазах не только всех прочих, но и самого себя, – не подверженный тлению труп и в то же время сгусток пронизывающих мир психических токов; он не только наречен зеркалом, но и, возможно, является таковым».
Богемская Лиза выпроводила лунатика за порог, но императорский лейб-медик улучил момент шепнуть ей:
– Ступай, Лизинка, завтра я тебя навещу… Никому ни слова о том, что здесь было. Мне надо кое-что разузнать про этого Зрцадло.
Он еще немного постоял в дверях, прислушиваясь к звукам, доносившимся с лестницы, вернее, к ожидаемому разговору, который, однако, свелся к увещеваниям старой женщины:
– Пойдем, пойдем, Зрцадло. Ты же видишь, здесь не трактир!..
Между тем господа уже перешли в соседнюю комнату, сели за ломберный стол и ждали только лейб-медика.
По бледным от волнения лицам своих друзей он понял, что на самом деле им не до карточной игры и они лишь исполняют волю властной старухи, усадившей их за стол для привычного вечернего развлечения, так, будто не случилось ровным счетом ничего.
«Нынче будет не вист, а сплошная морока», – отметил про себя лейб-медик, ничем не выдавая, однако, своих сомнений, и, с видом клюющей птицы отвесив поклон, сел напротив графини, которая с нервной дрожью в руках сдавала карты.
Глава вторая
Новый Свет
Испокон веков Флюгбайли, то есть «Летающие топоры», подвизавшиеся императорскими лейб-медиками, подобно дамокловым мечам нависали над всеми венценосными головами правителей Богемии, готовые в мгновение ока обрушиться на своих жертв при малейших признаках недуга, – таков был приговор дворянского общества Градчан, и правота его как бы подтверждалась тем обстоятельством, что с кончиной вдовствующей императрицы Марии-Анны был обречен на угасание и род Флюгбайлей в лице его последнего отпрыска – старого холостяка Тадеуша по прозвищу Пингвин.
Ход его холостяцкой жизни, по которому можно было сверять часы, претерпел досадный сбой из-за ночного происшествия с лунатиком Зрцадло.
Сонмище пестрых видений заполонило его дремлющий ум, и среди них вспыхивали даже чувственные образы первой молодости, овеянной, конечно, и чарами Богемской Лизы, красивой и обольстительной в ту далекую пору.
Дразнящий причудливый морок фантазий, венчавшихся престранным ощущением, будто он держит в руке альпеншток, заставил его наконец проснуться в неподобающе ранний час.
Каждый год 1 июня, ни раньше ни позже, господин императорский лейб-медик вояжировал в Карлсбад на воды, предпочитая дрожки железной дороге, поскольку считал ее еврейским промыслом.
Когда Карличек – так звали солового одра, коему доверялось тащить экипаж, – повинуясь настойчивым понуканиям кучера в красном камзоле, дотягивал до пражского предместья Голлешовице, что в пяти километрах от центра, всякий раз делалась первая остановка для ночлега, чтобы на следующий день продолжить трехнедельное путешествие и потихоньку-полегоньку, по лошадиному хотению все-таки добраться до Карлсбада, где Карличек мог вволю набивать брюхо овсом, пока не обретал вид розоватой колбасы на тонких ножках, в то время как господин лейб-медик укреплял здоровье пешими прогулками.
Появление на отрывном календаре над изголовьем кровати долгожданной даты 1 мая всегда служило сигналом к началу сборов, но на сей раз господин лейб-медик даже не взглянул на календарь, остановив время на отметке 30 апреля с жутковатым напоминанием: Вальпургиева ночь. Он направился к письменному столу, раскрыл огромный фолиант в переплете из свиной кожи, с латунными уголками, в котором с прадедовских времен Флюгбайли мужеска пола делали дневниковые записи, и начал просматривать свои юношеские откровения, пытаясь установить, не встречал ли он прежде, а если так, то где и когда, этого самого Зрцадло – будь он неладен. Предположение, что они уже виделись, не давало лейб-медику покоя.
Дневник он начал вести в двадцать пять лет, в день кончины отца, и каждое утро неукоснительно поверял бумаге свои мысли и впечатления, по примеру достопамятных предков снабжая каждую запись порядковым номером. Теперь он поставил цифры 16117.
Поскольку в молодые годы он не мог знать, что проживет весь век холостяком и не обзаведется семейством, все, что касалось любовных увлечений, он – также по образцу предшественников – обозначал мудреной тайнописью, понятной только самому автору, дабы никто и никогда не сунул нос в эту сокровенную сферу.
Таких «затемнений» в дневнике было совсем немного, раз в триста меньше, чем отчетов о съеденных в трактире «У Шнелля» гуляшах, что тщательно фиксировалось в хронике текущих событий.
Несмотря на то что в дневник добросовестно вносились записи даже о самых незначительных вещах, никакого упоминания о лунатике Зрцадло лейб-медику обнаружить не удалось, и в конце концов он разочарованно захлопнул фолиант.
Но еще во время чтения его царапнуло неприятное чувство: пробегая глазами некоторые записи, он впервые за свою земную жизнь ненароком узрел ее унылое, в сущности, беспросветное однообразие. И это он, готовый гордиться своей размеренной и наперед просчитанной жизнью, в чем с ним едва ли могли соперничать даже представители рафинированного градчанского общества. Сама кровь в его жилах – пусть и не голубая, а бюргерская – противилась всякой спешке и плебейской тяге к прогрессу. И вдруг на тебе! Под еще свежим впечатлением ночи в замке барона он почувствовал в себе некие поползновения, для которых и благородных слов не подберешь, – что-то вроде жажды приключений, недовольства рутиной или любопытства, толкающих к познанию необъяснимых вещей.
Он оглядел свою комнату, и она показалась ему постылой. Голые, выбеленные известкой стены раздражали его. Раньше такого не было! С чего бы это?
Он злился на самого себя.
Три комнаты, предоставленные ему по выходе на пенсию канцелярией его императорского величества, находились в южном крыле Града. С высоты своего подоконника, вооружившись длинной подзорной трубой, он мог обозревать нижний мир, Прагу и дали до самого горизонта – мягкие волнистые линии холмов и островки леса, а из другого окна открывался вид на серебристую ленту верховья Влтавы, покуда она не терялась в дымке.
Чтобы как-то отвлечься от будоражащих мыслей, он подошел к своему «дальнозору» и направил его в сторону города, что называется, навскидку.
Прибор обладал такой увеличительной силой, что в поле зрения оказывался лишь крошечный пятачок пространства, а предметы придвигались угрожающе близко, прямо-таки рукой достать.
Господин лейб-медик нагнулся и приложил глаз к окуляру со смутной, почти неосознанной надеждой увидеть на крыше трубочиста или какой иной счастливый знак, но тут же в ужасе отшатнулся.
На него глаза в глаза глянула Богемская Лиза, с коварной усмешкой на лице и воспаленными, без ресниц веками, она словно увидела его и встретила язвительной усмешкой!
Впечатление было столь ошеломляющим, что Пингвин содрогнулся и, забыв о трубе, уставился в слепившее солнечным светом пространство, не на шутку опасаясь, что старая шлюха вот-вот появится перед ним, как призрак в воздухе, а то и верхом на метле.
Когда же он наконец взял себя в руки, подивившись игре случая и обрадованный столь естественным объяснением, и прильнул к трубе, старуха уже исчезла, но в глаза лезли незнакомые, до странности напряженные лица, и лейб-медик почувствовал, что это напряжение передалось и ему.
По тому, как они толкались, по размашистой жестикуляции, по раздираемым криками ртам он понял, что собралась негодующая толпа, но о причине людского возмущения издалека судить было невозможно. Ничтожнейшее смещение трубы – и перед ним предстала совсем иная картина, поначалу довольно размытая: какой-то темный прямоугольник, который после поворота линзы превратился в окно под самой кровлей, его створки белели полосками газетной бумаги на трещинах стекол.
В проеме – фигура сидящей молодой женщины, тело прикрыто лохмотьями, на мертвенно-бледном лице словно въевшиеся тени вокруг глазных впадин. С тупым равнодушием животного она смотрела на обтянутый кожей скелетик младенца, который лежал перед ней и, должно быть, умер у нее на руках. Яркое солнце, залившее их обоих, с ужасающей четкостью высвечивало каждую деталь этой картины и создавало невыносимо жестокий контраст человеческого горя и сияния весеннего дня.
– Война. Одно слово – война, – вздохнул Пингвин, отодвигая трубу, чтобы печальное зрелище не повредило аппетиту перед вторым завтраком. – А это, видать, тыльная сторона какого-то театра, – произнес он себе под нос, когда развернулось новое зрелище: двое рабочих в окружении зевак – уличных мальчишек и старых теток в платочках – выносили из распахнутых дверей гигантский холст, на котором был изображен пышнобородый старец, возлежавший на розовом облаке и с неземной кротостью в глазах воздевший благословляющую десницу, в то время как его левая рука заботливо обнимала глобус.
Недовольный и с какой-то кашей в голове, Флюгбайль вернулся в большую комнату и молча выслушал экономку, доложившую, что Венцель ждет внизу. Лейб-медик надел цилиндр, перчатки, прихватил трость, отделанную слоновой костью, и спустился по каменной лестнице, от которой еще веяло зимним холодком, во двор замка, где кучер уже поднимал верх коляски, чтобы в нее мог взгромоздиться высоченный седок.
Экипаж уже грохотал вниз по крутой улице, когда Пингвину что-то взбрело в голову и он принялся барабанить пальцами по дребезжавшему окошку, покуда Карличек не соблаговолил упереться передними ходулями в мостовую, а Венцель не подскочил к дверце.
Откуда ни возьмись появилась ватага гимназистов. Они обступили коляску и, увидев в ней Пингвина, наглядно продемонстрировали свои зоологические познания беззвучным танцем полярных птиц, как бы трепыхая недоразвитыми крыльями и норовя зацепить друг друга длинными клювами.
Не удостоив взглядом охальников, господин лейб-медик шепнул пару слов кучеру, от чего тот в буквальном смысле остолбенел.
– Ваше превосходительство… – выдавил он наконец. – Как же можно?.. В Мертвецкий-то переулок? К этим… прости господи…
– …А Богемская-то Лиза живет вовсе не там, – с облегчением пролепетал он, когда Пингвин более подробно разъяснил ему свое намерение. – Она ж в Новом Свете проживает.
– Как? Внизу? – переспросил лейб-медик и, поморщившись, посмотрел в окно на лежавшую в долине Прагу.
– Не извольте сомневаться. Там, где Олений ров тянется.
При этом кучер указал большим пальцем на небеса и описал рукой петлю в воздухе, будто старая дама жила где-то в недосягаемых сферах, за облаками, между небом и землей.
Несколько минут спустя Карличек уже одолевал крутой бугор Шпорненгассе, спокойно и медлительно, как привыкший к высоте кавказский мул.
Императорский лейб-медик подумал о том, что лишь полчаса назад в подзорную трубу наблюдал Богемскую Лизу на одной из пражских улиц, и это навело его на мысль о возможности с глазу на глаз поговорить с актером Зрцадло, который жил у старухи. А эта встреча могла стать столь полезной и поучительной, что не страшно было отказаться от второго завтрака «У Шнелля».
Через некоторое время императорский лейб-медик вышел из дрожек и двинулся пешком, дабы избавить себя от назойливых взглядов обывателей. Улочка, именуемая Новым Светом, представляла собой кривой ряд домишек, стоявших порознь напротив полуциркульной стены, по верху которой шел своего рода фриз – рисунки мелом, и, хотя их вывела неумелая детская рука, можно было догадаться, что сия роспись самым дерзким образом выставляет напоказ то, чем родители занимаются втайне от детей. Кроме нескольких ребятишек, которые с радостным визгом крутили волчки на утопавшей в известковой пыли дороге, не было видно ни души. Со стороны Оленьего рва, заросшего цветущими деревьями и кустами, плыл густой аромат жасмина и сирени, а вдалеке, окруженный шпалерами фонтанных струй, в лучах полуденного солнца дремал летний дворец императрицы Анны, напоминая позеленевшей медью кровли огромного глянцевитого жука.
У лейб-медика вдруг сильно забилось сердце. Навевающий сонную негу весенний воздух, дурман цветочных ароматов, детский смех, город внизу, подернутый золотистой дымкой, взметнувшийся к небу контур собора, вокруг которого роились галдящие галки, – все это почему-то вновь пробудило смутное чувство вины перед самим собой. Неужели он всю жизнь обманывал свою душу?
Пингвин даже загляделся на потеху детей, на то, как ударами кнута они заставляли крутиться в вихрях белой пыли пестрые, похожие на кегли волчки. В детстве он не знал такой забавы, и теперь ему казалось, что он проспал долгую и счастливую пору человеческой жизни.
Домишки, в открытые двери которых он заглядывал, чтобы разузнать, как найти лицедея Зрцадло, встречали его мертвой тишиной.
В сенях одного из них был выгорожен закуток с застекленными оконцами, вероятно, в мирное время здесь продавали булочки, обсыпанные синими маковыми зернышками, или огуречный рассол, в котором, по местному обычаю, вымачивали сыромятный ремень, чтобы клиент, выложив геллер, мог обсосать его целых два раза.
Над дверями другого дома висела черно-желтая вывеска с обшарпанным изображением двуглавого орла и полустертой надписью, извещавшей, что у хозяина имеется лицензия на торговлю солью.
Но все вместе производило тягостное впечатление руин давно умершего бытия.
Даже лист бумаги с большими, некогда черными буквами: «Zde se mandluje», что должно было означать: «За десять крейцеров прачки могут здесь катать белье в течение часа», наполовину истлел и ясно давал понять, что хозяин сего предприятия расстался с надеждой на всякий доход.
Безжалостная фурия войны повсюду оставила следы своих разбойных налетов.
Лейб-медик решил наудачу заглянуть в последнюю лачугу, из трубы которой длинным червяком вился сероватый дымок, исчезая в безоблачном майском небе. После долгого безответного стука в дверь Флюгбайль вздрогнул, увидев перед собой Богемскую Лизу. На коленях – деревянная плошка с хлебной похлебкой, на лице – выражение чуть ли не радостного удивления. Она сразу узнала выросшую на пороге фигуру.
– Привет тебе, Пингвин! Ты ли это?!
Убогая комната, служившая одновременно кухней, столовой и спальней, о чем свидетельствовали груды тряпья, клочья сена и скомканные газеты в углу, заросла грязью и паутиной. Стол, стулья, комод, миски и чашки стояли и валялись так, будто участвовали в какой-то оргии; божеский вид имела лишь сама хозяйка, которая даже лицом посветлела, обрадованная неожиданным визитом.
К продранным красноватым обоям присохли тронутые тлением лавровые венки с выцветшими голубыми лентами, на которых можно было прочитать самые лестные комплименты: «Великой чародейке искусства» и так далее, а рядом висела украшенная бантами мандолина.
С естественной непринужденностью великосветской дамы Богемская Лиза продолжала спокойно сидеть, однако удостоила гостя жеманной улыбкой и протянула ему руку. Залившись краской, господин лейб-медик пожал ее, но целовать воздержался.
Хозяйка великодушно не заметила этого упущения по части галантности и, дохлебывая свое варево, начала беседу учтивыми фразами о прекрасной погоде и о том, сколь приятно ей принимать у себя в лице его превосходительства своего доброго старого друга.
И вдруг, отбросив церемонии, перешла на приятельский, можно сказать, фамильярный тон:
– А ты, Пингвин, все такой же симпатяга, sakramensky chlap[2], – сказала она, сдобрив литературный немецкий толикой пражского жаргона. – Красавчик, хоть зашибись…
Похоже, на нее нахлынули воспоминания, и в ностальгической истоме она даже закрыла глаза. Императорский лейб-медик с напряжением ждал новых словесных перлов.
И действительно, сложив губы в трубочку, она хрипло заворковала:
– Ну где же ты! – и распростерла объятия.
Пингвин в ужасе попятился, не сводя с нее вылезших на лоб глаз.
Не обращая на него внимания, она кинулась к полке на стене, дрожащей рукой схватила какой-то портрет – один из стоявших там блеклых дагеротипов. Старуха поднесла его к губам и стала осыпать страстными поцелуями.
У господина лейб-медика перехватило дыхание. Он узнал свой собственный портрет, который подарил ей лет сорок тому назад.
Богемская Лиза осторожно, с трогательной нежностью вернула фотографию на место, затем стыдливо прихватила кончиками пальцев рваную юбку, задрала ее до колен и, точно вакханка, мотая лохматой нечесаной головой, начала выплясывать какой-то дикий гавот.
Флюгбайль застыл как в столбняке. Комната со всем ее скарбом поплыла перед глазами, закрутилась каруселью. «Dance macabre»[3], – мелькнуло у него в голове, и оба эти слова, обрастая завитушками, нарисовались в виде подписи под старинной гравюрой, которую он видел однажды в лавке антиквара.
Он не мог оторвать глаз от костлявых ног старухи в сползающих, позеленевших от времени черных чулках. С перепугу он хотел было броситься к двери, но не успел он осознать это решение, как оно отменилось само собой. Прошлое и настоящее, проникая друг в друга, затеяли какую-то магическую игру, совсем заморочив его, и он уже не мог понять: то ли сам он еще молод, а та, что пляшет перед ним, в мгновение ока состарилась и превратилась в беззубое страшилище с воспаленными дряблыми веками, то ли все это сон, потому что ни он, ни она никогда не были молоды.
Неужели эти плоские разбитые лапы с приросшими к ним прелыми лоскутьями вконец сношенных башмаков, эти окаменелые ступни, которыми старуха притопывала в ритме танца, были теми изящными, нежными ножками, что когда-то сводили его с ума?
«Она, поди, годами не снимала эти опорки, иначе бы от них совсем ничего не осталось. Так и спит в них, – рассеянно отметил он, но эту мысль тут же вытеснила другая, куда более мрачная: – Как страшно истлевать в незримом могильнике времени, когда ты еще жив».
– А помнишь, Тадеуш! – с чувством воскликнула Богемская Лиза и скрипучим голосом пропела:
- Ты – холодный кремешок,
- Но исторгнешь без труда
- Искру даже изо льда.
И тут она как бы опамятовалась, упала в ветхое кресло и, скорчившись, будто от внезапной острой боли, закрыла руками лицо, по которому катились слезы.
Лейб-медик тоже пришел в себя и попытался даже встрепенуться, но снова пал духом, когда с неожиданной ясностью вспомнил, как всего лишь несколько часов назад в беспокойном сне с упоением обнимал юное цветущее тело – то самое, которое сейчас напоминало живую мумию, закутанную в лохмотья и содрогаемую рыданиями.
Он шевелил губами, собираясь что-то сказать, но так и не находил нужных слов.
– Лизель, – вымолвил он наконец, – тебе так плохо живется? – Он обвел взглядом комнату, и его особенно разжалобила деревянная плошка. – Лизель, э-э… могу я тебе как-то помочь?
«А ведь раньше на серебре едала, – подумал он, и его передернуло при виде целых залежей грязного хлама, – да… и спала на пуховых перинах…»
Старуха энергично замотала головой, не отрывая от лица ладоней. Флюгбайль слышал глухой стон, который она тщетно пыталась подавить.
С фотопортрета на полке смотрел он сам – косой луч, отраженный мутноватым зеркалом, осветил всю маленькую галерею: стройные, как на подбор, молодые кавалеры, он знал их всех, а с некоторыми видится и по сию пору; теперь это – чопорные седовласые князья и бароны. Неужели перед ним его собственный образ? Веселые, смеющиеся глаза, мундир с золотым позументом, треуголка под мышкой…
Как только он узнал себя, возникло искушение тайком унести фотографию, и он шагнул было к полке, но тут же устыдился своего намерения.
Плечи старухи все еще подрагивали от приглушенных рыданий, он смотрел на нее с высоты своего роста и проникся вдруг чувством искреннего, глубокого сострадания.
Грязные космы уже не внушали брезгливого ужаса, и он робко, словно боясь собственной дерзости, погладил старуху по голове.
Это как будто успокоило ее, и она постепенно затихла, точно убаюканное дитя.
– Лизель, – вновь заговорил он почти шепотом, – ты только не подумай… э-э… Я понимаю, тебе плохо. Но ты же знаешь… – он с трудом подыскивал слова, – сейчас война… И всем нам приходится голодать. – Он смущенно откашлялся, чувствуя, что врет, поскольку голод был для него сугубо теоретическим понятием, что ни день, ему «У Шнелля», помимо прочего, тайком совали под салфетку свежеиспеченную соленую соломку из первосортной муки. – Ну так вот… теперь я знаю, как тебе туго, но ты не отчаивайся, я… помогу тебе… Как же иначе?.. А война… Что война?.. Не сегодня завтра войне конец, – он старался придать своему голосу предельно бодрое звучание, – и ты сможешь опять зарабатывать… – Он осекся, вспомнив, чем она жила. Кроме того, о «работе» в данном случае говорить было более чем странно. – Да… зарабатывать по-прежнему, – вполголоса закончил он фразу, не найдя подходящего слова.
Она прильнула к его руке и молча поцеловала ее. Флюгбайль почувствовал, как ладонь увлажнилась слезами. «Ну полно тебе, оставь», – вертелось у него на языке, но он, не вымолвив ни слова, растерянно огляделся по сторонам, будто из опасения обнаружить свидетелей этой сцены.
Какое-то время оба молчали. Потом она что-то забормотала, но он почти ничего не понял.
– Я-а-а-а благодар… – сквозь рыдания произнесла наконец старуха, – я благодарна тебе, Пинг… тебе, Тадеуш. Только ради бога, никаких денег, – торопливо продолжала она, словно упреждая его новые великодушные порывы, – я ни в чем не нуждаюсь. – Она резко выпрямилась и повернулась к стене, чтобы он не видел искаженного гримасой страдания лица, но еще крепче, почти судорожно сжала его руку. – У меня все хорошо… Я так счастлива, что ты… не погнушался мною… Нет, правда… у меня все хорошо… Знаешь, до чего страшно вспоминать былое. – Ее снова душили рыдания, и она коснулась рукой горла, будто желая облегчить дыхание. – Но уж совсем беда, если не можешь состариться.
Пингвин испуганно вздрогнул, решив, что старуха бредит, но, когда она заговорила спокойнее, до него постепенно дошел смысл ее слов.
– Когда ты вошел, Тадеуш, я почувствовала себя прежней, я вновь стала юной – той, которую ты любишь. И такое со мной часто бывает. Иногда забываешься чуть не на четверть часа. Особенно на улице. Идешь и не знаешь, какая ты на самом деле. Кажется, люди смотрят на тебя, любуясь юной красотой. А потом, конечно, когда мальчишки заорут вслед… – Она закрыла лицо руками.
– Ну вот еще, нашла о чем горевать! – утешал ее Флюгбайль. – Дети, Лизель, жестокие существа и не ведают, что творят. Не держи на них зла, и когда они увидят, что им тебя не пронять…
– Думаешь, я злюсь на них?.. Я никогда никого не поминала лихом. Даже Господа Бога. А уж ему-то теперь попенять может каждый… Нет, не в этом дело… Но всякий раз, когда тебя заставляют очухаться… Правда, Тадеуш, пробудиться от этого сладкого сна пострашнее, чем сгореть заживо.
Пингвин вновь огляделся, задумчиво наморщив лоб. «Если бы внести в этот бедлам немного домашнего уюта, возможно, она бы…»
Старуха будто угадала его мысли.
– Ты небось удивляешься, почему я живу в таком хлеву и не слежу за собой. Видит Бог, я уже пыталась навести здесь хоть какой-то порядок. Но мне кажется, я сошла бы с ума, если б мне это удалось. Стоило мне только начать и хотя бы передвинуть кресло, как меня охватывал ужас: все уже будет не так, как прежде… Что-то похожее случается, наверно, и с другими людьми, но они этого не понимают, ведь им не грозит мрак кромешный после упоения таким светом, какой знала я. Ты сочтешь это невероятным, но поверь на слово, Тадеуш, я чувствую даже какую-то отраду от того, что все вокруг, да и я сама, – в коросте грязи и запущенности. – Она помолчала, упершись взглядом в пол, и вдруг запальчиво добавила: – А почему бы человеку не торчать по уши в грязи, когда душа заточена в разлагающийся труп?!. И тогда здесь, – чуть слышно сказала она, – в этой куче дерьма я, даст бог, смогу когда-нибудь забыть… – Теперь она уже говорила скорее сама с собой. – Если бы не этот Зрцадло. – Лейб-медик навострил уши, вспомнив, что пришел сюда, в сущности, ради актера. – Да, если бы не Зрцадло! Мне кажется, это он во всем виноват… Я его выставлю… Если только… если только хватит сил.
Господин императорский лейб-медик громко кашлянул, чтобы привлечь внимание старухи.
– Скажи, Лизель, что это за тип? – поинтересовался Пингвин и уже без обиняков спросил: – Ведь он у тебя живет?
Она потерла рукой лоб.
– Зрцадло? С чего это ты вспомнил о нем?
– Ну, так… После того, что случилось вчера в доме Эльзенвангера… мне любопытен этот человек. Просто как врачу.
Богемская Лиза постепенно приходила в себя, и вдруг ее глаза округлились от ужаса, и она ухватилась за руку своего гостя.
– Знаешь, иногда мне кажется, он – дьявол. Умоляю тебя, Тадеуш, не думай о нем! Хотя нет. – Она истерически захохотала. – Все это чушь. Никакой это не дьявол. Он всего лишь сумасшедший. Ясное дело. Или… или актер. Или и то и другое.
Она изготовилась рассмеяться еще раз, но у нее лишь чуть дрогнули губы.
Лейб-медик видел, как ее бросило в странный озноб, как задрожали беззубые челюсти.
– Разумеется, он больной человек, – спокойно сказал Пингвин. – Но временами бывает в своем уме. Именно в такой момент я и хотел бы побеседовать с ним.
– Он всегда не в своем уме, – буркнула Богемская Лиза.
– Не ты ли сама вчера сказала, что он ходит по кабакам и дурачит людей?
– Да, представляется.
– Но для этого надо обладать ясным рассудком.
– Ему это не дано.
– Вот как… Гм… Но вчера он был в гриме! Неужели он, сам того не ведая, разукрасил себя? Или, может быть, кто-то его гримирует?
– Я.
– Ты? Для чего?
– Чтобы его принимали за артиста и он мог подзаработать. И чтобы его больше не сажали в каталажку.
Пингвин недоверчиво уставился на старуху. «Не может же этот Зрцадло быть ее сутенером, – размышлял он. Приступ сострадания окончательно миновал, и лейб-медик уже не чувствовал ничего, кроме отвращения к хозяйке и ее убежищу. – Вероятно, она живет на те гроши, что приносит лицедей. Ну конечно, так оно и есть».
Богемская Лиза тоже вдруг переменилась. Она извлекла из кармана кусок хлеба и принялась угрюмо жевать.
Господин императорский лейб-медик смущенно переминался с ноги на ногу. В нем закипала злость – угораздило же его притащиться в эту дыру.
– Если хочешь уйти, удерживать не стану, – пробурчала старуха, нарушив долгое тягостное молчание.
Императорский лейб-медик быстро схватил шляпу и, словно сбросив гору с плеч, подался к двери.
– И то правда, Лизель, время не ждет… Я… э-э… как-нибудь зайду тебя проведать.
Он машинально полез в карман за кошельком.
– Я же сказала тебе – в деньгах не нуждаюсь, – сердито напомнила хозяйка.
Он вытащил руку и уже на пороге попрощался:
– Ну что ж. Храни тебя Бог, Лизель!
– Бывай, Тад… Пингвин, бывай!
На улице лейб-медика ослепило яркое солнце, и он с искривленным от злости лицом поспешил к дрожкам, чтобы поскорее убраться с Нового Света и к обеду быть дома.
Глава третья
Далиборка
На тихий, обнесенный каменной стеной двор Далиборки – серой башни с гладоморней – легли косые тени старых лип, и предвечерний прохладный сумрак уже окутывал домик смотрителя, где жил ветеран Вондрейц со своей чахнувшей в подагре женой и приемным сыном Оттокаром, девятнадцатилетним студентом консерватории.
Старик сидел на скамейке, склонившись над горкой медных и никелевых монет, которые он разбирал и подсчитывал, – на подгнившей доске лежала его дневная выручка, то бишь чаевые, полученные от посетителей башни. Всякий раз, когда счет доходил до десяти, он наносил черту на песке своей деревянной ногой.
– Два гульдена восемьдесят семь крейцеров, – недовольный итогом, проворчал он, обращаясь к приемному сыну, который, прислонясь к дереву, старательно обрабатывал щеткой свои черные брюки, залоснившиеся в коленях до зеркального блеска. Затем старик, повернувшись к открытому окну, громко, по-военному доложил о выручке прикованной к постели жене. После этого он как-то обмяк, как бы окоченев с опущенной облысевшей головой в щучке – серой фельдфебельской фуражке, – подобно марионетке, у которой порвалась животворная нить; полуслепые глаза неподвижно смотрели на песок, усеянный липовым цветом, напоминавшим множество мертвых стрекоз.
Он не заметил – даже веки не вздрогнули, – как молодой человек взял со скамьи футляр со скрипкой, надел бархатный берет и направился к воротам, заштрихованным по казарменному образцу черными и желтыми полосами. Инвалид и ухом не повел, когда Оттокар попрощался с ним.
Студент двинулся было вниз, к Туншенскому переулку, на который выходил узкий торец мрачного дворца графини Заградки, но, сделав несколько шагов, остановился, словно одернутый какой-то мыслью. Он взглянул на свои старенькие карманные часы, резко развернулся и, не разбирая дороги, какими-то тропками вдоль Оленьего рва стал быстро подниматься к Новому Свету. Вскоре он без стука в дверь переступил порог лачуги Богемской Лизы…
Старуха была настолько погружена в воспоминания о своей юности, что долго не понимала, чего от нее хотят.
– Будущее? Что еще за будущее? – с отсутствующим видом бормотала она, улавливая лишь концы его фраз. – Нет никакого будущего!
Она недоуменно обводила взглядом всю его фигуру. Ее явно сбивал с толку подвязанный шнуром черный студенческий китель.
– А почему нет золотых галунов? Это же гофмаршал?! – вполголоса вопрошала она. – Ах, вон оно что! Пан Вондрейц-младший желает знать будущее. Так-так.
Только теперь до нее дошло, чего ради он пришел. И, уже не тратя слов понапрасну, она подошла к комоду, наклонилась и вытащила из-под него какую-то доску, обмазанную красноватым пластилином. Старуха положила ее на стол и протянула студенту деревянный грифель.
– Вот! А теперь тычьте, пан Вондрейц! – сказала она. – Справа налево. Только не считайте! Думайте лишь о том, что хотите знать!.. В шестнадцать рядов. Один под другим.
Оттокар взял палочку, задумчиво сдвинул брови, в нерешительности замялся, а потом вдруг, побледнев от волнения, подскочил к доске и в неистовом порыве дрожащей рукой начал усеивать мягкую массу вереницами лунок.
Когда он закончил, Богемская Лиза подсчитала и мелком перенесла эти точки, распределив по рядам, на некое подобие аспидной доски. Оттокар напряженно наблюдал, как хозяйка соединяет их в определенные геометрические фигуры так, что в результате получился четырехугольник, поделенный на множество частей. При этом она механически приговаривала:
– Это, стало быть, матери, дочери, племянники, свидетели, красный, белый и судья, драконий хвост и голова дракона… Все точно по законам старинного чешского искусства гадания… Нас научили ему сарацины, до того как были уничтожены в боях у Белой горы. Задолго до княгини Либуше… Да-да, у той самой Белой горы, напоенной кровью людской… Чехия – очаг всех войн… Она и по сей день такой очаг, и всегда им пребудет… Ян Жижка, наш вождь Жижка, слепой воин!
– Что Жижка? – не удержавшись, перебил студент. – Там есть про Жижку?
Старуха оставила вопрос без внимания.
– Будь Влтава не такой быстрой, – продолжала она, – мы жили бы на алой от крови реке.
И вдруг в ее голосе зазвучала какая-то сатанинская веселость:
– А знаешь, детка, почему в реке так много пиявок? От истоков до самой Эльбы нет такого камня, под которым не таились бы эти кровососы. А все потому, что прежде река катила кровавые волны. И маленькие твари ждут своего часа, потому что знают: придет день, когда они снова будут жировать… Что это?..
Она выронила мелок и в изумлении поглядывала то на молодого человека, то на вычерченные фигуры.
– Что это? Да ты никак хочешь стать владыкой мира?
Старуха испытующе посмотрела в темные, сверкающие лихорадочным огнем глаза студента.
Он ничего не ответил, но от нее не укрылось, как судорожно ухватился он за столешницу, словно боясь пошатнуться.
– Я давно приметила, что ты завел шашни с Боженой из дома барона Эльзенвангера.
Оттокар протестующе мотнул головой.
– Ага, стало быть, дело прошлое. Ну, если она настоящая чешская девка, злом тебя не помянет. Даже прижив ребенка… А вот этой, – старуха указала на одну из фигур, – остерегайся… Она кровь сосет… Она тоже чешка, но древней опасной породы.
– Неправда, – хрипло произнес студент.
– Неужели? Ты так думаешь? Она из княжьего рода Борживоев, верно тебе говорю. А ты… – она задержала задумчивый взгляд на узком смуглом лице молодого человека, – а ты… ты… тоже из Борживоев. Оттого-то двое и тянутся друг к другу, точно железо и магнит… Ну, будет нам вчитываться в знаки.
И старуха стерла рукавом рисунок на доске, прежде чем студент успел удержать ее.
– Только смотри, не стать бы тебе железом, а ей магнитом, иначе ты пропал, малыш. В роду Борживоев от века убивали друг друга и грешили кровосмешением. Вспомни о судьбе святого Вацлава!
Студент попытался улыбнуться:
– Вацлав святой – не из рода Борживоев, а уж я тем более. Я всего лишь Вондрейц, фрау… фрау Лизинка.
– Никогда не говорите мне: фрау Лизинка! – Старуха яростно стукнула кулаком по столу. – Я тебе не фрау! Я шлюха… Фройляйн я!
– Мне хотелось бы только узнать, – робко пролепетал студент, – что вы имели в виду, когда говорили про владыку мира и про Яна Жижку…
И тут скрип половиц за дверью заставил его прерваться. Он обернулся и увидел, как в проем протискивается мужская фигура – огромные черные очки, не по росту длинный сюртук с нелепо вздыбленными плечами, что, видимо, имитировало горб; ноздри раздуты ватными пробками; огненно-рыжий парик и такой же лисьей масти бакенбарды, явно приклеенные, о чем можно было догадаться за версту.
– Тысяча извинений, почтеннейшая пани! – неумело измененным голосом произнес незнакомец, обращаясь к хозяйке. – Будьте добреньки… прошу пардону, если обеспокоил… молвите только словечко: не был ли тут, часом, господин императорский лейб-медик фон Флюгбайль?
Старуха беззвучно усмехнулась.
– Будьте добреньки… позвольте полюбопытствовать… мне сказали, он сюда нынче визитировал.
Богемская Лиза, точно статуя, сохраняла все ту же гримасу.
– Я должен господину лейб-медику…
– Не знаю я никакого лейб-медика! – словно очнувшись, взъярилась старуха. – Вон отсюда, скотина безмозглая!
Странный тип мгновенно исчез за дверью, вслед за чем на пол звучно шмякнулась мокрая губка, которую хозяйка в гневе сорвала с грифельной доски.
– Это был всего лишь Стефан Брабец, – упредила она вопрос студента. – Частный шпик. Каждый раз пытается влезть в новую шкуру, думает, никто не узнает в нем ряженого недоумка… Где какая заварушка, там и его длинный нос. Он бы и рад нажиться на вымогательстве, да ума не хватает… Сам-то он снизу, из Праги… Там все ему под стать… Я думаю, это от каких-то особых испарений. Пройдет время, и все станут такими, как он. Кто раньше, кто позже. Если двое встречаются, один лукаво склабится, чтобы другой подумал, будто про него что-то знают… А ты не замечал, детка, – старуху охватило какое-то странное беспокойство, и она начала расхаживать из угла в угол, – что Прага поражена безумием? От переизбытка таинственного… Ты и сам не в своем уме, только не знаешь этого! Однако здесь, наверху, в Градчанах, сходят с ума иначе… Тут скорее… окаменелое безумие… Тут все превращается в камень… Но когда-нибудь грянет гром и все ходуном заходит, как будто ожили каменные великаны и принялись крушить город… Я это, – старуха понизила голос почти до шепота, – я это еще ребенком от бабушки слыхала… Да, так вот, а Стефан Брабец, поди, носом чует, что на Градчанах что-то затевается. Что-то назревает.
Студент побледнел и невольно покосился на дверь.
– О чем вы? Что именно назревает?
Богемская Лиза продолжала говорить, как бы не слыша его.
– Поверь мне, детка, ты уже сумасшедший… Небось и впрямь хочешь стать властелином мира… А впрочем, дело понятное… Если бы в Чехии не было такого множества безумцев, мог ли зародиться в ней вечный очаг войны! Ну так и будь сумасшедшим, мальчик! В конце концов, мир принадлежит безумцам… Я была даже любовницей сербского короля Милана Обреновича, и лишь потому, что верила: я могу стать ею. Но я была далека от мысли стать королевой Сербии! – И вдруг она будто проснулась. – А почему ты не на войне?! Ах, вот как? Порок сердца?.. Ну-ну… А почему не считаешь себя Борживоем?
Не дав ему ответить, старуха неожиданно сменила тему:
– А сейчас куда идешь, мальчик? Со скрипкой-то?
– К графине Заградке. Я играю для нее.
Старуха с немалым удивлением подняла на него глаза. Она опять долго изучала лицо молодого человека, а затем кивнула, словно в подтверждение правильности собственных предположений.
– Да. Так и есть. Борживой. И она привечает тебя, Заградка?
– Она моя крестная мать.
Богемская Лиза расхохоталась:
– Крестная мать! Как же! Крестная!
Оттокар не мог взять в толк, что ее так рассмешило. Он хотел было повторить свой вопрос про Яна Жижку, но понял, что это будет еще одной напрасной попыткой.
Он достаточно давно знал эту женщину, чтобы догадаться по изменившемуся выражению ее лица: аудиенция окончена.
Смущенно пробормотав слова благодарности, Оттокар двинулся к двери.
Едва он завидел задремавший в последних лучах заката старый монастырь капуцинов, мимо которого ему предстояло пройти к городскому дворцу графини, как совсем рядом, словно в знак приветствия, раздался величавый звон колоколов храма Св. Лоретты. И Оттокару почудилось, будто заиграл целый оркестр эоловых арф, и он оказался во власти чарующих звуков.
На него набегали мелодические воздушные волны, они обволакивали, донося дыхание укрытых за стенами садов, окутывали, подобно несказанно нежной вуали, сотканной в незримых горних мирах. Он застыл на месте и завороженно слушал и в какой-то миг как будто уловил звуки старинного хорала, распеваемого тысячью далеких голосов. Порой казалось, что это поет его душа, но уже в следующий миг звуки воспаряли над ним, чтобы, как эхо, замереть где-то в облаках. Иногда они слышались так явственно и близко, что он мог разобрать латинские слова, но вдруг эти звуки поглощало гудение колокольного баса, и они становились тихими, приглушенными аккордами, словно доносившимися из подземных монастырских галерей.
В каком-то полусне он прошел по украшенной березовыми ветвями Градчанской площади мимо Града, камни которого отражали и усиливали наплыв звуков с такой силой, что Оттокар почувствовал, как задрожали струны скрипки в футляре, будто она ожила в своем деревянном гробу.
Потом он стоял на площадке новой замковой лестницы и смотрел вниз – на широкое, окаймленное балюстрадой полотно из двух сотен гранитных ступеней. Они сбегали к морю крыш, сверкавших отблесками вечерней зари. Оттуда черной гусеницей ползла наверх какая-то процессия.
У нее была серебряная голова с пестрыми щупальцами – таким виделся издалека белый балдахин, который несли четыре священника в стихарях и епитрахилях, а под ним – архиепископ в красной шапочке, в туфлях из пурпурного шелка и в расшитой золотом литургической мантии. Ряды поющих людей одолевали ступень за ступенью.
Теплый неподвижный воздух весеннего вечера размывал огоньки свечей в руках причетников, и казалось, над лестницей парят прозрачные овальные блестки; за ними тянулись тонкие черные нити копоти, порой исчезавшие в голубоватых облачках, которые поднимались при каждом торжественном взмахе кадил.
Закат полыхал над городом, огненной каймой подсвечивал мосты, окрашивал багрянцем – золото, превращенное в кровь, – воды, бегущие между опор, горел в тысячах окон, как будто за ними бушевал пожар.
Студент не мог оторвать глаз от этой картины. У него не выходили из головы слова старухи о Влтаве и о том, что ее воды не раз становились алыми. Великолепное шествие, двигавшееся навстречу ему по ступеням лестницы, на какой-то миг привело его в сумасшедший восторг: да, именно таким и должен предстать перед ним мир, если когда-нибудь осуществится его безумная мечта о коронации.
Он закрыл глаза, не желая видеть людей, собравшихся вокруг, чтобы присоединиться к процессии. В эту минуту он хотел лишь одного – отринуть от себя прозаическую реальность.
Он повернулся и пошел прочь. Через дворы и площади Града, торопясь к графине и в то же время избегая людных мест.
Завернув за угол здания ландтага, он еще издали, к своему удивлению, увидел, что ворота Вальдштейнского дворца широко открыты.
Оттокар решил воспользоваться случаем и заглянуть в темные сады с диковинным, в руку толщиной, плющом на стенах и хоть краешком глаза увидеть чудесный ренессансный павильон и исторический Купальный грот. С детских лет, когда он впервые смог вблизи взглянуть на великолепие былых времен, оно глубоко запечатлелось в его душе как неизгладимое воспоминание, как чарующий образ некой сказочной страны. Лакеи в обшитых серебром ливреях и с гладко выбритыми лицами – только короткие баки на висках – молча вытаскивали на улицу чучело лошади, на которой когда-то скакал Валленштейн. Он узнал ее по багряной попоне и желтым стеклянным глазам. Когда-то, вдруг вспомнилось ему, они настолько поразили его, что даже являлись в детских снах как некое загадочное предзнаменование. И вот боевой конь стоял перед ним в лучах заката с привинченными к темно-зеленому помосту копытами, словно исполинская игрушка, которую выкатили из мира грез, перенеся в эпоху бескрылой, почти лишенной фантазии обыденщины, – а она пострашнее всех войн, ибо с тупым безразличием приемлет войну механических демонов против людей, в сравнении с чем все сражения Валленштейна покажутся заурядными кабацкими драками.
И вновь, как при виде процессии, у него мурашки пробежали по коже – этот конь, оставшийся без всадника, только и ждет, когда неустрашимо решительный муж, новый повелитель, оседлает и пришпорит его.
Оттокара не отрезвило даже чье-то ехидное замечание: мол, шкура у коня молью трачена. Он как бы не слышал этих слов. Зато вопрос ухмылявшегося лакея: «Не соизволит ли господин маршал сесть на коня?» – пробудил в нем такую бурю чувств, будто к нему воззвал глас повелителя судеб из святая святых бытия. А насмешливый тон не стоит даже замечать… «Ты и сам не в своем уме, только не знаешь этого», – час назад сказала старуха, но разве она не добавила: «В конце концов, мир принадлежит безумцам»?
Оттокар почувствовал, как удары сердца сотрясают все тело. Усилием воли он вырвался из потока грез и быстрым шагом двинулся в сторону Туншенского переулка.
С наступлением весны графиня Заградка имела обыкновение переезжать в маленький мрачный дворец своей сестры, покойной графини Моржины. Окна были надежно защищены от проникновения ярких лучей солнца, поскольку старуха ненавидела май с его теплым шаловливым ветерком и толпами празднично разодетых веселых людей. Ее собственный дом близ Страговского монастыря на самом высоком из городских холмов смыкал, как веки, свои ставни и погружался в глубокий сон.
Студент поднимался по узкой, выложенной кирпичом лестнице, которая вела прямо в холодный сумрачный коридор с мраморным полом и дверями в два ряда.
Бог весть как возникла легенда, будто в этом неуютном, напоминавшем присутственное место доме спрятаны немыслимые сокровища и водятся привидения.
Скорее всего, это выдумка какого-то шутника, решившего подчеркнуть враждебность всему романтическому, которую источал здесь каждый камень.
У студента мигом вылетели из головы все сладостные фантазии. Он вдруг почувствовал себя таким бедным и безвестным ничтожеством, что невольно расшаркался, прежде чем постучать в дверь.
Трудно себе представить нечто более неуютное, чем комната, где графиня Заградка сидела в кресле, зачехленном серой джутовой мешковиной. Старинный мейсенский камин, диваны, комоды, кресла, венецианская люстра не менее чем на тысячу свечей, бронзовые бюсты, рыцарские доспехи – все было укутано холстами, будто накануне аукциона; даже стены, снизу доверху увешанные миниатюрными портретами, задрапированы кисеей. «Защита от мух» – так, кажется, пояснила ему графиня, когда он, еще ребенком, спросил ее, для чего эти занавески на стенах. Или ему все приснилось? Он бывал здесь сотню, если не более, раз, но не мог вспомнить, чтобы когда-нибудь видел в этих комнатах хоть одну муху.
И еще он ломал голову над тем, что скрывается там, за мутными окнами, перед которыми сидела графиня. Куда они выходили: во двор? В сад или на улицу? Но решить эту загадку он не осмеливался. Для этого надо было пройти мимо графини, о чем он и помыслить не мог.
Вечно неизменный образ этой комнаты парализовал в нем всякую решимость. Стоило ему только переступить порог, как он снова переживал тот миг, когда его впервые привели сюда, и ему казалось, что все его существо зашито в серый холщовый мешок – для «защиты от мух», которые сюда даже не залетали.
Единственным предметом, лишенным текстильного покрова, по крайней мере отчасти, был мужской портрет в полный рост. Окруженный множеством миниатюрных изображений, он был прикрыт серым коленкором, в котором, однако, была вырезана четырехугольная прореха, ее края служили своеобразной рамкой для лысой головы грушевидной формы, с водянисто-голубыми глазами, бесчувственными, как пуговицы. Этой вислощекой физиономией природа наградила покойного мужа старой дамы, обер-гофмаршала Заградку.
Оттокар когда-то слышал, хотя давно забыл, где и от кого, что граф был человеком не только твердого характера, но и неумолимо жестоким. Глухой к чужим страданиям, он в то же время был беспощаден и по отношению к самому себе. Говорят, в детстве он просто от скуки вогнал себе в ступню гвоздь и таким образом пригвоздил себя к половице.
В доме было полно кошек, все как одна старые, они бродили где-то рядом медленно и бесшумно, словно тени.
Оттокар не раз наблюдал, как в коридоре, где их набиралась целая дюжина, они расхаживали вдоль дверей, серые и тихие, и смахивали на свидетелей, вызванных на судебное заседание и ожидавших своей очереди для дачи показаний. Но в комнату они заходить не смели, и если когда-нибудь одна из них по ошибке совала голову в приоткрытую дверь, то сразу же почтительно ретировалась, как бы извиняясь: понимаю, понимаю, еще не время…
По отношению к студенту графиня вела себя довольно странно.
Иногда она выказывала такие чувства, которые грели его, подобно нежной материнской любви, но это всегда было мгновенной вспышкой, через секунду-другую его уже окатывала волна ледяного презрения, почти ненависти.
В чем тут дело, он понять не мог, сколько ни пытался. Похоже, причиной тому – сословные амбиции, вошедшие в плоть и кровь; быть может, сказывалось психологическое наследие древних дворянских фамилий Богемии, у которых за несколько столетий выработалась несокрушимая привычка видеть в окружающих всего лишь безропотную челядь.
Ее любовь к нему – если о таковой вообще можно вести речь – никогда не облекалась в слова, зато ужасающее высокомерие графини зачастую бывало весьма красноречивым, пусть даже оно выражалось скорее в жестком тоне, нежели в смысле ее слов.
В день конфирмации Оттокару надлежало сыграть на своей детской скрипочке чешскую народную песню «Андулка, моя милая, любимое дитя…». Позднее, по мере совершенствования исполнительской сноровки, ему стали под силу и вещи из благородного репертуара – хоралы, серенады и даже бетховенские сонаты, но никогда – хорошо ли, плохо ли у него получалось – на лице графини нельзя было заметить никаких признаков одобрения или неудовольствия.
Он и по сей день не мог с уверенностью сказать, способна ли она вообще оценить его искусство.
Порой он пытался тронуть ее сердце собственными импровизациями и по тем переменчивым флюидам, которые исходили от крестной матери, угадать, нашел ли он ключ к ее душе, но часто случалось так, что при каких-то огрехах, когда скрипка немного завиралась, он чувствовал, что ему отвечают внезапным приливом любви, и, напротив, ежился от молчаливой ненависти графини, когда его смычком водила рука вдохновенного мастера.
Возможно, в силу безграничной сословной спеси, которая была у нее в крови, она воспринимала его мастерство как посягательство на привилегии своей породы, и тогда ее душила ненависть; может быть, в ней говорили также инстинкты славянки, повелевавшие любить лишь слабых и несчастных. Или же все выходило совершенно случайно, но, как бы то ни было, между ними оставалась непреодолимая преграда, сокрушить которую он уже и не надеялся, так же как не нашел в себе смелости подойти к окну и выглянуть наружу.
– Итак, пан Вондрейц, можете начинать, – сказала она, как всегда, привычно бесстрастным тоном, когда Оттокар, отвесив молчаливый почтительнейший поклон, открыл футляр, достал скрипку и взялся за смычок.
И еще больше, чем прежде, погружаясь в прошлое (возможно, так подействовали переживания в саду Вальдштейнского дворца и вид этой серой комнаты, означавшей для него давно застывшее время), он без раздумий, ненароком выбрал песенку своей конфирмации, глуповатую и сентиментальную «Андулку». Уже после первых тактов Оттокар опомнился и в испуге посмотрел на графиню, но она не выказала ни удивления, ни досады. Старая дама пустыми глазами смотрела куда-то в пространство, как и ее супруг на портрете.
Постепенно он начал варьировать мелодию, следуя мгновенным подсказкам вдохновения.
У него была характерная особенность: он как бы отделял себя от своей игры и мог воспринимать ее как удивленный слушатель, будто не он, а кто-то другой извлекал эти звуки – некто, заключенный в нем самом, но все же не он, а скрипач, о котором Оттокар не знал ничего и не мог сказать, как он выглядит и какова его натура.
Воображение уносило его в чужедальние края, погружало в такую глубь времен, которая недоступна человеческому взору, и он извлекал из этих глубин невиданные звучащие сокровища. Это настолько захватывало юношу, что стены вокруг исчезали и его обступал новый и вечно обновляющийся мир, сверкающий красками и полный звуков. И порой казалось, будто мутные стекла промываются потоками света, и он вдруг открывал за ними сказочное царство несравненного великолепия, белокрылых мотыльков, танцующих в воздухе, – живой снегопад в летнюю пору. И вот он уже видел себя шагающим по нескончаемым жасминовым аллеям, он шел, хмелея от любви и прильнув к горячему плечу девушки в подвенечном уборе, и всем существом впитывал аромат ее кожи.
А потом, как нередко бывало, холстина вокруг портрета гофмаршала превращалась в ливень светлых, пепельных волос, они обтекали девичье лицо, рот чуть приоткрыт, а из-под соломенной шляпки смотрят большие темные глаза.
И всякий раз, когда оживали эти черты, которые во сне, наяву и в минуты мечтательного забытья настолько сроднились с ним, что он ощущал их как свое истинное сердце, ему казалось, будто в нем по ее тайному приказу просыпался тот, «другой», и тогда голос скрипки приобретал неожиданно мрачную окраску, словно смычком водила яростная, чужеродная жестокость.
Створки двери, ведущей в соседнюю комнату, вдруг раскрылись, и в гостиную тихо вошла та самая девушка, которая занимала его воображение.
Лицом она напоминала даму в наряде эпохи рококо, изображенную на одном из портретов в доме барона Эльзенвангера. Столь же юное и прекрасное создание…
В проеме мелькнуло несколько пар кошачьих глаз.
Студент спокойно и без всякого удивления смотрел на девушку, как будто она была здесь всегда. А чему, собственно, удивляться? Она же вышла из него самого и просто встала чуть поодаль!
Он продолжал играть и не мог остановиться. Он играл упоенно, забыв все на свете, кроме своих грез. Он видел, как они стоят рядом во мраке склепа базилики Св. Йиржи, трепещущее пламя свечи, которую несет монах, тускло отражается на черном мраморе статуи – полуистлевшая женская фигура в лохмотьях, высохшие глаза, а под ребрами в разорванном чреве вместо ребенка – свернувшийся кольцами змей с омерзительной, плоской треугольной головкой.
И музыка становилась речью, говорила голосом монаха, монотонным и замогильным, который ежедневно бормочет, как литанию, свою притчу в назидание посетителям склепа:
«Много лет назад жил в Праге один ваятель, у него была женщина, с коей он, потакая своему любострастию, состоял в греховной связи. Когда же заметил, что любовница его понесла, заподозрил ее в неверности, подумав, что она изменила ему с другим мужчиной. Злодей задушил ее, а мертвое тело бросил в Олений ров. Там оно было изъедено червями, а когда его нашли, то в скором времени изловили и убийцу. Вместе с трупом его заточили в склеп, где в наказание ему надлежало высечь в камне фигуру убиенной и обезображенной, а по завершении работы ваятель сей был колесован…»
Оттокар вздрогнул, пальцы замерли на грифе скрипки, он очнулся от забытья и прояснившимися глазами увидел вдруг за креслом графини девушку, которая с улыбкой смотрела на него.
Не смея, да и не в силах шевельнуться, он словно оцепенел, а смычок прирос к струнам.
Графиня Заградка сверкнула лорнетом.
– Ну что ты стоишь, как чурбан. Играй же, Оттокар. Это – моя племянница. А ты не мешай ему, Поликсена.
Студент не двигался, только рука со смычком упала, точно при сердечном спазме.
Полная тишина. Не меньше минуты длилась немая сцена.
– Так и будешь стоять?! – гневно воскликнула графиня.
Студент встряхнулся, едва совладав с руками, которые теперь предательски дрожали, и скрипка тихо и жалобно запела:
- Андулка, моя милая,
- Любимое дитя…
Воркующий смех юной дамы прервал простенькую мелодию.
– Лучше скажите нам, господин Оттокар, что за прелестную вещь вы играли перед этим? Фантазию? – И, подчеркивая каждое слово паузой, Поликсена задумчиво добавила: – Мне… так живо представился… склеп у святого Йиржи… господин… господин Оттокар.
Старая графиня чуть заметно вздрогнула, ее чем-то насторожила интонация, с какой племянница произнесла эти слова.
Смущенный студент пробормотал что-то невразумительное. На него в упор смотрели две пары глаз: юные были исполнены такой всепоглощающей страсти, что его бросило в жар; старые же впивались холодным подозрительным взглядом, словно сверля и пронзая его насквозь клинками лютой ненависти. Он не знал, кому ответить своим взглядом, опасаясь нанести глубочайшее оскорбление одной и выдать свои чувства другой даме.
«Играть, только играть! Немедленно! Без раздумий!» Оттокар мгновенно вскинул смычок.
Лоб покрылся холодным потом. «Не приведи Господь еще раз начать проклятую „Андулку“!» Но при первом движении смычка он, к своему ужасу, – даже в глазах потемнело – понял, что его неодолимо тянет повторить песенку, и он бы пропал, если бы на выручку не пришли звуки шарманки за окном, и он с какой-то безумной поспешностью ухватился за эту пошловатую уличную мелодию:
- Девушке с бледным лицом
- Век не бывать под венцом.
- Парни желают с румянчиком,
- Чтоб миловаться с розанчиком.
- Расцветайте, цветочки мои…
Но из этой попытки ничего не вышло. Ненависть, исходившая от графини, парализовала руки, он едва не выронил скрипку. Словно сквозь пелену тумана он видел, как Поликсена тенью скользнула к напольным часам возле двери, откинула холщовый чехол и, сдвинув с мертвой точки стрелку, установила ее на цифре VIII. Оттокар догадался, что это означало час свидания, но его радость угасла при страшной мысли, что от графини ничто не может укрыться.
Костлявые старушечьи пальцы нервно рылись в вязаном кошельке, и юноша понял: сейчас она преподнесет какой-то сюрприз, подвергнет его столь ужасному унижению, какое он не смел даже вообразить.
– Вы… сегодня… славно… помузицировали… Вондрейц, – отчеканив каждое слово, произнесла графиня, после чего извлекла из кошелька две мятые бумажки и протянула их студенту. – Вот ваши… чаевые… И купите себе за мой счет брюки… поприличнее, эти уж совсем засалились.
Он почувствовал, как невыносимый стыд сковывает сердце.
Последняя ясная мысль: он должен взять деньги, главное – не выдать своих чувств. Всю комнату размыла какая-то серая мгла, он едва мог различить фигуру Поликсены, часы, гофмаршала на портрете, рыцарские доспехи, кресло. Лишь два мутных окна сверкали, точно в желтозубом оскале. Оттокар понял: графиня накинула на него холщовый чехол, который ему не сбросить до самой смерти.
Он не помнил, как спустился по лестнице и оказался на улице… А был ли он вообще там, наверху, в этой комнате? Но мучительная рана в душе развеивала сомнения. К тому же он сжимал в руке деньги, подачку графини. Он рассеянно сунул их в карман.
И тут до него дошло: в восемь часов к нему придет Поликсена. Он услышал, как часы на башнях отмерили четверть часа и как вдруг залилась лаем собака. Этот лай был подобен ударам бича: неужели у него и впрямь такой убогий вид, что его облаивают псы из богатых домов?
Оттокар стиснул зубы, словно пытаясь заглушить мучительные мысли, и с дрожью в коленях пустился бежать в сторону дома… Но за углом он остановился, перед глазами все плыло… «Нет, только не домой. Прочь отсюда, чтобы больше не видеть Праги». Жгучий стыд пожирал его. «Лучше уж головой в воду!» С запальчивой решимостью юной души он рванулся было вниз, к берегу Влтавы, но тот, «другой» одернул его, будто сковал ему ноги, нашептывая лживые предостережения: утопившись, он-де наверняка предаст Поликсену. Этот голос коварно подменял собой то, что действительно удерживало Оттокара от рокового шага, – инстинктивную волю к жизни.
«Боже, какими глазами я буду смотреть на нее! – неслышно возопил он. – Нет, она не придет, – пытался успокоить себя Оттокар, – она не может прийти. Все кончено!» Но от этой мысли еще сильнее заныло сердце. Как же он будет жить, если она не придет, если он больше не увидит ее!
Показались полосатые черно-желтые ворота. Оттокар вошел во двор Далиборки. Он чувствовал, что ближайший час обернется страшной, бесконечной пыткой: если появится Поликсена – он будет уничтожен стыдом; если она не придет – грядущей ночью он может сойти с ума.
Оттокар в ужасе посмотрел на башню с гладоморней – круглый белый шлем ее торчал из-за разрушенной стены, возвышаясь над Оленьим рвом. Было смутное ощущение, что она все еще живет своей жизнью душегуба – сколько жертв лишилось рассудка в ее каменной утробе, но Молох до сих пор не насытился – и вот после векового летаргического сна требует новых.
Впервые со времен детства он увидел в ней не творение человеческих рук, а гранитное чудовище с ядовитым нутром, которое, подобно ночным хищникам, может переваривать все живое вместе с костями. В башне было три яруса, перемычки между ними прорезали круглые отверстия, образуя шахту – глубокий пищевод от пасти до желудка. Наверху в былые времена она из года в год перемалывала ослепших от тьмы осужденных, потом их полумертвыми спускали на веревке на средний ярус к последней кружке воды и корке хлеба, где они доживали последние дни, если, обезумев от шедшего из глубины трупного смрада, не бросались вниз, туда, где гнили останки их предшественников.
В осененном липами дворе веяло влажной вечерней прохладой, но окно домика было все еще открыто.
Оттокар тихонько присел на скамейку под окошком, боясь потревожить старую, измученную подагрой женщину, которая, вероятно, уже спала. Он силился хотя бы на время забыть все, что пережил за этот вечер, как-то оттянуть муку ожидания – наивная детская попытка обмануть свое сердце…
И тут он все-таки дрогнул, почувствовав неодолимую слабость, к горлу подкатил комок. С невероятным трудом юноша подавлял душившие его рыдания. Из-за окна донесся бесцветный, словно приглушенный подушкой голос:
– Оттокар?
– Что, матушка?
– Оттокар, ты не зайдешь поесть?
– Нет, я не голоден. Я уже поел.
За окном снова воцарилась тишина. В комнате раздался тихий металлический звон часов. Пробило половину восьмого. Студент сжал губы и судорожно сцепил ладони: «Что мне делать? Как же мне теперь быть?»
Вновь послышался голос:
– Оттокар?
Он не откликнулся.
– Оттокар?
– Что, матушка?
– Почему… почему ты плачешь, Оттокар?
Он выдавил из себя нечто похожее на смех.
– Я? С чего ты взяла? Я вовсе не плачу. Даже и не думал.
Ответом было недоверчивое молчание.
Он оторвал взгляд от исполосованной тенями земли. «Хоть бы ударили в колокола. Неужели тишина будет длиться бесконечно?»
Он всматривался в багряный окоем, и тут все же нашлись какие-то слова:
– Отец дома?
– Он в трактире. Скоро небось придет.
Оттокар порывисто поднялся.
– Тогда я тоже выйду на часок. Спокойной ночи, мама!
Он взял футляр со скрипкой и взглянул на башню.
– Оттокар?
– Я здесь. Окно закрыть?
– Оттокар… я ведь знаю… Ты не в трактир идешь, а в башню.
– Да… это потом… Там лучшее место для упражнений. Спокойной…
– Она опять придет в башню?
– Божена? Бог мой… ну да… наверно. Иногда она приходит, если есть свободный часок… Мы оба не прочь поболтать немного… Отцу что-нибудь передать?
Голос за окном стал еще печальнее.
– Думаешь, я не знаю, что это не Божена? Я ведь слышу походку. Кто весь день батрачит, не бывает так легок на ногу.
– Опять ты что-то выдумываешь, мама. – Он попытался рассмеяться.
– Ладно, Оттокар. Закрой-ка и в самом деле окно. Так будет лучше. Я хоть не услышу тех страшных песен, которые ты всегда играешь при ней. Мне хотелось… я могла бы помочь тебе, Оттокар!
Уже не слыша последних слов, он поспешил со своей скрипкой к пролому в стене и по неровным каменным ступеням взлетел на деревянные мостки у входа в верхний ярус башни. Студент попал в полукруглое помещение с узким окном, напоминавшим расширенную в метровой толще стены бойницу, оно выходило на юг, и был виден собор, паривший над Градом.
Для отдыха посетителей, ежедневно поднимавшихся в башню, здесь была расставлена кое-какая мебель: грубо сколоченные стулья, стол с графином воды и старый, потертый диван. В полумраке вся эта рухлядь казалась приросшей к стенам и полу. Маленькая железная дверь с распятием вела в камеру, куда два столетия назад была заточена графиня Ламбуа, прабабка Поликсены. Покойница отравила своего мужа и, прежде чем умереть в полном умопомрачении, вскрыла себе вены и кровью нарисовала на стене портрет убиенного. А еще дальше находился каменный мешок в шесть квадратных футов, с глухими стенами – один из узников куском железа выдолбил в кладке углубление, в котором мог поместиться человек. Тридцать лет он вгрызался в стену и, если бы сумел продвинуться еще на пядь, – доскребся бы до воли, чтобы рухнуть в Олений ров.
Но его попытку успели-таки пресечь, и он был обречен на голодную смерть в каменном чреве башни.
Оттокар метался между стен, присаживался на камни оконной ниши и снова вскакивал. Временами он был уверен: Поликсена непременно придет, а через минуту ему казалось, что он больше никогда ее не увидит. И одно страшное ожидание сменялось другим, еще более страшным.
Надежда была неотделима от ужаса.
Каждую ночь он отходил ко сну с образом Поликсены в своем сердце, и этот образ властвовал над ним и во сне, и наяву. Он видел ее, когда играл на скрипке, мысленно разговаривал с ней, оставаясь один. Он строил для нее самые фантастические воздушные замки. Но что же его ждет?.. «Жизнь – темница с глухими стенами», – повторял он в безграничном отчаянии, на какое способно лишь юношеское сердце.
Даже мысль о том, что он когда-нибудь сможет вновь заиграть на своей скрипке, казалась ему невероятнее самой смелой фантазии… И хотя тихий голос, вещавший где-то в груди, уверял его: все будет иначе, совсем не так, как он думает, Оттокар был глух к нему, не хотел слышать никаких утешений.
Боль бывает порой столь сильной и неукротимой, что не желает поддаваться никаким целительным средствам, и всякий ободряющий возглас, даже если он исходит из глубины человеческого естества, лишь сильнее разжигает ее…
В сгущавшейся тьме под сводами и без того мрачной башни с каждой минутой нарастала тревога, которая становилась для Оттокара мукой мученической.
Он вздрагивал при каждом шорохе, доносившемся снаружи, сердце замирало при мысли, что это звуки шагов Поликсены. Он считал секунды, еще мгновение – и она войдет в дверь. Но всякий раз Оттокар ошибался и, вообразив, как она, не дойдя до порога, повернула назад, испытывал страшное отчаяние уже другого рода.
Он познакомился с ней несколько месяцев назад, их первую встречу Оттокар вспоминал как сказку, ставшую былью. А двумя годами раньше ему явился ее образ, когда он увидел портрет дамы эпохи рококо: палево-пепельные волосы, узкий овал лица, жестоко-сладострастный рисунок полуоткрытых губ, полуоскал кровожадных, сверкающих белизной зубок. Портрет висел в «галерее предков» барона Эльзенвангера и взирал со стены на Оттокара, когда тому однажды вечером пришлось играть там для гостей. С тех пор этот образ настолько отчеканился в его сознании, что Оттокар как воочию видел его, стоило только на миг закрыть глаза. Постепенно дама на холсте обрела такую власть над юной томящейся душой, подчинив себе все его чувства и помыслы, будто стала живым существом, дыхание которого он чувствовал на своей груди, когда по вечерам сидел на скамейке под липами и грезил о необыкновенном создании.
Это был портрет графини Ламбуа, как он тогда узнал, и ее звали Поликсена.
Все пылкие полудетские мечтания о красоте, изяществе, блаженстве, счастье и упоении отныне облекались в зримый образ по имени Поликсена, которое вскоре стало магическим заклинанием; стоило его только произнести, и совершалось чудо – она была совсем рядом, и он ощущал жар поистине испепеляющей ласки.
Несмотря на юность и здоровье, которое раньше не внушало опасений, Оттокар чувствовал, что внезапное заболевание сердца не излечить никаким врачам и что, возможно, ему суждено умереть во цвете лет, но это не печалило его, напротив, он испытывал какое-то сладостное предощущение смерти.
Странный, прямо-таки несусветный мир вокруг гладоморни, с его былями и легендами, пробудил в Оттокаре еще в детские годы тягу к мечтательству, к возведению воздушных замков, и тогда уже реальная жизнь, такая убогая и утесненная узкими границами, казалась ему враждебным миром неволи.
Ему даже не приходило в голову связывать свои мечты и томления с какими-то свершениями в земной юдоли. Время, в которое он жил, исключало всякие планы на будущее.
Он вполне обходился без общения со сверстниками. Далиборка, уединенный двор, немногословные приемные родители да старый учитель, нанятый графиней Заградкой для обучения ребенка, поскольку его покровительница не желала, чтобы он посещал школу, – вот и все его первые и долгое время единственные впечатления внешнего бытия.
Его мрачноватый вид и отчужденность от общества, движимого тщеславием и погоней за успехом и удачей, сделали бы Оттокара одним из многочисленных градчанских чудаков, которые, словно избегая молота и наковальни эпохи, влачат бездеятельное замкнутое существование, если бы однажды в его жизни не произошло событие, перетряхнувшее всю его душу, – событие столь фантастическое и одновременно реальное, что оно одним ударом опрокинуло стену между внутренним и внешним и наделило его даром экстатических озарений, когда он неколебимо верил в исполнимость своих самых причудливых фантазий.
Однажды он сидел на скамье в соборе, вокруг, перебирая четки, молились женщины, они приходили и уходили, и Оттокар, устремивший свой неподвижный взгляд на дарохранительницу, не сразу заметил, что скамьи вдруг опустели и рядом с ним… лишь образ Поликсены.
Именно такой она и рисовалась ему в воображении.
В тот момент сомкнулись края пропасти между мечтой и явью. Это ощущение длилось лишь секунду, так как он сразу же очутился на твердой почве реальности, осознав, что видит перед собой живую девушку, а не образ, но и этого мимолетного мгновения было достаточно, чтобы найти точку опоры для таинственных рычагов судьбы, позволявшую столкнуть человеческую жизнь с орбиты, вычерченной сухим рассудком, и навсегда открыть для нее безграничные миры, где вера сдвигает горы.
В восторженном сумбуре фанатика, который вдруг воочию узрел свое божество, он пал ниц перед воплотившимся идеалом, благоговейно повторял имя девушки, гладил ее колени, покрывал поцелуями руки и, дрожа от волнения и захлебываясь словами, пытался сказать ей, что давно знает ее, хотя вот так видит впервые.
И под сводами собора, в окружении золоченых статуй святых их обоих закружила неистовая, какая-то сверхчеловеческая любовь, словно дьявольский вихрь, порожденный дыханием столетних призраков – сгубленных страстью предков, которые зашевелились на живописных холстах.
Не иначе как совершилось сатанинское чудо: юное существо, доверчиво переступившее порог храма, выходя из него, было уже душевной копией своей прабабки, тоже Поликсены, портрет которой висел в доме барона.
С тех пор они находили друг друга, не сговариваясь, не назначая свиданий и тем не менее точно зная время и место встречи. Будто их направлял магический компас страсти, безошибочный инстинкт, как у животных, которым не надо слов, чтобы сойтись друг с другом, ибо они слышат голос своей крови.
Они даже не удивлялись тому, что случай сводил их именно в тот момент, когда они сильнее всего этого желали. И он уже привык к неизменному и почти закономерно возобновляемому чуду, когда прижимал к груди не образ, а живую плоть возлюбленной…
Заслышав ее шаги у входа в башню – на сей раз это не было галлюцинацией, – он уже избавился от мучительных терзаний, они стали едва заметным следом преодоленной боли. И когда они сливались в объятиях, он так и не знал, прошла ли она сквозь стену, подобно привидению, или же, открыв дверь, поднялась по ступеням.
Она была с ним, и только это имело значение, а то, что происходило минутой или часом раньше, жадно заглатывала бездна прошлого, обрывая все начала и концы и будучи не в силах пожрать лишь миг их свидания.
Так было и в этот раз.
Он видел, как светлым пятном проплыла во мраке ее соломенная шляпка с голубой лентой, как Поликсена небрежно бросила ее на пол, как вслед за этим ее одежды пеленой тумана легли на стол, а потом разлетелись по стульям. Он чувствовал горячую плоть, нежные укусы коснувшихся его шеи зубов, он слышал сладострастные стоны – все происходило быстрее, чем он успевал осознать, сливалось в вереницу видений, молниеносно сменявших друг друга, и каждое опьяняло сильнее предыдущего. Это был какой-то дурман, отбивавший ощущение времени… На скрипке? Она просила его сыграть на скрипке? Нет, он не мог вспомнить, скорее всего, она этого не говорила.
Не сомневался он лишь в том, что стоит перед ней, выпрямившись во весь рост, а она обвивает руками его бедра. Он чувствует, как смерть высасывает кровь из его жил, как волосы встают дыбом, как мурашки бегут по коже и дрожат колени. Оттокар уже утратил способность мыслить, временами ему чудилось, что он валится на спину, а потом как бы просыпался в тот момент, когда ей этого хотелось, и слышал песню, которая как будто слагалась из звуков его струн, а затем уже выпевалась и ею, рождалась в ее душе, и в этой песне слышались любострастие, отвращение и ужас одновременно.
В полуобморочном состоянии он покорно внимал тому, что говорили звуки, видел череду проплывавших образов, смакуемых Поликсеной и раздувающих жар ее похоти. Он чувствовал, как ее мысли вторгаются в его мозг, видел их как живые эпизоды, а потом запечатленными в ломаных буквах на каменной плите. Это были строки старинной хроники о возникновении картины «Образ пронзенного», выбитые в Малой часовне на Градчанах как напоминание о страшной кончине одного властолюбца, дерзнувшего посягнуть на корону Богемии.
«И был среди посаженных на кол рыцарь по имени Борживой Хлавек. Кол пронзил его вкось и вышел возле подмышки, голова же осталась невредимой. С прободенной плотью несчастный молился с усердием великим до самого вечера, и ночью кол разломился надвое ближе к седалищу. И встал пронзенный на ноги, и с обломком кола в теле покинул место казни, и дошел до Градчан, где улегся на кучу навоза. Поднявшись поутру, он вошел в некий дом у церкви Св. Бенедикта, и просил призвать к нему священника какой-либо из церквей Града, и при нем с благоговением великим исповедался пред Господом нашим в грехах своих, предуведомив, что без исповеди и святого причащения, как установлено единым чином христианской церкви, умереть не может, ибо, веруя в священную силу обряда, дал обет вседневно возносить во славу Господа „Аве Мария“ и краткую молитву, и молитвой сей и заступничеством Богоматери обережен был, а посему не может принять смерть, не вкусив Даров Святых.
И сказал ему священник: „Сын мой возлюбленный, дай услышать мне молитву твою“. И рыцарь возгласил: „Молю тебя, Господи, не откажи мне в заступничестве святой Варвары-великомученицы, дабы успел я перед кончиной вкусить Даров Святых и, огражденный от всех врагов, видимых и невидимых, и от злых сил хранимый, удостоился жизни вечной благоволением Спасителя нашего Иисуса Христа. Аминь“.
И даровал ему священник последнее причастие, и опочил он в тот же день и погребен был близ церкви Св. Бенедикта, оплаканный множеством горожан».
Поликсена ушла. Серая башня мертвым оком взирала на мерцающие звезды. Но в ее каменной груди все же билось крошечное человеческое сердце, билось во всю силу, ибо давало обет: не зная ни сна, ни отдыха, пусть даже ценой мук, которые в тысячу раз страшнее тех, что претерпел пронзенный рыцарь, но только не поддавшись смерти до срока, принести своей возлюбленной высший из даров, какие могут быть завоеваны по воле человека.
Глава четвертая
В зеркале
Всю неделю господина императорского лейб-медика корежило от злости на самого себя.
Визит к Богемской Лизе надолго отравил ему настроение, и что самое скверное, оказалось – он не сумел изгладить из памяти былую любовь к ней.
Он винил во всем теплый, не в меру игривый майский ветерок, который в этом году сильнее, чем обычно, щекотал нервы своими ароматами, и каждое утро лейб-медик напрасно бороздил взглядом ясное небо в надежде увидеть хоть облачко, обещающее притушить тлеющий уголек старческой страсти.
«Или это гуляш „У Шнелля“ был переперчен?» – размышлял он на сон грядущий, но, вопреки обыкновению, не мог уснуть, более того, ему не раз приходилось зажигать свечу, чтобы получше рассмотреть занавеску, которая при полной луне строила ему всевозможные канальские гримасы.
Дабы покончить с неприятными мыслями, он принял оригинальное решение – выписать какую-нибудь газету, но это лишь усугубило душевную смуту: стоило ему заинтересоваться первыми строками газетной статьи, как буквы вдруг исчезали и возникал длиннющий пробел, на котором ничего прочесть не удавалось, даже когда старик, помимо очков, надевал еще и пенсне.
Вначале он, холодея от ужаса, объяснял этот огорчительный феномен аномалией зрения, причина коей могла корениться в зарождающемся заболевании соответствующих участков мозга, и терзался страхами до тех пор, пока экономка, побожившись, не заверила его, что и она не видит в тех же самых местах никаких буковок, из чего он после долгих раздумий сделал вывод о бдительном вмешательстве цензуры, которая стоит на страже интересов читателя, избавляя его от недостоверной информации.
Тем не менее эти белые пятна посреди пахнущего карболкой печатного текста постоянно грозили ему подвохом, поскольку, убедив себя в том, что он заглядывает в газету лишь для того, чтобы выбросить из головы Богемскую Лизу, всякий раз перелистывая страницы, он боялся вновь наткнуться на пустое место и вместо трескучих трелей передовой статьи обнаружить – как свидетельство краха своих душевно-профилактических усилий – отвратительную ухмылку Богемской Лизы.
К своему телескопу он, можно сказать, и дорогу забыл. Как только в памяти всплывала осклабившаяся во весь объектив старуха, у него волосы вставали дыбом. Но если он все же решался приложить глаз к линзе в подтверждение собственной смелости, то этому предшествовал жалобный скрежет его безупречно белых вставных зубов.
Целый день все его мысли вертелись вокруг того случая с артистом Зрцадло. Однако поползновения наведаться к нему в Новый Свет он по зрелом размышлении пресекал.
Однажды, сидя «У Шнелля» вместе с фон Ширндингом, который терзал зубами свиное ухо с хреном, лейб-медик завел разговор о лунатике и узнал немало нового. С той самой ночи Константина Эльзенвангера как подменили, он живет затворником, дрожит от страха при мысли, что невидимый документ, который сомнамбул сунул в выдвижной ящик, действительно существует, а стало быть, барон лишается наследства злокозненными стараниями покойного брата Богумила.
– А что тут такого? – добавил фон Ширндинг, через силу отрываясь от свиного уха. – Если и впрямь происходят невероятные вещи и под влиянием луны человек теряет лицо, почему мертвые не могут лишать наследства живущих? Барон правильно сделал, что не заглянул в ящик, уж лучше быть глупым, чем несчастным.
Если Флюгбайль и согласился с этим суждением, то лишь из вежливости. На самом деле ему не давал покоя выдвижной ящик собственного мозга, где хранилось «дело Зрцадло» и где он не прочь был при случае порыться.
«Как-нибудь ночью надо бы заглянуть в „Зеленую лягушку“, возможно, повстречаю там этого типа, – решил лейб-медик, когда ему вновь пришло на ум происшествие в доме барона. – Лиза… куда денешься от проклятой ведьмы… сказывала, что он шляется по кабакам».
В тот же вечер, собравшись было отойти ко сну, лейб-медик внезапно передумал и вознамерился осуществить свой замысел. Он подтянул помочи, вновь облачился, как подобает для выхода в город, и, придав лицу строгое выражение (чтобы шапочные знакомые, которых он мог встретить даже в столь поздний час, не заподозрили его в легкомыслии), направился вниз, на площадь Мальтийцев, где в окружении почтенных особняков и монастырей исправно служила Бахусу «Зеленая лягушка».
С самого начала войны ни он, ни его приятели не посещали сего заведения, однако срединный зал оставался пустым и был зарезервирован для господ, словно хозяин – старик в золотых очках и с благожелательно-серьезным лицом нотариуса, неутомимо пекущегося о капиталах своих клиентов, – не осмеливался изменить давней благородной традиции.
– Что прикажете, ваше превосходительство? – спросил «нотариус», лучась потеплевшим взором серых глаз, когда императорский лейб-медик взгромоздился на стул. – Не угодно ли бутылочку «Мельника», красного, коллекционного, год тысяча девятьсот четырнадцатый?
С обезьяньей ловкостью младший кельнер спроворил свое дело, поставив на стол бутылку «Мельника», которую успел принести по неслышному приказу «нотариуса» и держал за спиной в ожидании кивка клиента, после чего, отвесив глубокий поклон, вслед за хозяином исчез в лабиринте «Зеленой лягушки».
Зал, где господин лейб-медик в полном одиночестве занимал почетное место за покрытым белой скатертью столом, представлял собой длинное помещение с проемами в боковых стенах и гардинами вместо дверей. На входной же двери висело большое зеркало, позволявшее видеть то, что происходит в соседних залах.
На стенах – целая галерея красочных портретов, облеченные властью особы всех времен и рангов как бы удостоверяли безупречно лояльные убеждения хозяина, господина Венцеля Бздинки, и опровергали наглые утверждения некоторых очернителей, что в молодости он был пиратом.
«Зеленая лягушка» была местом историческим, говорят, что именно там началась революция 1848 года – то ли из-за прокисшего вина, коим потчевал гостей тогдашний хозяин, то ли по каким-то иным причинам, но, как бы то ни было, завсегдатаи из вечера в вечер поминали эпохальное событие.
Тем выше ценились заслуги господина Бздинки, который не только превосходными винами, но и своей почтеннейшей наружностью и строгой благонамеренностью, не изменявшей ему даже в ночные часы, настолько развеял былую репутацию заведения, что даже замужние дамы – разумеется, в сопровождении супругов – не отказывались заглядывать сюда, по крайней мере в залы для чистой публики.
Господин императорский лейб-медик в глубокой задумчивости сидел наедине с бутылкой вина, в недрах которой рубиновыми искрами играл отраженный свет электрической настольной лампы.
Но стоило ему поднять глаза – в зеркале на входной двери появлялся второй императорский лейб-медик, и тогда он не уставал удивляться чудесному явлению: его двойник держал бокал в левой руке, тогда как он сам – в правой. Кроме того, как же можно носить перстень с печаткой на безымянном пальце правой руки?
«Вот ведь какой странный выворот, – философически отметил про себя Флюгбайль, – это повергало бы в ужас, если бы с младых ногтей мы не были приучены видеть в подобных вещах нечто вполне естественное. Гм… Где, в каком срезе пространства происходит этакая перестройка?.. Ясно, что в одной-единственной математической точке, иначе и быть не может. Как тут не удивляться, что в такой крошечной точке совершается нечто куда более грандиозное, чем в громаде самого пространства!»
Он испугался собственных озарений, ведь ежели развить эту тему и выявленный закон приложить к другим материям, какой же будет вывод? Нельзя же согласиться с тем, что человек – безвольная игрушка какой-то загадочной точки, находящейся у него внутри! И лейб-медик отказался от дальнейших размышлений о сем предмете.
И чтобы вновь не поддаться искушению, Флюгбайль, недолго думая, выключил лампу и тем самым утопил во мраке зеркало.
Тотчас же обозначились просветы между занавесками, и можно было увидеть интерьер боковых комнат, в сторону которых лейб-медик попеременно поглядывал.
В обеих никого не было.
В одной стоял богато сервированный стол с придвинутыми к нему стульями, в другой – маленьком барочном салоне – ничего, кроме пухлого дивана и столика с изогнутыми ножками.
И при виде этого уголка невыразимая тоска сжала сердце императорского лейб-медика.
Во всех подробностях вспомнил он сладостный час свидания, которое имел когда-то здесь, а потом начисто забыл за долгие годы.
А ведь тогда он еще сделал запись в своем дневнике. Несколько сухих, как осенние листья, слов. «Неужели я и в самом деле был таким сухарем? – подумал он. – И мы пробиваемся к собственной душе по мере приближения к могиле?»
Он невольно бросил взгляд на едва различимое в темноте зеркало. А вдруг оно все еще хранит ее отражение? Увы, теперь зеркало, в котором запечатлелось столько образов, он носит в самом себе. А там, на двери, – просто равнодушное, беспамятное стекло.
Букетик чайных роз у нее за поясом… тогда… и он вдруг почувствовал аромат тех цветов, как будто они были совсем близко.
Ожившие воспоминания переносят в мир призраков! Они словно вырастают из какой-то крохотной точки, принимают человеческие размеры, и вот уже можно дотянуться рукой до них, еще более прекрасных и живых, чем они были в прошедшей жизни.
А где тот кружевной платочек, в который она вцепилась зубами, чтобы не закричать, млея от страсти в его объятиях? На нем была монограмма «Л. К.» – Лизель Кошут… Он подарил ей тогда дюжину таких. И Пингвин вспомнил даже, где он покупал их, специально заказав для нее… Он ясно увидел перед собой ту галантерейную лавку…
«Почему я не попросил вернуть его мне… Как память… Остался лишь флёр, воспоминания. А вдруг, – Флюгбайля передернуло от ужаса, – она гноит его обрывок в груде своего хлама? А я… я сижу здесь, в темноте, один на один со своим прошлым». Он скосил взгляд, чтобы не видеть дивана. «Что за жестокое зеркало эта земля! Она обезображивает старостью образы, рожденные ею, прежде чем они исчезнут с ее лица…»
Он посмотрел в сторону комнаты с богатым столом.
«Нотариус» бесшумно двигался вдоль стульев, обозревая всю картину с разных точек зрения, чтобы глазом художника оценить общее впечатление, и молча указывал кельнеру, куда еще поставить ведерки со льдом для шампанского.
Вскоре за дверью послышались голоса и в зал с веселым гоготом ввалилась мужская компания. Смокинги и гвоздики в петлицах. Почти все – молодые люди, по каким-то причинам избежавшие призыва в действующую армию либо получившие отпуск. Среди них – лишь один пожилой, лет шестидесяти с гаком.
Затем все расселись и на время умолкли, погрузившись в изучение меню.
«Нотариус» со всепокорнейшим видом потирал ладони, как будто скатывал свою любезность в некое увесистое ядро.
– Нам предлагают суп под названием mockturtlesuppe, – картаво возвестил один из гостей, роняя лорнет. – Mock – по-английски «панцирь», turtle – «ползучая мякоть». Почему бы не сказать просто, по-немецки – «черепаховый суп»? Разрази гром проклятую Англию… Подайте мне это знатное варево!
– Эй, Вальтерскотт, мне тоже! – присоединился другой, и все заржали.
– Гошпода, гошпода… э-э-э… – поднявшись, прошепелявил пожилой, снисходительно-приветливый господин и сложил в трубочку губы, из которых была готова извергнуться торжественная речь, как только он выпростает из рукавов манжеты с запонками. – Гошпода… э-э-э… э…
Но дальше этого «э-э-э» дело не пошло, и он, отступившись от своей затеи, снова прилип задом к стулу, довольный уж тем, что ему удалось произнести хотя бы слова обращения.
Затем в течение получаса соседний зал уже не радовал слух Флюгбайля перлами остроумия: господа были слишком заняты уничтожением всевозможных яств. Он видел, как младший кельнер под надзором «нотариуса» вкатил никелированный столик с бараньей ногой, которую сквозь прутья решетки лизало пламя спиртовки. Лейб-медик видел, как франт с моноклем умело препарирует ломоть жаркого, ворчливо укоряя приятелей: они-де жалкие обыватели и лишь потому сидят за столом, а не жрут по-собачьи, на четвереньках, что при ярком свете им не хватает на это смелости.
Похоже, этот молодой хлыщ задавал тон во всем, что касалось тонкостей гастрономических наслаждений; он заказывал блюда, сочиненные самой изощренной фантазией: салат из ананаса, запеченного в свином сале, соленую землянику, огурцы с медом – и все это вперемешку, как бог на душу положит, а отрывистая, не терпящая возражений, надменно-снисходительная манера его приказов и суровых поучений вроде: «Р-р-ровно в одиннадцать пор-р-р-рядочному человеку надлежит есть кр-р-р-рутые яйца» или «Свежетопленое сало – живительная влага для внутр-р-р-ренних ор-р-р-рганов» – производила столь уморительное впечатление, что Пингвин не мог порой удержаться от улыбки.
Типично австрийская, неподражаемо безапелляционная манера судить о пустяках с убийственной серьезностью, а о вещах действительно серьезных – свысока, как о хламе школярской образованности, что сейчас демонстрировал франт с моноклем, воскресила в душе лейб-медика кое-какие моменты собственной юности.
И хотя сам он никогда не принимал участия в подобных пирушках, у него, несмотря на все оговорки, возникало подспудное ощущение сопричастности. Ему это было в чем-то близко: кутить как юнкер и при этом оставаться истым австрийским аристократом, быть человеком сведущим, но скрывать свою начитанность под шутовской маской и не выставлять ее напоказ где попало, под стать замороченному зубрежкой гимназисту.
Постепенно застолье принимало характер странной и какой-то комедийной попойки.
Никто никого уже не слушал, каждый жил, так сказать, своей жизнью.
Главный управляющий княжескими имениями доктор Гиацинт Брауншильд (так он, изрядно набравшись, отрекомендовался при очередном появлении кельнера) взобрался на стул и с беспрерывными поклонами произнес панегирик, состоявший в основном из протяжных «э-э-э», «его сиятельству», своему всемилостивейшему благодетелю и кормильцу, а франт с моноклем после каждой фразы навешивал ему орден в виде кольца сигарного дыма.
Тем, что главный управляющий не сверзился со своей трибуны, он был обязан чуткому присмотру «нотариуса», который, подобно легендарному Зигфриду, в шапке-невидимке оберегавшему короля Гунтера, стоял позади оратора и следил, чтобы сила земного притяжения не сыграла с ним злую шутку.
Один из гостей сидел на полу, скрестив, как факир, ноги, сфокусировав взгляд на кончике носа и пытаясь без помощи рук удержать в вертикальном положении пробку от шампанского, которая приплясывала у него на голове; вероятно, в этот момент он воображал себя индийским аскетом.
Другой участник пиршества, рядом с которым еще недавно сидел «факир», размазал по подбородку кремовое пирожное и, глядя в карманное зеркальце, скоблил небритую кожу десертным ножом.
Поодаль молодой человек, одержимый какой-то метафорической идеей, выстроил длинный ряд рюмок с разноцветными ликерами и вслух производил каббалистические расчеты, выясняя, в каком порядке их следует опустошать.
В это время тот, что медитировал в позе факира, встал на ноги, угодив лаковым копытом в ведерко со льдом, и затеял жонгляж фарфоровыми тарелками, какие только попадались под руку. Разбив вдребезги последнюю, он хрипло загорланил старую студенческую песню:
- Старый кирпич
- Славный был хрыч
- И компанейская бестия.
- Расшиб себе лоб
- И пить бросил, жлоб, —
- Вот ведь какое известие.
И тут уж все, включая кельнера, не могли устоять перед соблазном поддержать солиста припевом:
- Чарочки чары —
- Вы моя сладость,
- Чарочки чары —
- Вы моя страсть…
Как могло случиться, что в этом пьяном бедламе, будто черт из табакерки, появился актер Зрцадло, осталось для императорского лейб-медика загадкой.
Даже «нотариус» проворонил его вторжение, и все попытки указать незваному гостю на дверь оказались запоздалыми или вовсе были не замечены им, а удалить его силой представлялось делом рискованным, поскольку в таком случае управляющий имениями мог бы грохнуться на пол и сломать себе шею, так и не заплатив по счету.
Первым из гостей чужака приметил «факир».
Он прямо-таки подскочил от ужаса и воззрился на лицедея, будучи неколебимо убежден, что перед ним – некое астральное существо, материализовавшееся в ходе медитации и явившееся для суровой расправы над тем, кто потревожил его потусторонний покой.
Вид у актера и в самом деле был жутковатый. На сей раз он предстал без грима, бледное лицо напоминало восковую маску с черными, как иссохшие вишни, запавшими глазами.
Господа были слишком одурманены алкоголем, чтобы ощутить изменение ситуации, особенно невменяемым оказался управляющий. Он начисто утратил способность удивляться и лишь блаженно улыбался новому другу, который, как ему казалось, решил почтить его своим присутствием. Толстяк, присев, кое-как сполз со стула и направился к дорогому гостю, чтобы отблагодарить его братским поцелуем.
Зрцадло и бровью не повел, позволив ему приблизиться.
Казалось, он, как и тогда, в доме барона Эльзенвангера, пребывал в состоянии глубокого сна.
И только когда господин главный управляющий подошел вплотную и привычно заблеял, раскрыв объятия, чтобы прижать дорогого друга к груди, актер вскинул голову и просто испепелил виновника торжества свирепым взглядом.
А то, что случилось затем, произошло так неуследимо быстро и произвело столь ошеломляющее впечатление, что Флюгбайль поначалу решил, будто зеркало дурачит его.
Когда толстяк уже в шаге от актера продрал свои пьяные глаза, лицо, которое он увидел вблизи, вдруг стало ликом смерти, застывшим в какой-то страшной гримасе, которая сорвала лейб-медика с места и приковала его взгляд к зеркалу.
Взгляд стоявшего рядом трупа пошатнул управляющего, как удар между глаз.
Хмель мгновенно улетучился, лицо исказилось от ужаса, с которым не шел ни в какое сравнение любой мыслимый страх, нос заострился и окаменел, словно вдохнув анестезирующий эфир, нижняя челюсть отвисла, сведенная судорогой, губа обесцветилась и обнажила зубы, на пепельно-серых ввалившихся щеках проступили фиолетовые пятна, а рука, которой он хотел как бы отвести удар, неестественно побелела, что указывало на прекращение кровотока.
Он буквально хватался за воздух, а потом вдруг, задыхаясь и хрипя, рухнул на пол.
Господин императорский лейб-медик сразу понял, что всякая помощь уже бесполезна, и тем не менее готов был подбежать к несчастному и, вероятно, осмотрел бы его тело, если бы этому не помешала поднявшаяся в соседнем зале суматоха.
Через несколько секунд галдящая пьяная братия при участии «нотариуса» вынесла покойника из ресторана; стол и стулья были опрокинуты, из разбитых бутылок сочилась, растекаясь по полу, красная и светлая шипучая жидкость.
Какое-то время Флюгбайль беспомощно топтался на месте, совершенно ошеломленный только что разыгравшейся сценой, до жути реальной и все же в некотором роде призрачной, поскольку он видел ее в зеркале, и первая ясная мысль лейб-медика прозвучала в виде вопроса: «Где же Зрцадло?»
Он включил настольную лампу и ахнул.
Актер стоял прямо перед ним. В своей черной хламиде он казался сгустком тьмы, задержавшейся в зале; он стоял молча и совершенно неподвижно, словно погруженный в какой-то странный сон, как и несколько минут назад, когда к нему нетвердой походкой приблизился управляющий.
Императорский лейб-медик, как загипнотизированный, смотрел ему в глаза, опасаясь, что актер отчебучит еще что-нибудь несусветное, но никакой каверзы не последовало: тот стоял недвижно, словно поднявшийся из могилы труп.
– Что вы здесь ищете? – отрывисто и даже строго произнес Флюгбайль, вперив взгляд в сонную артерию актера, но ничего похожего на пульсацию крови в жилах разглядеть не удалось.
– Кто вы?
Вопрос остался без ответа.
– Как вас зовут?
Молчание.
Немного поразмыслив, императорский лейб-медик зажег спичку и поднес ее к глазам лунатика.
Расширенные зрачки почти такого же цвета, как и темная радужка, никак не реагировали на пламя.
Лейб-медик прикоснулся к запястью холодной, вяло повисшей руки: удары пульса – если это вообще было пульсом, а не галлюцинацией – звучали так глухо и с такими большими интервалами, что скорее напоминали бой старых часов где-то за стеной, чем биение живого сердца. Раз… два… три… четы-ре… Не больше пятнадцати ударов в минуту.
Продолжая считать и силясь не сбиться, Флюгбайль снова спросил громко и резко:
– Кто вы? Отвечайте!
И тут пульс неожиданно участился и так разошелся, что лейб-медик мог насчитать уже не пятнадцать, а все сто двадцать ударов в минуту. Послышалось сопение, похожее на свист, – с такой силой лунатик втягивал ноздрями воздух.
Казалось, в его тело перелилась из атмосферы некая невидимая сущность, глаза вдруг заблестели и взглянули на Флюгбайля так, будто привечали его невинной улыбкой. Зрцадло весь как-то обмяк, оттаял, лицо его ожило, обрело почти детскую подвижность мимики.
Флюгбайль было подумал, что лунатик наконец опамятовался, и уже более приветливым тоном лейб-медик спросил:
– Ну, теперь вы мне скажете, кто вы, собст…
Но слова застряли в горле: эти губы, эти складки вокруг! Нет, он не мог ошибиться, это лицо было ему знакомо! Ну конечно! Как и тогда, во дворце барона Эльзенвангера, у него возникло ощущение – только теперь гораздо более ясное и достоверное, – что он знал когда-то этого человека и не раз видел его! Тут двух мнений быть не может!
И он постепенно, словно очищая свою память от скорлупы, начал припоминать, что давным-давно видел это лицо в зеркале какого-то блестящего предмета, возможно серебряного блюда, и наконец он с полной уверенностью мог сказать, что оно было его собственным лицом в детские годы.
Да, несмотря на морщины и седые виски, Зрцадло излучал такое обаяние юности, словно внутри у него бил родничок свежих сил, – такую непостижимую прелесть, которую не в силах передать ни один художник на свете.
– Кто я? – переспросил актер, и Флюгбайлю показалось, что он слышит свой же голос; он принадлежал ребенку и старику одновременно, происходило странное наложение тембров, будто два человека говорили в унисон, сливая голоса прошлого и настоящего, и второй служил как бы резонатором первому, делая его более звучным и объемным.
Да и сама речь причудливо сочетала в себе наивность ребенка и грозную суровость старца.
– Кто я? А был ли на земле такой человек, который знал бы ответ на этот вопрос?.. Я – соловей-невидимка, поющий в клетке. Но прутья не всякой клетки колеблются в согласии с его голосом. Сколько раз я заводил в тебе песню, дабы ты услышал меня, но ты оставался глух всю свою жизнь. Никто и ничто во Вселенной не может быть столь близок и сопричастен тебе, как я. А ты еще спрашиваешь, кто я такой.
Душа иного человека становится столь чуждой ему самому, что он падает замертво в тот миг, когда узрит ее. Он просто не может узнать ее, и она кажется ему головой горгоны, на ней – печать всех его дурных поступков, а он втайне страшится, что они могут запятнать его душу. Ты услышишь меня, если только будешь петь в унисон со мной. Тот служит злу, кто не слышит песню своей души. Он совершает преступление против жизни, против себя и других. Глухой страдает и немотой. Безвинен же тот, кто слышит пресветлый напев соловья, будь даже сей человек убийцей отца своего и матери.
– Что я слышу? Что за наваждение? – воскликнул изумленный лейб-медик, забыв, что перед ним невменяемый, возможно, даже сумасшедший. Актер не обратил на его слова никакого внимания и продолжал говорить обоими голосами, которые так странно пронизывали и дополняли друг друга:
– Моя песня – вечная мелодия радости. Кому не ведома чистая, изначально радостная непреложность: я есть, кто я есть, кем я был и пребуду вечно – тот обречен на грех против Духа Святого. Пред сиянием радости, изливаемой небосводом души, отступают духи тьмы, которые, как тени забытых, совершенных в прежних жизнях злодеяний, сопровождали человека, путая и обрывая нити его судьбы. Кому дано слышать и исторгать из груди эту песнь радости, тот сотрет все следы былых провинностей и будет избавлен от бремени новых.
А в том, кто не знает радости, солнце закатилось навеки. Так может ли он излучать свет?
Даже нечистая радость ближе к свету, нежели мрачная унылая серьезность…
Ты спрашиваешь: кто я? Радость и есть человеческое «я». И кто не ведает радости, не знает самого себя.
Сокровеннейшее «я» – первоисток радости, кто не чтит его, служит силам ада. Разве не сказано в Писании: «Я – Господь твой… Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим?»
У того, кто не внимает и не вторит соловьиной песне, нет «я». Он стал мертвым зеркалом, в котором мелькают демоны, блуждающим трупом, подобным холодной луне в небесах.
Дерзай и возрадуйся!
Иной же, отважившись на попытку, спросит: чему я должен радоваться? Но радость не требует причин, она возникает из самой себя, точно божественный Творец. Радость, для коей нужен повод, вовсе не радость, а удовольствие…
И жалок тот, кто хочет, но не может восчувствовать радость, он винит в этом весь мир и каверзы судьбы. Ему невдомек, что угасающее солнце не в силах прогнать своим тусклым светом стаи призраков тысячелетней ночи. Нельзя в один миг возместить то, что крал всю жизнь у самого себя!
Но тот, кто распахнул душу для беспричинной радости, обретает жизнь вечную, ибо соединяется со своим «я», которому не грозит смерть. И тогда он – сама радость без конца и края, даже если рожден слепым или увечным.
Однако радость надо изучить и возжаждать, а то, чего жаждут люди, – не радость. Вот ведь предел мечтаний.
«Странное дело, – размышлял императорский лейб-медик, – устами незнакомца, о котором я ничегошеньки не знаю, со мной говорит мое собственное „я“! Выходит, оно покинуло меня и переселилось в него? Теперь это его „я“? Но в таком случае как же мне удается мыслить? Разве можно жить при отсутствии „я“? Чушь какая-то, – заключил он, – должно быть, вино в голову ударило».
– Вы находите это странным, ваше превосходительство? – насмешливо спросил актер, внезапно изменив голос.
«Ну вот и выдал себя, голубчик! – злорадно констатировал лейб-медик, не заметив того поразительного обстоятельства, что лицедей читает его мысли. – Наконец-то комедиант сбрасывает маску». Однако Пингвин ошибся и на сей раз.
Зрцадло приосанился и провел рукой по гладко выбритой коже над верхней губой, словно расправляя и закручивая вниз выросшие в мгновение ока усы.
Это был совершенно естественный, как бы выработанный многолетней привычкой жест, но именно своей убедительностью он настолько ошеломил лейб-медика, что тому показалось, будто он и впрямь видит настоящие усы.
– Вы находите это странным, ваше превосходительство? И всерьез полагаете, что человеку из толпы, которая топчет здешние стогны, дано хоть самое немудрящее «я»? Да они просто пустышки. Вернее, каждую минуту одержимы каким-нибудь новым призраком, который заменяет им «я». И разве вашему превосходительству не приходилось ежедневно убеждаться, что ваше «я» переходит к другим? Вы никогда не замечали такую вещь: люди испытывают к вам неприязнь, когда вы с неприязнью думаете о них?
– Это можно объяснить тем, – возразил Флюгбайль, – что приязнь или неприязнь отражается на лице.
– Вот оно что! – Усатый фантом саркастически рассмеялся. – А если речь идет о слепых? Как быть с ними? Они что, угадывают мимику?
«Можно определить по интонации», – хотел было сказать господин лейб-медик, но все же промолчал, почувствовав в глубине души правоту собеседника.
– Рассудок всегда сведет все концы с концами, особенно не очень острый, который путает причины и следствия… Только не надо прятать голову в песок, ваше превосходительство! Страусиная тактика не годится для… Пингвина.
– Да вы просто наглец! – взорвался лейб-медик, что, однако, ничуть не смутило фантома.
– Лучше быть наглецом, чем таким, как вы, ваше превосходительство. Разве не наглость – ваши попытки углядеть сквозь очки науки сокровенную жизнь «лунатика»? Можете дать мне пощечину, если это принесет вам облегчение. Но учтите, меня вы и не коснетесь. В лучшем случае ударите бедного Зрцадло… И представьте себе, точно так же обстоит дело с «я». Если вы разобьете лампу, думаете, тем самым будет нанесен урон электричеству? Вот вы минуту назад спросили, вернее, подумали про свое «я»: «Выходит, оно покинуло меня и переселилось в него?» На это я вам отвечу: истинное «я» можно распознать только по его воздействию, оно не имеет протяженности, именно поэтому оно повсюду. Понимаете? Оно не налично, а над-лично и вездесуще!
И пусть вас не удивляет, что ваше так называемое собственное «я» отчетливее проявляется в другом человеке, нежели в вас самом. К сожалению, вы, как и почти все люди, с пеленок пребываете в заблуждении относительно своего «я», подразумевая под этим ваше тело, ваш голос, склад ума и бог знает что еще. А потому понятия не имеете о природе «я»… Оно протекает сквозь людей, поэтому необходимо заново научиться мыслить, только таким путем можно обрести себя в собственном «я»… Вы масон, ваше превосходительство? Нет? Жаль. Иначе вы бы знали, что в некоторых ложах «подмастерью» предписывается пятясь входить в святилище Мастера. И кого же он там найдет? Никого. А если и найдет, то это будет «ты», а не «я». Ибо «я» есть Мастер!..
«Что это? Уж не ментор ли со мной говорит? – можете вы спросить не без некоторых оснований. – Взялся, видите ли, поучать, хотя никто его не просил». Успокойтесь, ваше превосходительство, настал добрый час в вашей жизни. Многим это вообще не суждено… Впрочем, я – вовсе не ментор. Я – маньчжур.
– Кто-кто?
– Маньчжур. Из горного Китая, из Срединной Империи. О чем вы и сами могли бы догадаться по моим характерным усам. Срединная Империя лежит к востоку от Градчан. Если бы вы даже решились перейти мост через Влтаву и посетить Прагу, вам пришлось бы одолеть еще изрядную дистанцию на пути в Маньчжурию.
Только я отнюдь не мертвец, как вы, вероятно, могли заключить, подумав, что я использую тело Зрцадло в качестве зеркала, дабы предстать перед вами в зримом образе. Напротив, я очень даже живой. А на сокровенном Востоке и кроме меня найдутся… живые. Однако не поддавайтесь искушению добраться до Срединной на своих дрожках с соловым тяглом, чтобы свести со мной более тесное знакомство! Срединная Империя, в которой мы проживаем, есть истинная сердцевина. Это – центр мира, и он повсюду. Всякая точка в бесконечном пространстве является его центром… Вам понятна моя мысль?
«Да он никак смеется надо мной? – наморщив лоб, подумал лейб-медик. – Если он действительно человек мыслящий, зачем дурака-то валять?»
По лицу актера скользнула едва уловимая улыбка.
– Разумеется, ваше превосходительство. Я ведь, как известно, шут гороховый. Кто не способен почувствовать в юморе серьезную подоплеку, тот не может и посмеяться над мнимой серьезностью, которую зануда принимает за образец мужского характера, а потому становится жертвой вымученных восторгов и так называемых жизненных идеалов… Высшая мудрость облачается в шутовские наряды!.. Почему? Потому что все, что рассматривается как (и только как) одеяние, оболочка, все – даже человеческое тело – поневоле становится шутовским нарядом… Для всякого, кто называет истинное «я» своим собственным, его тело, как и тела других, – не более чем шутовской наряд. Думаете, «я» сумело бы выжить в этом мире, если бы мир был таким, как кажется?.. Вы скажете: куда ни глянь, всюду кровь и ужас… Но откуда все это? Так вот, уверяю вас: все во внешнем мире основано на законе двух знаков – плюса и минуса. Говорят, мир сотворен боженькой. А вам не приходило в голову, что это лишь игра, которую затеяло «я»? С тех пор как человечество обнаружило способность мыслить, каждый год множилось число гурманов так называемого смирения, фальшивого разумеется. Ну не мазохизм ли это, прикрытый холстинкой самообольщенного благочестия? Это я называю «знаком минус». И такие минусы, накапливаемые веками, образуют вакуум, который затягивает в пределы невидимого мира то, что чуждо ему, – кровожадные, злотворные плюсы, порождает смерч демонов, и они завладевают человеческим мозгом, чтобы развязывать войны, сеять раздор, нести смерть; так же как я, обращаясь к вам, делаю своим рупором уста некоего актера.
Каждый из нас – инструмент, только не знает этого. И лишь «я» свободно от этой функции. Оно пребывает в Срединном Царстве, в удалении от плюсов и минусов. Все же прочее – инструмент, орудие в чьих-то руках. Невидимое – инструмент «я».
Тридцатого апреля наступает Вальпургиева ночь. И тогда, по народному поверью, вырываются на волю злые духи. Но есть и космические Вальпургиевы ночи, ваше превосходительство. Однако они так далеко отстоят друг от друга во времени, что человечество не может хранить их в памяти, и потому они всякий раз кажутся новым, небывалым явлением.
И вот теперь пробил час этой космической Вальпургиевой ночи.
Высшее опускается в самый низ, а низшее возносится к самым вершинам. На нас обрушивается цепь событий, возникающих почти без всяких причин, им уже нет «психологического объяснения», как в некоторых романах, где половая проблема «священной любви» облекается в кружева глубокомыслия, чтобы она предстала в еще более бесстыдном блеске как суть бытия, а удачный брак бесприданницы из мещанской семьи выглядит счастливым финалом душещипательной поэмы.
Вновь пробил час, когда псы в предчувствии дикой охоты могут сорваться с цепей, но нам кое-что перепало – нарушен высший закон молчания! Завет: «Народы Азии, храните в тайне свои священнейшие ценности» – уже не имеет силы. Мы жертвуем им во благо тех, кто созрел для «полета». Мы можем говорить.
Вот единственная причина, побудившая меня к общению с вами, ваше превосходительство. Таково веление часа, и ваши личные заслуги тут ни при чем. Пришло время, когда «я» должно сказать свое слово многим.
Кому-то не удается понять моей речи и приходится испытать смятение, свойственное глухому, который ломает голову над загадкой: «Со мной говорит некто, но я не знаю, чего он от меня хочет». Такой человек будет заморочен безумным стремлением совершить нечто, продиктованное не высшей волей «я», а повелением дьявольского «знака плюс» на кровавом небосклоне космической Вальпургиевой ночи.
То, что я сказал вашему превосходительству, на сей раз исходит от некоего магического образа, который лишь отражается в Зрцадло. Даже слова изрекаются в Срединном Царстве, а это, как вы уже знаете, голос «я», царствующего всюду и над всеми.
Сановные предки вашего превосходительства смладу были рабами честолюбивого стремления выбиться в императорские лейб-медики – а не пора ли теперь вам немного поразмыслить над исцелением собственной души, ваше превосходительство?
До сих пор вы – к великому прискорбию, не могу умолчать об этом – воспаряли не слишком высоко. «Шнелль» с его паприкой находится не в столь близком соседстве с вожделенным Срединным Царством, как хотелось бы… Зачатки же крыльев у вас есть (что бывает с теми, у кого и этого нет, вы могли только что наблюдать на примере господина главного управляющего), иначе я бы не тратил на вас время. Итак, крыльев пока нет, но что-то такое трепыхается, как… как у… пингвина…
Кто-то щелчком повернул дверную ручку, прервав проповедь усатого призрака, в зеркале на медленно открываемой двери каруселью проплыл интерьер зала, все предметы как бы сорвались со своих мест, и на пороге появился квартальный.
– Извиняйте, господа! Время двенадцать! Производим закрывание!
И не успел господин императорский лейб-медик раскрыть рот, в котором уже ворочался один из вопросов, взбудораживших все его существо, как актер молча покинул заведение.
Глава пятая
Авейша
Каждый год 16 мая, в день Иоанна Непомука, святого покровителя Богемии, на первом этаже дворца барона Эльзенвангера по распоряжению самого хозяина устраивали пиршественный ужин для слуг. Их господин, по старинному градчанскому обычаю, должен был восседать во главе стола собственной персоной.
На таких празднествах, которые начинались ровно в восемь и заканчивались с последним ударом часов, возвещавшим полночь, как бы стирались все сословные различия, господа и слуги пировали как равные, в разговорах переходили на «ты» и жали друг другу руки.
Если в господском семействе был сын, то представлять на ужине хозяев дома надлежало ему, если нет, эта обязанность возлагалась на старшую из дочерей.
После истории с лунатиком барон Эльзенвангер настолько скис, что поручил свою роль за праздничным столом внучатой племяннице – юной графине Поликсене. Он сделал это в библиотеке, где в окружении множества книг, к которым он ни разу в жизни не прикасался, барон при свете свечи трудился за письменным столом; правда, перо и бумагу ему заменяли спицы и вязаный чулок. Когда спустилась петля, Эльзенвангер оторвался от работы и сказал:
– Видишь ли, Ксенерль! Я вот тут подумал, ты ведь мне все равно как родная дочь, а люди будут проверенные. Ежели потом спать припрет, а домой идти поздно, ночуй в гостевой. Ладушки?
Поликсена, словно очнувшись, улыбнулась и, чтобы подать хоть какую-то реплику, хотела было возразить, что уже велела поставить кровать в галерее, но вовремя сообразила, в какое волнение придет при этом известии дядюшка, и смолчала. Они еще не менее часа безмолвно просидели напротив друг друга в полутемной комнате: он – в своем кресле с подголовником – тянул нить из желтого клубка шерсти под ногами, тяжко вздыхая каждые две минуты, будто сердце разрывалось; она – в кресле-качалке под глыбой из пожелтевших фолиантов, куря сигарету и рассеянно слушая монотонное позвякивание спиц.
И вдруг она увидела, как руки со спицами перестали двигаться, чулок выпал, и дядюшка тут же, свесив голову, погрузился в мертвый старческий сон.
Какой-то невыносимый гнет телесной усталости и внутренней боли, которой ее терзало нечто, чему она не знала названия, приковал Поликсену к креслу. Она попыталась было подняться – не открыть ли окно, может, взбодрит прохладный, освеженный дождем воздух? Но из опасения разбудить старика и вернуться к скучнейшему разговору так и не решилась встать. Поликсена оглядела скудно освещенную единственным огарком комнату.
На полу – темно-красный ковер с унылым узором в виде каких-то гирлянд, каждую завитушку она видела с закрытыми глазами еще с детских лет, и теперь ее вновь душил запах коверной пыли, который столько раз доводил ее до слез и отравил столько часов, проведенных в этом доме. А как въедалась в душу вечная песня: «Смотри, Ксенерль, не посади пятнышка на платьишко!» Зоревая пора ее ранней юности тускнела под серым покровом. Поликсена в ярости стиснула зубы и отбросила прочь перекушенную сигарету.
Все ее детство представлялось теперь беспрерывным метанием между какими-то уголками, где она тщетно пыталась укрыться от тоски и отчаяния. И, вспоминая это при виде заплесневелых, склеившихся книг, которые она так часто листала когда-то в смутной надежде найти один портрет, Поликсена невольно сравнивала себя в те годы с птичкой, случайно залетевшей сюда и слабеющей от жажды под сводами склепа, где нет ни капли воды. Какой уж там полет, когда на всю неделю тебя запирают в угрюмом замке тетки, потом – воскресные муки здесь, у Эльзенвангера, и опять за ограду, к графине Заградке.
Она остановила свой взгляд на лице барона. Его дряблые, безжизненные веки были так плотно сомкнуты, что казалось, он уже никогда не сможет открыть глаза.
И она вдруг поняла, что ей так ненавистно в нем – в нем и в тетке, – это сам вид их сонно-окаменелых лиц.
Ей припомнилось полузабытое и вроде бы ничтожное, как песчинка, событие детской поры. Девочка, которой не исполнилось и четырех лет, лежа в кроватке, внезапно проснулась, то ли от жара, то ли растревоженная страшным сном, открыла глаза и закричала, но никто не приходил к ней, и, приподнявшись, она увидела сидевшую посреди комнаты тетку – та спала, замерев в неестественной неподвижности, точно статуя с черными ободками очков вокруг глаз, нет, она напоминала мертвого коршуна, и от нее веяло беспощадной жестокостью.
С тех пор в детской душе укоренилось не вполне осознанное отвращение ко всему, что каким-то образом символизировало смерть. Сначала и довольно долго это проявлялось как необъяснимый страх при взгляде на лица спящих людей, позднее он перерос в инстинктивную неприязнь и ненависть ко всему мертвому, обескровленному. Такую глубокую, какая могла зародиться лишь в сердце, в котором жажда жизни, подавляемая диктатом семейных традиций, затаилась до времени, чтобы в роковой миг вспыхнуть, подобно пламени, и сжечь дотла все, что называлось жизнью.
Сколько она себя помнила, ее всегда окружала дряхлость, старческая немощь тел, мыслей, слов и поступков, которая запаутинила все: на стенах висели портреты стариков и старух, а весь город, улицы и дома, казалось, дышали на ладан; даже мох на стволах древних деревьев в саду был седым, как борода старца.
Потом ее отдали на воспитание в монастырь Sacré Coeur[4]. И в первые дни новизна обстановки озаряла ее каким-то невиданным светом, но этот свет становился все бледнее и призрачнее, все больше напоминал спокойное мерцание лампады, а вскоре настолько уподобился последнему лучу заката, что душа, сотворенная отнюдь не для хищного зверя, втайне сжималась, словно пружина, для коварного прыжка.
Там, в монастыре, было впервые произнесено слово «любовь», что означало любовь к Спасителю, образ которого всечасно стоял перед ее взором. Поликсена, как воочию, видела пригвожденное к кресту тело с кровавыми стигматами, кровоточащими ранами на груди и алыми каплями, сочившимися из-под тернового венца. Это была и любовь к молитве, облекавшей в слова то, к чему был прикован внутренний взор: кровь, муки крестного пути, бичевание, распятие, кровь, кровь… Потом – любовь к чудотворному образу, статуе Богоматери с семью мечами, вонзенными в сердце. Кровавое мерцание висячих светильников. Кровь. Кровь.
И кровь как символ жизни обагрила душу Поликсены, окрасила собой все ее помыслы.
Вскоре она превзошла своей истовостью всех прочих благородных девиц – воспитанниц монастыря.
Но при этом была и самой страстной, сама того не сознавая.
Немного французского, немного английского, немного музыки, азы истории и арифметики и прочих знаний – все это казалось ей какой-то тарабарщиной, которую она тотчас же с легкостью забывала.
И только любовь не выходила у нее из головы.
Любовь… к крови.
Монастырь Поликсена покинула задолго до знакомства с Оттокаром, и, когда вернулась домой, ее вновь опутала почти забытая паутина старческого бытия, и у нее возникло ощущение, будто то единственное, что она не один год лелеяла как любовь своей души – мученическая судьба Спасителя, – постепенно становилось достоянием прошлого, отделенного двумя тысячелетиями от повапленных гробов настоящего. И только кровь, самая яркая краска жизни, как из неиссякаемого источника, струилась «оттуда» – «сюда», из времен крестного пути к ней, Поликсене, образуя тонкую и красную связующую нить.
Все живое и юное бессознательно ассоциировалось с понятием «кровь». Все, что казалось Поликсене прекрасным, манило и волновало ее: цветы, играющие звери, безудержное веселье, солнечный свет, очарование юности, гармония звуков и запахов – выражалось одним словом, которое беспрестанно звучало в душе, сливаясь с ударами сердца, как бывает в тревожном сне перед пробуждением: кровь… кровь… кровь.
Однажды по случаю какого-то банкета во дворце барона открыли комнату, где висел портрет ее прабабки – графини Поликсены Ламбуа. И, увидев его в окружении всех других персонажей, большей частью тоже ее предков, юная Поликсена не могла отделаться от ощущения, что перед ней не портрет давно усопшей, а отраженный на полотне образ реально существующей личности, в которой гораздо больше жизни, чем в тех, с кем ей приходилось встречаться. Она пыталась противиться этому ощущению, но оно не отступало, как бы нашептывая ей: «Я вижу живое лицо в окружении каких-то посмертных масок. Возможно, оно пророчески указывает на сходство с моей судьбой, что я уже втайне чувствую». Девушка повторяла про себя эту мысль, хотя боялась ей поверить. Более того, ее ожидало и вовсе поразительное, уму непостижимое открытие.
Висевший на стене портрет был в некотором смысле ею самой. Подобно зерну в земле – крохотному прообразу еще не развившегося растения, пока не доступному внешним чувствам, но четко выверенному во всех скрытых органических деталях, она с детства хранила этот портрет в себе. Он стал для нее как бы судьбоуказующей матрицей, в которую всеми фибрами врастала душа, покуда не возник точный и глубокий отпечаток.
И внезапно озарившее Поликсену подсознательное убеждение, что она видит самое себя со всеми еще дремлющими и уже очевидными свойствами, подсказывало ей: портрет прабабки живее всех тех, что жили и живут рядом с ней.
А самым живым в этом мире кажется человеку он сам.
Поликсена не знала закона, на котором зиждется вся магия; он гласит: «Если две величины равны и подобны, они суть одно и то же и существуют лишь единовременно, даже если время и пространство илюзорно разделяют их».
Если бы Поликсена знала это, она сумела бы предвидеть свое будущее с точностью до одного дня.
Портрет воздействовал на нее так же сильно, как позднее на Оттокара, с той лишь разницей, что не преследовал ее, так как она постепенно срослась, полностью самоотождествилась с ним… И если бы не было на свете живой копии портрета, он не подчинил бы своим чарам Оттокара. Но поскольку образ на полотне был наполнен волшебной силой ее крови, собственная кровь Оттокара вблизи портрета ощущала присутствие живого существа, которое магнетически притягивало его.
И если Оттокару и Поликсене суждено было потом встретиться в соборе, то потому, что никакая сила в мире не могла помешать этой встрече. По непреложным законам судьбы взошло и созрело то, что давно было посеяно ею. Форма, заложенная в теле, дрогнула, ожила, и семя превратилось в плод. Ничего иного не дано.
Что общего у мудреца и зверя? Ни тот ни другой не знают чувства раскаяния в содеянном. Такого рода бесчувствие стало обретением и Поликсены, когда в ней одержала победу кровь.
Невинность мудреца и невинность зверя усыпляют совесть.
На следующий день после той встречи Поликсена пришла в собор исповедаться, помня вынесенную из стен монастыря истину: она падет замертво, если умолчит о своем грехе.
Но в глубине души была уверена, что не выдаст своей тайны и тем не менее останется в живых. Она оказалась права и все-таки заблуждалась: то, что до сих пор ощущалось как свое «я», пало замертво, но его место тут же заняло другое «я» – как бы сошедшее с портрета.
Не случайно и не ради красного словца назвал человек череду поколений своих предков родословным древом. Это действительно ствол дерева, которое после долгого зимнего сна, всякий раз одеваясь все новой листвой, дает побеги по образу и подобию прежних.
Мертвая Поликсена на портрете в галерее Эльзенвангера воскресла, а живая умерла. Они сменили друг друга, и обе ни в чем не повинны. Одна из них умолчала на исповеди о том, что пришлось совершить другой. И каждый день на молодых ветвях старого дерева взбухали новые почки, новые и все же древние, как назначено природой родословному древу: любовь и кровь слились в единое неразделимое понятие.
Обуреваемая пьянящим сладострастием желания, которое старики и старухи ее дворянского клана принимали за неутолимую жажду знаний, она рыскала по Градчанам, обходила все исторические места, некогда окропленные кровью, вглядывалась в изображения мучеников, и каждый серый, иссеченный непогодой камень, прежде не замечаемый ею, рассказывал Поликсене о кровопролитии и зверских пытках, а каждая пядь земли выдыхала струйки багровых испарений. Взявшись за медное кольцо на двери часовни, которое сжимала рука короля Вацлава, убитого своим братом Болеславом, она холодела от ужаса, которым, казалось, был заряжен металл, но смертельный страх переходил в жгучую, неукротимую страсть.
Градчаны с их безмолвными, словно пустыми строениями оборачивались говорящими устами, которые на тысячу ладов нашептывали ей все новые жуткие истории из своего прошлого.
Поликсена механически отсчитала восемь ударов башенных часов и спустилась по лестнице в людскую.
Навстречу вышел старый слуга в полосатой тужурке, он поцеловал юную госпожу в обе щеки и усадил во главе длинного дубового стола без скатерти. Напротив нее, с другого торца стола, сидел кучер князя Лобковица, молодой русский с хмурым лицом и запавшими черными глазами. Он был приглашен на праздник наряду с другими слугами из градчанских благородных домов. А обок сидел какой-то азиат из киргизских степей в красной тюбетейке на бритой голове. Поликсене сказали, что это берейтор князя Рогана, в прошлом – проводник караванов Чомы Кёрёша, исследователя Азии.
Божена в нарядном платье, с пером, покачивающимся на старой приплюснутой шляпке (рождественский подарок графини Заградки), вносила блюда – сначала жаркое из куропаток с зеленью, затем нарезанные ломтиками ржаные кнедли в сливовом муссе.
– Угощайся, Поликсена, ешь и пей вволю! – потчевала ее, как ровню, старая кухарка барона, подмигивая судомойкам и горничным, жавшимся к ней, словно цыплята к клушке, которая должна взять их под крыло, если вдруг дворянской соколице вздумается спикировать на них.
Поначалу застольное общество – десятка два мужчин, женщин и девиц всех возрастов – держалось довольно скованно.
Многие впервые пользовались редчайшей возможностью посидеть за одним столом с господами и боялись оплошать при обращении с ножом и вилкой, но Поликсена быстро сумела создать атмосферу дружеской непринужденности, вовлекая в разговор то одного, то другого гостя и тем самым как бы развязывая языки всем остальным. Только мулла Осман из киргизских степей молча отправлял в рот еду пальцами, которые то и дело ополаскивал в миске с водой. Угрюмый русский тоже не проронил ни слова, он лишь время от времени вонзал в Поликсену клинки своих долгих и отнюдь не добрых взглядов.
– А все-таки расскажите, – обратилась она к гостям, когда все кушанья были поданы, а чайные чашки и винные бокалы наполнены, – что тогда, собственно, произошло? В самом деле там, наверху, какой-то лунатик…
– Не сойти мне с этого места, ваша милость! – поспешила подтвердить Божена, но, получив от кухарки тумак под ребра, тут же поправилась: – Не сойти мне с этого места, Поликсена. Я своими глазами видала! Страсти-ужасти! Я сразу поняла, как, значит, Брок-то залаял, а господин барон сказали: «Йезус Мария!» А этот руками не шевелит, а в воздухе летает, точно огненный петух какой. Глазища так и пылают. Кабы не было при мне моего хранителя, – она тронула амулет, висевший у нее на шее, – не сидеть бы мне сегодня с вами. Он меня как ошпарил глазами-то. А потом его как швырнет на живую изгородь, и он вниз летит, точно… ядро из пушки. Вот пан Лоукота, – она кивнула на старика-камердинера, – не даст мне соврать.
– Вздор, – сказал тот, – все было не так.
– Ну ясное дело, – возмутилась Божена. – У вас, пан Лоукота, как всегда, память отшибло. А ведь вы здорово струхнули.
– Так он и впрямь по воздуху летал? – недоверчиво спросила Поликсена.
– Ваша правда.
– Парил в воздухе?
– Точно так.
– И глаза у него горели?
– Ваша правда. Как уголья.
– А потом, я слышала, он на глазах моих родственников и других господ будто бы превращался в других людей?
– Ага. Один раз стал длинным и тонким, как палка от метлы. Я в замочную… – Божена смущенно запнулась, почувствовав, что перестаралась с подробностями. – А вообще-то, я долго не глядела, меня госпожа графиня за Богемской Лизой услали… – Она вновь осеклась, как только кухарка ткнула ей в ребра еще раз.
Возникла какая-то неловкая пауза.
Потом русский вполголоса спросил своего соседа:
– А как зовут этого человека?
Тот лишь пожал плечами. И за него ответила Поликсена:
– Насколько мне известно, это – Зрцадло, бродячий комедиант с ярмарки.
– Да, так его прозвали.
– Ты думаешь, его зовут иначе?
– Ничего я не думаю, – уклончиво ответил русский.
– Но ведь он комедиант? Верно?
– Нет, вовсе нет, – подал голос азиат.
– Ты знаешь его?
– Вы знаете его, пан мулла? – нестройным хором повторили вопрос гости.
Мулла, словно защищаясь, взметнул руки.
– Я говорил с ним только раз. Но думаю, не ошибся. Он – орудие эвли.
Эти слова вконец озадачили прислугу.
– Здесь, в Богемии, – продолжал азиат, – вам это ничего не говорит. А у нас, на Востоке, такое не редкость.
И, откликнувшись на просьбу Поликсены растолковать, о чем идет речь, он начал свой рассказ короткими, раздельными фразами, видимо переводя про себя почти каждое слово с родного языка на немецкий:
– Эвли – такой особый факир… У него волшебная сила… Такому факиру нужны чужие уста… Иначе он говорить не может. Поэтому он находит мертвеца.
– Значит, по-твоему, Зрцадло – мертвец? – спросил русский с неожиданной тревогой в голосе.
– Не знаю… Может, у него полу… Как это?.. – Он вопросительно взглянул на Поликсену. – Полусм…
– Летаргический сон?
– Да. Когда эвли хочет говорить чужими устами, он покидает свое тело и вселяется в чужое. – Мулла ткнул пальцем себе в грудь, обозначив линию, где она переходит в диафрагму. – Здесь сидит душа. Он поднимает ее. – Последовал жест, указывающий на горло, а затем на переносицу. – Сперва сюда, потом сюда… Так он покидает свое тело и входит в мертвое… Если тело еще сохранилось, покойник оживает и встает. Но тогда он уже – эвли.
– А что происходит с самим эвли? – спросила явно заинтригованная Поликсена.
– Тело эвли как мертвое, пока его дух в другом… Я много раз видел факиров и шаманов… Они всегда сидят точно мертвые. Потому что их дух в других… Это называется авейша… Но эвли может делать авейшу и с живыми… Только вселяется в них, когда они спят или в обмороке… Некоторые покойники, которые при жизни обладали очень сильной волей или имели еще и особую миссию в этом мире… могут даже входить в живущих так, что те и не заметят… Но чаще всего они выбирают тела уснувших летаргическим сном… Хотя и бодрствующих тоже… Например, Зрцадло… Что ты так смотришь на меня, Сергей?
При этих словах русского будто подбросило, и, переглянувшись с челядинцами, он уже не сводил глаз с губ азиата.
– Нет, нет, мулла. Я просто удивлен.
– В наших краях, – продолжал рассказчик, – часто бывает так: живет себе человек спокойно, как все, а потом вдруг забывает все на свете и уходит куда глаза глядят. Тогда люди говорят: его телом завладел эвли или шаман… Шаманы – не правоверные, но тоже могут чудодействовать вроде эвли… Авейша не имеет ничего общего с Кораном… Проснувшись поутру, когда мы чувствуем себя какими-то не такими, как вечером, мы со страхом думаем, что в нас вселился усопший, и тогда делаем несколько глубоких вздохов, чтобы освободиться.
– А чего ради мертвые завладевают телами живущих? – поинтересовалась Поликсена.
– Наверно, ради наслаждения… А может, чтобы наверстать то, чего не успели совершить при жизни… Или, если они жестокого нрава… чтобы учинить кровавую бойню.
– Значит, возможно, война…
– Именно так. Все, что люди делают против своей воли, исходит от авейши… так или иначе… Если они вдруг звереют и бросаются друг на друга, словно разъяренные тигры, думаешь, тут обходится без авейши?
– А по-моему, они делают это из особого воодушевления, например, какой-нибудь идеей.
– Но это и есть авейша.
– Стало быть, воодушевление и авейша – одно и то же?
– Нет, сначала – авейша, воодушевление – уже следствие… Обычно не замечают, как совершается авейша. Чувствуют лишь воодушевление и потому думают, что оно возникло само собой… Говорю тебе, есть разные виды авейши… Иные люди способны сотворить с кем-то авейшу одной только своей речью. А речь – тоже авейша, хотя и в более естественном виде… Но с человеком, который полагается лишь на себя самого, никто на свете не может проделать авейшу. Никакой эвли и никакой шаман.
– И ты полагаешь, что эта война – тоже порождение авейши?
Мулла с усмешкой покачал головой.
– Или вызвана каким-то шаманом?
Снова молчаливая усмешка.
– Тогда кем же?
Мулла Осман пожал плечами. Поликсена догадалась, что у него нет охоты углубляться в этот вопрос, в чем ее окончательно убедил уклончивый ответ:
– Лишь тому, кто верит в себя и поступает обдуманно, не грозит авейша.
– Ты мусульманин?
– Н… нет, не совсем… Ты же видишь, я пью вино.
При этом он пригубил из своего бокала.
Поликсена откинулась на спинку стула, молча вглядываясь в спокойные черты своего соседа. Круглое, гладкое лицо человека, не ведавшее ни страстей, ни треволнений. «Авейша?! Что за странное суеверие? – Она отхлебнула чаю. – Интересно, что он ответил бы, спроси я его, может ли авейша творить образы? Господи, что это я? Ведь он всего лишь конюх или кто-то в этом роде». И она разозлилась на себя за то, что так долго слушала его. Еще больше уязвляла другая мысль: ни с кем из родственников ей не случалось вести столь интересную беседу – а это оскорбляло ее чувства, ее аристократическое достоинство. Поликсена прищурилась, чтобы он не заметил, как неотрывно она наблюдает за ним. «Будь он в моей власти, я велела бы отсечь ему голову!» – твердила она про себя, дабы залечить ссадину, нанесенную ее высокомерию, но ничего не получалось.
Чувство лютой жестокости могло разыграться в ней только об руку с любовью или сладострастием, а этот азиат, будто незримым щитом, отражал и то и другое.
Поликсена подняла глаза и увидела, что, пока они разговаривали, в конце длинной комнаты образовалась тесная группа молодых людей из прислуги. Они, хоть и старались не шуметь, были, однако, чрезвычайно возбуждены.
До нее донеслись кое-какие слова: «Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей!» Ораторствовал парень, на которого за столом так многозначительно поглядывал русский. Это был парень с застывшим взглядом, без сомнения, пражский чех, по-видимому очень начитанный, он так и сыпал социалистическими лозунгами вроде: «Собственность – это воровство».
Ропот накатывал волнами, и все время повторялось одно имя – Ян Жижка.
– Чушь собачья, – прошипел один из молодых людей, с трудом понижая голос; он уперся каблуком в пол и крутанулся на месте, словно желая спустить пары своего негодования. – Нас просто изрешетят, мы и пикнуть не успеем. У них же пулеметы! Пу-ле-ме-ты!!
Его выпад не произвел особого впечатления, видимо, русский умел управлять умами. Девиз «Ян Жижка» продолжал звучать рефреном.
И вдруг Поликсена услышала знакомое имя – Оттокар Вондрейц, да, она не ошиблась, и это было подобно удару током.
Она непроизвольно подалась вперед, силясь понять, о чем именно идет речь.
Русский заметил ее порыв и быстро подал своим собеседникам знак, после чего они с непринужденным видом потянулись к столу.
«Что у них на уме? – размышляла Поликсена; она инстинктивно угадывала: вся эта сходка каким-то образом направлена против ее касты. – Если бы их сбило в кучу просто недовольство жалованьем, они не были бы так взбудоражены».
Больше всего ее тревожило то, что они упомянули Оттокара. «Неужели им что-то известно?» Поликсена всеми силами отгоняла эту мысль и успокаивала себя: «Трусливые холопы! Что мне до них? Пусть себе думают что хотят. Буду делать все, что угодно мне. Без оглядки на сброд».
И однако она всмотрелась в лицо Божены. Ей было точно известно, что Оттокар раньше путался с этой бабенкой, но Поликсену это нисколько не волновало. Она слишком горда, чтобы снизойти до ревности к кухонной девке. «Нет, лицо Божены не выражает ничего, кроме спокойной и глуповатой радости. Значит, имя Оттокара было произнесено в какой-то иной связи».
Сверкавшие ненавистью глаза русского кучера убеждали ее в том, что речь идет о вещах более серьезных, чем личные отношения.
Ей вспомнился разговор, который она несколько дней назад случайно услышала в одном магазине. Судачили о том, что внизу, в Праге, затеваются обычные политические безобразия. Чернь опять готовит какие-то «манифестации», то бишь битье окон или иные «демократические» буйства.
Она облегченно вздохнула. Если дело только в этом, можно не волноваться. Подумаешь, восстание в Праге.
До сих пор бунтующая толпа не переходила моста и не совалась в Градчаны. Эта многоголовая бестия не осмеливалась приближаться к аристократии.
Поликсена холодно и с насмешкой встретила взгляд русского.
И все же ей стало немного не по себе – настолько ясно читалась в нем непримиримая злоба.
И нельзя назвать страхом то, что, скорее, щекотало нервы, бросало в сладостно-жутковатый озноб при мысли о том дне, когда могут хлынуть потоки крови… «Грунтовые воды» – это выражение вдруг вклинилось в строй ее мыслей. Казалось, его выкрикнул какой-то голос из глубины ее существа. «При чем тут грунтовые воды? Как это связано с вещами, о которых я думала?» Она даже не знала в точности, что это такое – грунтовые воды. Наверное, то, что до поры дремлет в земле, а потом взбухает, поднимается, затопляет подвалы, подмывает стены, сносит старые дома. Такая вот, вероятно, напасть.
И это смутное бессознательное представление переросло в картину: кровь, хлынувшая сквозь поры земли, море крови, затопившее все вокруг, багровые потоки, хлещущие из решеток каналов; улицы, подобные красным рекам, которые несли свои волны вниз, в сторону Влтавы.
«Кровь – это и есть грунтовые воды Праги».
Поликсена была просто оглушена этой мыслью. Перед глазами клубился красный туман, она видела, как он наплывает на русского, который вдруг побледнел так, будто страх стиснул ему горло. Она чувствовала, что одержала верх над этим человеком. Ее кровь оказалась сильнее.
«А ведь есть что-то в этой… в этой авейше». Она взглянула на руки русского, огромные и страшные, точно клешни какого-то чудовища, созданные для удушения своих жертв, они теперь беспомощно распластались на столе. «Еще далек тот день, когда ваш пролетарий разобьет вам цепи», – подумала она, упиваясь злорадством. И Поликсена вдруг поняла, что и она может совершить авейшу, если захочет, что всегда обладала этой способностью, унаследованной от своих близких и далеких предков.
Глава шестая
Ян Жижка из Троцнова
С последним, двенадцатым ударом часов гости задвигали стульями: пора и честь знать, время равенства и братства истекло.
На пороге галереи Поликсена в нерешительности остановилась: раздеться ли ей с помощью Божены или отослать ее. Да, лучше отослать.
– Целую ручку милостивой госпоже. – Божена ухватилась за рукав графини и прильнула к нему губами.
– Ну-ну, спокойной ночи, ступай же.
Присев на край кровати, она задумчиво уставилась на пламя свечи.
«Что ж, теперь спать?»
Сама эта мысль казалась невыносимой. Поликсена подошла к венецианскому окну, выходившему в сад, и раздвинула тяжелые шторы.
Над кронами деревьев узким сверкающим серпом нависла луна – жалкий вызов тьме. Гравийная дорожка, на которую падал свет из окон первого этажа, матовой полоской тянулась к решетчатым воротам. Изменчивые тени скользили куда-то, сливаясь с чернотой, сбегались и разбегались, обретали всё новые очертания, вытягивали шеи на травяном ковре, чтобы перекинуться на кусты, накрыв их траурной вуалью, вновь съеживались и, казалось, шушукались друг с другом, делясь какими-то тайнами. Такова была причудливая игра силуэтов за окнами людской.
Сразу за темной массивной стеной парка, как бы обозначавшей самую кромку мира, из мглистых глубин вставало небо – беззвездная бездна разинула свою необозримую черную пасть.
По движению теней Поликсена пыталась угадать, о чем говорят в людской.
Пустая затея.
«Интересно, спит ли сейчас Оттокар?»
Мягким и нежным облаком ее охватило томление. Но через секунду-другую облако уплыло. Она и Оттокар грезили по-разному. Ее видения отличались обжигающим жаром и буйством красок. Просто теплые чувства быстро ускользали. Она не была даже уверена, что ее влечение к нему можно назвать любовью.
Что было бы, если бы им пришлось разлучиться? Она не раз задавалась этим вопросом, но никогда не находила ответа. Это были столь же напрасные усилия, как и попытки по игре теней угадать, о чем говорили слуги.
Собственная душа казалась ей непостижимой пустотой, непроницаемой и самодовлеющей, как эта тьма за окном. Даже при мысли о том, что Оттокар может вот-вот умереть, она не испытывала душевной боли… Поликсена знала о его неизлечимом недуге, о том, что жизнь Оттокара висит на волоске… Он сам говорил ей об этом, но она как бы не услышала его, будто Оттокар обращался не к ней, а к какому-то портрету – Поликсена повернулась к стене, – да вот к этому самому портрету покойной графини.
Она отвела взгляд от полотна, взяла свечу и двинулась вдоль портретов. Застывший парад мертвецов.
Все они были для нее немы и глухи. «Если бы они сейчас предстали передо мной живыми, это были бы совершенно чужие мне люди; у нас нет ничего общего. Они давно истлели в своих гробах».
Ее взгляд скользнул по белой накрахмаленной постели.
«Лечь и уснуть? – Поликсена похолодела при этой мысли. – Я же могу не проснуться». Вспомнилось неподвижное лицо спящего дяди с бескровными, восковыми веками. «Сон – это страшный провал, может быть, пострашнее смерти».
Ее била дрожь. Еще ни разу в жизни она столь явственно не ощущала вероятности такого жуткого исхода, когда сон без сновидений может перейти в смерть сознания.
На Поликсену напал панический страх. «Господи, чего же я жду?! Прочь! Подальше отсюда, из этого склепа!.. Паж, там, на стене, такой юный и уже труп, ни кровинки в лице!.. Волосы рассыпаны по изголовью гроба, они давно выпали, обнажив гладкий череп с оскалом жуткой улыбки… Истлевшие в гробнице старики и старухи… Не ложиться же рядом с ними!»
Поликсена с облегчением вздохнула, когда внизу хлопнула дверь и по гравию зашуршали чьи-то шаги. Услышав приглушенные голоса слуг, которые прощались друг с другом, она задула свечу и тихо открыла окно.
Русский кучер остановился у решетки ворот и начал, не торопясь, рыться в карманах, видимо в поисках спичек. Только когда все разошлись, он закурил сигарету.
Очевидно, русский кого-то ждал. Поликсена поняла это по его маневру: когда из дома послышался шум, кучер отступил в тень, а как только все стихло, замаячил вновь, что-то высматривая на улице сквозь прутья решетки.
Наконец к нему присоединился молодой чешский лакей с осовелым взглядом.
Он, вероятно, тоже хотел избежать общества других челядинцев, поскольку какое-то время молча топтался рядом с русским, дабы удостовериться, что никто не идет следом.
Поликсена напряженно прислушивалась к их негромкому разговору, но, несмотря на царившую в парке мертвую тишину, не поняла ни слова.
В людской выключили свет, и гравийная дорожка мигом исчезла, словно стертая тьмой.
И вдруг русский как будто произнес: «Далиборка».
Поликсена затаила дыхание.
Вот! Опять! На сей раз довольно внятно: «Далиборка». Никаких сомнений.
Неужели это как-то связано с Оттокаром? Она поняла, что оба, несмотря на поздний час, собираются идти в Далиборку и втайне от других слуг замышляют какое-то дело.
Но башня давно закрыта. Ради чего туда тащиться?
Чтобы ограбить приемных родителей Оттокара? Абсурд. У этих бедняков и отнимать-то нечего. Или им нужен он сам? Может быть, месть?
Она отбросила эту мысль как столь же нелепую. Оттокар, никогда не водивший компанию с людьми такого пошиба, вряд ли вообще был знаком с этими типами. Чем же он мог навлечь на себя их немилость?
Нет, тут собака зарыта поглубже. Поликсена была почти уверена в этом.
Тихо звякнула щеколда решетчатой створки, а затем послышался звук удалявшихся шагов.
Поликсена на миг растерялась. Как ей поступить? Остаться здесь и… улечься спать в этой постылой комнате? Нет, только не это! Стало быть, отправиться вслед за двумя полуночниками. И немедленно. В любую минуту сторож мог запереть ворота на замок, и тогда ей не выйти.
Поликсена нашарила в темноте свою черную кружевную шаль, зажечь свечу не поднялась рука: «Не дай бог снова увидеть эти страшные лики, эти посмертные маски. Уж лучше идти одной по темным улицам навстречу любой опасности».
Из стен дворца ее гнало не любопытство, а, скорее, страх перед покойниками, боязнь провести ночь в их обществе. Даже воздух здесь, как ей вдруг почудилось, был пропитан смрадом тления и отдан во власть призраков. Ей и самой было не вполне ясно, что побудило ее принять такое решение. Поликсена лишь чувствовала: по каким-то причинам она не могла поступить иначе.
У ворот предстояло решить, какой дорогой идти к Далиборке, чтобы не столкнуться с кучером и лакеем.
По существу, оставался лишь довольно долгий кружной путь через Шпорненгассе и Вальдштейнплац.
Она быстро, но осторожно перебегала от угла к углу, прижимаясь к стенам домов.
Возле дворца Фюрстенберга она увидела горстку людей, которые не торопились закончить какой-то разговор. Боясь быть узнанной (ведь среди них могли оказаться и гости праздничного ужина), Поликсена была вынуждена ждать – это длилось целую вечность, – пока они не разойдутся.
Потом она поднималась по причудливым извивам старой замковой лестницы, между черными каменными стенами, за которыми виднелись усыпанные белым цветом кроны плодовых деревьев, которые как бы притягивали к себе лучи лунного света и наполняли воздух пряным ароматом.
Перед каждым поворотом она замедляла шаг и, прежде чем идти дальше, напряженно вглядывалась в темноту, чтобы никому не попасться на глаза.
Когда Поликсена была уже близка к цели, она как будто почувствовала запах табачного дыма. «Русский», – догадалась она и замерла на месте, чтобы не выдать себя даже шелестом одежды.
Тьма стояла кромешная, только верх стены справа был едва виден в отсветах затерявшегося в небе тусклого серпика, и то лишь там, где стену не затеняла листва; это напоминало рваную, слабо фосфоресцирующую полоску, и в обманчивом мерцании невозможно было разглядеть даже ближайшую ступень.
Поликсена настороженно вслушивалась в темное пространство… Ни звука…
Даже лист не шелохнется.
Иногда ей казалось, будто совсем рядом, где-то слева, словно в глубине кладки, слышится чье-то тихое дыхание. Она повернулась в ту сторону, буравя взглядом тьму и стараясь ни единым шорохом не нарушить ночного безмолвия.
Но теперь ничего не было слышно.
Да, полная тишина.
«Уж не мое ли это дыхание? Или сонная птица шевельнулась на ветке?» Поликсена попыталась нащупать ногой следующую ступень, и вдруг прямо перед ней вспыхнул огонек сигареты, осветив лицо человека, который был так ужасающе близко, что она просто столкнулась бы с ним, если бы не успела отпрянуть назад.
Сердце захолонуло, на какой-то миг ей показалось, что земля разверзается под ногами. Не помня себя, она бросилась вперед, в черную пасть ночи, и бежала до тех пор, пока не стали подкашиваться ноги. Поликсена стояла на верхней площадке лестницы. Внизу в слабом свете чистого звездного неба виднелись силуэты строений – там, затянутая желтоватой мглой, дремала Прага.
В полуобморочном изнеможении Поликсена прислонилась к камню арочных ворот. Под ними начиналась тропа, которая по верхнему склону Оленьего рва вела к Далиборке.
Теперь, уже в памяти, вновь обрисовались освещенные вспышкой лицо и фигура. Поликсена как вживе видела перед собой этого человека – скорее всего, горбуна, в темных очках и долгополом сюртуке; рыжие бакенбарды, на непокрытой голове какие-то ненатуральные, вроде парика, лохмы; она ясно видела характерный нос с раздутыми ноздрями…
Наконец дыхание стало ровнее, и Поликсена мало-помалу успокоилась.
«Должно быть, просто безобидный калека, случайно оказавшийся у меня на пути. Бедняга, наверно, перепугался не меньше, чем я. – Она вгляделась во мрак, в котором исчезала замковая лестница. – Слава богу, горбун не идет следом».
Однако страх все еще давал о себе знать, сердце билось учащенно. Надо было перевести дух. Поликсена присела на мраморную балюстраду и пробыла на лестнице еще около получаса, покуда ночная прохлада, от которой уже начался озноб, и голоса людей, поднимавшихся по ступеням, не привели ее в чувство, напомнив о том, как и почему она здесь оказалась.
Поликсена собралась с духом, встрепенулась, как бы стряхивая с себя последние путы нерешительности, и стиснула зубы, чтобы унять дрожь.
Какая-то смутная тревога гнала ее в сторону Далиборки и вместе с тем наполняла свежими силами. Чего она, собственно, хотела? Выведать, что там замышляют темные личности? Предупредить Оттокара об опасности, которая, возможно, угрожала ему? Она и не пыталась уяснить цель своих действий. Поликсена была слишком горда, чтобы отступиться от уже принятого, пусть даже совершенно бессмысленного решения, продиктованного лишь честолюбивым желанием продемонстрировать самой себе собственную смелость и выдержку. Эта гордость мгновенно подавила мелькнувшее было сомнение, не разумнее ли отправиться домой и улечься в постель.
Не теряя из виду мрачный силуэт башни-гладоморни с ее каменным колпаком, которая служила сейчас надежным ориентиром, Поликсена поднималась по крутому склону, покуда не приблизилась к воротам, выходившим на Олений ров.
Она уже почти поддалась не вполне осознанному порыву войти под сень старых лип и постучать в окошко Оттокара, как вдруг где-то внизу послышались негромкие голоса и она увидела вереницу черных фигур. Эти люди, вероятно, и двигались вслед за ней по ступеням лестницы, а теперь, ломясь сквозь кустарник, подходили к башне.
Поликсена вспомнила, что в стене башни над самой землей было пробито круглое отверстие, через которое, хоть и не без труда, можно пролезть внутрь. Голоса, звучавшие все глуше, и шум осыпавшихся камешков позволили ей заключить, что именно этой лазейкой воспользовались странные ночные посетители Далиборки.
Поликсена, быстро, несколькими прыжками одолев раскрошившиеся ступени, скользнула вглубь двора и подбежала к домику смотрителя, к единственному озаренному тусклым светом окну.
Поликсена прижалась щекой к стеклу, затемненному зелеными ситцевыми занавесками.
– Оттокар! Отто-кар! – шепотом произнесла, скорее даже выдохнула она.
Из комнаты донесся чуть слышный скрип, как будто в кровати заворочался разбуженный человек.
– Оттокар?! – Она легонько постучала пальцами по стеклу. – Оттокар?
– Оттокар? – эхом повторил чей-то шепот в комнате. – Оттокар, это ты?
Разочарованная, Поликсена хотела уже отойти от дома, но тут кто-то заговорил слабым, словно издалека долетавшим голосом. Это было похоже на речь дремлющего человека, который, почти беззвучно шевеля губами, говорит сам с собой.
