Читать онлайн На острове бесплатно
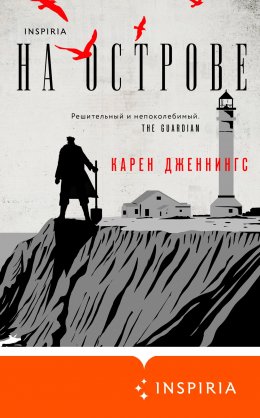
Karen Jennings
AN ISLAND
Copyright © 2019 by Karen Jennings.
Originally published in English as An Island.
This edition published by arrangement with Agence Deborah Druba.
All rights reserved.
© Шепелев Д., перевод на русский язык, 2022
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022
· День первый ·
ВПЕРВЫЕ НА БЕРЕГ ОСТРОВА ВЫНЕСЛО БОЧКУ ИЗ-ПОД НЕФТИ. За годы чем только не бывал усеян галечный пляж: рваными рубашками, кусками веревки, крышками от ланч-боксов, прядями искусственных волос. А иногда, как и сегодня, выносило трупы. Этот лежал позади бочки, протянув к ней руку, как бы говоря, что он проделал с ней долгий путь и не хочет расставаться.
Сперва Самуэль увидел только бочку – через одно из окошек маяка, – когда спускался утром из башни. Спускаться приходилось осторожно. Древние каменные ступени истерлись и продавились – того гляди поскользнешься. В редких местах, где позволял цемент, Самуэль вогнал в стену металлические ручки, но основную часть пути приходилось цепляться растопыренными пальцами за шершавую кладку.
Бочка, пластиковая и синяя, как рабочий комбинезон, бултыхалась в ручье, оставаясь в поле зрения Самуэля, пока он спешил к берегу. Приблизившись, он заметил тело. Он отступил и обошел вокруг бочки. Бочка была толстой, как президент, и с виду целой.
Самуэль осторожно поднял ее. Она оказалась пустой и запечатанной. Но, несмотря на легкость, держать ее было трудно. Самуэль не смог бы обхватить такую гладкую поверхность своими грубыми руками и унести по коварной гальке и валунам, а потом еще подняться по песчаной тропинке, продираясь через заросли, до коттеджа на мысу, возле башни маяка. Возможно, он мог бы сходить за веревкой и привязать бочку к спине, чтобы не катить допотопную дощатую тачку с растрескавшимся колесом, застревавшим на ухабистом пляже, которая так и норовила перевернуться под собственным весом.
Да, лучше он оттащит бочку на спине. А потом, во дворе, вынюхает старую ножовку, ютившуюся где-то среди мешковин и гниющих досок. Сотрет ржавчину с полотна, заточит, как только сможет, спилит с бочки верхушку и поставит ее к углу коттеджа, под кровельный желоб, чтобы собирать дождевую воду для огорода.
Самуэль шмякнул бочку оземь. Она накренилась на неровной поверхности и задела руку трупа. Самуэль совсем забыл о нем. Он вздохнул, подумав, что уйдет целый день, чтобы избавиться от него. Целый день. По-хорошему следовало бы оттащить его подальше и закопать, но это было невозможно на скалистом острове, едва присыпанном песком. Единственное, что оставалось, – это завалить труп камнями, как Самуэль делал уже не раз. А этот покойник был на редкость крупным. Во всяком случае, длинным. Вдвое длиннее бочки, словно морская пучина растянула ему кости.
Руки выглядели несуразно внушительными по сравнению с худым торсом с выступавшим позвоночником и ребрами. На лопатках курчавились черные волоски, как и на пояснице, над серыми джинсовыми шортами. Такие же волоски – удивительно короткие для такого дылды – курчавились на ногах, предплечьях и между пальцами. Самуэлю стало не по себе. Это были волоски новорожденного звереныша или младенца, перележавшего в утробе. Кого же на этот раз море извергло на камни из своего лона?
Солнце поднималось все выше, серебря на теле волоски, покрытые солью. На голове волосы тоже посерели из-за набившегося песка. Песчинки покрывали и видимую часть лица – край лба и закрытый глаз. Остальная часть лица вжималась в плечо.
Самуэль поцокал языком. Это подождет. Сперва он займется бочкой, а на следующий день, если труп еще не смоет в море, придется накрошить валунов, чтобы засыпать его.
За двадцать три года, что Самуэль был смотрителем маяка, море успело выбросить ему тридцать два трупа. Все, как один, безымянные и безвестные. Когда к власти только пришло новое правительство, вовсю сыпавшее обещаниями, в стране царил хаос и велись розыски жертв диктаторского режима, державшегося четверть века, Самуэль докладывал о трупах. После первого такого случая на остров нагрянули официальные лица, с папками и дюжиной мешков для трупов, и принялись прочесывать местность в поисках неглубоких могил, останков между валунами, костей и зубов, затерявшихся в гравийном песке.
«Вы же понимаете, – сказала ему чиновница, осматривая царапины на своих лакированных каблуках, – мы дали обещания. Мы должны найти всех жертв диктатуры, чтобы двигаться дальше, в национальном масштабе. Мои коллеги нашли в поле на окраине столицы общую могилу, насчитывавшую как минимум полсотни тел. Еще один коллега обнаружил останки семерых человек, висевшие в лесу на деревьях. Они до сих пор там висели – вы понимаете? – все это время. Кто знает, скольких еще мы найдем здесь? Уверена, что много. Это идеальная свалка».
«Вы так думаете?»
«Еще бы, только оглядитесь, – она обвела пространство рукой. – Никого на целые мили. Совершенно никто ничего не увидит, не услышит и не сделает».
Чиновница наклонилась к нему и понизила голос:
«Поговаривают, что у него были секретные лагеря, по типу концлагерей, куда он отправлял умирать диссидентов. Конечно, мы пока не знаем, насколько это соответствует действительности. Мы еще не нашли доказательств, но таким местом вполне мог быть этот остров – не думаете? Разве не в такое место вы бы отправили кого-то умирать?»
Самуэль ничего не ответил, а женщина уже отвернулась от него и окликнула своего подчиненного, постукивая по наручным часам.
«Ищите дальше», – сказала она, когда подчиненный покачал головой.
Она снова повернулась к Самуэлю и сказала:
«Когда мы найдем тела, вот тогда и начнется исцеление – всей нации, всех нас. Без этого нам не исцелиться. Нам нужны эти тела».
Когда все члены команды вернулись на берег с пустыми руками, не сумев за день работы предъявить ничего, кроме выброшенного на берег трупа, чиновница стремительно направилась к своему катеру, даже не потрудившись попрощаться. Самуэль больше ничего не слышал ни от нее, ни от ее ведомства. Он так и не узнал ни что случилось с покойным, ни кем он мог быть.
Несколько месяцев спустя – возможно, через год – Самуэль увидел три маленьких тела, выброшенные рядышком на берег: мальчика, девочки и младенца в одеяле. В те дни рация на маяке еще работала, и Самуэль связался с берегом. Он услышал женский голос, прерываемый помехами:
«Какого они цвета?»
«Что?»
«Какого они цвета? Тела. Какого цвета?»
Он ничего не ответил.
«Что я спрашиваю: они темнее нас, их кожа? Вот что я хочу знать. Они темнее, чем вы или я?»
«Думаю, что да».
«А их лица? Они длиннее? Какие у них скулы?»
«Не знаю. Это дети. Они выглядят как дети».
«Слушайте, у нас хватает дел. Мы занимаемся настоящими преступлениями. Реальными зверствами, понимаете? Мы не можем мотаться на этот остров каждый раз, как утонут очередные беглые повстанцы. Это не наша забота».
«Тогда что мне с ними делать?»
«Да что хотите. Нам они не нужны».
Он тогда уже посадил огородик за коттеджем и ввозил на свою зарплату почву с материка, заказывал семена и вырезки. А чтобы защитить молодую поросль, стал обносить свое хозяйство каменной изгородью. Собирал по всему острову камни размером с кирпич и складывал, пока не сложил нужную высоту и длину. Затем заказал кувалду и разбил немало булыжников и валунов на берегу, чтобы укрепить изгородь щебенкой. Остров начал медленно менять свои очертания. Если бы над ним курсировал вертолет, пилот заметил бы, что бухточки с неровными каменистыми краями расширились.
Самуэль продолжил обносить изгородью остров, пока не заключил его в круг. Под этой изгородью он и хоронил тела. Обычно он проверял их карманы на предмет удостоверений личности, но безрезультатно. Только один престарелый люмпен сжимал мертвой хваткой размокшие иностранные деньги. Самуэль так и закопал его. Он выбирал места для могил подальше от коттеджа, чтобы его не беспокоил трупный запах. Но чайки чуяли мертвечину и несколько недель кружили, протяжно голося, над теми местами, клевали камни. Со временем Самуэль научился складывать более прочные курганы, чуть выдававшиеся над землей. Но даже так чайкам иногда удавалось разворошить камни. В тех местах, где трупы оставались разлагаться под открытым небом, кладка часто проваливалась.
Самуэль отодвинул тело ногой от бочки. Положение руки изменилось, и голова съехала с плеча, повернувшись лицом вверх. На секунду оба глаза приоткрылись. Раздался хрип, и сжались пальцы на вытянутой руке, ухватив гальку.
Самуэль попятился.
– Привет, – сказал он тихо и повторил погромче: – Привет.
Тело больше не двигалось, но на шее у него стал просматриваться слабый пульс. Раз-два, раз-два, вторил он морю, накатывавшему с шипением на галечный пляж.
Самуэль стал считать пульс. Пятьдесят ударов. Двести. Триста пятьдесят. Насчитав пять сотен, он повернулся к пластиковой бочке, обхватил ее посередине и, неловко подняв перед собой, побрел вслепую вверх по склону, подальше от линии прилива. Он опустил бочку набок, обложил галькой и, вернувшись к телу, насчитал еще сотню ударов сердца, после чего пошел протоптанными тропинками на мыс.
ПОКА ЕГО НЕ БЫЛО, налетели чайки. Они стояли в нескольких метрах от тела и вытягивали шеи, неуверенно пища. Одна взмахнула крыльями, приблизилась к правой ноге и несмело клюнула шорты. Но тут на тропинке появился Самуэль, толкая перед собой тяжелую тачку.
– А ну проваливайте! Вон отсюда! Вон!
Птицы взлетели и стали низко кружить, пока Самуэль толкал тачку по камням к берегу. Он поставил ее рядом с телом, взял веревку и пошел к бочке. Обвязав ее дважды поперек и дважды в длину, он примотал конец веревки к высокому валуну. Деревьев в этой части острова не было, только сухие безлиственные кустики, ломавшиеся от одного прикосновения.
Он вернулся к телу, взял его под мышки и попытался подтащить к тачке. Но не смог сдвинуть с места. Он тянул и тянул, кряхтя от натуги и не понимая, что ему мешает. Но у него заныли руки и разболелась поясница. Поскользнувшись на голыше, он вскрикнул и упал навзничь, придавленный телом. Самуэль ощутил на себе чужие влажные волосы, чужой пот и дыхание. Он спихнул с себя тело и встал. Волосы под мышками были длинными и жесткими. Падая, Самуэль ухватился за эту жесткую поросль и теперь ощущал чужой пот у себя под ногтями, на руках и запястьях. Он сполоснул руки в волнах и снова ухватился за лежавшего.
Через несколько минут ему удалось взгромоздить его на край тачки. Прислонившись задом к доскам, он перевел дыхание. Затем взялся сбоку и поднял торс повыше, устроив в тачке понадежней. Голова завалилась на одну из рукоятей, обе руки болтались по краям. Самуэль кое-как убрал их в тачку; спереди комично торчали ноги.
А ноги Самуэля подрагивали. Как и руки. Он присел на песок, вглядываясь через воду в туманный горизонт. И почувствовал себя старым.
– Остарел я, – сказал он.
Словно испугавшись этих слов, он поспешно встал, взял человека за разбитые стопы и запихнул его ноги в тачку, сложив вдоль краев. Ступни он упер по углам. Затем взял второй кусок веревки и обмотал тело вдоль и поперек, зафиксировав и ступни, и колени, и руки. Рослое тело, опутанное по рукам и ногам, выглядело нелепым и деформированным.
И, несмотря на все старания, не желало лежать как положено, а голова била Самуэля по рукам, пока он толкал тачку по гальке. Колесо застревало при каждом шаге, и вскоре Самуэль наловчился останавливаться в нужный момент, чтобы убрать помеху, прежде чем двигаться дальше.
Один раз человек в тачке застонал, и Самуэль подождал, не откроет ли он глаза, но тщетно. Самуэль продолжил толкать тачку по влажному песку вдоль ручья, обложенного по обеим сторонам валунами, то и дело задевая за них; одно колено человека ободралось до крови.
Когда узкий коридор остался позади, а шум волн заметно стих, Самуэлю осталось преодолеть последнее препятствие в виде крутого косогора с рыхлым серым песком. Но колесо снова застряло. Самуэль попробовал протолкнуть его, но не тут-то было, и он откатил тачку назад, готовый сдаться. Он ведь попытался, верно? Приложил достаточно усилий. Сейчас он отвяжет этого малого, принесет ему еды и воды, если он очнется, и, может, одеяло – и на этом все.
И все же он продолжил подъем, стараясь обходить самые песчаные места. Он поднимался задом наперед и тянул тачку на себя, несмотря на то что его руки казались тонкими как бумага и готовы были разорваться. Затем колесо снова застряло, и Самуэль опустился на колени. Он был весь в песке. Песок набился ему в туфли и карманы, облепил руки. Он сделал еще одну попытку.
Наконец показался плоский мыс с желтыми травами, шелестевшими на легком ветерке, и твердой грунтовкой, поросшей по краям розовыми цветочками и колючими зелеными сорняками. А впереди высился маяк.
Когда-то он был белым; последний раз его штукатурили в середине прошлого века, до того как колониальное правительство ушло в отставку, подарив стране независимость. Теперь маяк облупился и поблек, а под галереей, опоясывавшей световую камеру, виднелись рыжие потеки от проржавевшего металла. На полу галереи не хватало досок, а те, что оставались, почти все шатались. Когда Самуэль стоял у стены маяка и смотрел наверх, эти проемы обрамляли небо, показывая, в зависимости от времени суток и года, облака, звезды, солнце или луну. Раз в две недели, если позволяло самочувствие, он, превозмогая страх, выходил на галерею с влажной тряпкой на палке и протирал окна. Последний раз он это делал несколько дней назад, а когда спускался, у него кружилась голова, ныла челюсть и рябило в глазах. Подняв сейчас взгляд, он увидел в окнах маяка отражение безоблачного неба в резком свете полуденного солнца.
С некоторых пор глубокая трещина, украшавшая башню посередине, выросла вдвое, протянувшись в ширину. Но это никого не волновало. Как не волновала ни штукатурка, ни проржавевшая галерея, ни выпавшие доски, ни сломанный радиопередатчик.
У основания маяка росли чахлые деревца, простирая ветви по ветру, на запад, отчего казалось, что их вот-вот сдует, и Самуэль нередко думал по утрам, перед тем как выйти из коттеджа, сдуло их за ночь или нет.
На подходе к огороженному дворику послышалось кудахтанье, и Самуэль открыл старую откидную дверцу, служившую калиткой, и успокоил кур:
– Ну, хорошо, девочки, хватит шуметь. Я вернулся. Я с вами.
Куры, числом семь, бросились к нему, ожидая корма.
– Нет, это не вам, – сказал он. – Давайте гуляйте.
Он прокатил тачку еще несколько метров до коттеджа и, затащив на единственную ступеньку, вкатил внутрь. Прокатив по темной тесной прихожей, где стояли поношенные ботинки и висели анораки и шляпы, он поставил ее в жилой комнате.
За ним увязалась одна курица, старая, с рыжеватым оперением, державшаяся поодаль от остальных. Самуэль слишком устал, чтобы выгонять ее, хотя куры и так прекрасно знали, что за порог им нельзя. Он опустился на колено, чтобы курица подошла к нему и поклевала воздух у него с ладони, и погладил ее. Осмотрел проплешины у нее на грудке и боках, куда ее клевали другие куры. Раны уже зажили. Можно было надеяться, что скоро вырастут новые перья.
– Ну, хорошо, – сказал Самуэль и отставил курицу в сторону.
Он развязал веревки. И стал медленно наклонять тачку, пока человек не вывалился на потертый ковер. Самуэль расправил ему руки и ноги, проверил колено, переставшее кровоточить, и подложил под голову старую подушку. Курица приблизилась, квохча, и стала вышагивать туда-сюда вдоль тела.
Самуэль прошел на кухню и выпил два стакана воды, прежде чем сел за стол. На столе после завтрака оставались крошки и краюха хлеба. Самуэль сам пек хлеб в старой газовой духовке, дважды в неделю. Ему понадобилось немало лет, чтобы научиться выпекать приличный хлеб. Он смахнул крошки со стола себе в ладонь и позвал курицу. Но курица увлеченно шагала вокруг лежавшего на полу человека, слегка ероша перья.
– Вот дура, – сказал Самуэль и, не вставая со стула, высыпал крошки в раковину. – Потом же будешь драться с остальными за обед.
Вскоре курица успокоилась, уселась в ногах человека и закрыла глаза. Самуэль взглянул на его лицо. У него был широкий рот и узкая челюсть. А лицо совсем безволосое, даже бровей не было видно. Самуэль подумал, что ему, должно быть, слегка за тридцать, хотя он вполне мог ошибаться. На шее, под самым ухом, он опять заметил пульс. И снова стал считать. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть.
Сколько он проживет? Сколько еще пролежит у него на ковре в его доме? Самуэль побарабанил пальцами по столу, провел рукой по лицу. Долго это будет продолжаться? Весь этот шурум-бурум в его доме. В доме, остававшемся его и только его вот уже двадцать с лишним лет. Долго ему это терпеть? Это дыхание, сердцебиение, молодость, эту молодую жизнь, заявлявшую свои права на его скромный коттедж, на его пол и стены. Самуэль почувствовал панику, ему стало трудно дышать.
Он попытался взглянуть на это разумно. Завтра прибывало судно снабжения, курсировавшее каждые две недели. И Самуэль передаст им этого малого. Им придется забрать его. Это входило в их обязанности.
И, словно в насмешку над его мыслями, на лбу человека, лежавшего на полу, вздулась вена, толстая и до неприличия живая.
Самуэль резко встал и неуклюже вышел из комнаты. Нужно было принести бочку. У него возникла надежда, что к тому времени, как он вернется, человек уже будет мертв.
ОН ПРИНЕС БОЧКУ НА СПИНЕ ВО ДВОР и, отвязав ее, прислонился к каменной изгороди. У него заныли ноги, и он подумал, что неплохо бы посидеть на холодной земле, но заставил себя встать и расправить плечи. Пошел по привычке к коттеджу, но при виде открытой двери, за которой виднелась темная прихожая, повернул к маяку, подальше от незваного гостя.
Низкое солнце светило прямо в лицо, так что он заморгал и прикрыл рукой слезящиеся глаза. Он словно бы услышал порыв жаркого ветра, заставивший его развернуться и подойти к открытой двери.
Он вдруг почувствовал, что коттедж дышит. Должно быть, это был обман слуха – дверной проем втягивал свежий воздух и выдыхал спертый из коттеджа.
Этот человек был жив. Ни о чем другом Самуэль думать не мог – только о том, как он лежит там и дышит, – ни о собственной слабости и ломоте, ни о голоде, ни даже о том, чтобы прилечь на диван, забыться ненадолго сном и успокоиться.
Но он не мог войти в эту удушливую дыру. Войти туда значило задохнуться, умереть.
Внутри у него стал разбухать какой-то маленький комок. Он разбухал и разбухал до тех пор, пока не обернул собой его грудь, руки и горло. Отчего он сделался хрупким и ломким. Он поднял руки к лицу и почувствовал, как пальцы елозят по щетине и сухой как бумага коже под ней.
Нет, он не мог войти в коттедж. И вернуться на пляж не мог, до того устали ноги. Но даже если бы мог, не стал бы. Только не теперь, после того как там случилась эта жуть.
Что-то продолжало разбухать в нем, истончая его, делая таким тонким и аморфным, что его в любой момент мог подхватить и унести ветер.
ВО ДВОРЕ КУДАХТАЛИ КУРЫ, требуя кормежки. Самуэль пошел к ящику с кормом, стоявшему с другой стороны коттеджа. Подняв увесистую крышку, он взял с кучи зерна эмалированную кружку. Кружка болотного цвета была отмечена большим кругом ржавчины, поднимавшимся до самой кромки и выливавшимся наружу. И в других местах – на донышке, на ручке – виднелись блеклые пятнышки. Самуэль погрузил кружку в неподатливую массу, чувствуя, как она тяжелеет, наполняясь зерном. Пальцы Самуэля – и так-то мясистые – распухли от недавних нагрузок, и его рука стала рукой великана, ухватившей игрушечную кружечку. Он разбрасывал зерно и снова возвращался к ящику, дважды, трижды. Куры разбредались по двору и так шустро клевали пыльную землю, словно забыли, что весь день рыскали в поисках букашек и червей.
У Самуэля заурчало в животе; он не ел с утра. Запустив руку в ящик, он бросил несколько зерен в рот. Он почувствовал вкус пыли и деревянного ящика. Зубов у него почти не осталось, и он посасывал зерна, положив за щеки.
Нужно было собрать яйца, пока не стемнело. Он посмотрел под кустами, в ямах, в общем курятнике и нашел всего три. И еще одно, на гальке, треснувшее, с вытекшим желтком. Еще он заметил куски скорлупы на каменной изгороди и около тропинки. Наверняка еще несколько утащили чайки. А рыжая курочка – Самуэль это знал – больше не неслась. Она была старой, и ей нездоровилось. Раньше он бы давно уже свернул ей шею, сварил и съел. Ему редко удавалось поесть мяса. Но он никак не решался, день за днем говоря себе, что она еще может поправиться, если будет больше есть и отдыхать.
Затем он услышал, что куры дерутся. Вернувшись к ним, он увидел, что все клюют рыжую, вышедшую из коттеджа. Они растрепали ей крылья, и в воздухе кружились рыжие перышки. Самуэль положил три яйца, подошел к дерущимся курам и вытащил рыжую. Перья у нее были всклокочены, а над глазом выступило пятнышко крови, и еще одно на оголившейся грудке. Она беспокойно кудахтала, пока Самуэль нес ее в отдельный курятник, сооруженный за несколько дней до того из коряг и рыбацких сетей, прибитых к берегу. Он погладил курицу и насыпал ей зерна, но она сидела с закрытыми глазами и не клевала даже с руки.
Он встал и пошел в огород, мимо других кур, понемногу успокаивавшихся, принимаясь за еду. Подошел к грядкам, взял пластиковый контейнер, валявшийся с краю, и встряхнул его дном кверху, на случай, если паук или еще кто-нибудь успел обжить его с прошлого вечера. Он прошелся по грядкам, отметив, что собирает овощи на двоих.
Это были не те овощи, что он ел в детстве с семейного огорода, не те, что выращивали его родители у себя на участке, в долине, зеленой и теплой, как он помнил ее. Родители показывали ему, как выращивать маис, тапиоку, капусту и как отрясать манговые и кокосовые деревья. Его сестра тогда была совсем малюткой, и мать носила ее на спине. Самуэль давал ей бананы, и она радостно сосала их, пачкая личико.
Теперешний его огород больше походил на тот, что был в миссионерской школе, располагавшейся в нескольких зданиях в дальнем конце долины, куда он ходил по утрам с соседскими мальчишками, обычно повторяя «Отче наш»; каждый из них читал молитву на свой лад, сбивая других с панталыку, так что в итоге они городили какую-то околесицу, и наставники били их.
Каждый школьник сажал, полол, собирал и ел с огорода при миссионерской школе. Тыквы с коровью голову, цветную капусту и брокколи, странные лиловые корнеплоды, окрашивавшие все в розовый цвет, даже мочу. Собранные овощи они оставляли у кухонной двери и получали на следующий день за ланчем в виде серой безвкусной вареной кашицы.
Теперь же Самуэль следовал примеру родителей и миссионеров – ухаживал за грядками, окучивал их, пропалывал и не собирал сверх необходимого. Кроме того, удобрял компостом песчаную почву и ставил сетчатые ограждения, чтобы защитить растения от птиц, – его отец огораживал растения дерюгой, а миссионеры заставляли мальчиков, плохо учивших уроки, служить пугалом. Весь день нерадивый ученик должен был ходить вдоль грядок и звенеть в колокольчик в нужном ритме.
Что он помнил о жизни в долине: размеренный колокольный звон, зеленые насекомые, слова молитв и прочие слова, тяжесть тыквы в руках, полный рот еды и тот колокольчик, что отзванивал секунды в огороде. Теперь эти воспоминания были подобны едва различимому запаху или вкусу – таким далеким все это казалось.
Самуэль наполнил металлическую лейку из колонки и пошел вдоль грядок, поливая и тыча пальцем в землю для надежности. Уже смеркалось, и последнюю грядку он прошел помедленнее, старательно проверяя влажную землю и щупая ботву. Вставая с корточек, он заметил сорняк. Когда он впервые прибыл на остров и увидел, что этот сорняк захватил здесь все вокруг – стены коттеджа и маяка и всю землю, – он назвал его душилкой.
– Ничего с ним не поделаешь, – сказал ему прежний смотритель, Жозеф. – Даже не думай подчинить себе остров. Он все равно сделает по-своему.
Но Самуэль смотрел на это по-другому и первый год старательно выводил душилку. Однако каждую неделю замечал как минимум еще один новый росток, вот и сейчас заметил очередной, угнездившийся между двух камней изгороди, словно кто-то его сюда звал. Самуэль выдернул сорняк с корнем и отнес на обожженную бетонную плиту, где стояла колонка. Там он достал спички и спалил его, глядя, как зеленый стебель корчится и скукоживается в огне, пока не уверился, что нанес ему повреждения, несовместимые с жизнью.
ЧЕЛОВЕК В КОТТЕДЖЕ ТАК И НЕ УМЕР, когда вернулся Самуэль. Более того, он подполз к дивану и навалился на него, словно пытаясь забраться.
– Что ты?.. – начал Самуэль, но слова застряли у него в пересохшем горле.
Он сглотнул, переместил зерна за щекой и сказал:
– Что ты делаешь?
Человек взглянул на него исподлобья. Белки глаз были желтыми, взгляд – расфокусированным. Он произнес какое-то слово, которое Самуэль не понял или, возможно, не расслышал. Он шагнул к нему, и человек повторил это слово, протягивая к нему руку, точно попрошайка. Самуэль вспомнил, как попрошайничал в детстве с сестрой, когда их семье пришлось перебраться в город, и потом, уже взрослым, после двадцати трех лет в тюрьме, когда его руки скрючил артрит, как у старика. Но у него не было юного помощника, способного кого-то разжалобить, и он с трудом конкурировал с толпами молодых людей, осаждавших машины на светофорах и перекрестках. Кругом мелькали шашлыки, бананы, жареные курицы, мягкие игрушки, резные деревянные фигурки. Страсть к потреблению так и бурлила. Вечно чем-то торговали, что-то покупали, и все это происходило среди дорожного движения, пока тощие как палки собаки сновали под колесами машин в поисках отбросов.
Человек снова протянул руку, а потом поднес ладонь ко рту, как чашку. И повторил непонятное слово.
– Воды? – спросил Самуэль и пошел на кухню.
Он достал из буфета оранжевую пластиковую кружку с ручкой для двух пальцев. Детская кружка. Кромка была пожевана, пластик расслоился, но такой Самуэль однажды подобрал ее на берегу. Вероятно, кто-то выбросил ее или потерял, отдыхая на пляже.
Он налил воды из-под крана и отнес человеку. Человек взял кружку дрожащими руками, но сумел поднести ко рту. Он стал шумно пить, проливая на грудь и шорты, и без того не высохшие. Выпив, он стал кашлять и фыркать. Из носа у него потекла прозрачная жидкость. Он вытер лицо и протянул кружку Самуэлю, встряхнув ее. И что-то прохрипел. Он хотел еще.
Самуэль вернулся на кухню и открыл кран так сильно, что вода хлынула пенной струей. Половина кружки выплеснулась в раковину. Самуэль убавил воду до тонкой струйки и долил в кружку.
Человек снова жадно все выпил, проливая уже меньше. Допив, он уронил руку с кружкой, надетой на два тонких пальца. На ковер упали капли. Человек закрыл глаза, откинул голову, облизнул губы и сглотнул. Затем открыл глаза – сперва один, потом другой – и что-то сказал, глядя на Самуэля.
Самуэль покачал головой:
– Не понимаю.
Человек навалился на диван, пытаясь забраться. Он молча тужился, кривя белозубый рот. Самуэль стоял и смотрел на него. Ему не хотелось снова к нему прикасаться. Человек подтянулся настолько, чтобы усесться.
– Твоя одежда мокрая. Ты бы переоделся. Не холодно так?
Человек кивнул, словно понял его. Затем завалился на бок, растянувшись на весь диван, закрыл глаза и заснул.
У НЕГО БЫЛ ТОЛЬКО ОДИН ОСТРЫЙ НОЖ. Большой, хорошо сбалансированный, с широкой деревянной ручкой, но кончик лезвия обломился, и нож стал тупоносым. Самуэль постепенно заточил его, но форма осталась необычной. Массивное основание резко сужалось к тоненькому кончику. Не приходилось сомневаться, что однажды он опять обломится.
Самуэль взял кастрюлю, в которой с утра вымачивал бобы. Они раздались и стали мягче. Отставшая кожица плавала в воде. Он промыл бобы под краном и заглянул в буфет под раковиной, ища самую большую кастрюлю. Она стояла у задней стенки, вся в пыли. Самуэль вымыл ее, протер крышку и, налив воды, перелил в нее бобы и поставил на огонь. Это была порция на одного, тщательно отмеренная. Но теперь ее придется поделить на двоих.
Он почистил овощи, счищая ногтями птичий помет. Каждый овощ он вертел в руках, высматривая полости, куда могли заползти червяки или насекомые, ковырял там кончиком ножа и, если что-то выковыривал, стряхивал в раковину. Потом взял деревянную разделочную доску, стоявшую у раковины. Доска пахла луком; этот запах пропитал ее за годы – не отскребешь – и перешел на пальцы Самуэля. Он очистил отдельные овощи, нарезал все крупными кусками и разделил на две кучки: твердые и мягкие. Подождал немного и ссыпал в кастрюлю твердые. Затем взял из буфета над раковиной бутылочки с солью и перцем. И то и другое было на исходе. Он высыпал все в кастрюлю, помешал деревянной ложкой и убрал на место пустые бутылочки. Назавтра привезут еще.
Самуэль замер и вспомнил с досадой, что просил привезти ему навоз. А сам забыл подготовить почву. Теперь было поздно, уже стемнело. Если он встанет пораньше, может еще успеть. И он принялся мысленно делить огород на отдельные квадраты, нарезая воздух ножом.
Но потом решил, что подождет. Пусть сперва уйдет этот человек, и остров снова станет принадлежать ему одному.
Варево на плите закипело, и Самуэль добавил мягкие овощи. Он вытер стойку, бросил очистки в ведро для кур, отложил в сторону семена, чтобы снова посадить, и вымыл нож и доску. В раковине один червяк умудрился отползти к краю и пытался выбраться. Самуэль плеснул на него воду и увидел, как его, свернувшегося колечком, унесло в слив, вслед за товарищами.
Человек уже стоял у двери, в одежде, которую оставил ему Самуэль. Джемпер был ему коротковат, как и брюки.
– Есть хочешь? – спросил Самуэль.
Человек оглянулся с отсутствующим видом. Самуэль указал себе на живот, на рот и на кастрюлю на плите.
– Голодный?
Человек улыбнулся и кивнул.
Самуэль указал на стул у стола. Затем сходил в комнату и принес для себя трехногую табуретку. На ней виднелись пятна краски и давние следы точильщика. Взяв со стойки подставку, он положил ее на середину стола, надел рукавицу и поставил на подставку кастрюлю.
Самуэль замешкался. У него была только одна тарелка. Он всегда ел из нее, и его это устраивало. Хотя, по правде говоря, в доме имелась еще одна тарелка – десертная, с золотым ободком; она висела на стене в гостиной, хоть и была битой. Самуэль нашел ее в благотворительной коробке. Когда он выудил ее из прочего хлама, ему представилось, что она попала туда из сервиза самого президента, о доме которого поговаривали, будто за столом у него могла разместиться сотня человек и над каждым сверкали хрустальные канделябры.
«Вот какой может быть Африка! Это и есть Африка! – заявлял первый президент, рассылая фотографии в газеты и печатая брошюры, которые раздавали беднякам и безграмотным в трущобах. – Мы не пропадем без колонистов. Посмотрите, как мы живем при независимости!»
Брошюры были черно-белыми, и если Самуэль когда-то и помнил узор столового сервиза, теперь уже забыл. Но он помнил, как принес брошюру больному отцу, показать ему послание от президента, за которого тот сражался. Посмотрев на сервиз, отец сказал: «Чайна»[1], поэтому Самуэль, найдя эту тарелку, решил, что она из Китая и на ней изображен пейзаж этой далекой страны. Но его заблуждение развеял один из лодочников с судна снабжения, Каймелу, чья жена, Эдит, работала в благотворительной службе и отправила эту коробку.
«Чайна – это фарфор, из которого тарелка сделана. В смысле это вовсе не Китай, а Англия. – Он перевернул тарелку и прочитал, водя пальцем: – «Сатерленд[2] Чайна» – я же говорил, там и сделали эту тарелку. «Сделано в Англии». Так что вот. Как я и сказал».
Рисунок был синим на белом фоне. Там изображался замок с башней, напомнившей Самуэлю его маяк, только без прожектора.
«Эти вот строения, они, я думаю, в реальности коричневые, – сказал Каймелу, указывая через плечо Самуэля. – И еще там газон, знаешь, как трава, только короткий и мягкий, и такой зеленый. А спереди это озеро, и смотри, человечек в рыбацкой лодке, почти как ты».
«У меня нет лодки».
«Нет, я в смысле, он там один. Он, наверно, король. Как и ты, по-своему, знаешь, король этого места».
Самуэль взял тарелку и посмотрел на нее еще раз. За озером стояли высокие пышные деревья, а вокруг красовался цветочный орнамент.
«Говорю тебе, она старинная, – сказал Каймелу. – Наверно, ценная. Очень необычная».
«Ничего подобного, – сказал другой лодочник, Джон. – Не вешай ему лапшу. Вот же написано: «Исторический британский сувенир. Замок Босуэлл». Таких, наверно, тысячи. Ничего в ней необычного».
«Мне сгодится», – сказал Самуэль.
И тем же вечером сделал держатель из проволоки и повесил тарелку на стену.
В общем, он решил, что не станет есть из нее. Вместо этого он взял кастрюльку, в которой вымачивал бобы, и отложил себе немного овощей. Что касалось столовых приборов, незнакомцу он отдал вилку с длинными зубцами и черной пластиковой ручкой, а себе взял оловянную ложку.
Незнакомец ел как заведенный и только раз прервался, чтобы погладить себя по животу с улыбкой, давая понять, что еда ему нравится. Доев, он протянул тарелку за добавкой. Самуэля взяла злоба. Он ведь накормил его, разве нет? Выполнил долг гостеприимства. Ему что теперь, до отвала его кормить?
И тогда он вспомнил, как сидел за столом у сестры. Его только выпустили из тюрьмы, и он пришел к ней. Они сидели за столом у нее на кухне и обедали, почти как сейчас. Он жевал, а Мэри-Марта повернулась к нему и сказала: «Господи, что с тебя толку? Еще один нахлебник».
Теперь же он хмурился, сидя у себя на кухне, хмурился на протянутую тарелку. Он приподнял руки над столом, словно в знак смирения, давая понять, что уже наелся.
– Угощайся. Доедай.
Незнакомец, похоже, понял его. Он пододвинул к себе кастрюлю и выгреб овощи ложкой на тарелку, уронив пару кусочков. Подобрал их пальцами и съел. Кастрюлю он выскреб дочиста, а затем стал облизывать деревянную ложку. Но перестал, заметив, что на него смотрят. Он что-то сказал, указывая на себя, на свой немалый рост и на живот. И рассмеялся, качая головой. Он пошутил. Затем взял вилку и в два счета подчистил тарелку, помогая себе пальцем. Отправив в рот очередной кусок, он облизывал палец. Губы у него лоснились.
Самуэль встал и принялся мыть посуду. Он не мог больше смотреть на это.
За мытьем посуды он отметил черное полукружье на дне кастрюли. Пища чуть пригорела. Он чувствовал за едой горьковатый привкус, и в воздухе витал едкий запах. Но внутри кастрюля была гладкой.
Самуэль принюхался, вскинув голову. Определенно пахло горелым. Что-то сгорело или горело. Но он не мог понять что. Нос у него зачесался, и глаза заслезились – казалось, он сейчас чихнет. У него свело живот, пища подкатила к горлу, и он почувствовал кислый желудочный сок корнем языка. Он сглотнул и закашлялся, боясь обернуться или пошевелиться. Привалился ногами к буфету. Он был во власти этого запаха.
Из дальних глубин памяти всплыла чья-то речь – одного усатого молодого человека в костюме, сидевшего, положив шляпу на колени. Этот человек говорил с девушкой лет семнадцати-восемнадцати рядом с собой, да так громко, что Самуэль, впервые оказавшийся на таком собрании и сидевший через три ряда от него, слышал каждое его слово и с трудом разбирал речь выступавшего. Тонкие губы девушки были густо напомажены, а в ушах болтались колечки. Она, как могла, отклонялась от говорившего, чтобы не оглохнуть. И бросала взгляды по сторонам, почти не двигая головой, словно высматривая свидетелей своей неловкости. Самуэль поймал ее взгляд и нервозно улыбнулся, подняв брови, а ее спутник не унимался:
«…знаешь, почему так говорят об этом?»
Девушка покачала головой, как бы прося его замолчать, но он воспринял это как знак одобрения.
«Говорят, ты чуешь это – запах горелого хлеба, – чуешь его перед самой смертью. Да, из всех запахов на свете именно он сообщает тебе, что твое время истекло! Вот почему я знаю, что это собрание безопасно. Я ничего такого не чую. Погрома не будет».
Он громко рассмеялся, стиснул свою шляпу и снова рассмеялся, и тогда через два места от Самуэля привстала Мирия и, шикнув на горлопана, сказала:
«Когда ты, блядь, заткнешься? Некоторых волнует, о чем тут говорят».
При этом воспоминании у Самуэля чуть подогнулись колени, стукнув о дверцу буфета. Значит, конец его близок. Он скоро умрет. Запах гари настиг его в семьдесят лет, когда с ним на острове незнакомец и все в беспорядке. Запах усиливался, становился удушливым.
Самуэль снова почувствовал себя мальчиком в зеленой долине, только она уже не была зеленой. Вся зелень почернела, охваченная рыжим пламенем, общинные плантации и частные наделы пожирал огонь. По проселочным дорогам ходили люди в форме, с ружьями и горящими головнями, поджигая все подряд. Горели дома, заборы, бельевые веревки и куры, которых вандалы пинали тяжелыми ботинками, словно мячи, ругаясь и смеясь. Другие сжимали в руках тесаки, мачете и прочее холодное оружие, которым вспарывали глотки домашнему скоту. Козы захлебывались кровью, коровы бухались на колени и заваливались друг на друга. Где-то отчаянно ревел осел, а потом резко затих.
Самуэль бежал с родителями, спасаясь от огня, вздымавшего в воздух золу. Из дома впереди заковыляла старушка, всплескивая тонкими руками:
«Помогите! Дом горит, помогите!»
Отец Самуэля не остановился и даже не взглянул в ее сторону. А мать крикнула:
«Бабушка, надо уходить. И поскорее. Давай за нами. Силы есть, беги».
Но старушка приблизилась к человеку в бежевой рубахе, державшему ружье, и схватила его за рукав. Она едва доставала ему до локтя.
«Помогите, – просила она. – Помогите, помогите».
Когда Самуэль, бежавший последним, оглянулся, он увидел, что старушка лежит на земле с окровавленным лицом. Даже на бегу он различил, как шевелится ее челюсть, а глаза смотрят в небо.
О насильственном выселении их уведомили через переводчика, говорившего бесцветным голосом с незнакомым акцентом. Пахотные земли перешли теперь в собственность колонистов.
«Можете уходить в горы, жить с мартышками, по приказу губернатора. Эта земля больше не ваша. Слава королю и слава великой империи».
Сперва никто ему не поверил. Кто мог заставить их бросить свою землю, на которой они жили поколениями, испокон века? Но затем пришли наемники и дали понять, что все серьезно. У них забрали землю.
Им пришлось бежать, ничего не взяв с собой и не останавливаясь. Даже когда мать, несшая сестренку Самуэля на спине, споткнулась и девочка набила шишку, они не посмели остановиться. Сестренка, и без того плакавшая, разревелась. Они бежали и бежали, среди крови и нечистот, а за ними следовала черная туча, поднимавшаяся над горевшей долиной до самого синего неба.
Бежавшие впереди опустошали поля и села, встречавшиеся на пути. Точно саранча, они поглощали все, что попадалось, оставляя за собой голые плодоножки, обглоданные кости, разоренные гнезда – свидетельства ненасытного голода.
Большинство из них хватали все без спроса, а многие применяли силу. Они врывались в дома, угрожали, убивали. Входили группами в деревни и грабили магазины, набивая мешки продуктами и бобами. Шедшие вслед за ними могли рассчитывать лишь на всякую мелочовку. Горсть арахиса, заплесневший сладкий картофель. Но семья Самуэля была не такой. Его отец запрещал брать чужое.
«Наше у нас украли, – сказал он. – Как же мы можем, зная, каково это, поступать так с другими?»
«Но там пища, отец, а мы голодны», – возразил Самуэль.
«Больше нечего сказать? Разве я тебя не учил – миссионеры не научили – поступать с людьми так, как ты хочешь, чтобы они поступали с тобой? Помни, Бог всегда за тобой следит. Он увидит преступление даже с самых высоких небес».
«Всего один банан с дерева. Всего-то. На всех нас».
Отец ничего ему не сказал, продолжая прихрамывать дальше; левая ступня у него так распухла, что он мог наступать лишь на край пятки.
Ближе к ночи они расселись на обочине под деревом. Самуэль слушал с раздражением, как сестренка сосет материнскую грудь. Алая шишка у нее на голове выпирала, точно ягода. Рядом сидел отец, закрыв глаза и сложив ладони, и шептал нескончаемую молитву. Земля была влажной. Сестренка сосала грудь. Отец шептал молитву. Голод терзал Самуэля, вгрызаясь ему в кишки с такой силой, словно сам Бог вознамерился загрызть его.
Воспоминание о сгоревшей деревне перебило запах гари. Самуэль стал чувствовать запах пищи. И поставил вымытую кастрюлю на буфет сушиться. Его руки пахли луком, а в ногах стояло мусорное ведро с очистками. Он услышал, как человек у него за спиной жует и обсасывает пальцы. Самуэль немного смягчился и, повернувшись к нему, увидел, как он подчищает тарелку пальцем. Если бы в тот день, когда горела долина, кто-нибудь предложил ему еды, он бы тоже наверняка попросил добавки. Поэтому он не мог упрекать голодного человека.
ТУАЛЕТ РАСПОЛАГАЛСЯ ОТДЕЛЬНО, позади коттеджа. Когда-то можно было дойти до него за десять шагов через заднюю дверь на кухне. Но прежний смотритель заделал дверной проем изнутри, так что дверь – со стеклами, которых почти не осталось, без ручки и с забитой столетней бумагой ржавой замочной скважиной – была видна только снаружи; за дверью виднелась неровная кирпичная кладка, щедро залитая цементом.
Самуэль позвал за собой человека, снял со стены в прихожей тяжелый черный фонарь, зажег его и пошел мимо маяка к нужнику. Дверь в нужник была низкой, а снизу и сверху оставались проемы в запястье шириной. Они давали вентиляцию и худо-бедно освещали закрытую кабинку, хотя Самуэль редко когда закрывался.
Пол нужника немного просел, и Самуэль тронул человека за плечо и опустил фонарь к полу. С таким полом в дождь нужник заливало, поэтому Самуэль положил два кирпича на ширине ног. Внутри было тесно, и ему пришлось протиснуться мимо человека, чтобы наступить ногой на кирпич и показать, для чего они здесь.
Человек нахмурился.
Но Самуэль махнул рукой и покачал головой, давая понять, что это он так, на всякий случай. Ночью дождь не ожидался.
Кирпичи были полыми, с тремя отверстиями посередине, обжитыми, как и всякие укромные места, пауками. С потолка тоже свисала плотная серая паутина. Человек, чертивший головой о притолоку, смахнул ее, слегка нагнувшись.
Самуэль указал на два рулона туалетной бумаги на бревне, стоявшем у стены. Бумага была тонкой и шероховатой, самой дешевой. Оторвав немного, Самуэль указал на толчок, покачал головой и сказал: «Нет-нет», а затем бросил бумажку в ведро с крышкой у дальней стены. Раз в неделю он сжигал его содержимое. Он огляделся, соображая, не забыл ли чего. Одной рукой он упирался в стену, чувствуя неровности известки, осыпавшейся ему на джемпер. Затем сказал: «А» – и неуклюже поменялся местами с человеком. У левой стены висела цепочка от смывного бачка под потолком. Когда-то она порвалась ближе к верху, и Самуэль скрепил ее проволокой. Теперь он решил предостеречь человека, чтобы тот случайно – таким он был высоким – не поранился, взявшись за колючую проволоку. Самуэль взялся за кольцо на конце цепочки, сильно дернул дважды, и они услышали громкий шум воды. Мочу, собравшуюся в толчке за день, смыла дождевая вода, поступавшая из металлического водосборника на крыше. Все это хлынуло по трубам, которые когда-то проложил Самуэль, – несколько лет он рыл твердую землю, не жалея сил, чтобы в итоге его дерьмо могло уплыть в море. Самуэль подумал, что надо как-то объяснить человеку, что смывать следует экономно, не чаще раза в день, но так и не придумал, как это сделать.
Рукомойника в нужнике не было. Самуэль повел человека вокруг коттеджа к трубе с краном, на котором висел мешочек с обмылками, и показал, как нужно его намочить и намылить руки, если нужно вымыть лицо и шею. Он не стал показывать ему пластиковый таз, в котором сам он мылся подогретой на плите водой. Обойдется и так.
Кроме того, Самуэль не пользовался зубной щеткой. С детства не привык. Он чистил зубы ногтями и углем или жевал веточки. Его знакомство с зубной пастой состоялось, когда он вышел из тюрьмы и приехал жить к сестре. Да и то лишь потому, что его шестнадцатилетняя племянница зажала нос пальцами с зелеными ногтями и пожаловалась, что от него воняет и зубы у него грязные.
«Ты в тюрьме не следил за собой?» – спросила Мэри-Марта.
«Нам не выдавали туалетных принадлежностей. Одежду иногда стирали, а остальное надо было покупать или чтобы кто-то присылал – семья, друзья».
«То есть это я виновата? Могу напомнить, какая была у меня семья. Родители – с нашим-то папашей – и двое детей без отца. Не заметил тут мужа? Нет, потому что я не замужем. И не была никогда. И, если ты обратил внимание, я ни слова не сказала о Леси. О том, что заботилась о твоем сыне, потому что его родители были в тюрьме. Кто бы еще им занимался? Кто? Уж точно не твои соратники и товарищи. Нечего и думать. А я – пожалуйста. Приютила. А ты сидишь тут и жалуешься на зубную пасту».
«Что ты, сестра, я не жалуюсь. Ты достаточно сделала».
Позже, выйдя из ванной, он спросил, держась за горло:
«Это всегда так жжет?»
«Пресвятые угодники, – сказала сестра, – ты что, проглотил пасту? Даже папа научился чистить зубы. Он и то приспособился».
Самуэль оставил человека в нужнике и пошел к коттеджу. Ночь была ясная, небо усеяно звездами, а впереди четко вырисовывался маяк. Ночью маяк всегда смотрелся особенно величаво; в светлое время суток белая башня казалась не такой уж высокой и потрепанной стихиями, а сейчас она словно выросла, обрела какое-то величие и светилась. Луч света c вершины башни простирался над черной гладью океана, выхватывая из мрака утес в полумиле от острова, где спали морские птицы.
Луч пульсировал в ритме раз-два-замер-раз-два-замер. В ответ на этот сигнал по другую сторону залива светилась красная точка в гавани материка, а еще дальше рассыпалось бессчетное множество огоньков, обозначая город. Казалось, город дрейфовал в ночном море, дрейфовал без всякого курса.
Самуэль услышал, как человек кашляет в нужнике, и подумал, сколько он там просидит. Дул промозглый ветер, свистя и завывая в оконных проемах и кронах деревьев. Самуэль подошел к дереву рядом с башней и помочился, втягивая голову в плечи.
Луч света все так же пульсировал. Но Самуэль почувствовал неладное. Интервалы были подозрительно долгими. Ненамного. На полсекунды. На секунду. Словно замедлявшийся сердечный пульс. Возможно, механизм требовал смазки. Самуэль шагнул к двери маяка, но внезапный порыв ветра нахлобучил ему куртку на голову. Оправив куртку, он поплелся к коттеджу. Механизм подождет до завтра. Сегодня Самуэль слишком устал. Все тело ныло. Даже думать не хотелось о том, чтобы карабкаться сейчас наверх. Завтра. Завтра.
Было еще рано. Часов семь, не позже полвосьмого. Самуэль сел на диван и со вздохом откинулся на спинку. Его шеи коснулась незнакомая ткань. Сунув руку за голову, он достал шорты незнакомца. Они валялись там все это время. Шорты, некогда темные, теперь выцвели до серого, в солевых разводах.
Ему захотелось выбросить их в мусор на кухне, чтобы потом сжечь. Он тяжело поднялся, прошел на кухню, но затем взял ведро, стоявшее в углу, и налил воды до половины. Из буфета, где лежали чистящие средства, он достал коробку стирального порошка для холодной воды с надорванным уголком. Насыпав немного в ведро, помешал до появления пены. И погрузил туда шорты, вспучившиеся пузырями. Он погружал их под воду снова и снова, глядя на хлопья пены у себя на коже и мутневшую воду.
Когда он решил, что вся соль растворилась, а песок вымылся, он слил в раковину грязную воду, снова налил чистой и прополоскал шорты. Погода была слишком ветреной, чтобы сушить их на воздухе, поэтому Самуэль хорошенько их выжал и повесил на гвоздь в стене, поставив снизу ведро для капель.
Вскоре пришел человек, повесил фонарь на прежнее место в прихожей и вошел в гостиную, дуя на сцепленные руки. Волосы у него были влажными. Он накинул, словно плащ, одеяло, которое дал ему Самуэль, и присел, дрожа, на диван. Самуэль встал, вскипятил воду и заварил чай на двоих.
Они сидели в неловком молчании на диване, дуя на чай и отпивая понемножку. Потом Самуэль встал и включил телевизор. Раздалось гудение и визг, но экран остался серым, и Самуэль его выключил.
– Не работает, – сказал он. – Извини.
Иногда по вечерам он включал видео, для компании, пока подшивал одежду большими неровными стежками или ковырялся с инструментами, ремонтируя что-нибудь.
Человек привстал с дивана, словно из вежливости. Он выжидающе смотрел на Самуэля, но, когда тот взял с полок несколько старых журналов и протянул ему, человек покачал головой и снова сел. Самуэль положил журналы на место.
– Все равно там не на что смотреть.
Человек продолжал потягивать чай.
– Каймелу – ты его завтра увидишь, когда придет судно снабжения, – жена его присылает их мне. Что не продаст в благотворительном магазине. Никто больше не хочет видео – времена уже не те – или старые журналы вроде этих.
Человек поставил кружку на кофейный столик и потуже завернулся в одеяло.
Самуэль кашлянул, махнул рукой на полки, тронул несколько видеокассет. Начал что-то говорить, но замолчал и взял журнал, стараясь не показывать обложку. Его угнетали все эти фильмы и журналы родной страны. Люди в них казались ему иностранцами, как и этот человек, сидевший рядом. Все – в солнечных очках, с татуировками, разодетые в шелк и увешанные золотом, они говорили на языке, урезанном до грубостей и сленга, сплошь ругань и как-бы-типа. Двигались скованно, точно манекены, и отчаянно кого-то из себя корежили. В этих фильмах показывали любовников, танцевальные клубы, наркотики и скупщиков краденого, словно ничего другого в жизни не было. Словно у них не было своей истории, а все их прошлое случилось с кем-то еще, на памяти какого-то другого народа.
Но и Самуэль в свое время познал очарование мишурного блеска. Он не смог остаться к нему равнодушным, когда перебрался в город и увидел прохожих в костюмах, с напомаженными волосами. Он рассматривал их, попрошайничая на углу, пока они ждали автобуса. Они громко разговаривали и приветствовали друг друга, сдвигая шляпы, а когда оставались одни, с важным видом разворачивали газеты, пыхтя и качая головами, и шумно шелестели страницами, складывая их до удобных размеров. В трущобах, где жил Самуэль, он видел женщин в париках и дешевых сатиновых платьях, которые шли с мужчинами в подворотни и давали им прижимать себя к стенам в обмен на чулки и клипсы. Самуэлю это казалось полной бессмыслицей. Когда же он почувствовал интерес к женщинам, его стали смущать отцовские молитвы и то, что мать совсем не красилась, одевалась по-деревенски и заплетала неухоженные волосы в косички.
Прежний мир исчез, а в городе, где Самуэль попрошайничал на сером перекрестке вместе с сестренкой и слепой дамой, которую звали Мамаша, перед ним проходили люди, поражавшие его яркостью и изысканностью на бесцветных как газеты улицах. Мимо проезжали большущие машины с мотоциклетным эскортом, в которых сидели мужчины в белых костюмах и их бледные жены, зажимавшие носы платочками, – эти мужчины были посланы короной, чтобы править и насаждать порядок. Когда они или их дамы выходили из машины, их сопровождала охрана, которая несла их сумки, распихивала прохожих и посылала подальше клянчивших попрошаек.
Вдоль автобусных очередей сновали туземные ребята, переселенные откуда-то колонистами или оставшиеся без родителей. Ребята промышляли карманными кражами, тибрили товары с лотков и подбирали дымящиеся окурки. Самуэль рассматривал их, как кто-то мог бы рассматривать книжки с картинками. Ему представлялось, как бы он перестал глотать пыль и выхлопные газы на перекрестке и оказался вместе с ними, на ярких и шумных страницах. Как бы он перенял их удальство, вместо того чтобы робко стучать в окна машин, протягивая ладонь за мелочью. Как бы он посмел рассчитывать на что-то большее, нежели недоеденные яблоки, которыми он делился с сестренкой и беззубой дамой, поднимавшей белесые глаза к небу и гадавшей, что их ждет сегодня: дождь, голод или еще какие напасти.
Однажды тихим утром один мальчишка, которого звали Пес, свистнул Самуэлю от автобусной остановки. Он с друзьями умудрился стащить целый мешок апельсинов из автофургона. Они только что вскрыли мешок карманным ножиком и делили добычу. Пес увидел, что Самуэль смотрит на них, свистнул ему и сказал:
