Читать онлайн Sex Pistols. Гнев – это энергия: моя жизнь без купюр бесплатно
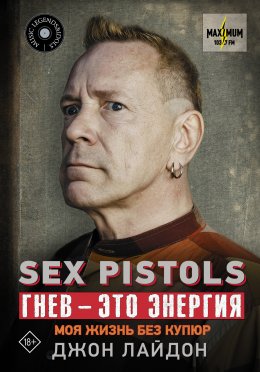
Джон Лайдон, легендарный фронтмен Sex Pistols и основатель Public Image Ltd, делится откровенной, неприкрашенной историей своей жизни, полной сложностей, лишений и непростых выборов.
«Веселая и временами трогательная история».
– ROLLING STONE
«Необыкновенная книга о детстве, которая захватывает и не отпускает».
– THE TIMES
«Жизнь Джона Лайдона достаточно богата и насыщенна, чтобы дать ему право на еще одну. А он сам – достаточно талантливый писатель, чтобы читать его было весело и увлекательно».
– BILLBOARD
Джон Лайдон – икона панк-рока, одна из самых узнаваемых и влиятельных фигур в музыкальной индустрии. Именно с ним в качества лидера Sax Pistols стали мировыми звездами, пережив расцвет славы в 1970-х благодаря таким песням, как «Anarchy in the UK» и "God Save the Queen». Их влияние на общество оказалось настолько сильным, что британское правительство было близко к тому, чтобы обвинить музыкантов в госизмене, а сам Лайдон стал громким символом поколения, требующего перемен, Вместе со своей второй группой, Public Image Ltd, он и по сей день продолжает бросать вызов миру и развиваться как артист и личность.
Лайдонам. Я не стану благодарить мою семью за помощь с карьерой, потому что с этим я справился самостоятельно, но вполне благодарен им за то, что они всегда были со мной рядом. Спасибо.
Норе. Любви всей моей жизни. Моему лучшему другу. Ссоры – это прекрасно, но мириться – еще лучше. Я всегда видел от тебя только любовь и поддержку. И надеюсь, дарил то же самое в ответ. Спасибо.
Посвящаю эту книгу порядочности.
Предупреждение от издателей
Эта автобиография написана Джоном Лайдоном, и написана она его словами. То, как он ими распоряжается, не всегда соответствует строгим грамматическим правилам. Иногда читатель может встретить слова, которых нет в словаре, или какие-нибудь не совсем, скажем так, ортодоксальные случаи их употребления. Издатель прекрасно об этом знает – и это вовсе не ошибки или опечатки. Они – часть уникального языка мистера Лайдона, и, принимая вещи таковыми, какие они есть, мы решили пустить подобного рода штуки в свободное плавание. Как сказал бы по этому поводу Джон: «Не парьтесь по всякой хрени».
Предисловие
May the road rise with you
(Пусть дорога бежит впереди)
«Гнев – это энергия». И, черт возьми, да, так оно и есть. Возможно, это самые мощные строки, которые я когда-либо написал. Работая над «Rise», песней Public Image Ltd, я и понятия не имел, какое эмоциональное воздействие окажет она на меня, да и на всех, кто ее услышит.
Я сочинил эту строчку, особо не задумываясь, – просто выдал то, что пришло мне в голову, непосредственно перед тем, как впервые исполнить целиком всю песню в своем новом доме в Лос-Анджелесе. Такая крутая, спонтанная идея.
Сама песня была посвящена событиям в Южноафриканской республике во времена апартеида. Я смотрел тогда все эти устрашающие новостные репортажи по «Си-эн-эн», так что строчки вроде:
- На голове моей замкнули провод,
- Что делал я и говорил – им дал я повод,
– являются отсылками к пыткам, которые правительство ЮАР применяло против несогласных с режимом. Невыносимым пыткам.
Ты видишь подобные репортажи по телевизору и в газетах, и кажется, что это реальность, которую нельзя изменить. Так что в контексте «Rise» фраза «Гнев – это энергия» стала неким программным заявлением, словно говорящим: «Не воспринимай гнев негативно, не отрицай его, а лучше используй, чтобы создать нечто новое». У песни есть и еще один рефрен: «Пусть дорога бежит впереди». Когда я рос, это были именно те слова, что любили повторять мои мать и отец, а вместе с ними и добрая половина соседей, которым также повезло родиться ирландцами: «Пусть дорога бежит впереди, а враги всегда остаются позади тебя».
Так что, да, главный посыл «Rise»: «Всегда есть надежда», а для решения проблем вовсе не обязательно прибегать к насилию. Гнев не равнозначен насилию. Насилие вообще редко что-то решает. В Южной Африке они в конце концов нашли относительно мирные способы выхода из конфликта. Используя такую вроде негативную энергию, как гнев, бывает достаточно всего лишь одного позитивного шага, чтобы изменить ситуацию к лучшему.
На записи «Rise» в студии мы с продюсером все время спорили, как с нами это обычно случается, но иногда подобные споры действительно имеют пользу и смысл. Когда же в начале 1986 г. вышел сингл, песня стала всеобщим гимном, причем случилось это именно в тот период, когда пресса твердила, будто со мной все кончено и мне и податься-то некуда. Оказалось, что очень даже есть куда, и я сделал это! Да, гнев – это энергия. Неисчерпаемая.
Когда я сейчас исполняю со сцены «Rise», то чувствую, как меня переполняют эмоции – реально, это такая настоящая связь с публикой. Я получаю все эти мелодраматические отклики, когда зал буквально взрывается, ощущая сопричастность тому заявлению, что несет песня, ее внутреннему смыслу и цели. Народ в зале полностью сознает это и, в свою очередь, делит свои чувства со мной. Просто дух захватывает. Часто я даже забываю о своем месте во всем этом действе. Настолько большое впечатление производит исполнение публикой песни, что эмоции берут верх. Для меня это и есть полный успех: нечто по-настоящему великодушное и благородное, понятное каждому в зале.
Гнев – корень причины, по которой я вообще сочиняю песни. Иногда мне даже кажется, что я сам себя едва контролирую, когда пишу. И если и есть где-то там ангелы-хранители, моему досталась чертовски трудная работенка. Во всех этих вещах, в том, как это работает, конечно, есть большая доля предвидения и опыта, влияния того, как сложилась моя жизнь, с чего начиналась. Но теперь, когда я на сцене, слова сами приходят ко мне. И когда я на сцене – я в игре!
Что бы там ни сидело во мне, оно заставляет меня шевелиться, действовать, быть упорным и непреклонным, и такое понимание вещей вовсе не пустые выдумки – я, в конце концов, не так уж и отличаюсь от остального человечества. Правда. Мы все через это проходим, просто я взял и высказался вслух.
Я родился на помойке. Я появился на свет и вырос в дерьмовом районе Северного Лондона, жизнь в котором была во многом похожа на то, как мы представляем себе сегодняшнюю Россию. Тотальный контроль. Везде и во всем. Сама презумпция контроля. Люди рождались в этой насквозь прогнившей коррумпированной системе, веря, будто другие вправе указывать им, как поступать и что делать. Как я сказал королевской семье: «Вы можете попросить меня быть верным подданным, но вы точно не можете этого от меня потребовать. Я вам не чье-то пушечное мясо».
Не думаю, что подобного рода образ мышления был свойственен тогдашней британской ментальности. Десятилетия викторианского подобострастия уничтожили свободолюбивый дух предшествовавших столетий. Британцы некогда имели и в самом деле славные традиции гражданского неповиновения, однако ко времени окончания Второй мировой войны от них не осталось и следа: школьные учебники стыдливо замалчивали о былом бунтарстве. Однако те из нас, кто любил читать… – ага, сюрприз, смотрите-ка, что мы тут нашли!
Я начал читать и писать в возрасте четырех или пяти лет. Меня научила мама, однако после перенесенного в семилетнем возрасте менингита я лишился всего – памяти, своих воспоминаний, даже не мог узнать родителей. Возвращение обратно заняло много времени. После школы я просто уходил в библиотеку, сидел там и читал книги до самого закрытия. Предки вели себя замечательно, они верили, что я найду дорогу домой, хотя иногда мне даже этого не удавалось – я в буквальном смысле слова не мог вспомнить, где живу.
Я любил возвращаться к чтению, не важно, будь то история, геология или рассказы о дикой природе. Позднее я познакомился с Достоевским. В возрасте одиннадцати лет я нашел «Преступление и наказание» очень содержательным – печальным, да, но, знаете, иногда бывает полезным и плодотворным погрузиться в скорби и печали других людей. Типа: «Ага, что он за несчастный сукин сын, но у меня-то проблемы посерьезнее будут!» Так что книги оказались неоценимо важными – жизнь моя была спасена.
Тут у нас в Штатах недавно все обсуждали, зачем каждый бывший президент открывает библиотеки, если политики не читают книг. Привет, Америка! Это отчасти объясняет вашу политику. Что касается меня лично, чтение спасло меня, вернуло обратно. И едва я снова осознал себя, ко мне постепенно начали возвращаться память и обрывки воспоминаний. Они снова обрели для меня смысл, и постепенно я понял, что являюсь тем же человеком, кем был до того, как все потерял. Даже лучше, теперь я мог взглянуть на себя со стороны и поинтересоваться: «Слушай, ну и чем ты тут занимаешься? Давай-ка постарайся сделать все как следует и не бросайся, не подумав, куда ни попадя».
Возможно, я был слишком строг – что можно ожидать от семилетнего мальчишки? Однако я был очень, очень требователен к себе и продолжаю оставаться таковым. Никто не напишет обо мне всех тех действительно отвратных вещей, в которых я бы сам себя не обвинял. В половине случаев, читая разные хейтерские статейки, я думал про себя: «Да ладно, это они со мной еще легко обошлись». Как вы увидите в дальнейшем, читая эти страницы, я – мой самый строгий критик, а книга – моя попытка понять и изучить себя – постоянный процесс длиною в жизнь.
Возвращаясь к моему подростковому возрасту, стоит отметить, что я определенно был готов что-то совершить. Мой пистолет, скажем так, был заряжен, однако все дальнейшее случилось самым занимательным образом, поскольку такого я уж точно не ожидал. Как только прозвучало это: «Эй, хочешь петь в нашей группе?» – я немедленно ответил: «Вау, да без вопросов! Боже мой, теперь все сходится!» И будь я проклят, но я не собирался так просто отступаться от этой идеи. Я оказался очень настойчив, несмотря на всеобщие неявки на репетиции и весь сопутствующий ранним Sex Pistols негатив.
Нельзя сказать, что я пришел в группу с блокнотами, исписанными словами песен, – тексты стали появляться уже по ходу дела. Мои мозги служили библиотекой. Мне нравится делать заметки, однако я достаточно пренебрежительно отношусь к уже записанному слову. Думаю я явно быстрее, чем пишу, поэтому и обзавелся неплохим таким хранилищем между ушами.
Было просто чертовски здорово получить возможность выкрикивать со сцены все эти вещи. Откровенно говоря, я и представить себе не мог, сколько народа в конце концов будет это слушать. «Пистолз» казались мне клубным проектом. Я не видел в нем особых перспектив, поскольку музыкальный бизнес, как и любой другой к тому времени, был целиком и полностью схвачен и повязан. Все эти проповедовавшие свободную любовь команды 60-х заняли там первые позиции и не собирались освобождать место в своем автобусе.
Однако спустя всего лишь год-два первая же парочка написанных мною вещей «Anarchy In The U.K.» и «God Save The Queen» попали точно в цель. Я хотел бы поблагодарить британскую систему публичных библиотек: они стали моей тренировочной базой, именно там я научился бросать свои словесные гранаты. Я не швырял кирпичи в витрины магазинов в знак протеста, а бросал слова там, где они имеют значение. И еще какое!
Адвокаты и парламентарии обсуждали меня на открытых слушаниях, гневно цитируя «Акт об измене». Смертельно опасная штука, если обернуть ее против тебя. Этот очень древний закон, судя по тому, что рассказал мне мой адвокат, до сих пор предусматривает смертную казнь. Упс! Что? За сказанное слово? Абсурдно, когда правительство диктует, как, по их мнению, людям следует или не следует поступать. Ау! Мы – те, кто за них голосует, и вовсе не для того, чтобы они указывали нам в ответ, что мы делаем не так. Лучше бы побольше обращали внимания на то, когда мы поступаем правильно. Гражданские права одинаковы для всех нас, скажу я. Не судите, и не судимы будете.
Вся эта провальная история пробудила во мне эдакого ворчливого маленького мерзавца. Только представьте – сама мысль о том, что слова и в самом деле являются оружием и воспринимаются как таковое власть имущими. Аж мурашки по коже! Просто вау! И для меня это – оправдание. Это было жестко, настоящий хардкор, а не так посмеяться. Я ненавижу любые формы управления. А тут они еще и заявляют, будто мне не позволено говорить определенные вещи – другими словами, я не могу высказывать свое мнение. Так я обнаружил, что и правда представляю опасность для сильных мира сего.
Не многие «поп-певцы» осмеливались зайти так далеко. Типа да, конечно, весь этот Пусси-Пук в России – я всячески их поддерживаю. Я люблю храбрость. Но до них мое положение было самым тяжелым из тех, в которых когда-либо оказывалась поп-звезда. Самое политическое, самое опасное – а я по ходу только смеялся. Наш так называемый менеджер, Малкольм Макларен, обосрался, как и вся остальная группа. Именно это и стало одной из причин распада: они боялись оказаться втянутыми в то, что считали скандальным. Для меня же это – вопросы, которые нельзя было не задать. Такое социологическое исследование. Что можно говорить и что нельзя. С какой такой стати слово «херня»[1] считается запрещенным? Кто вправе мне на это указывать? Вот что вывело меня на тот путь, которым я теперь следую. Всегда называть вещи своими именами. И никогда не отступать.
Однажды я видел запись, на которой Игги Поп исполнял одну песню – «Down In The Street»[2]. Храбрость царившего на сцене угара впечатлила меня – нет, это ни в коем случае не была слабость, Игги жег на ВСЮ КАТУШКУ! Со своими длинными, блондинистыми, роскошными волосами, с тушью на ресницах – Игги! И это сработало, подействовало, потому что парень не уклонялся от того, кем он был. Да, я здесь, да, я такой, просто смиритесь. Абсолютная, настоящая храбрость.
Ты не можешь всегда надеяться на то, что тебя примут, и иногда даже выгодно, если этого не случится, но в любом случае, когда у тебя есть храбрость стоять на сцене, – это твое. Не надо бежать от этого. И я не бегу.
Я никогда не позволял себе снисходительно похлопать самого себя по плечу за достижения, даже несмотря на то, что я пришел буквально из ниоткуда. Потому что немедленно на меня обрушивалась другая проблема, а за ней еще одна. И для меня это вовсе не охота за трофеями. Просто есть вещи, которые я должен был высказать.
И я сказал свое слово. Политические ограничения и британское самомнение – думаю, я достаточно имел с ними дело во время всей этой Пистолзовзской херни, так что следующее, чем я занялся, – так сказать, внутренней политикой: хотелось разобраться в себе и выяснить, что со мной не так. Прежде чем строить карьеру, обличая других, необходимо было понять, что плохого скрыто внутри меня самого. Так что свою следующую группу Public Image Limited, кратко PiL (ПиЛ), я использовал для того, чтобы перестать изображать из себя заносчивого засранца. Я верил, что в этом проекте мы все будем на равных.
И таким образом нам удалось проделать замечательную работу. Придумать парочку действительно важных штуковин, просто потрясающих по тем временам. Мне нравились мои Pubic Hairs Limited[3]. Мы бросили вызов устоявшимся на тот момент представлениям о музыке. И это коренным образом изменило саму ее концепцию. На самом деле я менял музыку дважды.
Сейчас уже трудно припомнить детали, но где-то в 80–90-х мне предложили: «Разве не отличная идея, если ты станешь Кавалером Ордена Британской империи?» Думаю, они решили, будто теперь меня можно приручить, но, вероятно, не вслушивались в содержание Metal Box или Album. Предполагалось, что тексты песен не имеют особого значения, но это было не так. Да, в них затрагивались проблемы скорее внутренние, а не внешние, как в текстах «Пистолз». Где-то там подумали, что меня можно вписать в эту дерьмовую систему, однако с Джонни такое не прошло. Я сильно опасаюсь этих хвастливых титулов и не вижу в них особой необходимости. На самом деле мне нравится помпа и всякие церемонии – всего лишь не хочу принимать в этом участие.
Но знаете, я тут совсем недавно имел дело с американскими властями, когда подавал заявление на американское гражданство, и они сказали мне, что британцы все еще хранят открытое на меня дело. Только представьте!
Все, чего я хочу в жизни, – это ясность и прозрачность. Мне необходимо, чтобы я всегда знал, кто что делает и с кем. Мои единственные реальные враги – лжецы, готовые на все, лишь бы меня остановить, поскольку хотят, чтобы обман и подмена понятий продолжались, потому что так им удобно, или совершенно невежественные и безмозглые дураки, верящие каждому слову, прочитанному в ежедневной газетенке.
Я чертовски хорошо знаю, что больше всего удовольствия извлекут из этой книги мои хейтеры, и практически каждая вторая строчка здесь может стать оправданием их презрения. Ну, это нормально. И тоже отчасти относится к делу. Ведь они думают, пусть и негативно – по крайней мере, в их голове есть хоть какие-то мысли! Гнев – это энергия, помните?
Итак, вот вам «Моя жизнь, без купюр». Здесь должен быть подзаголовок – «Даже если они попытаются». Купюры, цензура – это то, против чего я всегда выступал. Своего рода непререкаемые постулаты, исходящие от людей, которые не любят много думать, не готовы анализировать себя (судить других гораздо проще) и боятся будущего. Будущее неизвестно, давайте запрыгнем туда и посмотрим, куда оно нас приведет. Есть одна старая, но очень правильная цитата: «Нам нечего бояться, кроме самого страха»[4].
Эта книга – жизнеописание серьезного любителя риска. Есть во мне этакая склонность к риску. То, что всегда брало надо мной верх. В начале 2014 г. я готов был ввязаться в самую большую в своей жизни авантюру – собрался провести три месяца, колеся по дорогам Америки, играя царя Ирода в рок-опере «Иисус Христос – Суперзвезда». Да, я знаю. Я прекрасно понимал, какое это произведет шоковое впечатление и какое вызовет осуждение – просто обожаю подобное… Обожаю! Но все это и гроша ломаного не стоило по сравнению с тем, что я получил бы от шоу как человек. Это заставляло меня подчиняться приказам и следовать сценарию. Последний вызов! Однако за неделю до начала шоу его отменили без каких-либо реальных объяснений.
Но слушайте, я постараюсь быть как можно более точным, не нанося никому слишком большого личного ущерба, поскольку считаю, что каждый заслуживает шанса вернуться и реабилитироваться, независимо от того, сколько раз он падал. У меня была нелегкая жизнь, и я не хочу, чтобы эту автобиографию восприняли как отражение ненужной злобы по отношению к кое-каким действующим лицам тех событий. Оставляю злобу этим собакам и крысам.
Я сделаю все возможное, чтобы не забыть, кто я, блядь, такой. Я могу иногда отказываться строго следовать хронологии событий своей жизни, но хочу, чтобы все было честно и открыто – говорить всю правду, и ничего кроме… НО!
Я могу ошибаться, а могу быть и прав.
Все в жизни взаимосвязано. Непредсказуемость – вот история моей жизни. Я облегчаю путь другим людям, готовым за мной последовать.
Я – слон гостиной, которого никто не замечает. Я тот чувак, кто не боится встать и во всеуслышание высказаться. В мире, где уже, кажется, никто не способен слушать.
Глава 1. Рожден ради цели[5]
«Испытания и невзгоды!»[6] – написал я в начале 80-х, пытаясь примириться с хаосом и смятением, с которыми я вошел в этот мир.
- Родился я, и доктор невзлюбил меня,
- Рванул за пятку, будто бы мясник цыплят,
- Пинок под зад – ах, мама, где же ты была?
- Как ты могла? – Ты на меня забила![7]
Одно четверостишие – и вы приходите к выводу, что я был очень недовольным ребенком.
А ведь я действительно горжусь песней «Tie Me To The Length Of That» («Привяжи меня на всю длину»). В то время по телевизору шло много медицинских передач, в которых показывали документальные съемки родов. Они там занимались тогда разными экспериментами на тему, что можно показывать и что нельзя, поэтому, наблюдая за всеми этими выскакивающими отовсюду младенцами, я типа такой: «Посмотри-ка, они шлепают бедного малыша по заднице, стоит ему только появиться на свет». Да, они делают это совершенно правильно с медицинской точки зрения, но я просто подумал, какая же это психологическая травма – ты едва покинул безопасное убежище материнской утробы, и тут они такие: «Вот тебе хороший шлепок по заднице, приятель!»
Мой отец пришел в ярость, когда услышал эту песню, потому что там есть упоминание и о нем: «тупой алкаш – ублюдок уронил меня». Это была история, рассказанная мне тетей и которую позже повторила мама: о том, что гордый папаша на радостях напился. Он взял отгул, потом вся эта паника, одно, другое – вот и результат. Я появился на свет ранним морозным утром 31 января 1956 г., а он «паниковал» накануне всю ночь.
Отец жутко разозлился на такой свой портрет. «Да не так все было! Ну… да оно могло и тако случиться, но совсем по другой причине!» – говаривал он с сильным ирландским акцентом. Бедный папочка. Я написал эти строки вовсе не для того, чтобы позлить его или отомстить. Как я уже сказал, я всего лишь пытался перевести на музыкальный язык те эмоции, которые, должно быть, испытывал в детстве. Вот почему я люблю писать песни – это реальное самокопание до какого-то энного уровня постижения.
Есть одна фотография со свадьбы моих родителей, которая представляет для меня невероятный интерес, потому что там, где-то в дальнем правом углу, тетя Агнес держит ребенка. И самое вероятное объяснение – этот ребенок, скорее всего, именно я и есть. Та-дам: я – ублюдок! В последние годы мне даже приходилось общаться с другими детьми, очевидно, рожденными моей мамой вне брака. И я никогда не мог получить честного ответа ни от одного из членов семьи, который был в курсе происходящего. Все они терпеть не могут разговоров, все тишком, и все великая тайна. Конечно, пока я сам не разобрался с всякими тайнами в собственной жизни и в собственном положении, мне было очень сложно иметь дело с другими предполагаемыми членами моей семьи.
У меня не было свидетельства о рождении, и я подозревал, что родился не в Лондоне, поскольку моему отцу, по-видимому обеспокоенному перспективами призыва на военную службу, пришлось притаиться и залечь на дно. По очевидным причинам я вынужден здесь немного темнить, равно как мои предки, которые очень неохотно делились информацией о себе или вообще о чем-либо еще. Это было все равно что пытаться выдавить воду из камня. «Алло, да член я этой семьи или нет?» – «Ну, знаешь…» Наверное, у моей мамы такое своеобразное чувство юмора, в которое мне по молодости было довольно сложно въехать. Это держало меня в постоянном состоянии настороженности – я все время пытался подобраться к интересующей меня теме под разными предлогами. Настоящая игра в крестики-нолики, которой забавляются родители, чтобы подразнить своих отпрысков. Но, пожалуй, мне это оказалось очень даже полезным в зрелом возрасте.
И оно научило меня быть всегда начеку. Меня не игнорировали и не потчевали сказками о Зубной фее – нет, здесь было кое-что уровнем повыше. Мне не морочили голову фантазиями. Каждому в нашем доме было ясно, что если Санта-Клаус и попытается спуститься по трубе, то, во-первых, он будет сожжен, а во-вторых, его изобьют до полусмерти, как личность весьма подозрительную, типа священника-растлителя малолетних!
В те времена все было немного иначе, чем сейчас. Ты не доверял никому. Мама и папа были очень отсталыми людьми – вовсе не тупыми, даже по-своему умными, поскольку сумели приспособиться и стать этакими выживальщиками. Однако ситуация в Англии складывалась так, что они всегда чувствовали – ими манипулируют.
Мой отец, Джон Кристофер Лайдон, был родом из Голуэя и всегда работал с разными тяжелыми машинами. В четырнадцать лет он приехал в Лондон в поисках работы на какой-нибудь стройке и быстро получил профессию машиниста подъемного крана и всего такого прочего. Однако он никогда не считал себя гребаным землекопом.
Его отец был жестоким, драчливым, не вполне адекватным парнем. Он приехал в Англию задолго до своего сына и жил неподалеку, но они никогда особо друг с другом не ладили. Мой отец старался бывать у него, пытался наладить контакт. Но все шло как-то мрачно, без особого результата. Мы обычно звали деда «старым хрычем» или «сычем», хотя тот вовсе не был похож на какого-нибудь филина. Он был заядлым курильщиком. От него постоянно воняло сигаретами, и в уголке рта у него всегда торчал окурок. Дед говорил очень гортанно, и было трудно разобрать, что он там произносит, поскольку давно превратился в настоящего алкаша, да к тому же еще и любителя проституток. Было очень странно наблюдать за их отношениями с отцом.
Моя мама, Эйлин, была очень любящей, но очень тихой женщиной. Мне нечего особо рассказывать. Все, что тебе нужно, когда ты маленький, – внимание взрослых, но правильное внимание. У мамы всегда было что-то не так со здоровьем – им с отцом едва исполнилось семнадцать или восемнадцать, когда они поженились и начали производить на свет нас.
Семейство моей матери, Баррисы, происходило из графства Корк – из местечка под названием Карригрохан. Очевидно, родители познакомились, когда отец там работал. Нам приходилось ездить к маминым родственникам на ферму каждое лето, честно говоря, только чтобы порадовать маму. Баррисы нас едва выносили, и нам, как это ни досадно, приходилось их терпеть. Они просто сидели и не разговаривали друг с другом. Ха, мои дедушка и бабушка с материнской стороны не были большими болтунами. На самом деле вся эта семья целыми днями так и сидела бы в тишине, из них едва можно было выудить и слово. Очень спокойный образ жизни – очень странный. Это, вероятно, раздражало отца, который в определенной степени любил поговорить.
В отце сидела какая-то скрытая обида. Они не хотели с ним разговаривать, но он это терпел. Я думаю, что все это потому… ну, потому что Баррисы считали, будто он недостаточно для них хорош. Это конечно странно, поскольку спустя много лет нам стало известно, что мою бабушку со стороны матери выгнали из семьи за то, что она вышла замуж за Джека Барри, отца моей матери, который служил в ирландской республиканской армии и был кем-то вроде героя Войны за независимость[8], ха-ха!
Очевидно, у матушкиных родственников «водились деньги», что бы это ни значило. Это трудно объяснить за пределами Ирландии, но для них иметь деньги – это владеть фермой. Джек построил собственную ферму после войны, когда юг отвоевал свои права. Так что он явно преуспел, но не был свободен от предубеждений – а ирландцы могут быть невероятными снобами, гораздо большими, чем кто-либо в Британии, даже учитывая всю эту английскую классовость. В ирландцах это было всегда.
Наша лондонская жизнь была очень замкнутой и обездоленной. Все вокруг нас жили в настоящем дерьме – нищие до убожества. Мы и понятия не имели, что такое деньги, на самом деле. Жили мы на Бенуэлл-Роуд, там, где «Арсенал» сейчас строит свой стадион «Эмирейтс». Прямо у железнодорожного моста, в принадлежавшем компании «Гиннесс Траст» большом многоквартирном доме Бенуэлл-Мэншенз. Прямо на первом этаже дома располагалась лавка, в каморке под которой в то время, когда мы сюда въехали, обитал бродяга по имени Говняный Том. Если пройти по коридору через лавку, можно было попасть на задний двор, где в двух комнатах, кухне и спальне – общий сортир, доступный всем жильцам, находился прямо на улице – жили мы. По ночам в сортире валялись алкаши, поэтому, даже повзрослев, мы обычно все равно пользовались горшком. Там же находилось и бомбоубежище, но поскольку люди превратили его в мусорную свалку, везде было полно крыс.
В спальне жили мама, папа, я, а затем, по мере появления на свет, и мои младшие братья: Джимми, Бобби и, наконец, Мартин. Тогда нас стало шестеро: четверо детей и двое родителей. Мы не были такой сюси-пуси дружной семейкой, да и вряд ли кто-нибудь из нас нуждался в дополнительной близости. Только представьте себе: две двуспальные кровати и раскладушка в крохотной комнатке с масляным обогревателем, и вы постоянно случайно друг друга касаетесь. Самое последнее, чего хотелось в такой ситуации, – всякие какашки-обнимашки. Потому что с наступлением зимних холодов все равно приходилось спать, закутавшись всем вместе в старое пальто.
Арендная плата составляла 6 фунтов в месяц или что-то вроде того. И по сей день, когда я слышу всю эту расистскую чушь типа: «Посмотри на этих “паки”[9], набились по восемь человек в комнате», – я думаю: «Ну, здрасьте, да это не просто расистские оскорбления, я сам так вырос». Как и большинство моего окружения. Нам и в голову не могло прийти, что подобные вещи имеют отношение к цвету кожи. Это дискриминация не расовая, а социальная, экономическая.
Когда Говняный Том умер, мы заняли его каморку. Этот человек никогда ничего не выбрасывал, так что можно себе представить скопившиеся там горы мусора. Мы еще долго потом не могли избавиться от запаха, потому что труп Тома пролежал в комнатушке целую неделю, прежде чем его нашли. Похоже, вокруг меня всегда валялись какие-то тошнотворные вонючие трупы.
Мне очень рано пришлось научиться подтирать задницу моим младшим братьям. Насущная необходимость – что тут поделаешь? Матушка моя была бо́льшую часть времени очень больна, и кто-то должен был этим заниматься. И я вовсе не испытываю теперь ко всему этому отвращения – всего лишь проявление элементарной человечности. Мне кажется, очень здорово, что мама меня об этом просила, ведь так? И я это делал. Мне нравилось чувство ответственности. Я знал, что мне может потребоваться встать ни свет ни заря, и вовсе не возражал против того, чтобы приготовить овсянку. Я любил улаживать проблемы самостоятельно.
Я думаю, что в нашем квартале подобные истории были совсем не исключение: люди обычно присматривали за теми, кто помладше. Это такие общинные ценности, то чувство сопричастности, которое сейчас стремительно исчезает. Поверьте, я вовсе не подвержен романтическим бредням и прекрасно понимаю, что до Второй мировой войны люди, скорее, жили по принципу «ненавижу тебя больше, чем ты меня». Не думаю, что могла существовать какая-то общность между всеми этими невероятно высокомерными викторианскими аристократишками и невероятно голодающими остальными людьми. Но после войны, мне кажется, такая сопричастность вполне себе существовала – единственным способом выжить было держаться вместе.
Папа почти все время отсутствовал. Часто мы переезжали вместе с ним, куда бы ни забрасывала его работа. Когда мне было около четырех лет, мы жили в Истборне. Что за адская дыра! Мои воспоминания об этом месте ужасны, поскольку наша квартирка располагалась в доме прямо на берегу Северного моря, и шум ночного прибоя пугал меня до чертиков. Я никак не мог отделаться от мысли, что сейчас нахлынет волна и всех нас утопит.
Большую часть времени за нами присматривала мама. Когда же папы поблизости не было, я совершенно спокойно относился к тому, чтобы самому присматривать за ней. Мне нравилась эта ответственность. Во мне срабатывает какой-то инстинкт: присматривать за людьми – вот чем я обычно занимаюсь.
Моя мать всегда была чем-то очень встревожена. В те дни ее постоянно подкарауливали кобели, наверное, думая: «Ага, одинокая женщина без защиты». Раздавался стук в дверь, и мама говорила: «Закрой шторы, помолчи, подожди, пока он уйдет». По этой причине мы с детства очень настороженно относились к незнакомцам. К мужчинам. Не доверяли им. Я чувствовал себя очень, очень обязанным ее защищать. Это единственная область, в которой я могу переборщить – если мне покажется, будто что-то угрожает моей семье или моим ближайшим друзьям. Что тогда начнется! Вот когда Ганди берет базуку!
Мама всегда болела. Бесконечные выкидыши вовсе не способствовали улучшению ее здоровья. Не думаю, что в те дни они много знали о предохранении. На самом деле, они, скорее, относились к этому как к смертному греху, что вовсю внушалось католическими священниками, навязывающими вам детей. Однажды у мамы случился выкидыш, а я оставался с ней в квартире один. Конечно, кругом полно родственников, но – случается и так, что типа давай как-нибудь сам, парень. То еще занятие – выносить ведро с выкидышем (да, вы можете углядеть в нем маленькие пальчики и все такое прочее) и смывать его в общественном сортире на улице. У нас дома не было телефона, так что мне приходилось сначала разбираться со всем этим, а потом отправляться к доктору, и это была долгая прогулка.
Обычно поблизости были другие члены семьи, готовые прийти на помощь. Тетя Агнес, которая вышла замуж за брата моего отца, жила в том же доме, что и мы, на Бенуэлл-Роуд. Потом была еще тетя Паулина, которая поселилась с нами в Бенуэлле, еще когда мы все как-то размещались в двух комнатах. Оглядываясь назад, теперь, когда я уже взрослый, я не могу себе и представить, насколько непросто было отцу с матерью находиться в постели, когда в другой спала мамина сестра со мной и Джимми. Вроде как близко и удобно – нет!
Но я любил тетю Паулину. Она стала мне как старшая сестра, которой у меня никогда не было, – фантастически теплая, но в то же время абсолютно отстраненная, в стиле Баррисов. После смерти Говняного Тома нам перепала еще одна комната для тети Паулины, и именно тогда появился дядя Джордж. Я любил этого парня. Он был просто великолепен.
Однажды на Рождество мы все должны были пойти в церковь, но тетя Паулина отказалась. К тому времени, когда мы вернулись, она успела обглодать головы всех игрушечных солдатиков, которых мне только что подарили. И по сей день я не знаю почему. Когда же пришел Джордж, он подарил мне конструктор для строительства игрушечных домиков типа «Лего», но явно дешевле. Джордж распечатал коробку, и мои слезы испарились. Я играл с ним весь день и никогда этого не забуду, потому что он потратил кучу времени, обучая меня разным штукам, и вообще вовлек меня в это дело.
Спустя пару лет он женился на Паулине, и они переехали в Канаду. Свадьба произвела на меня самое глубокое впечатление по очень многим причинам, главным образом, из-за встречи с братом Джорджа. Я не помню его имени, но он был настоящим кельтским хулиганом с огромным шрамом, идущим наискось через все лицо. Типа такой: «Да забейте! Какой-то козел топором приложил!» Охренеть, нехило так впечатляет! Это ж гребаный уличный боец, приятель. Вау!
Моя мать целеустремленно пыталась сделать из меня интеллектуально развитого человека. Именно она научила меня читать и писать еще в четыре года, задолго до школы. К тому времени, когда я наконец поступил в начальную школу Иден-Гроув, католическую школу, это стало очень серьезной проблемой для монахинь, поскольку я оказался левшой да к тому же свободно читал и писал. Типа посиди в углу, подожди, пока остальные ученики подтянутся. Мне стало как-то лениво, плюс, не знаю уж по какой причине – на самом деле я был очень застенчив и тих, – монахини меня невзлюбили. Поэтому они лупили меня, приговаривая: «Ах, ты левша, это знак дьявола». Чему монашки хотели научить таким образом пятилетнего ребенка, который уже умел читать и писать? Что за отвратительная, злобная чушь?
К этому всему добавилась рьяная, тотальная неприязнь ко мне за то, что я был умником или что-то вроде того. Обычно они бьют тебя острым краем линейки по правой руке, но так как я писал левой рукой, они били меня по левой… чтобы заставить меня писать правой! Но это невозможно. Так уж устроен мой мозг. К тому же все это выглядело в высшей степени нелепо, потому что мне вообще не нужны были уроки чтения или письма. Я уже научился этому дома.
Иден-Гроув находилась в маленьком здании, напрямую соединенном с католической церковью – из кабинетов, расположенных на верхнем этаже, туда можно было пройти по специальным мосткам, а из нижних классов – через внутренний двор, так что избежать встречи со всем этим было невозможно. Все вокруг было святое-пресвятое, а ты не пойми кто, что бы ты ни делал – плохо, и Бог тебя накажет, – такое своеобразное отношение. Я не ожидал ничего подобного и в свои пять лет не мог и предположить, какими злобными бывают эти монашки.
Священники всегда меня пугали, поэтому ребенком мне было страшно ходить в церковь. Они казались мне очень похожими на Дракулу или персонажей фильмов ужасов студии Hammer[10]. Кристофер Ли![11] Они всегда заявлялись сюда с этаким своим догматичным, диктаторским видом, со всеми этими снисходительными суждениями. Монахини были еще хуже – вонючие старухи с непримиримой ненавистью ко всему человечеству. Невесты Иисуса? Уверен, что это не совсем то, что Он имел в виду.
Многие местные жители были не слишком счастливы соседству с ирландскими иммигрантами, но в большей степени их недовольство вызывала католическая школа, пристроенная к церкви, в самом центре квартала с дешевым социальным жильем для рабочих. Я полагаю, они смотрели на все это так же, как люди сегодня смотрят на мечети – как на пропаганду противных им идей, считая нас чужаками только потому, что мы имели к этому какое-то отношение.
Я никогда не ощущал себя ирландцем. Я всегда чувствовал типа: «Я англичанин, я отсюда родом, и все тут». Потому что тебе обязательно напомнят об этом, стоит только оказаться в Ирландии. «Да какой ты ирландец!» – так скажут местные. Так что это было что-то вроде: «Черт возьми, в меня здесь с обеих сторон стреляют»[12]. Я все еще люблю эту песню Magazine – настолько ее слова оказались для меня в тему.
Мы с братьями говорили на местном кокни, но я совсем забыл, насколько заметным был ирландский акцент моих родителей. У моей матери, в частности, был очень сильный коркский акцент и такой очень деревенский. После смерти Малкольма[13] мы просматривали разные съемки Sex Pistols, и я нашел кассету с интервью моей матери. Все это валялось где-то на складе, и когда я вновь услышал ее голос, то был потрясен тем, насколько сильным и сложным для понимания оказался ее акцент. Я сам с трудом разбирал ее слова.
Мама и папа старались быть религиозными, но, очевидно, у них это не слишком хорошо получалось. В Католической церкви все сводится к деньгам, а у нас их не было. По воскресеньям нас тащили в церковь, и родители еще были хороши, поскольку в раннем детстве нас никогда не водили на утреннюю службу – только вечером, в семь часов. Что, кстати, было здорово, потому что означало, что мы пропускали Джесса Йейтса с его «Звездами по воскресеньям»[14] по телевизору.
В школе я попытался сам для себя во всем этом разобраться. Понимал ли я, что в церкви происходит сексуальное насилие? О, да абсо-нахер-лютно. Вполне себе узаконенное насилие, старательно прикрываемое и оправдываемое. Все знали, что надо куда-нибудь скрыться, когда священник приходит в гости, и ни в коем случае не связываться с пением в хоре или какой-нибудь чепухой типа работы алтарным служкой, потому что это был прямой контакт номер один. Именно поэтому я научился петь фальшиво, намеренно не попадая в ноты – так как прекрасно понимал, как опасно было со всем этим связываться. Так что мне пришлось расстаться с любовью к пению из-за этих проклятых священников. Представьте себе мою радость от того, что в конце концов я присоединился к Sex Pistols и попытался сделать мир лучше – очень мстительным способом.
Но при всем при этом я рос тихим, но счастливым маленьким зайкой. Вокруг была грязь и нищета, в Англии только что отменили карточки, но погожий жаркий день английского лета, кажется, значил для меня гораздо больше. Мои самые теплые воспоминания – такие вот моменты. То, что еще называют «салатными днями»[15]. Я, кстати, долго по молодости не мог понять, что означает этот термин, потому что салат был штукой, кторая наводила на меня ужас. Мамина идея салата подразумевала салатный соус «Хайнц» и кошмарные бледно-зеленые листики. Единственной радостью в нем, конечно, была свекла, потому что я люблю маринованную свеклу. Я могу просто так взять и съесть целую банку за один присест. Мне это очень нравилось! А еще я любил крыжовник, мама часто покупала его летом. А теперь вот совсем не выношу. Эти ягоды в высшей степени отвратительны. Я не знаю, как я вообще мог терпеть нечто настолько кислое. Есть их – настоящее наказание, но, возможно, виной тому была цинга или недостаток витамина С, которые заставляли мое тело жаждать эту гадость.
Мне нравилась одежда, в которую нас одевала мама. Я обожал клетчатые жилеты и маленькие клетчатые костюмы с пиджаками, шортами и жилетками. Мне нравилось буквально все. Она одевала нас с Джимми отлично, прям один в один, но это нормально. Что-то вроде: наша банда носит это, и все тут. Наш прикид сильно отличался от того, во что одевали других детей, так что, возможно, это каким-то образом вошло в меня – понимание важности иметь индивидуальность.
С годами я все больше ценю это, потому что знаю, насколько мы были бедны. Знаю, каких усилий стоило одеть нас вообще. И так было всегда – мы ничего не могли себе позволить. К тому же у меня сохранилось почти нежное воспоминание о том, как однажды я чуть не умер от голода – денег совсем не было, так что на ужин ожидала только банка супа «Хайнц Маллигатони». Это был подарок папы, который он принес, вернувшись домой, и мы все сидели вокруг этой банки «Маллигатони». Не думаю, что его сейчас производят, и, надо сказать, неспроста. Это был такой типа суп с соусом карри, а в то время карри казался нам абсолютно несъедобным – обжигающе-острым. Поэтому я так и заявил:
– Да я лучше помру с голодухи.
– Отлично, помри.
Ты видишь большие дома и все такое, но никогда не будешь иметь к ним никакого отношения и пока не понимаешь этого. Мне казалось полной бессмыслицей, что люди живут в таких огромных зданиях. Я всегда думал: «И что они делают со всеми этими комнатами? Как можно спать по ночам, зная, что здесь так много окон, которые нужно запереть?»
А еще я любил лето, потому что летом мы могли гулять весь день напролет, вообще не возвращаясь домой – по факту даже забывать, что он у нас есть, этот дом. И горько расстраиваться, когда вечером темнело. И слышать крики и вопль: «Где ты?» Вокруг стояли бомбоубежища времен войны, и тысячи детей безудержно разбегались по ним в разные стороны. Бомбоубежища служили нам настоящими павильонами парка развлечений. Как это было захватывающе! Для ребенка бомбоубежище – удивительная, чудесная вещь. Никогда не надоест, всегда есть что-то новое, что можно разгадывать и исследовать, – ну и, конечно же, фабрики.
Черт возьми, в пять, шесть, семь лет попытка проникнуть на фабрику представлялась в высшей степени захватывающей. Кварталы вокруг Бенуэлл-Роуд и Квинсленд-Роуд все еще лежали в послевоенных руинах, но внутри и вокруг нашего района уже строили новые заводы. Там нас была целая толпа – во все, что мы творили в те дни, было вовлечено около двадцати окрестных ребят, – и мы строили самодельные лестницы из кирпичей, собранных по округе на месте разрушенных бомбежками домов, чтобы карабкаться по стенам. Как только ты оказывался на крыше, все шло замечательно – достаточно лишь прошмыгнуть вниз. Это был вызов, и мне он нравился.
В верхней части Квинсленд-Роуд располагалась фабрика мороженого «Воллз», настоящий магнит, притягивающий нас туда, но попасть внутрь было нереально – современная фабрика с железными ставнями, решетками и висячими замками являла собой непреодолимое препятствие. Вместо этого мы прятались поблизости от загружаемых продукцией фабрики фур и, когда рабочие уходили внутрь, чтобы наполнить очередную тележку и прикатить ее обратно, пытались украсть фруктовое эскимо. Любым возможным способом стащить «Распберри Сплит» – вот это наше эскимо дня! Настоящее мороженое «Воллз» внутри и малиновый лед снаружи – реально самое вкусное эскимо. И мы были готовы на все, чтобы получить его за просто так.
Лед, которым они прокладывали пачки мороженого – не жидкий азот, но что-то вроде того, – в нем было какое-то химическое вещество, чтобы эскимо не растаяло на пути между фабрикой и фурой. Однажды на спор я прикоснулся языком к тому, что мне показалось ледяной глыбой, но в результате с нее сошел слой льда.
– Ну давай же, попробуй лизни!
– У-у-у-ух, я сделаю все! Я бешеный!
– Бежим, они идут!
– Улю-лю-лю-лю-ю-ю!
В другой раз меня поймали, когда мы с моим двоюродным братом Питером, Джимми и еще двумя ребятами «вломились» в чужую собственность. Копы притащили меня с Джимми обратно в наш дом – они, должно быть, заметили тревогу на наших лицах. Мой отец открыл дверь, и они спросили:
– Это ваши дети? Мы поймали их, когда они проникли в…
А папа ответил:
– Чаво? Эти – маи? Я-то тут при чем.
Было очевидно, что взрослые кивают и подмигивают друг другу, и полицейский заявил:
– Ну, мы не знаем, что с ними делать, может, нам стоит отвезти их на север и там оставить?
О, это чувство брошенности! Я выплакал все глаза. Это прозвучало очень убедительно.
Повзрослев, я понял, что они просто посмеялись над этим эпизодом, причем обе стороны. Это был всего лишь пустой гараж – та собственность, в которую мы проникли, – ничего ценного. Умный способ намекнуть: «Держись подальше от того, что тебе не принадлежит». И еще: «Не попадайся» – это всегда была любимая фраза моего отца. «Если уж решил делать всякие глупости, не попадайся – не позорь меня нах!»
Так что в конце концов нас, конечно, впустили домой, но заставили немного постоять снаружи и подумать о том, что мы натворили. И это сработало. Это положило конец фазе «проникновения на чужую собственность». Кто знает, к чему бы это привело? Это был скользкий путь – воровство, кража с взломом и все такое; убежденность, будто распоряжаться чужими вещами – твое полное право.
Но именно таким был Лондон. Не так уж много машин, пустые улицы, плохое освещение и сотни и сотни детей без присмотра, подбиравших что ни попадя на руинах разрушенных бомбежкой домов. Ну, не совсем без присмотра, это было: «Мотайте на улицу и поучитесь чему-нить, тока чтоб никакой полиции по возвращении!»
Менингит пришел к нам от крыс. Они были повсюду. Эти твари мочатся на землю и, как и все грызуны, волочат свои задницы, оставляя везде следы мочи. А я тогда любил делать бумажные кораблики и пускать их по выбоинам на нашем заднем дворе, так что в процессе касался воды, а затем рта. Так и заразился.
Болезнь оказалась не из легких. У меня были очень сильные головные боли, головокружения, обмороки, я видел всякие несуществующие штуки типа пышущих огнем зеленых драконов. Это было ужасно – наблюдать за собой словно изнутри, паниковать из-за того, чего, я понимал, рядом не было. Но я не мог заставить свое тело это прекратить. Истерические припадки тотального ужаса.
Вечером накануне того дня, когда я оказался в госпитале, я съел на ужин свиную отбивную – и с тех пор больше никогда не ем свиных отбивных. Просто терпеть их не могу. Абсолютно. Даже запах. Ничего не имею против хрустящего бекона, но вот свиная отбивная – нет! И поскольку я много лет винил в болезни все что угодно, то в конце концов убедил себя, что именно свинина меня доконала! Сплошное здоровье с моей стороны.
На следующее утро, когда мама решила: «Боже, все становится совсем плохо», – появился доктор, и я отключился, пока тот еще был у нас дома. Следующее, что помню, – я в машине скорой помощи, потом снова провал, и несколько месяцев спустя я очнулся в больнице. Я провел в полной коме шесть или семь месяцев. Как только это меня накрыло, все потухло, и больше ничего не происходило.
Когда я пришел в себя, помню, как они размахивали пальцами перед моими глазами, говоря: «Следи за моим пальцем». Я намеренно не стал следить, потому что, хотя я правда был серьезно болен, почему-то решил, будто должен сыграть больного по полной программе. Что, черт возьми, заставило меня это сделать? Но я точно помню, что поступил именно так – да, я всегда был дерзким маленьким поганцем, даже с самим собой. Злобный тихушник, несмотря ни на какие болезни!
Я лежал в больнице Виттингтона, и это всегда наводило меня на мысль о Дике Виттингтоне[16], очень положительная ассоциация. В моей палате было еще около сорока детей, многие из которых находились даже в худшем положении, чем я, так что жалость к себе – не вариант. В центре палаты располагалась огромная библиотека с множеством увлекательных книг, некоторым образом вне пределов моей досягаемости, но от этого казавшихся еще более привлекательными. Как странно работает мозг, что-то включается, что-то нет. Я не забыл, как читать, но не мог говорить – язык меня не слушался. Мне казалось, будто я формулирую слова, но мне потом сказали, что я всего лишь издавал какие-то звуки.
Периодически, по крайней мере раза три в день, они выкачивали жидкость из моего позвоночника – делали «поясничную пункцию». Укол, скорее хороший такой удар. «Это похоже на удар в поясницу, Джон!» Прокол иглой был очень болезненным, так как они вставляли ее прямо в основание позвоночника. Затем, когда они начинали откачивать жидкость, ты чувствовал, как она поднимается по позвоночному столбу и шибает в голову. В высшей степени тошнотворно. С тех пор я панически боюсь иголок. Просто ненавижу. Всем рекомендую – прежде чем подсесть на героин, сделать «поясничную пункцию». Целиком изменит ваше мнение на сей счет. Самая жуткая вещь, к тому же чувствуешь себя ужасно неловко, даже в семь с половиной лет, когда кто-то вот так тычет тебе в зад. Я всегда полагал, что моя задница принадлежит только мне, и мне не очень-то нравилось, когда за мной наблюдали снизу. Они, медсестры, буквальным образом приковывали меня, пока делали это. И я вопил от страха, потому что знал, какая боль меня вот-вот настигнет.
Все это абсолютно точно оказало долгосрочное воздействие на мою осанку. Пункция искривила мой позвоночник – да, если они откачают слишком много жидкости, такое вполне может случиться. Мне пришлось ходить потом, зажав черенок от метлы за плечами, чтобы выгнуть спину и заставить себя стоять прямо, но и по сей день, если я попытаюсь встать совершенно прямо, у меня начинает сильно кружиться голова. Это перекрывает кровоснабжение мозга, поэтому лучше я буду ходить сгорбившись, как какой-нибудь Ричард III.
Это также сильно ухудшило мое зрение. Мне пришлось долго носить очки, но я с ними так и не свыкся. У меня очень хорошее дальнее зрение, то есть я прекрасно вижу вдаль, но вблизи мне даже ногти подстричь сплошное мучение, поскольку все расплывается перед глазами – приходится надевать очки. И еще я вынужден щуриться, чтобы сфокусироваться на человеке. Повезло мне, да? Люди думают: «Что за страшная пизда!» Ха-ха.
Спустя еще четыре или пять месяцев лежания в больнице я полностью смирился и адаптировался к пребыванию в этих условиях. Угнездился в этаком комфортабельном забвении. Впал в состояние, которое, слава богу, врачи, родители, да и все окружающие не стали терпеть. Родители вытянули меня оттуда тычками и окриками. Они говорили мне, будто они – мои мама и папа, и я должен был им поверить:
– Ты принадлежишь нам, ты наш сын, мы тебя любим.
– О! И откуда мне об этом знать?
Возвращение домой прошло очень неловко, потому что я просто не понимал, что это и где я. Все равно что застрять в приемной какого-то учреждения и совсем позабыть, зачем ты вообще там оказался, – ну, знаете, когда тебя заставляют ждать так долго, что может вылететь из головы, что тебя туда вообще привело; или как попытаться оформить пособие по безработице – этакое чувство покинутости. Я никак не мог свыкнуться, все это заняло ужасно много времени. Почему я здесь с какими-то незнакомцами? В этом не было никакого смысла. Единственным способом иметь со мной дело – а я находился в постоянном состоянии возбуждения и паники – было тихонько попытаться заставить меня думать о том, что меня беспокоит, почему я не узнаю окружающих, а также что я и в самом деле нахожусь там, где мне следует быть.
Странно, но я никогда не ощущал себя не в своей тарелке рядом с братьями. Я сразу же почувствовал себя с ними нормально. Они никогда не показывали, будто со мной что-то не так, – как это делали все взрослые. И это было хорошо – Джимми мог сказать что-нибудь вроде: «Где ты пропадал? Тебя так долго не было дома!» На что следовал мой ответ: «Я не знаю». Он, наверное, просто решил, что меня в одиночку отправили куда-то на длинные каникулы.
Как только я начал принимать своих родителей, это стало похоже на открытие двери в моем сознании. Что-то щелкнуло в голове, и воспоминания начали возвращаться. Потребовалось ужасно много времени, чтобы информация дошла до меня, но она все же пробила барьер, просочилась маленькими фрагментами и осколками, и каждый такой прорыв был чистейшей радостью. Помню, я подбежал к маме – мне не терпелось сказать ей, что я кое-что вспомнил и что в ее словах есть смысл.
Когда я понял, что они те, за кого себя выдают, – это был настоящий эмоциональный срыв, откровение. Часто нам говорят о чувстве вины в католическом понимании этого слова, но сомневаться в своих собственных родителях – это вина, которая намного превосходит все, чем может огорошить религия. Безумное чувство вины. Но было так чудесно осознать, что родители не лгут. Они действительно оказались теми, за кого себя выдавали. Какое фантастическое открытие!
Правда, потом я еще много лет не мог им поверить, что мне действительно надо ходить в школу. Я никогда в это не верил. Я сейчас пишу об этом всем с большой долей шутки, но на самом деле я абсолютно серьезен. Именно так видит мир восьмилетний ребенок, который только что вышел из больницы и ни хера о себе не помнит. Много раз я забывал дорогу домой и просто бесцельно бродил по округе. Заходил в какие-то магазинчики. К счастью, из-за того самого чувства сопричастности мне говорили: «О, так ты тот больной мальчик, мы покажем тебе, где ты живешь». Но потом ты начинаешь уже на это обижаться: «Я не больной!»
С точки зрения реабилитации Национальная служба здравоохранения показала себя бесполезной – в буквальном смысле слова. Мои мама и папа сказали мне, что все, что им посоветовали в больнице, – это не делать мне поблажек, не сюсюкать и не нянчиться со мной, потому что если я стану ленивой задницей, то вообще ни за что не справлюсь со своими проблемами. А беспокойство и волнения заставляли меня задуматься. Иногда подобное нервное возбуждение – мощный инструмент.
Итак, ты был более или менее покинут государством и совершенно точно заброшен школой. Столько всего произошло за год – ты так отстал. Находясь в своем уме или нет, ты все равно пропустил целый год. Все становилось острой проблемой. Влиться обратно в привычное течение школьной жизни оказалось очень сложно. Это был первый год без друзей, реально без друзей, и очень одинокий из-за отношения к тебе детей: «А-а-а, он больной, держитесь от него подальше!»
Я ненавидел школьные перемены и обеды, потому что это означало, что мне абсолютно нечем заняться. Никто не хотел со мной разговаривать, по школе ходили слухи, будто Джонни «немного не в себе», – в итоге я оказался сам по себе, выброшенный за пределы школьного коллектива. Я знаю, что такое это одиночество, и оно очень, очень, блядь, вредно. Единственными людьми, которые разговаривали со мной во время большой перемены, были работницы школьной столовой. Очень добрые ирландские женщины: «Слышали, что ты болел – как твои дела?» А я ведь даже толком не помнил, что болел, просто: «Кто я и что здесь делаю?»
Чтобы хоть чем-то себя занять, я решил как-то задержаться в школе подольше и присоединиться к бойскаутам. Я возненавидел их! Я ненавидел, черт возьми, садиться в кружок и начинать это: «Доб-доб-диб!»[17] Для меня оно ничего не значило. Мне вообще показалось все это антиобщественным, потому что там целая куча книг с правилами, и нужно было получать эту форму, плюс когда ты зарабатываешь значок, то тебе присуждается столько-то баллов. Примерно через полчаса я понял, что это абсолютно бессмысленная трата моей жизни. Там выступал еще скаут-мастер, который показался мне мерзким отморозком, очень похожим на священника, мрачным и призрачным. Знаете, у них еще такая пакостная улыбочка, что за ней так и слышится, как они зубами скрипят. В итоге я побывал только на одном вечернем собрании.
Одна из монахинь как-то назвала меня «пустоголовым тупицей». Это прозвище прочно прижилось в школе. На самом деле глубоко шокирует, как эти сучки умеют поставить на тебе клеймо. От мальчика, который в четыре года умел читать и писать, до ПустоголовогоТупицы. Это стало для меня настоящим вызовом – преодолеть навешенный ярлык придурка, но я это сделал. Через год или два я снова стал получать высшие баллы.
Эти ублюдочные злобные монашки сделали мою жизнь настоящим наказанием, так что мне пришлось самому заниматься своим образованием. И я справился с этим довольно легко. Если находил какую-нибудь полезную книгу, то просто брал ее и читал. Я обожал читать. Только не газеты, они вгоняли меня в скуку. Вчерашние мнения, не более того – я всегда к ним именно так относился. Нет, это были книги, книги, книги – все и вся. После болезни я записался на курсы в местную библиотеку, ходил туда после школы и рисовал до девяти вечера, а потом брал кучу книг домой и читал их, пока не засыпал, постоянно борясь со сном. У меня был непреодолимый страх не проснуться или проснуться и снова не знать, кто я такой. Говорю вам, это самое худшее, что с тобой может случиться.
Я понял, что чем больше ты работаешь, тем больше получаешь. Это был мой опыт, и я совсем не возражаю против тяжелой работы. На самом деле я даже люблю тяжелую работу почти так же сильно, как люблю бездельничать. Мне нравится, когда жизнь моя переключается между этими двумя занятиями. Когда мне было лет десять, один из друзей семьи устроил меня по выходным диспетчером мини-кэбов[18]. Даже при том что я периодически все еще пытался вспомнить, кто я, черт возьми, такой, соображал я достаточно неплохо, чтобы этим заниматься.
Я любил свою работу, реально любил все это напряжение, стресс. Тебе и правда необходимо было иметь очень ясную и четкую память. Приходилось координировать шестнадцать водителей одновременно, ты должен был помнить, где все они находятся, звонить им, разговаривать с ними по радио, бронировать заказы. Мне это очень нравилось – всегда находиться в состоянии, близком к полному краху, на грани того, чтобы все испортить – но никогда! И еще это чувство ответственности – я реально собой гордился, и это мне здорово помогало.
Очень скоро я обнаружил, что слова – это мое оружие. Я понял, что могу выйти из любой напряженной ситуации и не быть изгоем с помощью шутки. Или остроумной фразы, которая может поставить в тупик и позабавить. Поэтому меня принимали за пусть какого-то странного, но интересного человека. Конечно, когда я повернул эту артиллерию против учителей, которых считал самыми настоящими ленивыми недоумками, это привлекло внимание всего остального класса. Я стал чем-то вроде живого воплощения школьного сопротивления, в котором не было ни злобы, ни насилия. Я всегда старался убедиться, что мои доводы верны – это не был просто бунт ради бунта. Моя цель состояла в том, чтобы добраться туда, куда я хочу, достичь нужного уровня осведомленности, а затем перейти к следующей проблеме.
Когда я потерял память, то надеялся, что все остальные расскажут мне, что есть что. Для меня было жизненно необходимо, чтобы их слова оказались правдой, так как я отчаянно нуждался в ответе. Я все еще такой же – хочу верить тому, что мне говорят. Я очень открыт и доверчив, но некоторые люди могут зайти слишком далеко, как это часто бывает в жизни, – люди со своими эгоистичными, ошибочными целями, которые они скрывают от вас.
С годами все воспоминания вернулись ко мне, практически фотографические. Вот почему я не склонен преувеличивать реальные факты своей жизни. Они и так важны для меня. Я полагаюсь на них. Я не знаю, как бы вы назвали эту систему, но ты вроде как берешь и откачиваешь фантазии из реальности. Есть один очень верный способ это сделать. Еще раньше, когда у меня были эти ужасные видения и кошмары, до того как я попал в больницу, я воображал притаившегося в изножье кровати дракона, а мои мама и папа говорили: «Нет там никакого дракона». И я знал, что они правы, знал, что дракона нет – я его не видел, но мозг говорил мне, что он там. Ты понимал, что мозг тебя обманывает. Вот почему я поместил бы то нечто, что называют душой, отдельно от мозга. Эти двое могут разговаривать друг с другом, поэтому я рассматриваю их как отдельные сущности.
Честно говоря, у меня в голове не так уж много фантазий. У меня там просто нет для них места. Может быть, именно поэтому я иногда ошибаюсь, будучи слишком прямолинейным. Я действительно не люблю тратить время попусту. Мне требуется приложить огромные усилия, чтобы подняться утром, но еще бо́льшие (буквально в десять раз) усилия я прикладываю, чтобы добраться до постели. Я не люблю спать. Это пугает меня – что если я вдруг не проснусь или не вспомню себя. И это останется со мной, я полагаю, до конца моей жизни. Никуда оно не денется, так что я склонен, скорее, «не спать и оставаться начеку». Возможно, за эти годы у меня и были кое-какие «помощники» в этом деле, ха-ха.
После выхода из больницы у меня какое-то время все еще продолжались галлюцинации, жуткие. Одно из призрачных существ, являвшихся ко мне в видениях, напоминало мне священника. И по сей день он время от времени возвращается. Очень высокий и худой, черные волосы, черные глаза – он очень, очень злобно на меня смотрит. Это настоящий вызов – иногда он приходит во сне, и мне приходится заставлять себя ему противостоять. Если я это делаю, видение пропадает. Но мне очень трудно собраться и дать ему отпор. Во сне сложно себя контролировать. Однако так или иначе мне удается подчинить себе сны. В конце концов, у меня была многолетняя практика.
Короче говоря, я пережил тяжелую болезнь, которая повлияла на то, как теперь работает мой мозг, и это стало неотъемлемой частью моего становления. Я не знаю, в чем именно состоит механика восстановления, но, когда я читаю современные исследования о том, как функционирует мозг, или про научный подход к человеческой жизни, я уверен, что во всем этом есть нечто большее. Есть личность – и это не просто набор химических формул, – есть сердце и есть душа, которые находятся далеко за пределами чистой механики функционирования «мягкой машины»[19], которой является человеческое существо.
Я знаю, что это было странное детство и все такое, но мои мама и папа научили меня независимости, умению самостоятельно справляться со своими проблемами и способности отличать реальность от фантазии. Когда я был ребенком, мне очень нравилось смотреть серию телепостановок под названием «Тайна и воображение»[20] – настоящие ужастики. Фильмы обычно начинали показывать поздно вечером в воскресенье, и родители, естественно, не хотели, чтобы я это видел, что, в свою очередь, заставляло меня еще сильнее стремиться посмотреть шоу. Мне нравятся хорошие фильмы ужасов или истории о привидениях, но я знаю, что в реальности все происходит несколько иначе, – и это мое знание оказалось чрезвычайно полезным.
Мне смешно смотреть ту ерунду, что крутят по телевизору, потому что им и на милю не удалось подобраться к реальности. Но я далек от того, чтобы высмеивать саму возможность испытать соприкосновение с чем-нибудь сверхъестественным. Время от времени я вижу и чувствую странные штуки. Я словно воспринимаю атмосферу, и хотя не могу сказать точно, что это, но я способен уловить нечто странное, какое-то изменение в настроении или ритме привычной обстановки комнаты или дома. Я могу почувствовать присутствие чего-то потустороннего и реально осознаю разницу между воображением и действительностью. Я просто ощущаю какую-то вибрацию. Это такая эмпатия к «настройкам» твоего окружения. Есть способ настраиваться и отключаться. Я могу полностью игнорировать или, наоборот, позволить этому случиться, и тогда потусторонние штуки проявляют себя. Иногда видения или странные ситуации навязываются сами.
Много лет спустя, в той старой студии звукозаписи – Маноре[21], я четко, абсолютно четко и точно почувствовал, как нечто – уверен, это был кот – запрыгнуло ко мне на кровать. Я вполне сознавал происходящее, ощущал, как движется это нечто. Будто что-то говорило мне, что это кот, однако я его не видел. Хотя вроде как знал, что он там есть. За много лет до того случая, прежде чем впасть в менингитную кому, я так же четко представлял себе притаившегося на другом конце кровати дракона, однако разум говорил мне: его там нет. Так что у меня в голове есть хороший сторожевой пес, и я вполне ясно понимаю разницу. Трудно объяснить, но это так.
И я видел много чего подобного. Когда умер дедушка, отец моей матери, я каким-то образом узнал об этом – подбежал к родителям, разбудил их и все им рассказал. Я увидел в коридоре огромную вспышку. Никаких рациональных объяснений появлению этого пятна большого яркого света не было; казалось, нечто оглядывается вокруг и что-то ищет. Я вышел в коридор и последовал за световой вспышкой в комнату мамы и папы, где рассказал им о том, что только что видел. Я уже видел это раньше. «Что это?» Уж точно не Most Haunted[22] – прекрасный пример того, чем оно быть не может. По мне, так то телешоу – настоящее мошенничество, что бы там ни вытворяли эти придурки в подвалах якобы замков с привидениями. На самом деле происходит нечто иное – это похоже на сигнал, который в определенное время становится доступен тому, кто знает, как его поймать по радио, что зовется вашим мозгом. И все это не внушает мне никакого страха; вот одна из областей, где я чрезвычайно храбр. Оно либо есть, либо нет, и я нашел способ сосуществовать с этим, чтобы подобные штуки не причиняли мне вреда.
Вернемся, пожалуй, в больницу. В моей голове возникали тогда образы персонажей, которые якобы окружали мою кровать или таились где-то неподалеку, в темноте больничной палаты. Я все еще помню их. Один – чрезвычайно высокий католический священник, такой зловещий странный персонаж, который является мне время от времени. Он выглядит выше, чем занимаемое им пространство. Не знаю как, это происходит не в том измерении, что доступно моему пониманию. Но я точно знаю, что это зло, и знаю, как его остановить. Обычно я крепко сплю, когда такое случается, однако заставляю себя проснуться и посмотреть точно в то место, где, как мне кажется, это призрачное нечто должно находиться. Едва мне удается сделать это, оно исчезает, словно рассеивается в воздухе. Я поступаю так же и в том случае, если мне не нравится сон, в котором я нахожусь, – могу найти выход, вернуться в сознание.
Обычно подобные эпизоды случаются, когда остаешься один. На самом деле умение справляться с этим – отличный навык. Он дает огромное ощущение силы, того, что ты смог отбить нападение на свою психику. И это реально нападение, вызов. Ты должен победить его, и это каким-то образом дает тебе возможность почувствовать себя сильнее. Возможно, это нечто вроде ежедневной зарядки для разума. Я не занимаюсь физическими упражнениями, но очевидно же, что как-то так я управляю своим ментальным спектром, так сказать, поднимаю брошенную мне перчатку.
Финсбери-парк: звучит как такое прелестное местечко, да? Ну так вот – нет. Никакой вам верховой езды, за исключением полицейских патрулей по субботам, преследующих местных подростков. Мне было одиннадцать, когда мы переехали туда из Холлоуэя, как раз перед средней школой. Это наконец-то случилось, и причиной переезда была как теснота в нашей старой квартире, так и некий разговор моего папаши из серии «между нами ирландцами» с местным членом парламента ирландского происхождения. Пожалуй, единственный раз в жизни ирландская национальность хоть на что-то сгодилась. Я думаю, тот депутат просто помогал своим единоверцам, людям одного с ним происхождения. Дело, конечно, было нечисто, от него издалека несло гангстерским душком. Могу себе даже представить размер взятки, поскольку такие муниципальные квартиры, как наша новая, было не так-то легко получить.
Эта квартира располагалась в Ханифилде, в Сикс-Акрс-Эстейт – огромном многоквартирном жилом комплексе на Дарем-Роуд. В то время была популярна ужасная, сентиментальная песня Роджера Уиттакера[23], в которой звучали строчки: «Я покину старый Дарем-Таун», что, конечно, отчасти портило хорошие впечатления, но в остальном я был в полном восторге. Только представьте себе – столько комнат! Мне нравилось ходить по дому, подниматься и спускаться по лестнице, касаться перил. «О, пожалуй, я сейчас выгляну в это окно»! Я никак не мог насытиться. Конечно, мой отец всегда жаловался на арендную плату. Вот к чему сводились все эти дополнительные комнаты – умопомрачительно огромные еженедельные счета за аренду. С переездом также завершилась и моя работа диспетчером мини-кэбов. Слишком далеко стало добираться до работы по утрам: дорога от нашей новой квартиры до той конторы занимала фигову тучу времени.
Я и правда с нетерпением ожидал перехода в среднюю школу, поскольку это было для меня новым началом. Мне предстояло отправиться в школу Вильяма Йоркского, еще одно католическое заведение неподалеку от Каледониан-Роуд. Мне очень понравился первый день – все были одинаково застенчивы и открыты. Я был уверен, что вся эта ерунда про Пустоголового Тупицу позади. Однако чего я точно не знал, в школе меня уже сочли проблемным. В первый же день – что меня горько обидело – меня зачислили в поток «D». «D» – куда определяли самых тупых! Алло! Они просто предположили, что у меня проблемы с умственным развитием, и все тут. Но не прошло и недели, как я показал себя и выбрался вперед. Далеко вперед!
Вскоре, конечно, в нашу жизнь постепенно вкралась эта школьная система травли и насмешек, потом появились глупости типа «мы-они», и юные прыщавые детишки стали кучковаться группками друг против друга. Я возненавидел все это. И к тому же школа, где учатся одни мальчики, становится чудовищно скучной, когда подростковый возраст поднимает свою уродливую голову. Священников там не было, за исключением одного, периодически преподававшего математику. И опять-таки все эти штуки, связанные с хором, – я старался держаться от них подальше. Вот уж и правда, католицизм убийственно воздействует на потенциальных вокалистов, с этим надо что-то делать.
Некоторые занятия мне очень нравились, но я искренне ненавидел бредовую систему организации уроков физкультуры – они заставляли тебя чувствовать себя очень бедным, потому что необходимо было носить определенную форму для определенных занятий, типа экипировки для регби или чего-то подобного, что было абсолютно для меня невозможно. Если пришел на урок без формы, физкультурой ты заниматься не можешь – великолепно! – но получаешь: «Нагнись!» – и тапком по заднице от учителя. Поэтому я добровольно соглашался получать пинок под зад. Черт, тот жалил как псих.
Негодование, которое я испытывал по отношению к тем, кто пытался навязать мне униформу, делало боль почти приятной, этакое самодовольное: «Ха! Вам меня не победить!» Многие другие ребята поступали так же, в итоге мы оказались в большинстве, так что посещаемость уроков физкультуры была так себе, и им наскучило отвешивать нам пендели. Мы это пережили. Отлично! Когда дело доходило до этого конкретного предмета, я просто покидал школу через главные ворота и шел заниматься чем-то более для меня интересным.
В возрасте двенадцати или тринадцати лет я начал сам находить себе друзей, таких как Джон Грей. Невероятно неуклюжим парнем был наш Джон. Он тоже учился в школе Вильяма Йоркского и абсолютно не вписывался ни в ее программу, ни в какую-либо еще, кроме своей собственной, и мне нравилась его индивидуальность. Настоящий бриллиант неловкости и в то же время полон высокомерия, основанного на реальном знании вещей. Ходячая энциклопедия – очень полезно! Когда что-то не знаешь, просто: «Джон?» – вот тебе и ответ.
Он напоминал мне фильм «Кабинетный гарнитур»[24] c Кэтрин Хэпберн и Спенсером Трейси. О том, как знающий и компетентный персонал в одном офисе пытаются заменить компьютером. Компьютер устраивает всеобщую путаницу, и в результате все понимают, что человеческий мозг гораздо более надежен и эмоциональнее реагирует на различные происшествия. Так вот, это – Джон Грей как он есть.
Еще одним моим другом стал Дэйв Кроу. Очень странный, темный, зловещий парень, немного Франкенштейн по телосложению – этакий огромный качок-хулиган. Тихий, очень тихий, но может внезапно стать смертельно серьезным. Он учился в моем классе, но мы начали вместе тусоваться только спустя год или два после знакомства. Дэйв был абсолютным математическим гением, а математика – предмет, который сильно меня озадачивал – после менингита, ну понимаете. Я нахожу математический подход к жизни очень запутанным. Я либо инстинктивно попадаю в такт, либо – не судьба.
Дэйву наскучило тусоваться в школе с фанатами «Арсенала», потому что сам он был болельщиком «Тоттенхэма». Мы оба выбивались из своего окружения, оба отказывались заниматься физкультурой – Джон Грей, кстати, тоже, – вот так мы и сошлись. Престранная кучка персонажей, но мы прекрасно друг с другом уживались и всегда предпочитали скорее получить пинок под зад, чем нацепить на себя какую-нибудь странную форму, чтобы поиграть в бадминтон.
Какова, однако, претенциозность этой крошечной, убогой католической школы в районе Каледониан-Роуд, самонадеянно полагавшей, будто она сможет тренировать будущих игроков в бадминтон – что было невозможно в окружавшем нас жестоком мире. Все крутилось вокруг каких-то хулиганских разборок, стычек футбольных фанатов и бандитизма. А они пытались заинтересовать нас подобного рода бабьей ерундой. Да как можно говорить парням из такого района, чтобы они «легко били по волану»! Неприемлемо! Обязывать нас носить белые изящные наряды с суперкороткими шортами. Никогда! Нет! Нет! Даже геи отказались бы это делать. Просто невозможно!
Вскоре мой брат Джимми, как и я, пошел учиться в католическую школу Вильяма Йоркского, а обоих младших, Бобби и Мартина, отправили в школу в Толлингтон-парке. К тому времени мои родители охладели к Католической церкви, так что Вильям Йоркский был из разряда «ни-в-коем-случае». Нашим младшим братьям не грозило терпеть все это церковническое дерьмо. Мой отец оказался в этом вопросе непреклонен.
Беда заключалась в том, что школа, которую он выбрал для Бобби и Мартина, была, вероятно, самой хулиганской школой в Лондоне. Толлингтон-парк считался местом, где кучковались все серьезные фанатские банды «Арсенала» нашего района. Это то самое место, куда не ходил мой будущий менеджер Рэмбо, если вы понимаете, о чем я. Посещаемость в этой школе была не очень высокой.
Всю свою жизнь я являюсь фанатом «Арсенала», так что во многом тот факт, что я не пошел учиться в Толлингтонскую школу, стал прискорбным пробелом в моем образовании. Школа Вильяма Йоркского располагалась в районе Каледониан-Роуд, но это не означало, что мы водились с фанатскими бандами Калли[25]. Нет, мы застряли в этой закрытой католической чепухе, очень узколобой и замкнутой, и нам закрывали глаза на происходящее вокруг. Пытались ограничить наши знания о том, как на самом деле устроен мир. А вот в школе в Толлингтон-парке была настоящая жесть, вам типа говорили: «Вот оно, приятель, смотри, ты никому не нравишься, и нам наплевать». «Pretty Vacant»[26], на мой взгляд, могла бы стать прекрасным гимном Толлингтон-парка, который вообще трудно было назвать школой.
Как только я начал подниматься на ноги в Вильгельме Йоркском, случилось нечто ужасное. Мой дедушка по отцовской линии, тот самый Старый Сыч, умер, и мне пришлось опознавать тело. К этому времени у него уже насчитывалось четырнадцать детей, и он жил с проституткой. Можете себе представить, каково отцу было все это мне рассказывать?
Моя тетя, у которой было четырнадцать собственных детей, приехала из Голуэя, однако отцу пришлось уйти на работу, так что в морг с ней поехал я. Им пришлось немного подлатать деду череп, потому что он упал навзничь и раскроил себе голову, трахая на пороге проститутку, – вот как он умер. Когда они вытащили тело на прозекторский столик, стало очевидным, что старик умер с нехилым стояком. И это вам не какая-то падающая «Писянская башня»!
Ну вот, стою я там в морге с этой тетей, тетей Лол, а она как начнет вопить и стенать – но ведь это же был ее отец. Ее истерическое поведение реально меня напугало – и как взрослым только удается причинять вам столько боли, когда они, наоборот, должны в такие моменты взять на себя ответственность. «А-а-а-а, тьфу, я не могу на это смотреть! Это самое ужасное, что я когда-либо видела!» – она так и заявила. «Да, но нам надо, чтобы кто-нибудь опознал тело». И пришлось идти мне. Ну, да, дед выглядел слегка как тот монстр Франкенштейна, с этими стежками на лбу и вдоль висков, но я вполне сумел его опознать.
Даже будучи еще совсем маленьким, я понял, что он, похоже, был еще более грязным ублюдком, чем мне известно, поскольку сестра моего отца повела себя так, как она себя повела, когда они вытащили обнаженное тело с большим гребаным стояком… Иисусе, я не настолько хорошо одарен – он был реально большим. Боже всемогущий, это же твой родной отец. Что, черт возьми, происходит в этой семье?
Это уроженцы графства Голуэй, семья моего отца. Члены семьи моей матери иначе сообщали мне о своей смерти – мелькая белой вспышкой в коридоре. По какой-то странной причине мои мама и папа любили друг друга, действительно любили, и у них были мы, их дети, но обе ветви их семейного дерева – абсолютно сумасшедшие. Какая-то полная бессмыслица. Холодность семьи моей матери, безумный страх перед чем бы то ни было – и бесконечный парад бедствий с другой стороны.
Ту ночь на квартире в Сикс-Акре тетя Лол провела в соседней комнате – мама и папа выделили ей отдельную спальню, так что мне с Бобби и Мартину с Джимми пришлось делить кровати. Мы слышали, как она вопила всю ночь – реально пугающие вопли, – и мне пришлось пойти к ней, потому что именно об этом попросил нас отец: успокоить ее. Было слишком тяжело слушать ее крики: «Он вернется, вернется, чтобы преследовать меня!»
Должно быть, там и в самом деле что-то произошло, потому что невозможно плакать о своем отце таким образом. Видимо, случилось какое-то настоящее зло. Это ужасная правда и реальность, которую мне пришлось узнать о своей семье именно тогда, когда я едва научился справляться со своими собственными проблемами.
Весь мой тогдашний мир составляла школа и наш маленький кусочек Лондона. Что еще нам было известно? Самой дальней точкой, где мне довелось на тот момент побывать, была ферма в Карригрохане. Да еще поездки с отцом в Гастингс и Истборн, когда он там работал. Вот и все мои путешествия, вплоть до эпохи Sex Pistols. Еще была школьная экскурсия на Гернси[27] и географическая практика в Гилфорде. В те дни Гилфорд был ужасно далеко от Лондона – убийственно скучная поездка по очень ветреным деревенским дорогам – казалось, она длилась целую вечность.
Неделя в этих ужасных хижинах на Бокс-Хилл – много лет спустя я вспомнил об этом в пиловских «Flowers Of Romance», – да еще и необходимость иметь дело с физруком, который угрожал отшлепать шлепанцем, если ты отказывался тащиться в общий душ. «Ах, спасибо, я обожаю шлепанцы!»
Мы, подросшие детки, только и думали о том, как бы попасть в паб. Это то, что занимало нас больше всего, способ взросления. Ты чувствуешь, что достиг чего-то – чего-то похожего на взрослость, – только когда тебе удается проникнуть в эти запретные места.
Во время учебы в Вильгельме Йоркском папа получил работу машиниста подъемного крана на нефтяных вышках у побережья Норфолка. Была зима, и мы остановились в летнем лагере в Бэктон-он-Си – в округе никого, только мы одни. Наше пребывание там продлилось недолго, но за это время я понахватался норфолкских «о-aaarr» в речи. Когда мы вернулись в Финсбери-парк, это не принесло мне никакой пользы. «Ты чаво-о?!»
Мне нравилось слоняться по округе в норвичской шапке с помпоном, но без оного. Единственное, что меня в ней привлекало, – цвета, желтый и зеленый. У меня была еще одна однотонная норвичская шапка, и тоже без помпона. То, как я обычно одевался и выглядел – что всегда немного отличалось от нормы, – похоже, было равноценно поглаживанию против шерсти народа, собиравшегося на стоячих местах Северной трибуны, фанатского сектора старой домашней арены «Арсенала» – Хайбери.
На мне была та самая шапка в тот раз (кажется, это была наша первая встреча), когда я столкнулся с Джоном Стивенсом. Рэмбо, каким мы все его знаем, был дворовым приятелем Джимми. Своей целеустремленностью и организованностью Джон навсегда изменил лицо футбольного насилия. Вам бы никогда не удалось угнаться за Джоном! Он быстрее хорька вклинивался в драку – щуплый, на треть ниже любого, кто бы ни бросил вызов «Арсеналу», – и всегда выходил из нее с широкой улыбкой на лице. Такой болван, как я (а я был немного выше), стал бы первым, кому досталось по зубам. И всегда с кривыми, выступающими зубами – у-ух, сколько, должно быть, костяшек пальцев было сбито на моих зубах.
Я тут не углубляюсь в психологический аспект насилия, потому что я не такой. Я не держу слишком долго обиды, и мой гнев – это штука проходящая, нет обиды, нет проблемы. Все просто и ясно. Не ори «Тоттенхэм» или «Челси» на Северной трибуне. Вот не надо. Мы тебя оттуда выставим, и все счастливы! Я не из тех, кто будет мусолить это дело. Но зато я тот, кто пойдет на их стадион и будет как можно громче топить за «Арсенал»! Это своего рода лицемерие, но это прекрасная арена, поле битвы, которое создает футбол.
Чувство единения было поразительным. Каждый домашний стадион позволяет ощутить всю глубину этого чувства, и ты это знаешь. Ты понимаешь, что оно охватывает всех – от подножия трибуны до самых верхних рядов. И дело не в том, чтобы просто одолеть соперника, дело – в полномасштабном сражении. И это великолепно, правда. В школе я обожал историю. Мальчишкой моей любимой темой было вторжение римлян в Британию, а также саксы, викинги – я всегда хотел бы оказаться в одной из этих ситуаций. Ну так вот, футбольная трибуна – самое оно в этом смысле. И там все даже устроено так же. Фланговые атаки, например, имели большое значение. У меня была одна библиотечная книжка про битву при Азенкуре[28] – так вот, тактика это наше все, и Рэмбо всегда был отличным тактиком, даже в столь юном возрасте. Наша часть группировки «Арсенала» была очень молода, да и выходили мы против этих огромных тридцати-сорокалетних уебков, но ни разу не пытались покинуть сражение.
Так или иначе, в тот вечер у «Тоттенхэма» был домашний матч. Ходили слухи, что их банда могла перенести действия за пределы стадиона. Сорок человек наших встретились во дворе паба «Сэр Джордж Роби» в Финсбери-парке. Я пришел туда в своей одноцветной гринвичской шляпе без помпона. Рэмбо устроил засаду, чтобы подстеречь чуваков из банды «Тотенхема», когда они будут возвращаться с матча. Он только взглянул на меня и заявил моему брату Джимми: «О нет, он никуда не годится, отправь его домой!» Джимми принялся возражать: «Нет, это мой старший брат, он крепче меня!» Я тогда работал на стройке, так что внешность может быть обманчивой. Сколько мне тогда было – лет пятнадцать-шестнадцать. И я был ебать как бесстрашен. Прошли те мальчишеские дни, когда я не умел драться. Но для кого-нибудь вроде Джона, кто, случись что, обязательно придет к тебе на помощь – это типа, о-ох, ну как этому мелкому откажешь. Ни за что, никогда, и я до конца осознал это только много лет спустя.
В школе, похоже, я постепенно начал доставлять много хлопот учителям. Не систематически и намеренно, а так – инстинктивно. Если я чем-то озадачен, я хочу знать ответ. А если им не хочется объяснять, о чем они там болтают, то, блин, да отъебитесь вы от меня уже – и тогда, конечно, твое поведение их возмущает. Да как можно ожидать, что такие люди, как я, будут просто сидеть там и терпеть унижения! В глубине души я понимал, что пришел туда для того, чтобы учиться, что предназначение школы – дать образование. И когда дрянные учителя отрицали подобные очевидные вещи, это приводило меня в ярость. Конечно, речь не шла о насилии, но я всегда умел подобрать правильные слова.
Это было наказанием и большим разочарованием с такими предметами, как история, которую я любил. Мне приходилось обращаться к людям типа Джона Грея и спрашивать их: «О чем сегодня был урок?» Им быстро становилось скучно мне объяснять, и тогда я шел в библиотеку и пытался найти ответы самостоятельно. Однако постепенно, будучи предоставленным самому себе, теряешь интерес. Воодушевление пропадает, новизна стирается, наконец, все становится в тягость.
В конце концов меня вышвырнули из Вильгельма Йоркского прямо посреди года, в середине семестра. Я опаздывал на уроки (опоздания стали официальным поводом), не носил правильную школьную форму, и мои волосы были слишком длинными. Они решили, будто я байкер из «Ангелов ада», потому что я обычно надевал в школу папино кожаное пальто. А еще я не мог позволить себе проездной на автобус, поэтому ездил в школу на мотоцикле. Они взяли и сложили вместе эти ошибочные сведения и сделали неправильные выводы.
Это был Прентисс, учитель английского языка, тот, из-за которого меня исключили, – Прентисс Обоссанные штаны. Сейчас я вполне согласен с фразой «пусть мертвые покоятся с миром», но в те дни я ненавидел этого ублюдка. Я презирал его, но по иронии судьбы он был блестящим учителем; то, как он объяснял Шекспира, – совершенно потрясающе, я был очарован. Так сложно и глубоко, вплоть до анализа каждого слова, поэтического ритма строки, ее стихотворного размера (в высшей степени захватывающе!), лексических особенностей английского языка. Действительно превосходный с профессиональной точки зрения учитель, но абсолютно отвратительный мерзавец.
Поскольку по возрасту я был еще обязан учиться в школе и хотел получить аттестат о среднем образовании, мне пришлось пойти в колледж дополнительного образования в Хакни. Это было что-то вроде дневной спецшколы для неудачников – если школа решала, будто не в состоянии с тобою справиться, тебя отправляли в это учреждение, более или менее напоминавшее местный государственный центр содержания под стражей. Нас всех здесь считали достойными порицания бродягами. Типа уже сел в автобус, осталось минут десять пройтись пешком.
Давайте посмотрим правде в глаза, Хакни никогда не был отличным местом. Скажем так, это был уже другой класс фанатов «Арсенала».
Там я и познакомился с Сидом.
Корни и культура
В доме Лайдонов всегда звучала музыка, это воспринималось как нечто неизменное. Особенно музыкой увлекался папа – он даже играл на аккордеоне, когда был совсем маленьким. В двенадцать-тринадцать лет, в Ирландии, он выступал во всяких шоу-группах – все эти «дидли-дудли-ду», – но никогда не учил меня ничему подобному. Мне казалось, это было как-то странно с его стороны. Возможно – как и со всем остальным в этой жизни, – отец хотел, чтобы я нашел свой собственный путь. Аккордеон был у него и на моей памяти, однако папа спрятал его на самом дне шкафа и не хотел говорить о нем или иметь с ним что-то общее. Это было так странно, та атмосфера таинственности, которую он создал вокруг инструмента. Похоже, папа вообще не хотел передавать нам никаких знаний о музыке.
Но родители владели огромной коллекцией пластинок. В доме постоянно играла музыка, особенно в выходные дни. У них были очень разные вкусы и разные друзья. Каждый из них приносил что-нибудь послушать, и таким образом в доме появлялись бесконечные пластинки, которые я очень любил. Сингл «A Boy Named Sue»[29] Джонни Кэша был примерно из этой серии, родители могли его поставить, чтобы послушать и бросить вызов приятелям, посмотреть на их реакцию. Мама любила традиционные баллады и фолк, но ей нравились и The Kinks[30], The Beatles, а также эстрадные звезды типа Петулы Кларк или Ширли Бэсси[31], танцевальная музыка.
Я живо помню, как мама с папой танцевали под пластинку «Добро пожаловать в мой мир» Джима Ривза[32], которая играла на проигрывателе Dansette в гостиной, – она в своем пышном, розовом кримпленовом платье, а папа в костюме и галстуке. Это была очень романтичная песня, но и отчасти политическая, о том, что мир может стать лучше, – такая обнадеживающая, позитивная. Замечательная песня.
Именно там я научился диджейским навыкам, потому что с детства считал это своей работой – ставить пластинки. И подавать напитки – в таких ситуациях диджею приходилось еще и руководить баром, и чем в более юном возрасте ты пребываешь, тем лучше, поскольку подаешь большие порции, чтобы сделать своих старших счастливыми. Мне нравилось ставить пластинки. И я начал понимать, как это работает, потому что научился просчитывать результат: «Ага, значит приятный звук на большой громкости! О’кей». Замечательно, какой эффект! Вскоре я и сам начал покупать пластинки, так все дальше и покатилось.
Странно, но когда я был в больнице – а это продолжалось почти год, – я совсем не скучал по всему этому, возможно, потому что не помнил. В больничной палате не было ни музыки, ни радио, ни чего-то подобного. По правде говоря, даже не думаю, чтобы там стоял телевизор.
Вскоре я уже поглощал всю популярную культуру, которая попадалась мне на глаза. Я помню, что у нас всегда стоял телек, кажется, небольшой Rediffuson. Это было нечто очень английское и по внешнему виду, и по качеству, так что работал наш телевизор не очень: зернистая картинка, крошечный черно-белый экран. Папа никогда им особо не интересовался, равно как и мама, – для них он был лишь способом отвлечься, вымотавшись за день.
После Второй мировой войны социально-классовая система Британии кардинальным образом изменилась. Владевшие землей джентри относились теперь к породе недовымерших динозавров, да и вся сословная иерархия подверглась пересмотру. По телеку у тебя было «Би-би-си», рассчитанное на тори, – высший и средний класс; и «Ай-ти-ви» – для лейбористов и простых работяг. И демаркационная линия проходила четко. Мы вообще никогда не смотрели по «Би-би-си» ничего, кроме футбола, потому что считалось, что всякие напыщенные аристократы занимаются полной ерундой. Мне нравились телеспектакли по «Би-би-си», я рос вместе с ними, но этот напыщенный акцент сводил меня с ума.
Я ужасно ненавидел воскресенья, потому что воскресные телепередачи всегда были просто отвратительными. C раннего утра религиозные программы. Мы любили смотреть во второй половине дня «Большой матч»[33], но после нас ожидали лишь гимны, «Звезды по воскресеньям» и все эти кошмарные «Воскресные вечера в Палладиуме»[34], настолько мрачные, что невозможно было смотреть. Я ненавидел их, ненавидел всех, кто на них выступал, даже комиков; трудно было избавиться от впечатления, что их шутки разбавлены водой. Даже мне в моем очень юном возрасте было понятно, что юмор у них самый что ни на есть детский. Вечер заканчивался просмотром «Вверх и вниз по лестнице»[35] – мне нравилась мамаша, замотанная в эти удушающие шарфики, – просто потому что больше не хрена было смотреть.
Стоит, кстати, напомнить людям: сколько каналов у нас было? На тот момент – всего три. И что же из всего этого предназначалось детям? Чепуха вроде «Тандерберды: Международные спасатели», «Суперкаров» и – та-дам! – «Файербол XL5»[36]. Вот и весь телек моего детства. Я ненавидел их всех. Какой-то дурацкий кукольный спектакль. Да там даже струны видны были, за которых дергали этих долбанных кукол! Может, это кому-то и смешно, но меня они вообще никак не трогали. Был еще «Доктор Кто», в котором показывали и людей, но я смотрел его только из-за да́леков[37]. В основном там действовали тупые люди-муравьи, причем видны были большие толстые ноги, и ты понимал, что это человек в костюме. Парень в высоких сапогах с муравьиной херней на макушке. Идиоты!
Что мне нравилось, так это комедии – особенно «Степто и сын»[38], потому что главные герои там были такими, какие они есть, имели дело со всяким старьем и мусором и казались реальными, похожими на живущий вокруг рабочий люд. Сценарий и сами персонажи были прописаны превосходно. Персонажи не выглядели карикатурно, а диалоги были в большинстве своем поучительными. Понимание, всесторонний и взвешенный подход, тонкости британского национального характера – здесь все это было.
Бедный старина Гарольд, пытающийся казаться утонченным, был просто уморительным. Я мог сопереживать боли, которую он испытывал, делая все неправильно, но никак не мог посочувствовать тому факту, что он, казалось, никогда не учился. Все его социальные эскапады, в которые он пускался, желая выглядеть «по-аристократически шикарно», и абсолютное непонимание жизни людей «из общества». В какую бы среду он ни пытался проникнуть со своим подхалимским: «О да!», эти якобы аристократы оказывались порядочными людьми, которые терпеть его не могли и считали снобом. Ему всегда делали выговор за высокомерные выходки, потому что в итоге именно он оказывался полон сословных предрассудков. Все это я почерпнул из сериала еще будучи совсем маленьким ребенком.
Я также любил фильмы с Норманом Уиздомом[39]. Его герой – настоящее «золотое сердце», всегда не понят. Но очень скоро моим единственным увлечением стала музыка. Больше всего мне нравилось открывать ее для себя самостоятельно. Я, конечно, принимал к сведению советы от мамы и папы, но их вкус не всегда совпадал с моим. Совсем. Я почему-то никогда не понимал «Битлз», а они их любили. Всю эту хрень типа: «Она любит тебя, йе-йе-йе»! Бр-р-р! Я ненавидел их прически, ненавидел в них все.
Поэтому, как только мне удавалось заработать немного деньжат на разных подработках, я отправлялся бродить по музыкальным магазинам, пытаясь определить для себя, что есть что. Все мои первые покупки были плохим выбором, основанным на цветах обложек, но одно цеплялось за другое. Мне нравилась форма пластинок, нравилось само ощущение от них, нравилась сила того, что исходило из динамиков, когда я их проигрывал. Занятие всем этим приносило мне удивительное чувство удовлетворения. Все виды звуков приводили меня в восторг.
Когда мне исполнилось лет десять-одиннадцать, шел уже 1966 или 1967 г., и альбомы становились все более важными, однако они были вне моей ценовой категории. Поэтому я старался приобрести хотя бы сингл. Некоторые из музыкальных магазинов разрешали прослушать альбом целиком, и это всегда было в высшей степени захватывающе. Приходилось, конечно, поискать такой редкий магазинчик, который бы держали люди, по-настоящему влюбленные в музыку и готовые разделить свое увлечение, разглядев в тебе подающего надежды меломана-маньяка.
Несмотря на всю эту чушь про «свингующие 60-е», Британия того времени все еще застряла в эпохе Макса Байгрейвса[40]. Нас все еще насильно потчевали всем этим попсовым сиропом. Ну и старая история: то, что тебе проигрывают на популярном радио, – не обязательно популярно. Это всего лишь то, о чем вам говорят, что оно популярно. Самые интригующие штуки – те, в доступе к которым вам отказано.
Пока не пришел панк, негде было послушать новой разнообразной музыки. Говорят, будто этим занимался Джон Пил[41] или пиратские радиостанции, но на самом деле это не так. Там все равно звучала музыка, которая была слишком далеко от среднего представителя рабочего класса. Да никому в моем районе не было ни малейшего дела до сержанта Пеппера. Развлечение богатых деток, которыми стали «Битлз». Отлично оркестрованный и хорошо организованный альбом, да и на промоушен ушла куча денег.
«Битлз»… – ну да, была у них пара хороших пластинок, но мама с папой настолько достали меня их ранней фигней, что к тому времени, когда они превратились в Гангадина[42] и его бонго, меня там мало что могло заинтересовать. Их окружали претензионные снобы с нарисованными на лицах цветами и в огромных розовых очках. Все настолько глупо, что даже слов нет. Помню, как смотрел их на «Top of the Pops», когда они исполняли свою «All You Need Is Love»[43], «ла-ла-ла-ла-ла-а-а-а» – ну бля-я! Нет, мне нужно чертовски много других вещей. И не заставляйте меня чувствовать себя эгоистом из-за того, что я признаю правду в столь юном возрасте.
Мое впечатление о них всегда было таким: холодные как лед, не созданы для того, чтобы делиться. Я предпочитал слушать Slade – чокнутую, ацки выглядевшую команду[44]. Нодди Холдер с этими перманентными кудряшками – да ладно, это же смешно, и какой замечательный гитарист!
Примерно с тринадцати лет, где-то в 1969 г., я начал очень активно покупать пластинки, и это был мой альбомный период. Я слушал все и вся, не только поп и рок. Я любил Рахманинова, и то, что имело римско-корсаковский фортепьянный грохот, было как раз по моей части. И еще одна тяжелая, тяжелая штука. Кажется, она называлась «Ромео и Джульетта»[45], но в ней была часть, которая звучала для меня как идущие с горы танки, – обожал ее!
Кстати, меня всегда приводил в восторг школьный оркестр, потому что он был ужасен, но великолепен. Я слушал его немного со стороны, стуча себе треугольником, пока сорок из нас устраивали этот безумный скандал. Я прислушивался к раздававшемуся изнутри звону и подбирал мелодии, абсолютно несогласованно. Там были хейтеры, которые устраивали настоящее рубилово, были и засранцы, пытавшиеся сыграть все как подобает, – Матлоки. И были те, кто просто старался получить от всего это удовольствие, такие как я.
Это сводило с ума нашего учителя музыки. Не могу вспомнить его имя. Он казался таким женоподобным и смешным, и еще – любил Bee Gees[46]. У него были эти дурацкие пластиковые штуки типа ксилофонов, всего с одним рядом металлических клавиш и крошечным молоточком, и он попросил нас выстукивать им ритм под записи Bee Gees. Конечно, здорово слышать Bee Gees в школе, однако их вряд ли можно было назвать голосом протеста. Между тем этому учителю музыки пришлось испытать на себе ненависть и гнев католической администрации школы Вильгельма Йоркского, которая считала, что Bee Gees оказывают негативное влияние на молодежь. Но вот что я вам скажу – что-то я не замечал, чтобы вокруг слонялись подростки, старавшиеся выглядеть как Bee Gees.
Напротив, в Финсбери-парке нас окружала та самая «Lollipop Opera» с альбома This Is PiL. Регги всегда был рядом – как без него, учитывая довольно большую карибскую общину по соседству. У-у-у-у-х, на некоторых ранних пластинках ска-групп были реально грязные песни. Особенно мне запомнились строчки из песенки «Dr. Kitch»: «Меня пугает вид твоей инъекции / Я его вставил! / Она его вытащила! / Я толкнул его внутрь…»[47]
С самого раннего детства я ходил в свой любимый музыкальный магазин, тот, что под мостом в Финсбери-парке, – этим магазином управляла маленькая старушка. Люди не из нашего района бывали в Финсбери только из-за этого магазинчика. Не знаю уж как, но здесь можно было купить лучший регги в мире, привезенный прямо с Ямайки. Магазин был полон ямайцев и рокеров. На стойках стояли пластинки Джими Хендрикса, много тяжелого хеви-метала, который в то время еще так не назывался – тогда это считалось прогрессивом. В итоге получалось блестящее сочетание этих двух элементов, которые, на мой взгляд, замечательно друг другу подходили.
Эти записи прекрасно смешивались. Я не делал между ними никаких культурных различий, передо мной не стоял выбор – они просто хорошо сочетались. Мне нравилось собирать отдельные фрагменты чего угодно, и я с удовольствием смешивал регги или классику с Элисом Купером и Hawkwind[48]. Я понял, что все это существует внутри головы: совершенно иная вселенная. Она столь же реальна, как и все остальное; это дар, который мы, люди, несем друг другу, особая форма общения, выходящая за рамки слов и звуков. Мне кажется, это такой пейзаж из сновидения, а из снов происходят великие вещи.
Еще, к примеру, я обожал Status Quo. Мне нравилось, что они нашли нечто интересное внутри самого незамысловатого, скажем так, формата. Их метод – простота и совершенство внутри этой простоты. Я так сопереживал тому, что они делали, это звучало мощно, как хороший толчок! Очень, очень искусно – превосходно, на мой взгляд, идеальный бит. Фантастический рок. Чудесные, блестящие, прекрасные вещи.
И я крепко запал на Капитана Бифхарта[49]. Я понятия не имел, о чем он там, но знал, что мне это нравится. Капитан Бифхарт был немного комедиантом. Никогда не делал пауз, когда погружался в комедию или пародию. Такой Томми Купер[50] от музыки. То, что Бифхарт делал, было чудесно – он брал дельта-блюз и все эти южные штучки, переворачивал вверх дном и создавал из немелодичной какофонии очень, очень хорошие мелодии.
Он вообще не нравился многим серьезным блюзовым музыкантам, именно из-за его хаотичного обращения с материалом. Они же воспринимали себя слишком серьезно и были слишком сильно погружены в себя… скажем, как историки. При этом полностью теряется смысл и назначение музыки, которая должна развлекать, увлекать и образовывать. Но не диктовать. Аутентичность? О, да прекратите! Это дьявол в музыке. Люди, проповедующие в блюзе аутентичность, похожи на Эрика Клэптона – а теперь погодите-ка! Помимо того, что приехал он совсем не из той страны, – здесь еще кое-что не так! Он имитирует нечто, а затем начинаются проповеди из серии «что такое хорошо и что такое плохо». И он не понимает, что музыку пишут люди и для людей. Я согласен, чистота – это замечательно, но иногда некоторым из нас нравится и что-то нечистое – так бывает. Прикиньте, я вот люблю смешивать напитки!
«Прогрессивный рок» был очень неудачным названием для всей той музыки, что появилась на рубеже 70-х, поскольку большинство групп, определенных в эту категорию, на самом деле были не очень-то прогрессивными. Все они, казалось, перепевали друг за другом, да плюс еще было слишком много битловского влияния. Я никогда не любил Yes[51]. Мне нравилось оформление их пластинок и обложки, но те нелепые сопли, что они выпускали, – меня там мало что трогало. Но я действительно относился серьезно к работам Роджера Дина[52], покупал альбомы таких групп, как, например, Paladin[53], – все обложки, которые он рисовал. Во многих отношениях это открыло мне доступ к записям, которые я обычно не слушал. Есть много способов открыть для себя музыку, и оформление пластинки для меня – один из них.
Раньше мне нравился лейбл Vertigo, когда они украшали пластинки лого с вращающейся спиралью – выглядело потрясающе. Наклейка всегда была на стороне B, поэтому я проигрывал именно эту сторону – просто чтобы посмотреть, как она вращается на вертушке. Это было классно, довольно так трипово, на синглах, на 45 оборотах. После перенесенного менингита я был склонен к эпилептическим припадкам, поэтому любое движение, подобное этому, создавало в моей голове ощущение психоделического путешествия. Наблюдать, как крутится наклейка, этот вечно-вечно-бесконечный туннель, и пытаться поставить эту гребанную иглу в бороздку – у-у-у-х, ты!
К тому времени, как мне исполнилось лет пятнадцать-шестнадцать, победил глэм-рок. Electric Warrior[54] T. Rex был потрясающим альбомом. Опять же мне очень понравилась обложка – золото и усилитель – вау, просто охуительно! То, как он обрывал эти прекрасные недоигранные гитарные партии, рассеивающийся словно дым звук – больше чем кивок в сторону Бо Диддли[55], бог мой, посмотрите, как он это делал!
Вообще, релизы того времени меня реально будоражили. Поп-музыка в целом звучала отпадно, так гладко и клево, даже у Элвина гребаного Стардаста[56], которого я обожал. А еще Rock On Дэвида Эссекса[57] или Rock And Roll (Part 1 & 2) Гари Глиттера[58]. С музыкальной точки зрения они мало что собой представляли, но что-то такое в них было – та атмосфера, которую они создавали. Своеобразная модернизация рок-н-ролла, перевод его на новый уровень, и это не всегда было связано с Yes и теми группами, что мучили вас своими виртуозными записями. Эти же такие: «Да пошло все в задницу!»
Уйдя от хиппи-шмиппи-фолка, Болан подрастерял признание этой бригады скрещенных ног, но мгновенно обрел любовь и обожание девчонок и молодых ребят на местных дискотеках. Это были записи, открыто выражавшие необузданную сексуальность. Тамла Мотаун[59] сделали то же самое. Так что мы получали это изо всех источников. Дайте деткам заниматься любовью.
Потом был Дэвид Боуи, поющий о «мужской любви» в «Moonage Daydream»[60]. Это была песня Сида – он любил ее, но не мог объяснить. Для меня главное здесь эта чертова гитара Мика Ронсона, которая до сих пор так и застряла у меня в голове, – самый замечательный звук, который я когда-либо слышал. Он был плавный, изысканный, мелодичный … О-о-о, такая охренительно прекрасная вещь, достойная того, чтобы в нее вникнуть. Неисчерпаемый источник вдохновения.
До Ронсона – если говорить о гитарных кумирах, – конечно, это Джими Хендрикс. Правда, никто не мог точно понять, что именно делал Джими Хендрикс, потому что – удивительно – это было за пределами музыки. Но поскольку пришел он из американской культуры, а для нас все еще оставалось загадкой, что это за культура такая, было очень сложно увязать его с нашей жизнью на районе. Мик Ронсон же представлялся обычным парнем – ну немного блесток и атласные штаны, – но он исполнял мелодии, которые западали в душу человеку моей культуры и моего окружения.
Выбираясь из дома, ты проводил все выходные, выпивая и накачиваясь наркотиками – да чем угодно, распутничая, – только мы называли это совсем не так, скорее – «иметь взаимовыгодные отношения». Другими словами, ты взрослел. Открывал, на что действительно способны отдельные части твоего тела. Все это было совсем не плохо, а фоном звучали гитары Мика Ронсона. Другие разнообразные звуки пробивались, конечно, тоже, но прежде всего музыка – ей как-то удавалось нажать на пуск и сбросить все лишнее у тебя в голове.
И это исходило не от заумных интеллектуальных групп типа Emerson Lake & Palmer[61] или Yes. Нет, подобного эффекта удавалось достичь именно средненькой, вполне заурядной попсе. Нелепость Марка Болана, абсолютная красота, нашедшая воплощение в простейшем материале, мнимое чудо трех аккордов: «Ах, это не музыка». Да, черт возьми, именно это она и есть. В этих трех аккордах скрыто нечто, способное поразить любого. Вот почему и по сей день свою основную задачу я вижу в том, чтобы писать поп-песни. Я могу вдаваться в их замудренные версии, но мой основной корень – поп-музыка. Мне нравится песня Fortunes[62] «Storm In A Teacup» так же сильно (ну, на самом деле даже больше), как и «Smoke On The Water» Deep Purple.
Боуи пропагандировал имидж, связанный с любовью к мужчине, но делал это так смело, что это нравилось даже фанам «Арсенала». Футбольным головорезам нравилась его дерзость и жесткость, и совершенно неожиданно прежде вызывающие всеобщее возмущение геи становились воинами, уважаемыми хулиганами. Хороший урок, чтобы понимать, как все на самом деле работает: параллельные прямые пересекаются. Если ты встанешь на защиту того, во что на самом деле веришь, реально встанешь и не побоишься нести ответственность – люди будут тебя уважать.
Многие глэм-роковые команды звучали великолепно, но ни одна из них не может быть сравнима с тем классом, тем уровнем сложности, которого достиг Боуи. У Болана есть отличные записи, но, знаете, он все равно был немного маленьким взбалмошным эльфом. Боуи довольно громко заявлял о своей позиции, причем совершенно антиобщественным способом по мнению властей того времени. И поэтому он пользовался такой популярностью. Концерт Боуи был отличным местом для знакомства с девчонками, это точно – их там было полно, и все такие горячие!
Пробужденное глэм-роком сексуальное любопытство, Боуи, который твердо заявил о своей позиции: «Да кто вы такие, чтобы указывать мне, что делать?», – все это было отличной питательной средой, из которой появился панк. И панк не просто возник в одночасье, он возник из всего этого. Это было постепенное, но чертовски упорное стремление к гребаной очевидности.
Глава 2. Первый собственный сортир
Колледж Хакни и Сток-Ньюингтон был полон девчонок! Еще и проблемных – ах, вкусняшка! Да, в Иден-Гроув были девочки, но в начальной школе они всегда такие задиры. И кажутся более взрослыми, чем мальчики. Школа Вильгельма Йоркского была всецело мальчиковой, так что Хакни и Сток-Ньюингтон показался мне просто великолепным.
Я был настоящим придурком и влюблялся во все, что мимо меня проходило. Очень романтично! Абсолютное стремление завести роман – сотни раз представлял себе все возможные ситуации, и, конечно же, все шло прахом, стоило мне только открыть рот.
Едва я оправился после менингита, как меня подстерег еще один кошмар – подростковый возраст! Многие дети вступают в эту пору с какой-никакой артиллерией в запасе. Моя же защита была разрушена и разбита в пух и прах, так что все окружающее воспринималось как враждебное вдвойне. Необходимо было ужасно много всего обдумать, и именно этим обдумыванием я и занялся – скажу я вам, у меня появилась настоящая навязчивая идея относительно девчачьих летних платьев. Я превратился в этакого уродского вуайериста. Не думаю, правда, что в те дни это называли «вуайеризмом», были гораздо более жесткие синонимы. Но я даже не сознавал, что пялюсь на девчонок столь пристально. Я полностью погрузился в красоту этого визуального образа – школьницы в летних платьях. Фантастика!
Однако в то время у меня не было подходящих слов, чтобы разобраться с этими вариантами. Я вел себя крайне неуклюже в присутствии большого скопления девчонок и очень, очень этого стеснялся. Я не знал, что сказать или сделать, и не у кого было спросить совета, потому что отношения с девчонками не являлись предметом обсуждения с другими парнями. Просто нет, и все, разве что вставить свое слово в компашках, где шел треп из серии: «О да, я трахнул эту, а потом я трахнул ту», – при этом ты прекрасно понимал, что все они гребаные лжецы.
Так что я на какое-то время превратился в вечно прищуренного китайца. Джонни Вань-Кинг. Сильно дальше мне не удавалось продвинуться. Хотя девчонки тусили вокруг, и иногда удавалось кое-чем заняться за велосипедными сараями – на что сейчас оглядываешься и думаешь: «О нет, даже вспоминать об этом не хочется». Надеюсь, и они не вспоминают!
Что же касается каких-то конкретных влюбленностей, меня устраивала абсолютно любая девушка! Я был как пиявка-паразит – цеплялся за них и ходил по пятам, доводя до сумасшествия. Их было несколько – имен я сейчас не вспомню. Одна девчонка жила в доме над нами и училась в монастырской школе в Хайгейте – она приводила меня в восторг. Ходила всюду в этой униформе – ух ты! Оглянуться так назад – всего лишь очкастая прыщавая пацанка с узловатыми коленками, но для меня она была очень даже хороша! Однако, очевидно, я оказался недостаточно хорош для нее, вот и все. Отказ – ужасная вещь, правда? Но так становишься мужчиной. Вообще это того стоит, чтобы тебя периодически посылали на хуй. Полезно.
В Хакни все это стало больше похоже на настоящие свидания – встретиться, сходить в кино и тому подобное. Или посидеть в кафе, что тоже совсем неплохо. Все было иначе, и мне это нравилось. Однако меня вряд ли можно было назвать великим охотником за юбками. Просто как-то у меня это плохо получается. Я склонен создавать глубокие отношения – да, я. В случае со мной все эти игривые, легкомысленные штуки не работают; так или иначе, мне надо приложить достаточно ощутимые усилия, чтобы кому-то открыться. Для этого я должен полностью доверять этим людям.
В жизни каждого ученика колледжа Хакни в той или иной форме присутствовали проблемы социального характера – вот почему мы все там оказались. Это не было жестоким местом. Конечно, напрашивается предположение, что колледж для трудных подростков – это просто рассадник зла. Напротив, все мы хотели чего-то достичь, но не имели возможность этого сделать, будучи изначально под прессом говносистемы[63]. По сути же это была обычная школа, так что я продолжал носить свою униформу Вильгельма Йоркского, поскольку не хотел занашивать до дыр ничего из той одежды, что мне нравилась. Но вообще то, как мы одевались в колледже, чем-то напоминало своеобразный модный показ. И Сидни определенно использовал школу как подиум.
Парень, которого я окрестил Сидом Вишесом, был удивительно забавным персонажем. Середина зимы, пробирающий до костей мороз – типичный ноябрьский зимний день (вы можете, наверное, себе представить, каким пронизывающим ледяной ветер бывает в Лондоне), а он появляется в сетчатой рубашке с коротким рукавом, что было модно в то время, без пальто и в тонких брюках – чувствуя себя очень стильно, но замерзая до смерти. Хотя это и не имело для Сида ни малейшего значения, поскольку он думал, что прекрасно выглядит.
Я познакомился с ним в колледже и просто подумал, что он смешной. Парень всегда зачесывал волосы, стараясь выглядеть как Боуи, но это не помогало. Что за чудило. Прикольный чел, отличная компания, но туп, как гребаный веник, и был абсолютно уверен в своей неотразимости, о чем не уставал повторять. Мне очень нравилась такая объективность. «Дефки меня любят!» – всегда говорил он. Когда эта фраза попала в пистолзовскую документалку «Грязь и ярость»[64], меня прям вдвойне торкнуло, поскольку это было именно то, что он сказал мне в самую первую минуту, когда я его встретил. Я знаю, он понимал, что я догадаюсь. До сих пор угораю над этим. Так типично для него, он был таким не неотразимым – ха, ну гениально же!
Его настоящее имя было Саймон, но ему оно никогда не нравилось, поэтому он использовал другое – Джон. Он рассказал мне, что его отец был гренадером-гвардейцем. Сид с гордостью говорил: «Да-а, прям как у Боба Марли!» Его мать – хиппи с Ибицы, и это была нежелательная беременность. Отец ничего не хотел о них знать, поэтому она его воспитала сама. Мать Сида была хорошо образованна, но у нее, похоже, не было профессии. Любительница длинных струящихся хипповых платьев и черных ногтей. Иногда я встречал ее в том, что напоминало мне наряд медсестры, но только хаки. Очень странно. Я понятия не имею, что она вообще делала. Возможно, гвозди укладывала. Ну а что – кто-то же должен распределять все эти гвоздики по коробочкам.
Ричи – фамилия его отца, Беверли – матери, так что я даже не знаю, как он был записан в свидетельстве о рождении. Он никак не мог определиться с именем, поэтому оказался более чем доволен, когда я начал называть его Сид, потому что это было новое имя, которое можно было добавить к уже имевшемуся набору. Сид – в честь моего домашнего хомячка, создания глупого, но очень дружелюбного, что вполне подходило. В то время имя Сид было этаким воплощением убожества, поскольку, имея прямое отношение к Сиду Джеймсу[65], означало все ужасное – отвратительное имя типичного тупого работяги. И поэтому Сид любил его еще больше, просто им упивался. В этом – весь Сидни.
Он жил со своей матерью в Феллоуз-Корте, мрачной высотке в Хакни. Сперва я подумал – какое прекрасное место, чтобы в нем жить. Но нет!!! Лифт там никогда не работал, и, придя в гости к Сиду, приходилось тащиться вверх одиннадцать пролетов пешком, поэтому сперва я не особо стремился к нему захаживать.
Сид был очень остроумен, и опять-таки это стало для него техникой выживания – юмор. Произносить название журнала Vogue как «вогг-юю» было очень смешно[66]. Я бы так ничего и не понял, если бы не тот факт, что у нас в Вильгельме Йоркском преподавали французский. Однако, несмотря на все знания, я предпочитал, как и Сид, произносить «вогг-юю». Мне казалось, это гораздо лучше отражало суть чтива. Но Сид относился к журналу так, будто это была Библия. Разумеется, он ни разу не приобрел и номера. Просто шел к газетному киоску и читал его. Скорее, конечно, просматривал фотографии, ни о каком чтении не шло и речи. Он любил моду до смешного, и для Сидни Дэвид Боуи был иконой стиля на все времена. Если Сидни когда-нибудь и хотел быть кем-то, так это Боуи.
Отличительной чертой внешности Сидни была прическа, как у Боуи, с торчащими вверх волосами. Обычно Сид брал из гостиной два стула, ставил их перед духовкой, открывал ее, зажигал огонь и ложился вниз головой на стулья – от жара его волосы становились жесткими. Однажды Сид таким образом даже поджег себе волосы. Иногда он подпаливал себе концы, но выглядел в итоге замечательно.
– Как же Дэйв Боуи этого добивается?
– Ну, примерно как ты, Сид!
Было очень весело привести Сида в Финсбери-парк. А там же повсюду топовые «канониры» – они такие:
– Что еще за хуйня?
– Ну, прикинь себе – храбрый чел. Середина зимы, а он носит рубашку без рукавов, потому что типа мода и все такое!
– Да ты прав, чувак!
Однажды я взял его с собой на северную трибуну «Арсенала». И как оказалось, у него там были хорошие приятели – серьезные ребята; я был удивлен. Помню одного чувака, который спустя пару лет ввязался в реальные проблемы – настоящий боец. Он не был трусом, Сид, и пришел на трибуну с этим своим коком а-ля Боуи, который доводил до совершенства два дня подряд, запрокинув голову в духовку – идея лака для волос или фена никогда не приходила ему на ум!
Как-то Сид заявился ко мне домой в тонкой футболке и в украшенной вышивкой дубленке, которую, по его словам, один его кореш украл у болельщика «Манчестер Сити». На спине дубленки все еще было вышито: «М. С.» И начал:
– У тебя есть баллончик с краской?
– Да ладно тебе, Сид, что, по-твоему, «горожанин» реально приехал в город в таком виде? Хм-м-м, я не знаю, мне кажется, это означает Мария Саруба – имя девушки или что-то типа того.
– Нет, нет, – спорил Сид, – я выиграл ее в битве!
Оказалось, дубленку украли у хиппи.
Но Сид не представлял ни для кого угрозы. У него была фишка: я выгляжу лучше Боуи, и я девственник. Беспроигрышный ход. И невероятно смелый для того возраста. Все наши ровесники, от четырнадцати до пятнадцати лет, говорили: «О нет, конечно я не девственник». Представьте, возвращаешься в школу после трех месяцев летних каникул, и все принимаются тебе рассказывать, сколько женщин они трахнули. Сомневаюсь, что сейчас ситуация сильно изменилась, разве что, возможно, возраст снизился до тринадцати-четырнадцати лет. Но это был основной принцип, а Сид перевернул его с ног на голову: «Нет, я девственник, и точка». Мне в нем это очень нравилось.
Может, я и подъебывал его из-за Боуи, но если ты пытаешься быть похожим на кого-то другого, приготовься к насмешкам. В то время у меня были длинные волосы, а джинсовую куртку с отрезанными рукавами, которую я носил поверх школьной формы – очень по-байкерски, я полагаю, – украшала надпись «Hawkwind». Именно то, в чем меня обвинили в Вильгельме Йоркском, – я сделал это своим образом.
Очень забавно меня тогда Сид нарисовал: крошечная головка с ниткой длинных волос и огромными широкими плечами. Похоже на кирпич с горошиной на верхушке и свисающей ниточкой. Это было его представление обо мне, так что остается только гадать, как мы вообще могли общаться друг с другом. Единственными нашими точками пересечения были, мне кажется, юмор и его предпочтение в то время называться Джоном, хотя на самом деле он был Саймоном. Я типа: «О, еще один Джон – я, Джон Грей, Джон Стивенс и так далее. Сколько их мне нужно!»
Да, в той школе я знал еще одного Джона, у него тоже были очень длинные волосы, правда, вкупе с некоторыми психопатическими склонностями. Блестящий художник и замечательный футболист, однако с очень антиобщественным поведением – в итоге он окончательно вписался в какую-то криминальную нишу. Джон был усыновлен и не нравился своим приемным родителям, так что у него были реальные проблемы, ментальные и социальные. Я многому у него научился – гораздо больше, чем у школьного учителя рисования. Итак, еще один Джон – похоже, после войны у всех было как-то туговато с новыми идеями. «Назовите его Джоном, он, наверное, долго не протянет». Ну а если выжить все-таки удавалось, ты мог сам выбрать себе подходящее имя: «Поступай как знаешь. Можешь звать себя как угодно, только давай проваливай побыстрее из дома!»
По пятницам в Хакни и Сток-Ньюингтон устраивались танцевальные вечера. В конце концов я стал их вести. Мне удавалось устраивать блестящие смены декораций: много вещей типа Kool & The Gang[67], а затем хардкорный регги, периодически прерываемый каким-нибудь Hawkwind, – сплошная радость! Великолепная смесь различных музыкальных стилей, собранных вместе, – шанс пронести напитки и повеселиться, наблюдать за девушками и видеть, как они ведут себя, не скованные школьными правилами и ограничениями, когда ослаблен контроль. Вот в чем суть общественных мероприятий: возможность ослабить бдительность и быть вознагражденным за это, вознагражденным дружелюбием и открытостью со стороны других людей. В этом деле музыка – великий уравнитель.
Мы начали тусить по клубам в Хакни, потому что там полно мест, куда можно было пойти. Сперва я шел к Сиду, а потом мы отправлялись искать приключения на свою голову – прикол-глюч-ения! – куда бы мы ни пошли, они нам были обеспечены хотя бы из-за того, какие на нас были «тряпки», и как мы их носили. Много раз нам приходилось бежать обратно к Сиду, потому что мы пропускали последний автобус, а я вовсе не собирался идти через этот район ночью. Я всегда зависал у него в таких случаях: автобусы, естественно, уже не ходили, а пешком до Финсбери-парка тащиться было не только слишком долго, но и очень опасно ночью. Надо было пройти через Хакни, потом через Страуд-Грин-Роуд, и по ходу все могло пойти наперекосяк. Мать Сида, Энн Беверли, никогда по-настоящему со мной не разговаривала. Никогда не понимала и не любила меня. Думаю, я казался очень молчаливым персонажем. Никто не знал, что у меня внутри, каков мой потенциал – даже я сам. У нее всегда был готов обед для Сида – только Сида, которого она чудно́ называла Майклом, хотя мы знали его как Джона (ну, или по прозвищу – как Сида). Даже не Саймоном. Это было так странно, так неестественно далеко от реальности. И вот я здесь, у нее в гостях, я – чувак, который только что спас ее сына от побоев, и меня даже не пригласили к столу. Приходилось сидеть и смотреть, как Сид хавает свою жрачку.
Учителя в Хакни и Сток-Ньюингтоне были хороши, некоторые из них реально оказали на меня вдохновляющее воздействие. Они побудили мой ум открыться всевозможным вещам. Например, один из них заставил нас написать эссе о слове «встреча» и о том, что оно означает. Ответа на этот вопрос не было, и в том-то и заключалась вся прелесть. Хотя в то время это меня просто вывело из себя:
– Я хочу знать, что вы имели в виду. Что еще за встреча? Скажите мне!
– Нет, выясни это сам и напиши эссе.
Конечно, я и близко не подошел к ответу. Это было потрясающе, но в то же время приводило в бешенство, и я хотел побольше подобных вызовов.
Насколько мне помнится, я окончил школу, успешно сдав экзамены на сертификат о среднем образовании примерно по семи предметам. И мне все это было действительно нужно. Я начал изучать эти предметы еще в совсем юном возрасте и хотел успешно завершить курс, чтобы ощутить удовлетворение от достигнутого, гордость за свои успехи, но также, конечно, из-за глупой веры, будто, сдав эти экзамены, я стану удивительно умным, и все непременно захотят меня нанять. Забавно, но это так не работало.
Тем не менее я ощущал желание учиться и хотел стать лучше. Поэтому решил продолжить обучение в другом колледже и сдать экзамены на уровень «А». Для этого мне необходимо было платить за образование, и отец устроил меня на стройку, чтобы заработать деньги и поступить в колледж Кингсуэй. Гранта у меня не было. Я просто не соответствовал требованиям. И плохие школьные отчеты из предыдущих мест обучения в этом мне совсем не способствовали. Никакого студенческого кредита. Ничего. Я заработал на колледж, вкалывая на стройках, и это были очень даже неплохие деньги – хватило на обучение, а также на вполне комфортную жизнь с учетом того, что я еще и оплачивал свою часть аренды нашей квартиры в Ханифилде. Я решил тогда, что Кингсуэй – это очень хорошая инвестиция в будущее. И это окупилось, потому что независимо от того, чему я там учился или не учился, я получал социальные навыки, узнавал, как ладить с другими людьми и как слушать учителей. И да – когда они говорили интересные вещи, я был весь внимание.
Кингсуэй находился примерно в десяти минутах ходьбы от Кингс-Кросс по Грей-Инн-Роуд, а если идти по ней вверх до самого конца, то попадаешь в Сохо, прямо в самый центр города. Правда, сам колледж располагался как раз напротив квартала с муниципальным жильем – кругом дома бедняков.
Однако главное заключалось в том, что я хотел продолжать заниматься английской литературой, потому что мне нравилось читать, а Прентис Обоссанные штаны, каким бы ублюдком он ни был, втянул меня в Шекспира – так что, йо-хо! – спасибо Прентису, все не так плохо. Также мне хотелось изучать техническое рисование, я любил черчение, но оно шло вместе с математикой и физикой – ни за что!
Вполне возможно, что до менингита я неплохо разбирался в математике, но потом эта способность как будто угасла в моем мозгу. Такие штуки, как физика, для меня реально ракетостроение. Я нахожу эти предметы умопомрачительными, потому что не могу поместить их ни в какую реальность. Все они представляются мне сложными предположениями. Это все равно что представить себе трехъярусные шахматы без шахматной доски. Где в логарифмах и двоичных числах вдохновение? Никто так и не объяснил, почему мы сидим и снова и снова повторяем как заведенные: «Ноль, ноль, один, один». «Х плюс Y равно чему?! – Да какая разница, если я не знаю, что такое X!»
Итак, я выбрал три предмета, по которым собирался сдавать экзамен на уровень «А»: английский язык и литературу, искусство и историю. Поначалу мне было чрезвычайно сложно вникнуть в иную систему: на занятиях мы обсуждали темы, а не просто слушали то, что вещал учитель. Раньше нам говорили: «Это – так, а это – эдак, и не задавайте вопросов». А теперь нас заставляли думать самостоятельно. Это было хорошо, потому что они постепенно как бы вытягивали что-то из меня, и медленно, но верно я вышел из своей скорлупы.
Я обнаружил, что могу публично делать то, что могу делать, да еще это совпадает с учебным процессом. Какой кайф! Не быть застенчивым, уметь встать и прочитать вслух стихотворение или отрывок из романа. Полагаю, так я научился выступать на публике. Это не то, ради чего я туда пошел, но это то, что я получил, – умение сконцентрироваться на словах, структуре предложений и множество подобных замечательных штуковин. Кажется, здесь я начал писать собственные вещи. Я ставил себе задачу – брал тему, о которой и понятия не имел, шел и искал по ней как можно больше информации, словно складывал по кусочкам целую вещь – учился, и мне это нравилось. В Кингсуэе у меня реально получалось поделиться своими идеями с другими людьми, потому что они делали то же самое, я мог встать и с гордостью представить свой рассказ. Это и было творчество. Я ощущал, что готов к чему-то, только пока не знал, к чему именно.
Особенно там хороша была преподаватель английской литературы – очень мне нравилась. Достойный анализ поэзии и прозаических текстов. Даже дневники Сэмюэла Пипса[68], мы иногда заглядывали и в них. Просто обожал его. А между уроками я читал все и вся. Хаотически. Использовал, кажется, тот же подход, что и с музыкой: «О, мне нравится обложка этой книги цвета электрик!»
Я любил Теда Хьюза[69]. Это было весело. Много лет спустя я беседовал о нем с Питом Таунсендом из The Who, потому что тот написал вступление – на немецком языке! – к антологии Хьюза. Круто! Стихи Теда Хьюза были великолепны. Первое, что приходит в голову, – стихотворение под названием «Дрозд». Ну, то есть там не о том, как «дрозда дают». О птице. Прекрасная штука на том моем уровне, здорово почитать подросткам шестнадцати-семнадцати лет. О да, тогда все кажется сложным и запутанным, но когда становишься старше, то понимаешь, что это довольно-таки детский уровень. Двигаясь маленькими шажками, рано или поздно доберешься до сути – и не надо сразу бросаться в польскую философию!
Достоевский… Есть одна сложность в раннем возрасте: невозможно примириться и до конца осознать брошенный им вызов. «Преступление и наказание» – да, но вот «Анна Каренина» Толстого мне, скорее, не понравилась. И я совершенно не переношу идиотские романы типа «Джейн Эйр». Для меня это сплошная территория Барбары Картленд[70], меня это не интересует, я не могу сопереживать жалеющей себя женщине, которой приходится иметь дело с миром мужчин. Это пресвитерианство, вот точное слово. В нем все такие сахарно милые, а жестокости настолько преувеличены, что кажутся карикатурными, – так что у меня просто не было на это времени.
Оскара Уайльда я находил возмутительно смешным. Он был далеко впереди своего времени, этот парень – не позволял себе прогнуться и вел образ жизни, который тогда считался чрезвычайно опасным. Не стану вдаваться слишком подробно в то, что именно он делал, поскольку здесь нет никакого особого хардкора, но факт остается фактом: ему очень хорошо удавалось высмеивать общество, из которого он вышел. И это притом что Уайльд получил все присущие этому классу недостатки. Критикуя общество, он критиковал и себя, и мне это нравилось, я этому учился. Мы не идеальны. Высказываясь с позиции человека рабочего класса, я чертовски уверен, что не забуду упомянуть и весь связанный с этим негатив. А его довольно много.
Сид тоже пошел учиться в Кингсуэй, а через пару недель я познакомился с другим Джоном – Джоном Уордлом, которого Сид как-то вечером – ужравшись до такой степени, что не мог нормально разговаривать, – назвал «Джа Уоббл». Мы все трое были трудными подростками, но по очень разным причинам. Так или иначе, мы не вписывались в систему – я не думаю, что это вообще многим удавалось. Мне кажется, сама система должна к нам адаптироваться, учитывать наши вкусы и потребности. А если уж вы не соответствуете нашим ожиданиям, то получайте все эти оппозиционные выступления.
Уоббл опять-таки был забавным. Он выглядел очень странно, был таким немного перекошенным. Пытался напустить на себя вид крутого парня, но у него это не очень получалось. Он больше походил на чьего-то папашу послевоенной поры, с подтяжками и носовым платком на голове. В придачу большой шарф «Тоттенхэма» и широкая улыбка на лице. Чувак забавный, но полный всякого недовольства.
Он жил неподалеку от того знаменитого паба братьев Крэй[71] – «Блайнд Беггар» в Уайтчепеле. В первый раз, когда я вошел туда, я сказал: «Ты что, не знаешь, это ж паб “канониров”?!» Мы никогда не ссорились из-за футбола – в этом не было необходимости. Нам приходилось гораздо чаще вступать в противостояние с остальными. Были у меня и другие приятели, типа Дэйва Кроу из Вильгельма Йоркского – фаната «Тоттенхэма». Конечно, между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» всегда существовало соперничество, но не настолько острое, чтобы из-за этого ссориться, – у нас и кроме того было чем заняться. Я не собирался никого убивать из-за игры в футбол. И я подчеркиваю, именно «игры». А поскольку я особо не участвовал в потасовках и не входил в банду, мне пришлось отстраниться от драк. Хотя время от времени я получал удовольствие от хорошей футбольной драки. Сиду, конечно, было все равно.
Я так и не узнал, по каким предметам собирался специализироваться Уоббл. Не думаю, что нам хоть раз случалось сесть и обсудить уроки. Во время перемен он всегда общался с кем-то еще. У каждого из нас всегда есть какой-то свой круг общения, но при этом мы были аутсайдерами. Уоббл не мог понять Сида, а я – наш союз, как мы вообще все познакомились. Сид, я, Уоббл – и еще несколько человек, вроде Джона Грея, – казалось, что мы вообще не принадлежали к этой среде.
Все мы рассматривались как потенциальные преступники. Мы поняли это, потому что один наш друг как-то залез в колледже в сейф с документами, где лежали наши досье, и обнаружил, что там написано, будто Уоббл, Сид и я склонны к насилию. Да нет же. То, что в нас было, – это склонность задавать вопросы, ну, а если в ответ нам начинали нести всякую чушь, то могли и огрести. Мы все оказались в этой идиотской заведомо проигрышной ситуации. Полная бессмыслица, обвинения и непонимание того, кем мы были и откуда пришли, – вот что привело нас к насилию. Уоббл изначально и в мыслях ничего подобного не имел. Он хотел чего-то добиться, а система его подталкивала и подставляла. Он был из Степни, Сид – из Хакни, а я из Финсбери-парка. И это все – кварталы социального жилья, с небольшими вариациями. Проблема заключалась в том, что это именно школьная система считала нас неспособными к обучению.
Уоббл бросил школу через полгода – стало скучно. С него оказалось достаточно. Но он был моим лучшим другом и надолго задержался в этом качестве. И знаете почему? Потому что он топил за «Тоттенхэм». Он верил в него, как бы глупо это ни звучало. И я не сомневаюсь, что Джон верил и мне, каким бы нелепым не выглядел мой «Арсенал». И мы сошлись вместе – этакая межкомандная фанатская банда, вне общей системы. Прекрасная основа для панка, приятель.
Я был прилежным учеником, но это касалось только тех предметов, которые имели для меня значение. И я снова столкнулся с авторитарным давлением, обязательными уроками и требованиями, которые не очень-то помогли мне в долгосрочной перспективе. Да и в краткосрочной тоже. Примерно через год мне это безумно наскучило. Эта медлительная образовательная машина – в ней не было того, что могло меня заинтересовать.
Я все еще продолжал подрабатывать, так что деньги у меня водились. Работа была самая разнообразная – я брался за все, что предлагали. В основном на стройках – папа периодически подбрасывал мне варианты. Мне это очень нравилось, деньги – просто фантастические.
На стройках труднее всего было иметь дело с хамоватым поведением работяг-ирлашек. Они пытались достать меня своей дедовщиной, а я не подчинялся. «Знай свое место!» – «Да отъебитесь от меня, не хочу!» Я возмущался, когда мне пытались вручить в руки лопату и отправить копать яму. Совсем не прикольно. На стройплощадке меня завораживала работа с инженерами и проектировщиками, потому что это означало, что я мог рассматривать технические чертежи, и мне все это нравилось. Не возражал я и против разнообразных геодезических работ.
Папа любил свои подъемные краны, просто обожал их. Он мог говорить часами о разнообразных кранах. Любил любую тяжелую грузовую машину со стрелой. Это была его фантазия. Ему нравилось управлять машинами, и папа был в этом очень хорош. Управление подъемным краном и перемещение вещей – работа, требующая идеальной концентрации и высочайшей аккуратности. И рабочие на стройке по-настоящему любили его за это, потому что, если он поднимал бетонную плиту, они знали, что он опустит ее именно туда, куда нужно. Работа опасная, и возможны самые ужасные несчастья. Я сам видел людей, серьезно раненных этой штукой. Если машинист крана не справится со своей работой, люди могут погибнуть.
Папа много учил меня, как управлять кранами. Он запирал меня в кабине и: «Вперед!» Один только этот шум приводил меня в ужас. В те дни не существовало такой штуки, как наушники, и все эти машины издавали истошный скрежет. Тонны чугунного железа – все холодное, ледяное и ненавистное. Я не мог понять, почему ему это нравится. Совсем не мое дело.
Если я ошибался с педалью, папа со всей силы пинал своей лапой в ботинке по моей ноге – чертовски больно. Я понимаю, наверное у него не было другого выхода, но господи Иисусе, все эти технические сложности – мои попытки работать одновременно двумя ногами и двумя руками, при этом заставляя их выполнять разные вещи, – были вне пределов моей досягаемости.
Однажды папа сломал мне лодыжку лопатой. Да. На самом деле я лежал в постели и смотрел «Тайну и воображение», а он запрещал мне смотреть ужастики, потому что они вызывают плохие сны. В итоге отец резко швырнул лопату на кровать, а там была моя нога, хотя он и не понимал этого, пока не стало слишком поздно. Я почти ничего не помню, не помню реакцию мамы, только боль. С тех пор у меня проблемы с лодыжкой: стоит поменяться погоде – похолодание или влажность повысится – Боже, какая боль! И артрит. Одна из тех раздражающих вещей, которые никуда не деваются.
Типа как когда я вывихнул плечо. Ну тут вообще никто не виноват: я слишком сильно потянулся в кровати, пытаясь достать рукой стакан молока – понимаете, обожаю молоко, пью его всю ночь напролет, поэтому у меня всегда рядом с кроватью стоит стакан, но мне лень было особо двигаться, я сильно изогнул руку и в итоге вывихнул плечо. Ну и что мы имеем: горб, вывихнутое плечо, раздробленная лодыжка… Теперь я не могу двигаться, как какой-нибудь вальяжный средиземноморец, и моя жизнь испорчена на хуй.
Длинные волосы изжили себя сами. Они были этаким раздражителем. Отличная прическа, чтобы работать на стройках, потому что эти престарелые ирлашки ее ненавидели. Длинные волосы делали тебя магнитом для копов. И опять-таки именно по этой причине большому количеству настоящих уголовников реально не доставало длинных волос. Длинные волосы означали многое. Для некоторых это было: «Чувак, мир, я хочу выглядеть как Иисус, вот мои домашние тапочки». Для других – полновесное агрессивное высказывание: «Да идите вы все нах, я их не отрежу!»
Постриженная, побритая налысо голова была абсолютным актом агрессии. Я думаю, что большинство вещей начинается с какой-никакой агрессии, даже для самых пассивных хиппи. Пассивная агрессивность – тоже позиция. Это заявление, что ты не вписываешься, просто позволяешь расти своим волосам и… что вы с этим сделаете? Мне кажется, это станет общепринятым порядком вещей, навеки, мы все будем стремиться стать другими. Однако к тому времени, когда все это осознают, мы поймем, что стали нормальными, – и значит пришло время двигаться дальше.
Поэтому я решил коротко подстричься и покрасить волосы в зеленый цвет. Красители «Krazy colour» были гениальны. Жаль, что сегодня не делают таких плотных и прочных красителей, как тогда. Они каким-то образом разбавили их, и цвета уже не такие яркие. Эти проклятые штуки почти бесполезны, если вы, конечно, не хотите выглядеть как выцветшая газета. Знаете, цветные комиксы на последней странице старых вонючих газет? Эти потускневшие цвета – вот и все, что можно сейчас достать. Ну или, возможно, народ не знает, как правильно отбеливать волосы. Те цвета были реально яркими и пугающими.
Мой отец совершенно серьезно не одобрил моего поступка, и это стало последней каплей – меня вышвырнули из дома. Пресловутая папина фразочка гласила: «Убирайся из дома, ты выглядишь как брюссельская капуста!» Я никогда не забуду, как он это сказал. Я только рассмеялся. Даже в болезненном расставании отца и сына присутствовал юмор. И я любил за это отца, любил, потому что это было остроумно. До этого самого момента я не осознавал, но правда – я действительно выглядел как куст брюссельской капусты.
Единственным способом попасть в дом после этого было прокрасться туда в четыре утра. За исключением, конечно, тех случаев, когда из Канады приезжала моя тетя Паулина, – тогда мне вообще не разрешалось подходить к дому, потому что я был позором семьи.
После того как меня выгнали, я отправился прямиком в Хампстед, где в сквоте жил Сид. Сид занял неплохую пустующую квартирку, просто молодец. Думаю, он использовал опыт своей матери, так что Сид был лидером во всем этом предприятии.
Оказалось, что его мать была зарегистрированной героиновой наркоманкой. Как-то раз я был у них в квартире в Хакни: мы слушали Tago Mago, альбом Can[72], это был день рождения Сида, о котором я заранее не знал, и она просто дала ему маленький пакетик героина, чтобы тот вмазался. Должен сказать, я был действительно потрясен. Сид спросил:
– Хошь чутка?
– Да ни за что, черт возьми, не хочу скатиться.
– О’кей, тогда тебе лучше сейчас уйти.
Итак, я был в центре Хакни в три часа ночи, и мне надо было пробраться через весь бандитский район, чтобы вернуться в Финсбери-парк. Смертельная прогулка, реально серьезная смертельная прогулка, особенно если учесть, как я одевался и кто я такой. Всем было на меня решительно наплевать, помощи ждать не от кого. Я вполне себе представлял, что будет дальше. Даже местные парни из «Арсенала» представляли опасность, у них тоже была причина при случае со мной подраться, просто из-за моего поведения. Однако я прекрасно понимал одну вещь: я – ни за что – не вернусь. В те дни тебя могли пырнуть ножом на улице, и никто не открыл бы дверь, чтобы помочь, потому что ты не местный. Реально опасная прогулочка оказалась, но я как-то добрался до дома.
Да, у Энн Беверли, матери Сида, были престранные отношения со стариной Сидни. Совсем не похоже на семью. Как я говорил, она никогда ничего мне не предлагала перекусить или выпить, ни разу, даже стакан воды. С чисто религиозной целеустремленностью, снова и снова. Случались и другие вечера, когда к Сиду приходили в гости вся наша банда Джонов, и они тоже этому удивлялись. «Нас что, здесь нет? – Боюсь, что да». Странная, очень странная женщина. Она вообще не хотела, чтобы у Сида были друзья; не принимала никого из нас. В то время другим лучшим другом Сида был парень по имени Винс. Он сказал то же самое: «Черт возьми, вот адок – это же ледяной дом».
Я сказал Сиду: «Ты не можешь жить с такой мамашей. Посмотри на нее, Сид, она же дает тебе гребаные почки, посыпанные сверху героином, неужели тебе это нужно?» На самом деле, когда я только познакомился с Сидом, он был против наркотиков. Но вы не можете себе представить, что делают матери-наркоманки: это было в еде. Безумие, верно? Она такая:
– Вот тебе еда, Сид. Убедись, что твой друг ничего не съест.
– Хорошо, мамочка, – отвечал Сид, а потом мы шли в его спальню, и он говорил:
– Попробуй это, Джон, что она мне дает?
И я обычно:
– Не, приятель, я не голоден.
Таково было наследство Сида.
Итак, его новое жилище, сквот, находилось за станцией метро Хампстед, так что я пришел туда и спросил: «Могу я к тебе перебраться?», – и Сид ответил: «Отлично!» Он жил там совсем один, и ему было нечего делать, так что теперь нам обоим стало нечего делать вместе. Почему-то вдвоем гораздо лучше удается ничего не делать, чем в одиночку.
Здесь не было ни электричества, ни горячей воды, но туалеты смывались, так что мне все показалось не так уж мрачно – что есть, то есть, выбирать особо не приходилось, да и, честно говоря, по своим стандартам это жилье не многим отличалось от нашей квартирки на Бенуэлл-Роуд. Однако туалет здесь находился в доме, так что я продвинулся на балл по шкале Рихтера.
Во всем огромном доме, превращенном в сквот, жили старые хиппари и тедди-бои, а мы были этакими бездомными бродягами, застрявшими между двумя поколениями. Тогда в сквотах селились люди с очень разным уровнем жизни, поскольку само это явление стало знаковым для того времени. Правительству была глубоко похуй жилищная проблема. Получить квартиру было нереально, а то жилье, которое удавалось найти, отличалось запредельными ценами и попросту того не стоило. И при этом почти везде в Лондоне располагалось огромное количество незанятого старого жилья – квартир, в которых никто не жил и ничего не происходило. Вселившись в него, вы никого не лишали крыши над головой, не выгоняли семьи на улицу. Дома были просто пусты и полуразрушены. И везде вывески: «Заброшенное здание – не входить». Супер, здесь я и буду жить. Заселяемся. Все равно что рекламный баннер!
На пособии я прожил совсем недолго, около двух недель. Не хотел выстраиваться в очередь в центр занятости. Я ненавидел это место, не желал иметь с ним ничего общего. Не чувствовал себя там своим. За те два раза, что я там появился, я проклял все и поклялся, что больше никогда туда не вернусь. Мне абсолютно не нравился весь этот формат: официальное оформление, которое следовало после постановки на учет, то, как они заставляли тебя чувствовать себя каким-то образом во всем этом виноватым. Ты здесь в своем праве – ты работал, или работали твои родители. Если государство не может обеспечить рабочие места, тогда какого хрена ты поделаешь? Во многих отношениях я отлично понимаю людей, которые занялись незаконной деятельностью, потому что, честно говоря, не было никакого иного способа заработать хоть какие-то деньги и выбраться из той дыры, в которой оказался. Что касается меня лично, то я никогда бы не стал воровать, просто не смог бы. Мне не нужно то, что мне не принадлежит, – так меня воспитали мама и папа.
Я могу работать кем угодно и где угодно. Однажды у меня была подработка на обувной фабрике – о, мне даже очень понравилось упаковывать ботинки. Еще как-то довелось поработать в «Хилз» – большом сетевом мебельном магазине на Тоттенхэм-Корт-Роуд. Ну и вершиной всего была наша с Сидом работа уборщиками в модном вегетарианском ресторане.
Мы в основном занимались разнообразными экспериментами с вегетарианской едой, потому что, понимаете, там много чего оставалось. Так я впервые попробовал ореховую котлету. В те дни вегетарианская еда была новой штукой, модным увлечением очень богатых людей. И совершенно безвкусной. Они пытались работать с цветом и формой, о вкусе и аромате не шло и речи. Очень забавно. Вообще-то и убирать там особо было нечего. Несколько измельченных арахисовых орешков на полу, вот и все, но мы растягивали этот процесс часа на два каждую ночь, потому что нам за это платили.
Потом, во время летних каникул, Джон Грей нашел мне работу в детском центре на севере Лондона. Я присматривал за детьми семи, восьми, девяти и десяти лет. Я мог бы играть и с малышами, для меня это не проблема. Однако это было проблемой для конторы, которой принадлежал лагерь: им совсем не нравилась идея, чтобы некто вроде меня находился рядом с маленькими детьми. И это в мире Джимми Сэвила[73]! Вот в чем горькая ирония – я был бы последним человеком, который причинил зло детям, но ярлыки у нас приклеивают быстро и несправедливо. И за этими ярлыками никто и не пытается заглянуть в сердце и душу человека, понять его характер.
Мы делали самолеты из бальзового дерева – бипланы или трипланы. Все хотели быть Красными Баронами[74], поэтому выкрашенный в красный цвет самолетик пользовался особой популярностью. У меня были кое-какие навыки работы по дереву – от моего увлечения техническим рисованием, уроков столярного дела в школе, а также работы на строительных площадках. Мне как-то удалось плотно поработать на стройке с одним плотником, и он многому меня научил.
Вместо пил и молотков мы пользовались маленькими макетными ножами, которыми было очень удобно обрабатывать легкое бальзовое дерево. Принцип работы тот же, и дети любят быть вовлеченными. Это то, что я любил, поэтому именно этим и занимался. Хотите успокоить детей, хотите, чтобы прекратилось насилие? Заинтересуйте их. Все дети любят творить и сознавать, что они придумали что-то самостоятельно, что достигли этого своими собственными руками. Если, к примеру, ребенок задает вам вопрос, не уклоняйтесь от ответа – иначе он будет вечно обижаться на вас за то, что вы ему не сказали. По крайней мере, так это случилось со мной.
Я понял, что учителя превратили меня в карикатуру на самого себя, карикатуру, которая на самом деле имела со мной очень мало общего. Они вынуждали меня чувствовать себя каким-то неприкаянным. Мне и так было неуютно, я пытался найти свое место в жизни, но они заставляли меня ощущать себя нежеланным и обиженным за то, что я там оказался, и, естественно, я отвечал на это соответствующим образом. По-моему, ни один ребенок не рождается мистером Паршивцем или мистером Сквернословом. Все зависит от того, какой именно пример вы ему подадите. И я думаю, мне удалось в конечном счете превратить весь этот негативный опыт в нечто положительное. Я – не жалеющий себя мерзкий кусок дерьма, я не склонен к преступлениям. Слава богу, благодаря их усилиям я понял, кем мне не следует быть.
Чтобы выжить, нам с Сидом пришлось продавать амфетамины. Так или иначе, мы занимались мелкими сделками. С деньгами было трудно, а времена наступали тяжелые.
Я не наркоман, но мне нравится состояние бодрости – той бодрости, которую могут предоставить вам определенные химические вещества. В ранней молодости, когда ты еще подросток, тебе это вполне заходит. Не хочется ничего пропустить, что бы и когда ни намечалось. У тебя реальный настрой поспеть везде и всюду. Потому что, когда ничего не происходит, кругом одна апатия – бр-р-р! В то время, если я заболевал какой-нибудь простудой, или гриппом, или у меня случался приступ аллергии – а все это накатывало на меня со страшной силой, – амфетамины, которые всегда были под рукой, выбивали эту дрянь из моего организма. Как мне казалось, вполне себе полезная штука.
Это не какое-то самовозвеличивание, происходящее в твоей голове, – только не с правильными амфетаминами. Они просто делают тебя более бдительными. Не думаю, что от этого вообще исходит какой-то кайф, просто ты получаешь способность активировать себя. Я отношусь к амфетамину как к ключу от шкатулки. Или относился.
Во всем этом была одна проблема – знаете, недаром говорят, что продавец никогда не должен пробовать свой собственный товар? Ну вот перед вами один из тех, кто это делал, так что продажи у меня шли так себе. Я сидел рядом с большой сумкой, был весьма доволен собой и даже не думал шевелиться, пока она не исчезала. Спиды не заставляли меня подрываться и бегать по миру. Наоборот, мне хотелось сидеть, думать и наслаждаться всем, чем бы я ни занимался. Даже если это стрижка ногтей. Это доставляло мне удовольствие. На какое-то время у меня пропадало чувство постоянной усталости – еще одно последствие менингита.
Наверное, сейчас это назвали бы самолечением. Формой моего нормального существования в то время была бездеятельность – абсолютный ноль, истощение, недостаток железа в крови. Откровенно говоря, мой мозг просто не мог справиться с тем, что творилось вокруг, да и физически все было просто невыносимо. За исключением, как ни странно, работы на стройке. Это был хороший десятичасовой день тяжелого физического труда, и я никогда не считал это проблемой. Но вот ремонт подоконника или починка унитаза проблемой для меня были. Позже я узнал, что можно превратить такие вещи в замечательное приключение. Но не тогда; я употреблял наркотики немного иначе. Это было не столько развлечением, сколько необходимым делом, просто чтобы заставить себя встать и пойти. После менингита я был очень склонен к депрессиям, где-то лет до двадцати.
Амфетамины были вокруг нас повсюду в течение многих лет. Такой возврат к модам. Спиды определенно давали возможность не спать всю ночь, ходить по клубам и все такое. Больше всего мне тогда в них нравилось свойство снимать сопутствующую алкоголю сонливость, так что можно было пить сколько угодно и при этом не пьянеть. Мне очень нравится вкус пива. Я не любитель коктейлей – ну, если только не считать коктейлем пиво со спидами. Мы, плохие рокеры, все такие! Но, вот уж радость так радость, в этом мы мало отличаемся от футбольных хулиганов, по крайней мере, мало отличались тогда – так что есть в нас что-то общее.
Таковы были, так сказать, декорации нашего сквота в Хампстеде. На какое-то время к нам вписалась Безумная Джейн. Вот же сумасшедшая корова! Она была похожа на одну из тех роковых женщин нуарных фильмов 1940-х. Длинные зачесанные на боковой пробор волнистые волосы, она еще и платья той эпохи носила. Очень странная девушка. Старлетка из фильмов 40-х – такая «загляни-ко-мне-как-нибудь?»[75], в стиле Джулии Лондон, – не самый популярный имидж для девчонки у нас на районе в то время, так что я даже восхищался ее храбростью. Не думаю, что мы очень хорошо ладили, но так, сносно. А время от времени к нам заглядывал будущий гитарист PiL Кит Левин. Возможно, он и был как-то связан с химией, но не более, чем кто-то другой из нас.
Наркотики были повсюду, вероятно, из-за модов. Моды все были на спидах, так и пошло. Фишка скинов в том, что они были типа чище, но только не «канониры».
Я не говорю здесь о героине; он был для большинства из нас совершенно неизвестной штукой – ну, типа хрень какая-то, которую употребляли Grateful Dead, и, ей-богу, по ним же это слышно! Самая тупая группа, которую я когда-либо знал. Абсолютно напрасная трата четырех с половиной часов! Я видел их когда-то совсем в молодости в Александра-палас. Нет! Нет! Я точно не хотел иметь ничего общего со сбродом, который вмазывается подобным дерьмом. Как по мне, это опасно для жизни. Коматоз.
Это были очень трудные времена, 1973–74-е гг. Все вокруг расклешено. Нет, пожалуйста, только без клешей! Мы не имели никакого отношения к хиппи, они представлялись нам просто избалованными богатыми детьми. Наверное, именно поэтому меня так привлекали дембельские костюмы[76] и внешний вид работяг-ирлашек. Мы пытались порвать с 1960-ми, и как по мне, это больше совпадало с подходом к одежде скинов, чем хиппи, поэтому я и выбрал для себя этот стиль.
С раннего детства я проводил воскресенья в «Раундхаусе»[77]. Джон Грей жил в Кентиш-Тауне, а «Раундхаус» располагался совсем недалеко оттуда, на Чок-Фарм, так что я просто садился на автобус до Кентиш-Тауна, заходил за Джоном, и мы шли пешком на Чок-Фарм, а потом весь день, до позднего вечера, смотрели выступления примерно двенадцати-пятнадцати команд. Когда я стал постарше, то в большинстве случаев начинал тусить уже с вечера пятницы, так что это был идеальный способ завершить воскресенье.
Это было поразительно, потрясающее музыкальное разнообразие! Я видел выступления Roxy Music[78], Judas Priest, Queen (когда они были еще совсем юными), T. Rex, The Seeds[79], Mott the Hoople[80] – смешение стилей действительно фантастическое, и притом никакого снобизма из серии «кто там напечатан на верхней строчке афиши». Просто кто бы ни появился в определенное время – они ставили свое оборудование на сцену, и вперед. Публика была в основном хиппи: полно цветочных принтов, танцующие босиком девушки, перестук бонго, благовонные палочки – подобная хрень. Я вроде как не обращал на это внимания, мне просто нравилось то, что происходило на сцене, и я как губка впитывал все.
Позже история панка провозгласила, будто вся музыка середины 1970-х была дерьмом. Вовсе не так – надо было просто знать, где искать. Это было моим становлением. Я мог радостно провести целые выходные – полный сил! – посещая все эти ночные концерты в разных городских клубах. В «Раундхаусе» было полно всяких сумасшедших команд. Народ типа Pink Fairies[81] – мощные, жесткие, тяжелые, громкие, агрессивные – абсолютная противоположность «вибрациям» хиппи. И да, с этими своими длинными волосами – но как яростно они откидывали их прямо на тебя этаким шумным разрушительным образом. Фантастика!
Точно так же чуваки из Edgar Broughton Band[82] носили самые длинные, самые грязные бороды и волосы, одевались как байкеры и пели песни под названием «Gone Blue». Помнится одна классическая строчка оттуда: «Хоть и убит я словами, что она сказала мне, но мне так нравится маленькая дырка в ее голове»[83]. Ха! Вау! И это при том, что типичная тема для того времени и того возраста была такой: «О-о, все они идут куда-то сюда». Совсем не послание этих ваших хиппи, да? Обложка их альбома была сенсационно зажигательной – ряды висящих на крюках коровьих туш. Не думаю, что сегодня такая музыка выдержала бы конкуренцию, но это и не самое главное.
Black Sabbath были такими же – совершенно другой подход к музыке и другие наркотики, в основном такие, что позволяют провести всю ночь бодрячком. О-о-о, да, мы отлично понимали, что́ все эти люди на сцене были готовы с собой сделать. Когда ты слушаешь такие группы или, к примеру, The Deviants, прекрасно сознаешь, что все оковы сброшены. Правила для дураков – вот что можно из этого извлечь. Что, по крайней мере, извлек я. Ну конечно: «Ой, не делай этого, тебе будет плохо!» «Да чушь собачья! Давай, двигайся, создавай хаос и начни со своей собственной головы!» И что плохого в том, чтобы время от времени сходить с ума? Вполне себе здоровая вещь. Но эти команды, все они были очень молоды – и это было и про нас. Мы – молодая кровь, мы – те, которых сидячая толпа заставляла чувствовать себя ненужными. Я ходил на концерты, чтобы танцевать. Я насмотрелся всякого, бывал повсюду, но все равно подрывался – и меня опять перло!
Одним из тех людей, которые мне действительно очень нравились, был Артур Браун из Crazy World of Arthur Brown[84]. Он как-то проходил мимо в толпе, а я подошел к нему и поздоровался – это было здорово. Как-то его группа должна была играть на разогреве у Элиса Купера в кинотеатре «Финсбери Астория» (еще до того тот переименовали в «Рейнбоу»), и по неизвестной причине Элис Купер отменил этот концерт. Я купил билеты для Джона Грея, Дэйва Кроу и еще нескольких человек, но я был таким фанатиком обеих групп, что оставил билеты себе, не стал их возвращать или обналичивать. На самом деле они до сих пор у меня.
Я даже вступил в фан-клуб Элиса Купера, и мне прислали коробку куриных перьев и это дурацкое информационное письмо. Вся эта шутка показалась мне реально смешной. Некоторые люди восприняли ее слишком серьезно.
Поэтому я сказал тогда Артуру: «У меня так и хранятся билеты с того концерта, который был отменен», – а он ответил: «Не по моей вине!» Ну и завязалась беседа. Я был просто неуклюжим ребенком, который доставлял немало хлопот учителям, а он оказался настолько любезным, что поговорил со мной как с равным. И я не хочу слышать о нем ни одного плохого слова, потому что таких людей на Земле слишком мало. Любой, кто разговаривает со мной открыто и свободно, меня устраивает. А вот те, кто посматривает искоса или пренебрежительно раздувает ноздри, действительно сводят с ума. Но этот парень был и правда не в себе, не от мира сего. Как ни странно, безумцы делают прекрасные записи, пишут хорошие картины и романы. Они просто не укладываются в эту говносистему.
Другой знаменитой группой, которую я видел в «Раундхаусе», были Can. Они использовали оборудование, делавшее басовые тона настолько низкими, что вы их не слышали – только чувствовали. Впрочем, как и сцена, которая вся завибрировала и рухнула. Рухнули строительные леса и опоры. После этого все несколько часов ждали, когда восстановят сцену. И – в конце концов – там была самая удивительная игра на барабанах, которую я когда-либо слышал! Спасибо, Яки Либецайт! Звук и его дерзость, понимание, откуда он исходит. Это было далеко за пределами восприятия бренчавшей на бонго всякой триппи-хиппи публики. Гораздо более трудное для понимания послание, не просто эти идиотские тупости типа «любви» и «мира».
Еще одна команда из Германии, Faust[85], снискала мою любовь, продавая альбом The Faust Tapes всего за 50 пенсов – выгодная сделка, даже в 1973 г. Я видел их в «Рейнбоу» в Финсбери-парке – они там просто издавали шум, который состоял из очень интересных, гипнотических, трансовых, электронных звуков, а сами наматывали круги вокруг груды старых телевизоров посреди огромной пустой сцены. Должен признаться, меня тогда это очень разозлило, потому что у меня телевизора не было. «Что они делают со всеми этими телевизорами – мне бы вот точно один из них не помешал!» Потом они пинали их ногами, разнося на куски, и заново скручивали. Это был вполне подходящий фон для их музыки, но в то же время – да, я всегда отличался практичностью! – я так старался попасть за кулисы и стащить хотя бы один.
Я участвовал везде и во всем. Ходил на бесплатные фестивали. Побывал на одном из первых Гластонбери. Кажется, тогда выступали Audience[86], возможно, Atomic Rooster[87] и даже Мелани[88]. На самом деле не помню. Это был какой-то беспрерывный алкогольный угар, творимый чудесными амфетаминами. Правильная текстура великолепия.
Не думаю, что группы даже кто-то представлял. Создавалось впечатление, что выступление одной команды перетекает в выступление другой. Не было какой-то значительной смены оборудования, рабочих сцены или диджеев. Просто казалось, что появлялся тот, кому нужно было появляться, потом все быстро заканчивалось, и не успеешь оглянуться, а на сцене уже совершенно другая группа. Просто замечательно.
И в самый разгар этих событий я, скрестив ноги, улетал, слушая, как Нико бормочет свою «Janitor of Lunacy»[89]. Фантастика, настоящая королева вампиров! Это Джон Грей предложил: «О, мы обязательно должны на нее посмотреть!» Все знали, что она торчит – типа это будет приятный концерт, но так оно и было. Удивительное, жуткое ощущение: Нико и ее фисгармония в течение полутора часов стонали немного не в такт, что делало все происходящее еще лучше, потому так острее чувствовались накатывавшие на нее тоска и тревога. Трагедия в этом голосе показалась мне ошеломляюще сильной. Я многому научился в те ранние годы, когда ходил на концерты, – главное здесь не идеальный звук, главное – эмоции.
Однако я был не из тех, кто сидит, скрестив ноги, больше трех минут, поэтому я вполне себе радостно шел танцевать под «Janitor of Lunacy» – и меня мало волновало, кто там на меня смотрит. Я обожал танцевать. Обожал. Обожал. Обожал. Вот он я – длинные волосы, вышитая на спине куртки надпись «Hawkwind», тедди-бойские туфли на платформе – они казались мне самыми удобными для танцев. Никаких клешей. И… любой концерт, где угодно, в любое время – поднимайся и танцуй! Но, богом клянусь, самым крутым во всем этом был Джизус.
Джизус был парнем, который тусовался с двумя девчонками, танцевавшими у Hawkwind. Кажется, их звали Саша и Стейси. Он раздевался догола, у него был самый маленький член в мире, и ему было наплевать, кто на него смотрит. Я любил его за это. Мне казалось тогда: «Ему все равно, и, смотри-ка, он абсолютно счастлив. У него есть бонго, на которых он не умеет играть, нет чувства ритма – ни-ка-ко-го! – но полное ощущение радости!» И он определенно не был похож на того Иисуса, которого представляли себе мои мама с папой.
Но его посыл был хорошим, и годы спустя, когда начался панк и «Пистолзы» участвовали в концертах – мне кажется, это было в «Марки», мы тогда выступали на разогреве у Eddie and the Hot Rods[90], – он был там! Он выглядел совершенно по-другому, на нем был костюм, но все та же нелепая прическа – глубокая челка и длинный маллет сзади, натуральный блондин с неестественно светлыми волосами.
Было очень трудно уговорить принять участие в подобных мероприятиях Уоббла. Он сразу же проникся ненавистью к «Раундхаузу». «Ненавижу этих людей!» Уоббл решил, что там бывают только твердящие про мир и любовь придурки, но это уже его недостаток проницательности. Чего Джон не понимал, так это того, что «Раундхаус» полон реально странных персонажей и что он сам становился одним из этих странных персонажей уже тем фактом, что был там – хотя это случилось лишь однажды. Этого оказалось достаточно – я знал, что больше его не вытащить. Уобблу больше подходил какой-нибудь соул-клуб – это было его.
Примерно в то же время я ездил в Илфорд в Эссексе на соул-вечеринки в клуб «Лейси Леди». Причем не один – мы катались туда целой бандой Джонов. Сид, Джон Грей еще парочка. Настоящей толпой, реально.
Здесь была совершенно другая постоянная публика – очень интересная. Этакие гангстерского вида местные крутые парни. Они смотрели на тебя угрожающе, и тут уж ничего не поделаешь. Но мы и сами были довольно сумасшедшей компанией. Вот откуда на самом деле произошел пого. Именно так мы обычно и танцевали, прыгая вверх-вниз. Мы не знали никаких танцевальных движений, поэтому придумали собственные, и всем было весело. В результате мы не воспринимались как какая-то угроза, поскольку находились тогда в собственной вселенной и наслаждались собой на свой манер – вовсе не с целью подцепить какую-нибудь девчонку, хотя девушки и любят «других». Испытывали ли они к нам материнские чувства? Нет, но это тоже было хорошо! Я был очень молод для своего возраста, и у меня никогда не было шанса на это «а теперь давай ко мне». Хотя я и очень старался. В любом случае все равно реально ничего нельзя было сделать; невозможно было покинуть вечеринку в одиночку, на тебе лежала ответственность не только за себя, но и за всех остальных.
По тому базовому набору, что там играли, было понятно, куда движется американская соул-музыка. В ней как раз начинали выделяться разные течения, после «Тамла Мотаун». Среди них встречались еще более интересные и захватывающие, но за пределами Детройта они были не так хорошо организованы. Играли что-то типа фанка Западного побережья, что было реально интересно, много филадельфийского и чикагского материала, который позднее превратился в разные крутые штуки.
На самом деле это было такое раннее диско, и мне оно очень нравилось: «Hi-jack your love, hi-jack your love!»[91] и так далее. И еще там были великолепные диджеи, некоторые из которых работали на «Би-би-си», но играли они то, что им самим нравилось, не из обычного плейлиста, но разные хардкорные штуки. Я обожал это. В те дни можно было просто подойти и спросить: «Что это за пластинка?» – и они отвечали. Это урок, который вполне пригодился бы современным диджеям. Так я выискивал будущие покупки, вот в чем был весь Илфорд: «О, я обязательно должен это заполучить!» – и я шел и покупал пластинку.
Диско отстой? Такого вы никогда от меня не услышите. Кем бы ни был тот, кто писал все эти панк-манифесты, он никогда не слушал настоящих панков – тех, с кого все началось. Никто не обращал на это никакого внимания, сплошной негатив – какой-то отстойный, позавчерашний Долбовилль. Очень жаль. Я до сих пор искренне люблю Fatback Band[92]. Умели они выпускать маленькие заводные танцевальные синглы о себе. Просто отпад. Kool & the Gang, обожаю их. Что еще сказать?
Существенный недостаток поездок в Илфорд заключался в том, что оттуда было невозможно вернуться ночью домой, а единственного нашего местного приятеля звали Тони Коллетти, и он не позволял нам остаться в его доме. Три или четыре раза нам приходилось давать дуба на платформе в ожидании 4 утра, когда прибывал первый поезд, – к тому времени все веселье улетучивалось. Мы еще не достигли возраста получения водительских прав, да и все равно пребывали под воздействием различных веществ, и у нас совершенно точно не было денег на мини-кэб. Так что пришлось перебраться в другое место за нашей дозой такого рода музыки.
Если вы когда-нибудь оказывались в Сохо в центре Лондона, единственными, кому реально наплевать на ваш нестандартный внешний вид, были гей-клубы. Здесь вам не докучали всевозможные футбольные банды и прочая малолетняя гопота. Не нужно было иметь дело со всеми этими разборками, типа: «Ты за кого? За “Арсенал” или “Вест Хэм”?» И опять-таки туда приходило много девушек, одетых реально хорошо, с разнообразными модными идеями. Захватывающе наблюдать и находиться среди них, да и, откровенно говоря, наркотики здесь были классом повыше.
Музыку обычно играли танцевальную. Там всегда были любопытные вещи разных странных маленьких групп с севера, и я сейчас даже говорю не о той музыке, которую ставили в «Уиган Казино», потому что она вовсе не отражала всю северную сцену. Было много разных вариантов, ремиксы треков Боуи, что угодно. Просто очень весело. Они не слишком были ориентированы на прорывную, открывающую глаза музыку – скорее, это такое светское сборище, где можно чертовски хорошо повеселиться и тебя никто не изобьет до полусмерти, если ты слегка почудишь вечерком. Все вокруг были естественным образом отзывчивы. Очень открыты и дружелюбны, никакого осуждения.
Этакая позиция мачо, которую воспринял прогрессив-рок, была мне отвратительна. Я любил Status Quo и всегда буду любить, но их публика – это неизменная кучка патлатых, с развевающимися по ветру волосами тупиц. Какие-то безликие клоны, от первого до последнего ряда. У меня не было на это времени. Я не хотел вступать в их армию и чувствовал, что никто из этих дураков на самом деле не слушает, что происходит. Их маскарадная униформа ни хрена никакого отношения к группе не имела.
Это были просто волосатые студенты в шинелях Королевских ВВС – выглядели, как будто натянули на себя какие-то зеппелиновские обноски. Эти шинели – очень большие толстые попоны с серебряными пуговицами – были повсюду благодаря сети магазинов армейских излишков. Поймите меня правильно, я вовсе не возражаю против того, чтобы наряжаться в разные прикиды, сегодня я надену одну вещь, завтра – другую. Но как стиль жизни? Нет, никогда.
Было очень интересно найти единомышленников, которые одеваются по-другому. Например, Джон Грей и я периодически забредали на Кэнви-Айленд в Эссексе, чтобы послушать Dr Feelgood[93]. Опять же Уилко Джонсон – какой гитарист! Охренеть, этот чувак потряс меня до смерти. Типа как, черт возьми, как ты это делаешь? Просто фантастика. А их вокалист Ли Брилло – да боже ж мой, самый грязный, самый безвкусно одетый, играющий на губной гармошке неряха; какие-то пятна по всему белому смокингу. Он был похож на бродягу, пытающегося выглядеть стильно, – отличный образ! Вся суть истории с Dr Feelgood в том, что они были вне общей картины, и они и правда были немного неряшливы.
Требовалось определенное мужество, чтобы одеваться иначе, потому что, я полагаю, так устроено общество. Оно всегда пытается что-то унифицировать. Выдать униформу, повесить ярлык и таким образом обуздать и держать под наблюдением. Мне не интересно сдерживание. Я хочу иметь все в полном объеме.
В то время я носил дембельские костюмы. Я любил наблюдать за стройплощадками, смотреть, как приходят на работу ирландские работяги, как их бывший лучший воскресный костюм превращается в тот, в котором они месят дерьмо в канаве. Мне нравилось, как он выглядит. В мире обвисших клешей, которые я искренне ненавидел, этот мешковатый стандартный костюм был из разряда вещей абсолютно и немедленно доступных. В то время мне также нравился рабочий костюм газовиков – такого яркого синего цвета, оттенка электрик, и я довольно часто его надевал. Короткая легкая куртка с резиновой лентой на поясе (немного похожей на харрингтон), с такими же брюками – все вместе отлично смотрелось с парой красных сапог со стальными носками. Нещадно обстриженные волосы. Я решил довести их длину до абсолютного минимума – от «куста брюссельской капусты» до «бешеного ежика».
Вся мода с улиц имеет подоплеку – нехватку наличности. Были времена, когда я мог позволить себе дорогие вещи, и я это делал, но покупал что-нибудь одно, например, потрясающе восхитительную пару туфель, которая не подходила ни к чему из того, что у меня было, но мне нравились эти туфли, – так и появился знаменитый беспечный стиль Джонни Роттена, сочетание несочетаемого. Я даже купил высокие ботинки на платформе, но они были на сплошной танкетке, без каблуков. Такая толстенная деревянная подошва. Ты возвышался на семь дюймов над поверхностью земли – очень опасно ходить по Лондону. Но я любил их – в них сочетался небесно-голубой цвет и цвет электрик, – грубая модель, типа старых ботинок скинхедов, однако будто запущенная в открытый космос и вернувшаяся обратно. Ботинки представляли опасность еще и потому, что в них реально было трудно ходить, да и спуск на эскалаторе в метро превращался в настоящий кошмар. Ну, а если тебя подстерегала какая-нибудь местная шпана, далеко ты на них определенно убежать не мог. Приходилось оставаться на месте и принимать все, что тебя ожидало, надеясь на то, что в очередной раз выручит хорошо подвешенный язык, – так случалось часто, но не всегда.
Не знаю, может, я был этаким стильным поросенком, далеко опережавшим свое время, но я решил усовершенствовать дембельский костюмчик. Я думал: «Идея у него хороша, но стиль какой-то дерьмовый. Давай-ка попробуем это изменить». Для начала отрежем лацканы. «Не-а, с ними было лучше. Может, мне стоит отпороть рукава и все такое, но… нет, там они смотрелись лучше… О, идея – булавки!»
Глава 3. Джонни носит то, что хочет
Именно Сид, а он всегда был настоящей жертвой моды, первым услышал об этом скандальном магазине одежды под названием «Секс» и предложил нам сходить туда и разведать, что и как. В итоге пришлось совершить парочку вылазок туда-сюда по Кингз-Роуд, прежде чем мы нашли этот магазинчик. Пожалуй, кто-нибудь другой бы и догадался, что это настоящая дыра, место, расположенное вдали от чего-то годного. Мы же были молоды и глупы и не сразу свели концы с концами. Но стоило только нам туда добраться…
Это было где-то в середине 1975 г., и в то время там все еще активно торговали всяким тедди-бойским шмотом. Основной источник прибыли – такие типа специальные костюмы тедди-боев и, конечно же, ботинки на платформе. Постепенно в ассортимент магазина прокрались и другие вещи, типа резиновых костюмов для извращенцев или масок Кембриджского насильника[94]. Довольно быстро подобного рода штуковины вытеснили все тедди-бойские прикиды, торговлю которыми, как мне казалось, владельцы магазина должны бы поддерживать.
Это был не просто магазин, это был настоящий центр притяжения для самых разных странных и жутко интересных людей. Пару месяцев спустя я там даже успел недолго поработать, и, скажу я вам, продавать обтягивающий резиновый топик Реджинальду Басанкету[95] – то еще потрясение. Вот стоит перед тобой популярный ведущий новостей, и ты такой слышишь от него вопросы типа: «Как вы думаете, мне подходит?» И отвечаешь: «Конечно, просто зашибись!» Этакий толстячок, обтянутый резиновым топом, будто желейный пудинг, да еще пузыри на животе топорщатся. Очень смешно, но мне нравилась его смелость, то, что он не стыдился всего происходящего. Он хотел этого, и он это получил.
Дизайн придумывала Вивьен Вествуд, Малкольм Макларен же стал рупором – он пришел с такой псевдоинтеллектуальной чушью, чтобы обосновать все это. Вивьен, по сути, была прирожденной продавщицей, типа Маргарет Тэтчер. Абсолютный диктатор:
– Нет, вы не можете купить это, оно идет только в комплекте вот с этим – и я не продам его вам, пока вы не купите весь прикид!
– Э-э, что?!
А поскольку я любил миксовать разные шмотки, то еще так умудрялся ее достать. Вивьен никогда не любила меня, да и я никогда с ней особо не ладил. Обычно я предпочитал рядом с ней помалкивать, потому что понимал, что все это в три секунды может обернуться скандалом – она была удивительно вздорной, но потрясающе креативной. И все ее навязчивые идеи окупились. Вивьен знала, что делала. Просто иногда это было уж очень заморочено, и она немного перебарщивала. Однажды я сказал ей: «Сдается мне, что ты типа слишком долго ковыряешься с этим проектом!» Ха! Уволен следующим же утром!
В музыкальном автомате там можно было поставить штуки типа Flamin’ Groovies[96] – некие абстрактные гаражные группы из Америки, пара английских мод-групп, много рок-н-ролла – из-за тедди-бойского прикида, которым торговали в «Сексе». Владельцы магазина были жутко увлечены: «Да, мы твердо верим во всякий уличный движ – который станет намного лучше, если мы их еще и приоденем!»
Магазин был таким наглым и антиистеблишментским, я его реально полюбил. Мне жутко нравилось работать там в течение того короткого времени, что я в нем продержался. Продлилось это всего пару недель, но Сид очень ревновал, что мне удалось попасть туда, а ему – нет. Но он еще поработал там после меня. А тогда для меня это означало, что я мог выйти в город типа сам по себе. Я появлялся в обтягивающих футболках цвета лаванды, но с прорезями для сисек. Очень отталкивающе, плюс на мне были остроносые «винклиперы», джинсы-дудочки, большой золотой пояс, который я купил в «Сексе», золотые браслеты на запястьях и шипованный чокер. Мне нравился этот образ, я полагал, что выгляжу охренительно.
И это был именно тот прикид, что приводил в ярость самые разнообразные банды футбольных фанатов, ошивавшихся в Челси каждую субботу. Как не вспомнить фанатов «Ноттингем Форест» – они как-то попытались напасть на магазин, но я принял вызов, и дверь за мной закрылась. Когда драка завершилась фиаско – на самом деле все ограничилось какой-то пощечиной, – я вошел внутрь, и Вивьен заметила: «Я же говорила тебе не привлекать подобного рода публику». Она просто бросила меня на произвол судьбы, предоставив самому разбираться с ними, а потом еще и обвинила в том, что эти люди вообще здесь оказались. «О’кей, Вив!» В этом вся она.
Малкольм был невероятно остроумен и начитан. Он понимал дилеммы того времени, но был учителем английского языка, который не совсем знал этот язык. Малкольм исходил из того, что подразумевается, будто все в курсе, о чем он, а это со мной не работает, никогда. Все это просто автоматически заставляло меня думать, что этот парень подозрительный, а то, что он говорил, сомнительно – кстати, немного похоже на нынешнего менеджера «Арсенала» Арсена Венгера[97].
Странно, но его любимыми книгами были романы типа «Джейн Эйр». Малкольм обожал о них поговорить. Оказалось, что эти романы вместе с ним читала его мать, когда он был еще совсем мальчишкой… Так что, привет, да, это все объясняет. И дело не в том, что Малкольм воображал себя юной изможденной дамочкой, нет, я так не думаю. Мне кажется, ему не хватало с детства какой-то любви. Это было для него бесценной редкостью.
Все его друзья обычно рассказывают одну и ту же историю о том, как в 1968 г. они отправились вместе ним на Гросвенор-сквер, где в то время происходили студенческие волнения: едва начались неприятности, Малкольм пропал. Он был всеми руками за то, чтобы орать и скандировать высокопарные лозунги, но как только они возглавили толпу, он таинственным образом исчез. Вот о чем я писал несколько лет спустя в песне PiL «Альбатрос»[98]: отсутствие приверженности, он всегда и от всего сбегал.
Малкольм руководил New York Dolls[99] в последние дни их существования. Когда «Доллзы» приехали в Лондон, было очень весело с ними поболтать, потому что они всегда делились с нами внутренней информацией и не скрывали того, что думают о Малкольме. Конечно, ни одна из рассказанных им историй не свидетельствовала в его пользу. Если когда-нибудь и существовал человек, который вообще ничего не делал, то это – Малкольм. Парни говорили: «Он просто предложил парочку глупых идей, но ничего из этого и близко не стояло к тому, чтобы хоть как-то помочь».
Малкольм обтянул их красным винилом, но к чему тогда русский стиль с торчащими отовсюду серпами и молотами? Просто глупо. «Ах да, это ужаснет весь мир!» Единственные люди, которых это пугало, были сами New York Dolls, потому что им приходилось платить за всю эту ерунду. Когда я увидел в магазине фотографии, то громко заметил: «Это напоминает мне “Битлов” периода “Back In The USSR”, Малкольм!» Очевидная же подколка! Но вот «Доллзы» позволили этому случиться и поплатились за такую сомнительную привилегию. Они не воспротивились, не заявили: «Нет, я этого не надену». Несмотря на все их фиглярство, мне кажется, что они просто хотели стать популярными.
Отношения Малкольма и Вивьен были очень необычными. Мне до сих пор трудно поверить, это действительно довольно странно, что им удалось произвести на свет дитя. Но у него были рыжие волосы! Еще был вроде один ребенок от предыдущего брака Вивьен. Когда тот, который родился у них, был маленьким, мне казалось, что его немного игнорируют. Я очень жалел это дитя. Типа вот он, обычный кроха-карапуз, довольно пухленький, кстати, бегает по их дому, а там эти БДСМ-ские штуки и резиновые шмотки на манекенах, и Вивьен шьет бондажные костюмы и все такое. Странное воспитание, это точно, но не более странное, чем мое.
В их доме царил полный бардак. Никому и в голову не приходило что-нибудь помыть, а этот ребенок, похоже, всегда был голоден. Меня это очень раздражало. И все же он был такой здоровяк! Честно говоря, я не думаю, что они когда-либо неправильно воспитывали детей, там не было ничего такого из этих гадостей. Все дело в невинной и наивной манере поведения Малкольма и Вивьен, в том, как они пытались проецировать сексуальность на других людей – это не было тем, чем каждый из них особенно занимался. Отсюда необходимость для них обоих манипулировать поп-группой в соответствии со своим образом мышления, и в том-то и заключались все проблемы со следующей группой, на которой они ее опробовали. Потому что Джонни вовсе не собирался прогибаться – ни под кого и никогда.
Я думаю, что это был один из приятелей Малкольма – Берни Родс[100], который заметил меня среди их постоянных клиентов и заявил: «Вот он – тот самый!» Даже не Сид, жертва моды, потому что это было бы слишком похоже на всем надоевшее старье. «Тебе надо кого-то такого, типа “с огоньком”!» Мы были странной компанией парней, которые тогда только начали там ошиваться. Джон Грей казался, скажем так, слишком расслабленным; Сид – похожим на туповатую модель, а я – уж не знаю, как мне это удалось, – вероятно, производил впечатление этакого едкого уебыша. Тихий, но угарный. «Злой парнишка», как сказал бы Моррисси.
В тот момент мне и в голову не приходило поучаствовать в группе. «Как там насчет чувака в футболке с надписью “Я ненавижу ‘Пинк Флойд’” и зелеными волосами? Он похож на солиста». Должно быть, это случилось в августе 1975 г. Берни был одним из тех интеллектуальных идеологов, что вертелись вокруг Малкольма, – они знали друг друга еще по колледжу.
Берни – настоящий возмутитель спокойствия, это уж точно, но он также был одним из тех парней, которые становятся жесткими и реально отмороженными. Он зашел слишком далеко, наш Берни. Политически он был крайне левым, почти коммунистом по своим убеждениям. Конечно, то, как он впоследствии руководил The Clash[101], больше походило на загребание в свой карман деньжищ, несмотря на все его коммунистические склонности. Да уж, очень любопытное стечение обстоятельств случилось с легкой руки Берни Родса.
Благодаря этой штуке из серии «подбора талантов» мы имели репутацию бойз-бэнда, но, вспомните, у Стива Джонса[102] и Пола Кука[103] уже была к тому времени своя группа, где-то с 1971–1972 г. Они тусили среди постоянных клиентов будущего «Секса», Глен Мэтлок[104] там работал, так что он тоже вписался, поскольку учился играть на басу. Им нужен был солист, и через Берни к Малкольму пришел я!
Берни был очень хорошо осведомлен в том, как манипулировать публикой, что вполне себе заметно по тем ранним футболкам, дизайн которых он разработал для «Секса». Была среди них одна – она до сих пор у меня сохранилась – с треугольником на каждой стороне и линией между ними. Перевернутый треугольник содержал все хорошее, а устремленный вершиной вверх – все отрицательное. Это многое говорит о черно-белом мышлении Берни. С хорошей стороны – где-то у самого дна, ха-ха! – QT Jones & His Sex Pistols. Так они мыслили себя до моего появления, пока не обнаружили, что Стив на самом деле не умеет петь, а его личность совсем не подходит для того, чтобы проецировать ее таким образом.
Наша первая встреча в тот день пошла настолько не так, что все вообще не должно было сработать, правда? Мне никто и никогда не верил, но я играл там роль дипломата. Я хотел быть возмутительным и отвратительным, но я одновременно хотел и получить эту работу. У меня было несколько разных целей. Когда же они попросили меня вернуться после закрытия магазина, я реально желал быть с ними в группе.
Теперь, уже в наши дни, я точно знаю, что и для чего я делаю, мне не нужно объяснять, как я смотрю на мир, и мне это нравится. Встречаясь же с группой в первый раз, я должен был справиться со всем тем, что у меня внутри, прямо там, на месте. Нельзя было больше прятать все в себе – это показалось бы неприемлемым. Если я собирался поладить с этими людьми, я должен быть полностью открыт.
Когда мы вернулись в магазин и я спел «I’m eighteen» Элиса Купера и другие песенки из музыкального автомата, я действительно этого хотел. Был готов к этому. У меня мгновенно появилась манера, характерная артикуляция. Но что поделать с тем, что я просто не мог петь. Мелочь какая… Я играл честно с Малкольмом, и он сказал: «Мы можем это исправить». Конечно, просто «вау», я понятия не имел, что мне делать, – но он оказался прав: если у тебя есть все остальное, это придет. Всего лишь вопрос дисциплины. Кстати, я ведь брал уроки пения, но они мне не помогли, поскольку подход был совсем другим, не тем, что нужен мне. «До-ре-ми-фа» маячило где-то далеко за пределами моего понимания – я не мог связать это с песнями, которые хотел писать. Но было полезно посмотреть, что обычно делают певцы, поэтому я нашел свой собственный путь даже в этом. Вот так у меня и получился тот самый сладкий и благозвучный тембр, в который влюбился весь мир.
После этого мы отправились в паб «Косуля», расположенный чуть дальше по улице, и по-настоящему повздорили. Я пришел на собеседование – назовем это так? – с Джоном Греем, геем, который в то время еще не совершил каминг-аут. Я подумал, что это будет по отношению к ним очень дерзко, и это реально их встревожило. Они не ожидали такого от парня, которого воспринимали как, я не знаю, ну типа слабака-студента из колледжа искусств. И он на самом деле достал их. Этот женоподобный парень просто сводил их с ума. Но Джон говорил исключительно логичные вещи и обладал каким-то абсолютно магическим знанием музыки – прямо настоящий библиотекарь, и поэтому у нас с ним были готовы ответы на все возможные вопросы. Это их просто ошеломило. Глену не удалось поставить ни одной редкой записи The Kinks, которая стала бы для меня сюрпризом, поскольку уж здесь-то я был докой. Я люблю The Kinks – обожаю их!
Я заранее выпил пару пинт, чтобы успокоить нервы, так что весь тот день прошел в сплошном алкогольном тумане и закончился только потому, что нам нужно было успеть домой на ночной автобус. Я никак не думал, что получу работу. Просто решил, что это был отличный вечер, мы смеялись всю обратную дорогу в абсолютно угашенном состоянии в ночном автобусе, что опять-таки могло оказаться в те дни очень даже опасным. Банды имели обыкновение совершать нападения, и грабежи и избиения считались в порядке вещей. Но нам удалось добраться домой совершенно незамеченными, так что все представлялось мне в самом радужном цвете.
Я не думал, что они когда-нибудь еще позвонят, однако через пару дней раздался телефонный звонок. Это был Буги, он же Джон Тибери, один из людей Малкольма, который сообщил мне, что в Ротерхите состоится репетиция. Итак, я отправился в доки, добрался туда, но там никого не оказалось. Репетиция отменилась, и я до сих пор не знаю, почему никто не потрудился сказать мне об этом. А ведь это было совсем нелегко для Джонни Роттена тех лет – тащиться через весь город на верфи Бермондси и бродить по докам в одиночестве. И там даже не оказалось никого, кто бы сказал: «Прости, Джон». Я чертовски разозлился.
Поэтому я позвонил и сообщил, куда им всем надо идти, но потом последовала целая серия телефонных звонков, и я решил: «О, черт возьми, теперь все стало еще хуже, потому что они действительно говорят мне, что хотят меня – не группу, не всех этих подопечных Малкольма, – они очень, очень настаивают именно на моей персоне». Я подумал тогда: «Я не могу уже контролировать ситуацию, в которую сам и ввязался».
Еще одна репетиция была устроена в пабе в Чизвике. Ведь я же ничему не научился, правда? Я просто пришел на следующую, и все. Зачем я туда пошел? Я стиснул зубы, так? Я не собирался бросать все именно сейчас. Хотел продвинуться еще на пару стадий, но, будем честными к ребятам, ни один из них не попадал в ноты. Они просто поиграли так-сяк то, что теперь называется музыкой модов, классику 1960-х гг.: The Who, The Small Faces[105], типа того – обычные куплетно-припевные поп-хиты.
До этого я бывал только на репетициях в хоре, где оттачивал искусство распеваться только для того, чтобы меня вышвырнули. Поэтому мне пришлось очень быстро избавиться от этой привычки и найти собственный голос, а не звучать так, как будто я подражаю или пытаюсь быть тем, или этим, или еще кем другим. Таков был мой подход. И для меня это оказалось сущим адом и пыткой.
Та ночь закончилась ссорой – хорошей, здоровой ссорой, потому что речь шла о том, чтобы побузить и на самом деле попытаться сделать все как следует. Мне кажется, что я смог донести свою точку зрения: что бы вы обо мне ни думали, дайте мне шанс и не будьте таким грубым. Нельзя просто послать кого-то и считать, что это прикольно, потому что, черт возьми, это не так. В те дни, сделай ты из меня врага, можно было крупно об этом пожалеть.
И с этого момента и далее, на мой взгляд, они проявили невероятное малодушие. Я был очень решителен в своем намерении показать им всем, как следует со мною обращаться. Но я был так впечатлен… В углу стояло пианино, совершенно расстроенное, типичное для паба пианино, и Стив с Полом заиграли на нем «Good Golly Miss Molly»[106]. Стив отбивал ритм, а Пол потом проигрывал это «динь-динь-динь». Слушая их игру, я, именно я сам решил – я хочу быть в этой группе, мне нравится, как они разрушают и создают одновременно.
Они пытались исполнить ранний рок-н-ролл, но не так, не по правилам. Ноты – не те, но сама идея – та, верная идея! Особый акцент, звучавшая в этом всем энергия – были превосходны. Мне понравилось их слушать, несмотря на диссонанс, непопадание в ноты и, очевидно, неправильное расположение пальцев – в этом было нечто, энергия была правильной, а Пол Кук всегда великолепно держал темп. Умение держать темп – это ВСЕ! Если ваш барабанщик не может держать темп, все остальное – бессмысленно; это корень музыки. С этого момента я внимательно слушал Пола Кука, и у меня был свой якорь.
В тот вечер я отправился в паб «Сэр Джордж Роби» в Финсбери-парке и попытался повторить то, что они делали. Я наблюдал, куда они кладут пальцы, и запоминал положение рук – элементарные вещи, но для меня это было необыкновенно захватывающе. Типа: «Ух ты! Я начинаю понимать химические формулы!»
Когда я впервые встретил Малкольма в магазине, я не знал, понравился ли я ему или нет. Он никогда не был моим другом, не был никак со мной связан и, возможно, даже представил меня Стиву и Полу, словно в отместку. Я никогда не понимал этого, но так или иначе Малкольм, должно быть, предполагал, что я – персонаж, значение которого несоразмерно очень скучной на тот момент деятельности группы. Он почти наверняка видел во мне что-то такое, чего не было в нем самом. Но насколько все это сработает, Малкольму было не слишком понятно. Однако он в итоге пошел на риск, поддержал меня с моими задумками: я был идейным парнем и всегда им буду.
Я пришел с концепцией лирики и этакой пробивной силой, чтобы сломать границы тупости. Без меня, я полагаю, они могли бы стать в лучшем случае неким подобием The Small Faces, возможно, типичной паб-роковой командой, и им бы это понравилось. Более того, это понравилось бы и Малкольму – тот любил нью-йоркскую сцену, а действие там в то время разворачивалось в очень маленьких клубах. Такие места, как CBGB[107], были крошечными. Все это выглядело так манерно: «О, мы креативны, мы особенные, все остальные не в счет!»
Ну, простите, а я – ярмарочный аттракцион. Мне нравится ярмарка, нравится хаос и нравится сама возможность сразиться с большинством, бросить вызов.
Вообще-то чего мне извиняться? Меня возмущает, что я и правда сказал здесь: «Простите». Я совсем не жалею об этом. Я жалею лишь о том, что большинство людей реально не понимают, как измениться, и с готовностью принимают те форматы, которые им предлагаются. И Малкольм, и, в незначительной степени, группа, поскольку он был их наставником, были под завязку забиты этим: «Все, что нам надо делать, это носить красивую одежду и выглядеть нелепо, и мы заработаем немного деньжат, верно?» И вот во что это превратилось. Стив, люблю его. Пол, люблю его. Глен, люблю его. Но их установки не отражали общей картины. Ни в коем случае, никогда.
После моего появления группа QT Jones and his Sex Pistols превратилась просто в Sex Pistols. Как проходили репетиции для меня: никаких сценических мониторов. Они колотят по инструментам, включенным через усилки, производя чудовищный шум, и совершенно меня не слышат. Они понятия не имеют, что я собой представляю, разве что Стив типа решил: «Ты не умеешь петь!» Я в ответ: «С чего ты это взял?» – «Я тебя не слышу». – «Ну, тогда мне нужен микрофон». Мы позаимствовали микрофон из паба внизу, и тогда уже и я понял, что не умею петь, однако Пол Кук за меня заступился. «Ну, понимаете, вы должны дать парню шанс…» Пол был весьма дружелюбен и очень в этом отношении мне помог.
Вы могли бы возразить и были бы абсолютно правы: «Что за, блядь, мягкосердечие!» Почему бы не нанять нормального солиста, у которого есть собственная акустическая система? Но они ничего такого не сделали, они решили оставить меня, и Пол тоже так решил – он тайно меня поддерживал. Против всего этого. Это сделало меня еще более сумасшедшим, более диким. Я начал появляться в одежде, в которой действительно хотел ходить. Я ведь не дрэг-квин, так? Я полноценный, хардкорный, крезанутый мужик, и это было совсем не похоже на то, что происходило в поп-музыке. Уж даже не знаю, с каких пор – наверное, с того времени как себя придумали тедди-бои? Да, кстати, я ощущаю огромное родство с ранним движением тедди-боев. С любыми уличными бандами или уличной культурой в целом. Я прекрасно понимаю, что это такое.
Во время тех первых репетиций в Чизвике я был одет в спортивный пиджак, часть униформы женского клуба академической гребли. Я только потом узнал, что это – пиджак был белым, поэтому я всегда думал, что это крикетный пиджак. Нет. Он был женским, и я случайно покрасил его в розовый цвет, положив в дешевую стиральную машину вместе с парой розовых брюк, которые купил в магазине Вивьен. Ну, я и написал «GOD SAVE OUR GRACIOUS QUEEN» во всю его длину. И это в конце концов навело меня на мысль: «Гм, неплохое название для песни…»
За любую одежду, которую мы брали в «Сексе», нам обязательным образом приходилось платить. Если даже и не всю сумму, то что-то к тому очень близкое. И бесполезно было взывать к Малкольму: «Что за бред, мы же продвигаем ваши вещи, вы используете наше имя». Ответ всегда следовал один: «О, но я постараюсь сделать вам небольшую скидку». Позднее некоторые северные группы, называвшие себя панками, плакались, что типа нам было легко, поскольку нас одевала Вивьен. Нет, детки! И так как я сам платил за это, я всегда говорил ей, чего хочу и чего не хочу, независимо от ее представлений о хорошем вкусе. Она – тот дизайнер, которому надо время от времени говорить пару вразумляющих слов, иначе, блин, затрахаешься потом, как мы все.
20 или 30 фунтов за пиджак по тем временам – большие деньги, огромные; но все, что там продавалось, было одноразовым. Там могла быть выставлена целая линия вроде как одинаковой одежды, однако каждый принт отличался друг от друга, каждая вещь была по-своему уникальной – только никогда не пытайтесь ее постирать, иначе все чернила потекут и швы разойдутся.
То, что тогда делала Вив, не было рассчитано на долговечность. Пуговицы просто отскакивали – они летели через всю комнату, как будто у них была на тебя аллергия. Ворот ее футболки после первой же стирки оказывался между твоих грудей из-за того, как он был вырезан, и красивая обтягивающая майка становилась похожей на мужской бюстгальтер.
Я начал носить английские булавки еще до «Пистолзов», но тогда они мне реально пригодились. На самом деле, на старых фотографиях видно, что на всем том, что я тогда носил, всегда присутствовал набор английских булавок, свисающих с воротника, – на тот случай, если швы разойдутся. Подручный ремонтный комплект, который шел в ход, когда продукция Вив разваливалась.
Мы никогда и ни с кем не обсуждали наши действия, не вырабатывали какой-то общей концепции – ни с группой, ни с Малкольмом. Нас просто вталкивали в зал, и ба-а-бах! Что бы там ни утверждал впоследствии Малкольм, лишь мы вчетвером устраивали весь этот разнос. Ни одна из его сделанных задним числом глубокомысленных сентенций не принесла ему пользы, потому что не он диктовал нам темп, тон или содержание – и это его раздражало.
Мне нравились Captain Beefheart и Can, но это не означало, что я хотел, чтобы наша группа звучала именно так. Нисколько. И в то же самое время я именно тот парень, который сказал бы вам, что первый альбом 10cc[108] – одна из величайших вещей, которые я когда-либо слышал, – такая заумь! Мне казалось, что минимализм приводит к совершенству. Но, подумать, у меня все это было, все это. И я не испытывал каких-то особых ожиданий, кроме как от того, в чем был хорош Стив – его звук, его точка зрения, то, что составляет его вселенную, – и все это давало мне огромное количество материала для работы. Великолепный калейдоскоп возможностей. Вещи, о которых я раньше даже и не думал; вещи, которые никогда не слышал в своей коллекции пластинок или вообще где-либо еще. Вот как я совершенствовался, реально, благодаря Стиву и его якобы недостаткам, которые вовсе не были таковыми.
Они все тогда сильно ругали Стива за отсутствие музыкальности, а я ему говорил: «Да забей ты на них, нет такой хрени, как фальшивая нота. У тебя есть яйца, чтобы стоять там и играть эту штуку, и это довольно неплохо – все остальное со временем сложится!» Мне кажется, Малкольм и правда толкал его в неправильном направлении, и это реально затрахало ему все мозги. Стиву нужна была поддержка, а не пафосное недовольство. Во многих отношениях он слегка похож на меня, может очень быстро отвлечься, а потом потерять все ориентиры. Я узнаю в нем эти черты, они у нас общие.
Он казался мне кем-то вроде мелкого хулигана, воришки-сумочника. У него было реально дерзкое чувство игры. Абсолютно ненадежный персонаж, настоящий диккенсовский уличный мальчишка, как тот Джек в «Оливере!», – ну, типа: «Неплохо бы тебе обчистить пару карманов!»[109]
Но, по крайней мере, он был тем, кто он есть. Это было реально. Малкольм все время говорил ему: «Ух, посмотри на свои волосы, они похожи на перманентную завивку!» Правда, и я тоже, поскольку так оно и было. Действительно! С этой кудрявой прической он был похож на старуху. Кудрявый маллет – это преступление. Против самой природы! Ну, понимаете, типа: «Мы не хотим, чтобы у нас в группе был Роберт Плант, спасибо!»
У Стива было отвратительное воспитание, но мы все были испорченным товаром, этакими грязными котятками. К тому времени у нас у всех числились приводы в полицию не за одно, так за другое.
На первый взгляд Стив был немного таким прикольным умником – однако на самом деле не слишком прикольным и не слишком умным. Ему хотелось создать впечатление, будто он нащупал что-то эдакое. Однако он вечно пытался уйти от вопросов – очень уклончивый, ухмыляющийся, к нему было трудно подобраться. Да, у нас случались моменты, когда мы были очень близки и здорово веселились, я и Стив, но он сразу же возвращался к этому своему отчуждению.
Он мог быть веселым, но ему не нравился другой комик в комнате. И, гм, если там есть я, это ж случится, лады? Да и потом, когда рядом такие люди, как Сид… Ну, это для него уже слишком. Если бы он только потрудился открыться, мы могли бы блестяще помочь друг другу, но мы были молоды, и подобное оказалось совсем не в его духе. Как ни странно, мы все считали Стива старшим в группе. Он был на год старше Пола, они даже учились в разных классах. Таким образом, Стив обладал неким взрослым влиянием, но, гм, на самом деле это было вовсе не то влияние, которого бы вы хотели.
Глен был, цитирую, музыкантом группы, и поэтому его подход был типа: «Вы не можете этого делать, это не музыка!» – «Пардон, что?» С самого начала у нас с ним вышел спор, потому что он хотел, чтобы мы были этакими денди, щеголями из Сохо, возвратом к модам. Это никогда не сработало бы – притворяться кем-то, кем мы явно не являлись, поэтому я рассмеялся прям сразу, еще до всяких обсуждений. «Послушай, мы ж не денди, зачем нам ими казаться?» Мне казалось, все это должно исходить от настоящего хардкора, реальных эмоций. Нельзя просто взять из воздуха какую-то фантазию и думать, будто тебе это подойдет, будто это понравится и всем остальным. Подобное отношение достойно всяческого презрения, как по мне.
Сам того не желая, Глен оказался очень полезен. Иногда действительно нужно столкнуться с направленным на тебя негативом – это великая движущая сила, она заставляет тебя работать усерднее. Когда же из всех этих провальных первых опытов начало что-то вырисовываться, складываться, скажем так, некая мелодия, это было просто фантастически. Наши попытки исполнять чужие песни, особенно The Who, были великолепны. Я на самом деле ощутил, что мы группа, и мне нравилось это чувство.
Мы могли бы и должны были больше общаться друг с другом, но этого так и не произошло. Если Малкольм и приходил на репетиции, то только для того, чтобы забрать Стива, Пола и, возможно, Глена, у которых обычно были дела поважнее. Он брал их с собой в эти очень важные обеденные клубы, в которые ему нравилось ходить самому. Я всегда понимал и знал наверняка, что даже не рассматриваюсь как часть этой социальной жизни. Поэтому и никогда особо не утруждал себя просьбами после одного или двух отказов. Слушая неловкую ложь о том, что «о, э-э, нет, у нас нет возможности взять еще одного» или как бы там ни было, ты все прекрасно понимаешь и больше не возвращаешься к теме.
Не думаю, что Малкольм вообще любил музыку. Для него это был просто шум, который сопровождал его экзотическую одежду будущего человеческой расы. Он не совсем понимал важность музыки и ее социальную значимость. Ну и в самом деле, с какой стати ему это понимать, если до нашего появления этого реально было не так уж много. Что подразумевалось под социально значимой песней до Sex Pistols? Да какой-нибудь тоскливый фолк-певец, терзающий акустическую гитару. О господи – тьфу!
Была у нас одна интересная встреча в пабе на Тоттенхэм-Корт-Роуд. Мы немного поссорились, и Малкольм познакомил нас с «Кровавой Мэри». «Ого, они так коктейль называют? Вкус у него отличный, и от водочного привкуса не страдаешь, а эффект тот же». Потрясающий вечер! Где-то на заднем фоне заиграл «Working Class Hero» Джона Леннона, а я хорошо знал эту песню. Я сказал: «Вот! Вот социальная значимость как она есть, мой стиль» – и тут, кажется, до Малкольма дошло, откуда я вышел. Не знаю, произвело ли это на него хорошее впечатление. С тех пор мы почти не разговаривали – очень странно. Ему совсем не хотелось двигать горы, ему хотелось перетряхивать кучки блесток.
А тем временем я почти сразу же занялся написанием текстов. Вот что дал мне Стив, весь этот взрыв энергии. Он был для меня как бриллиант. Потрясающий, великолепный, блестящий, с прекрасными возможностями. Я превратился в настоящий динамит, едва только все двери распахнулись, и я получил возможность петь. Я действительно пошел на это. Я сразу же принялся сочинять и так писал и писал все это время. Слова просто вытекали из меня, вся эта сдерживаемая внутри хрень, к которой раньше у меня не было возможности стремиться, к которой у меня не было никаких амбиций, внезапно нашла свою цель. Фантастика! Великолепно!
Было много, очень много текстов, с которыми я игрался по первости. Сейчас уже не помню, но, кажется, один из них был об архангеле Гаврииле, отшлепавшем Католическую церковь. Я мог бы и в самом деле сотворить нечто подобное, но то, что в конце концов было выпущено, – это то, в чем чувствовались энергия и усилия. Все остальное я рассматриваю как, знаете, костистую часть бараньей шеи, которую лучше всего оставить на полу разделочной. Все, что так и не было закончено, является таковым по очень веской причине.
Первая вещь, которую мы репетировали, кажется, была «Mandy». Я как-то оказался в доме этой девушки, Мэнди, на вечеринке, и она сделала нечто похожее на пунш, используя Southern Comfort, мартини и какой-то фруктовый сок, в котором тоже был алкоголь, ликер и лед. Я выпил так много, что мне потребовалось два дня, чтобы прийти в себя, – Джон Грей, Дэйв Кроу и Сид дотащили меня тогда в родительский дом. Я могу время от времени быть существом чрезмерной глупости. Причем прекрасно знаю обо всех предупреждающих знаках, и все равно меня накрывает, и я набираюсь. Мне, как правило, не хватает тонкости. Может быть, потом когда-нибудь до меня и дойдет, как это все работает, ну, идея быть тонким. Но в любом случае это была тема моей первой песни – не стоит, наверное, записывать, а?
На репетициях кто-то что-то играл, а я типа: «О, у меня есть для этого пара слов» – абсолютно непредвзятый, спонтанный подход, который, я хорошо знаю, может и совсем не сработать. Но для нас это было так, и с тех пор я придерживаюсь этой методики. Так было в «Пистолз», знаете ли, добрых две недели. В углу всегда кто-нибудь играл что-нибудь просто так, от души и сердца, а я прислушивался, ловил момент. Потом резко вскакивал: «Почувствуйте это!» Я обычно пишу песню уже с готовой мелодией в голове, я просто пытался встать и спеть ее, прямо с места в карьер. Иногда невозможно было спеть то, что я написал, и тогда я просто набрасывал на листке пришедшую в голову идею.
Из ранних песен «No Feelings» была анализом характера, она высмеивала то, как рокеры пытаются выставить себя крутыми, типа выше всего этого, будучи на самом деле кучкой слабаков. Тогда вокруг тусовалось множество скучных групп, которые все пытались казаться хардовее, чем они есть на самом деле. Я никогда не строил из себя крутого, был просто честным человеком, а имел дело с людьми, которые выставляли себя теми, кем они вовсе не являются. Лжецы. Лжецы всегда будут отличной темой.
Песня «Lazy Sod»[110], которая позднее получила более изящное название «17», была придумана Стивом Джонсом. Лирика просто меня убила! Прости, Стив, но это свежо в памяти до сих пор – я вовсе не хотел тебя унижать, однако тебе бы следовало чувствовать себя униженным, это были ужасные слова. Сказочно глупые строчки вроде: «Я одинок, киньте собаке обглодок!»[111] Наверное, он писал о жалости к себе и о том, что не может найти должной привязанности к другому человеку. Хорошая идея, но я не был готов к подобному нытью, так что когда я до нее добрался… Ну, посмотрите, что я сделал.
«Я не работаю, я просто ускоряюсь»[112] – вот все, что мне было нужно в жизни! Это была очень антихипповская вещь, обозначавшая нашу линию фронта. «Давайте все вместе жить в лесу!» – «Да пошли вы на хуй!» Послушайте, я хорошо разбираюсь в пассивном сопротивлении, я понимаю, что это жизненно важный способ разрушения империй, но хипповская идея мира и любви была абсолютно пустой. На самом деле она ничего не значила и никогда не обладала какой-то веской силой.
Когда я бывал на фестивалях, то видел, как они грызутся из-за того, где припарковать свои «фольксвагены», ставят дизайнерские палатки и спорят о колышках. Ну и где ваши мир и любовь? И при всем при том они были типа добродушными и стремились к тому, чтобы не носить униформу. Ага. И как, помогли вам вельветовые клеша?
В «Нью-Йорке»[113] я использовал New York Dolls в качестве своеобразной точки отсчета и немного поиграл со смыслами. Лично у меня не было никаких проблем с Dolls, я считал их великолепными, но у нас в британском роке к тому времени развелось довольно много одетых как шлюхи мужиков. А потом, боже мой, когда они уже оказались на последнем издыхании – какой бардак! Эта группа просто развалилась. Другие нью-йоркские группы – Television[114], Ramones[115], – мы не могли поверить, сколько им было лет и насколько они все были обдолбанные. Они могли позволить себе вещи, которые мы отчаянно хотели, но у них не было вкуса, так что они наезжали к нам из Нью-Йорка и выглядели ужасно. Они так старались вырядиться непристойно – все в черном, затянутые в кожу, – просто депрессивно. И в то же время я не знал ни одного американца, который приехал бы с пустым кошельком. Мне казалось, мы выглядим значительно лучше.
Крисси Хайнд[116] пыталась помочь мне с музыкой. Она начала околачиваться в магазине где-то на год раньше меня, возможно, даже на пару лет. Они дружили с Вивьен, но потом рассорились. И одна из самых восхитительных реплик, которые я слышал от Вив, была: «Что мне в тебе не нравится, Крисси, так это то, что ты плывешь по течению. Ну, и плыви себе – только в ту сторону», – сказала она Крисси, указывая на дверь. Крисси не смогла удержаться от хохота. Подача была настолько забавной, что ей пришлось ответить: «Отлично». Вивьен определенно могла срезать тебя остроумным замечанием – за словом она в карман не лезла.
Я не могу припомнить, что это была за драка/скандал/сцена/да что угодно. Но – уфф! – когда женщины решают друг другу не нравиться… Эгей, нам, парням, есть чем гордиться, потому что мы никогда не сможем довести это до такого уровня. Хотя вообще-то я знаю парочку парней, которые на это способны. Поговорим о них позже.
Но Крисси – какая прелестная психопатка! У нас никогда не было физической близости, но ментально мы были очень настроены друг на друга. Я уважаю в Крисси многое, реально многое! Крисси – очень умная девушка, которая в детстве прошла через всевозможные психологические травмы и вела себя в юности, скажем так, весьма своенравно. Она всегда была очень неудобным в общении человеком, она сложная, но я уверен, Крисс вполне заслуживает твоего личного пространства и потраченного времени, потому что в этой своей сложности она ищет ответы. И время от времени их находит, и это делает ее, на мой взгляд, очень важным в этом мире человеком.
С ней было очень весело тусоваться. Она брала меня с собой в Клэпхем-Коммон, и мы, бывало, нагуливали там многие мили, разговаривая о музыке и нашем понимании вещей. Она пыталась научить меня играть на гитаре. Я жаловался на то, что я левша, но, конечно, в ответ слышал: «Джими Хендрикс тоже был левшой, это не оправдание». – «А как насчет этой отговорки, Крисси… Смотри, у меня в запястье как-то застряла бутылка!» Что было правдой, у меня было два пальца, которые мне зашивали, и я частично потерял управление пальцами левой руки.
Как-то вечером я тусил с Полом Куком, он повел меня к своим приятелям в Чизвик, и некоторые из них стали наезжать на Пола, поскольку тот играл в группе. Последовала драка, настоящий хаос, от которого остались лишь обрывки воспоминаний, учитывая количество влитой нами в себя выпивки. Потом мы шли пешком из Чизвика и в конце концов оказались в больнице Хаммерсмита, где мне пришлось зашивать руку, потому что подушечки указательного и среднего пальцев были разорваны до кости и сильно кровоточили.
Вот что получается, когда ты левша. Первое, что используешь в драке, – левую руку. Ту руку, удар с которой застает всех врасплох, потому что обычно люди привыкли иметь дело с правшами.
Итак, да, я левша, и мне трудно играть на гитаре, но кроме того, я не тот человек, который когда-либо мог бы просто сесть и научиться – и я пишу именно так, как пишу, в негативном смысле – «играть на инструменте». У меня нет ни времени, ни терпения. На самом деле у меня нет математического мозга, который мог бы воспринять такое мышление. И сделать то, что у меня в итоге получилось в чудесном мире музыки, в любом случае реально выдающееся достижение. Мне удалось прорваться через этот барьер, я все еще способен сочинить песни без каких-либо – как бы лучше выразиться – законов логики.
Крисси и правда досталась работенка не из легких. Жаль только, что я не мог попросить совета у своих так называемых коллег по группе. С Гленом у нас отношения не сложились с самого начала. Наверное, этого не следовало допускать, но когда Глен упирался рогом, с ним было очень трудно иметь дело.
Малкольм полагал, что Глен – «музыкант». Вероятно, Макларен нашел что-то положительное и в том, что делал я, потому что однажды он отвел нас обоих в паб, чтобы мы как-то уладили ссору и набросали вместе пару песен. Легенда гласит, что он дал нам 20 фунтов на расходы, но мы оказались умнее – потребовали по 20 фунтов каждый. Потом Малкольм ушел, предоставив нас самим себе.
Мы заржали. В тот момент мы находились на одной подводной лодке – наступило перемирие. Хотя мы и вправду оказались плохими врагами, нам обоим пришла в голову одна мысль: «Ну и что это сейчас было?»
И мы отлично провели вечер. Мы понимали, что нам надо что-то придумать. Если в группе и наметится какой-то прогресс, хорошо бы он исходил от нас. Это не должно было случиться благодаря Малкольму и нашему с ним сотрудничеству, поскольку это – интеллектуальный тупик. В итоге мы действительно неплохо поладили друг с другом, и песня «Pretty Vacant» стала одной из наших совместных задумок.
Уходя, Малкольм сказал: «Вот вам несколько идей – подчинение, ну типа бондаж и тому подобное. Как вам такая тема?» Ну я есть я, поэтому смеха ради решил воспользоваться его идейкой буквально, а потом извратить весь смысл. Я назвал песню «Submission»[117], но первая же строчка звучала: «I’m on a submarine mission for you baby»[118]. Так что да, предлагайте мне всякое, предлагайте – я ухмыльнусь, но возможностью непременно воспользуюсь. И понеслось.
Мы прекрасно понимали, что делает Малкольм, пытаясь использовать нас, чтобы прорекламировать новую линию садо-мазо-одежды своего магазина. В «Сексе» перестали торговать тедди-бойскими шмотками и занялись продажей настоящей одежды для извращенцев от Малкольма и Вивьен, смотревших на мир извращений, как странная пара из Тринга[119]. Для них это было просто средством для достижения цели – на самом деле они вовсе не являлись частью этого мира БДСМ-культуры. Они были наблюдателями, пафосно полагавшими, будто им каким-то образом удается манипулировать чудесным миром фетишизма, тогда как на самом деле они были просто мелкими торгашами[120] – торгашами одеждой. Эта парочка всегда оказывалась, так сказать, не на том конце плети, и мы прекрасно знали, что им не понравится то, что мы задумали.
На самом деле мы никогда не получали комментариев по поводу того, что сочиняли. Мы с Малкольмом вообще не разговаривали. От первоначального всплеска и ощущения поддержки до внезапной пустоты. Как отрезало. Мне кажется, он смотрел на меня как на проблему для своих теоретических построений в области искусства. Его интерпретация артистических пристрастий группы – моих или вообще чьих-либо еще – была совершенно иной. Я никогда не считал, что нам надо пытаться как-то специально придумывать имидж. Для меня его создавали мои слова и моя собственная личность. Я просто ждал, когда парни поднимутся и смогут стать тем, кем они сами хотят, – чтобы только это было подлинным, а не искусственным.
В тот вечер в пабе мы оба с Гленом поняли, что должны объединить два наших разных видения – без всяких уступок – и создать нечто лучшее, чем то, что каждый из нас задумал независимо друг от друга. Мне кажется, что мы это сделали, однако в то же время понимаю, что я хотел большего, понимаю, что Глен тоже хотел большего, но на все это наложились дополнительные проблемы.
Люди мне не верят, но в те первые дни мы почти не видели Малкольма. Он не появлялся на репетициях, и, откровенно говоря, поступи он как-то иначе, мне было бы еще сложнее. Огромное количество собравшихся в одном помещении людей, которые на самом деле не имеют никакого отношения к общему делу, – только не это! Это было бы так: ага, им нужно подкрепление, тогда я тоже приведу кого-нибудь меня поддержать, и тогда уже мои друзья будут против их друзей. Пусть даже моя идея победит, но это ни к чему не приведет. В тех редких случаях, когда нам удавалось поймать Малкольма, он говорил: «О, да, да… Кстати, послушайте, я тут договорился о парочке концертов…»
Первые концерты были нервными и страшными. Как группа, мы чувствовали себя очень неадекватными и испуганными. Вообразите себе такую ситуацию – вы предстали перед судом. Правда, отрицательная оценка – все, чего нам когда-либо удавалось достичь. Но мы росли, нам стало нравиться то, что мы делаем. Ну, по крайней мере, мне. И я начал ожидать от публики негодования только потому, что мы были такими освежающе разными. Хотя «освежающий» – совсем не то слово, которое употребили бы некоторые из присутствующих.
Наш самый первый концерт состоялся в Центральном колледже искусства и дизайна имени святого Мартина в ноябре 1975-го. Этот концерт даже организовывал не Малкольм – номинально считалось, что Глен там учится, поэтому он сам все уладил. И слава ему, что он нашел смелость показаться вместе с нами перед своими друзьями. Это было прямо через дорогу от того места на Денмарк-стрит, где мы обычно репетировали. Должен сказать, что выбор места стал гениальным ходом Малкольма. Рядом с Сохо, в самом центре города – но по тем же самым причинам это не было похоже на настоящий концерт. Мы просто перешли со всем нашим оборудованием через дорогу, перенесли все по частям, и бинго! Совсем не то, с чего, по твоему мнению, начинается музыкальная карьера.
Конечно, мы все чертовски нервничали, страшно напуганные тем, что должно было произойти. Потонем или поплывем? Настоящая фантастика – ты выныриваешь с другой стороны водной глади и плывешь – хотя, вероятно, в ту ночь нам так не казалось.
Основной командой выступали некие Bazooka Joe. Они были ужасны, в точности так, как, по вашему предположению, могла бы выглядеть и звучать группа под названием «Базука Джо». Назвать себя в честь американской жевательной резинки было просто – у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-ух! С этим далеко не продвинешься, ребятки. И еще все они были похожи друг на друга, потому что носили белые «Конверсы». С высоким верхом, кстати. И хотя Адам Ант[121] был их басистом, не удивительно, что они так обиделись на нас за то, что мы делали.
Я никогда раньше не пел без остановки в течение целых пятнадцати минут. Ну, вполне вероятно, в ту ночь – не более двенадцати с половиной, со всей этой нервной энергией. А если сосчитать все «Стрепсилсы», которые мне пришлось сжевать, чтобы как-то прокашляться, то получится, наверное, в чистом виде минут десять. А потом просто пришлось повторить наш концертный репертуар, чтобы хоть чем-то заполнить положенные полчаса!
До меня быстро дошло, что в такой момент надо полагаться на свой внутренний потенциал. «Выносливость», наверное, вот подходящий термин, но не совсем: «О да, я могу пройти десять миль, да, я!» Дело ведь не в этом, а в выносливости умственной – сколько ты способен продержаться независимо от всех обрушившихся на тебя проблем. Есть ли у тебя внутренний стержень, достаточно ли веры в себя, чтобы победить. И все это без нормального подхода к тренировкам и технике.
Оглядываясь назад, понимаешь, что наши репетиции были своего рода тренировкой. Нам удалось поднабраться опыта сценических выступлений и, наконец, воспроизвести то, что мы делали на репетициях, перед живой аудиторией. И как-то справиться с сопровождавшим первые концерты негодованием зрителей в позитивном ключе, а не переходить в режим «о, горе мне, горе». Полагаю, в этом отношении именно мне удавалось прийти на помощь команде. Чем негативнее реакция публики, тем позитивнее моя собственная. Я всегда был не прочь немного поболтать с аудиторией. Обменяться с лучшими из зрителей парочкой остроумных замечаний, которые, полагаю, главным образом сводились к вариациям на тему: «Да пошел ты!»
Все было словно в тумане, мы пытались привыкнуть к тому, что совершенно незнакомые люди смотрят и оценивают нас. Я чувствовал себя в ответе за моих парней. Никаких аплодисментов – буквально. Молчание золото. И большая потасовка в конце. Они всегда случались – бог знает почему. Большинство заварушек связано было с другими группами. Всегда находился какой-нибудь мелочный, разочарованный, гребаный ревнивый мудозвон, заявляющий: «Да вы играть не умеете, вы – говнюки, это не музыка!» И подобные клише! В наши дни они выглядят почти нелепыми, но тогда это было настоящее оскорбление.
После концерта мне просто приходилось валить домой, делать было нечего. У нас не было денег, не было вечеринок с выпивкой, никакого братания по этому поводу. Скучное погружение в метро и одинокая дорога домой. Со мной могли быть друзья, но дело в том, что я словно оказывался запертым в своей собственной голове. Да, меня окружали друзья, но я не был с ними связан. Я реально беспокоился обо всем, что шло не так. В тот момент я был очень погружен в себя. Ну не совсем в себя, скорее, размышлял о том, как бы все получше наладить.
После этого в течение следующих нескольких месяцев мы сыграли во всех колледжах и университетах Лондона и его окрестностей, куда только могли попасть. И вскоре я убедился, что студенчество – вовсе не тот подверженный всяким влияниям очаг мятежа, как нас в том убеждали. Они были очень консервативной публикой, но в то же время у них водилась куча денег, и они сорили ими направо и налево.
Мы давали концерты просто для того, чтобы заработать и иметь возможность купить что-то для дальнейшего роста. Мне кажется, по своей идее это очень похоже на современные бесплатные приложения, знаете, всякие видеоигры для мобильников и все такое? Вы постепенно втягиваетесь, но потом, для того чтобы продвинуться на дополнительный уровень, надо покупать разные штуковины. Именно так работают гастроли: нужно собрать как можно больше денег, поэтому приходится много вкалывать, чтобы приобрести оборудование, необходимое для того, чтобы играть лучше. Для себя же нам удавалось дай бог наскрести 20 фунтов к концу месяца да еще и как-то прожить на эти гроши.
Мы любили концерты в колледжах, потому что там всегда давали бесплатные бутерброды и были профсоюзные цены на пиво. В этом есть свой смысл. Мы играли для людей, которым мы не нравились и никогда бы не понравились, которые не понимали, что мы делаем, не хлопали, даже не имели храбрости освистать, но зато они нас хорошо кормили.
В Хай-Уикоме мы играли на разогреве у Screaming Lord Sutch[122] – какое это было волнение для меня. Я так давно обожал Лорда Сатча. В нем было нечто особенное – он понял регги в то время, когда его еще никто у нас не играл. И тут он такой, прямо в точку! Было очень здорово играть с ним, да и просто поздороваться. Но никакого ответа. Он лишь повернулся и сказал: «Я вообще не врубаюсь, что вы делаете».
А для меня в те первые дни фальшивые ноты Стива были великолепны, потому что он не останавливался. Он не паниковал, типа: «У-у-у-ух, и где я в этой песне?» Просто такой: «Ну и на хуй!» – и продолжал. Если ты чувствуешь ритм, ноты реально не имеют значения. На самом деле это даже еще более захватывающе и увлекательно, потому что так можно менять форму. Помогает развить свое ремесло гораздо лучше, чем занятия уроками пения с Тоной де Бретт[123].
После этих наших первых опытов я начал серьезно относиться к концертам. Мы давали их довольно много, но потом очень быстро появились запреты и необходимость ехать играть за границу.
Но мы никогда не хотели, чтобы это было простым кидаловом и шумом в прессе. Малкольм терпеть не мог хороших отзывов:
– Это совсем не то, чего нам надо! Нужно, чтобы эти старые пердуны нас возненавидели!
– Да мне вообще не надо, чтобы они что-либо делали, Малкольм. Я занимаюсь этим не для старых пердунов!
И в этом мы все четверо были едины. Нам нравились наши песни, и мы хотели, чтобы они работали правильно. Если бы только…
Прекрасный стыд
Будь я диванный критик, я бы выразился именно так[124], но я слишком ленив даже для этого; что же касается любой физической активности, я абсолютно неопытен. Как не раз отмечали многие мои друзья, я даже не умею ходить, куда там бегать.
Мое тактическое понимание футбола практически равно нулю. Я вообще по нулям, когда люди начинают говорить о различных формациях и тактических уловках. Чрезмерный анализ футбола – это реальная современная проблема. Вы, конечно, меня простите, все это придумал средний класс, и это полная чушь. Игроки должны иметь возможность играть на поле где угодно, да хоть по всему полю, иначе что они делают в футболе? Игрок, который не может пройти, атаковать или выполнить удар по мячу – а у моей команды, «Арсенала», за эти годы таких было несколько, – совершенно, черт возьми, бесполезен.
Футбол – или «сокер», как говорят мои американские друзья, – это все-таки игра. А в игре должен быть хаос, и так оно и есть на самом деле, как бы они ни пытались все спланировать. Независимо от того, кто ударит по мячу – пятьдесят на пятьдесят, где он приземлится. Меня не волнует, насколько им переплачивают или недоплачивают, все сводится к одному и тому же. Вы можете заморочиться на стратегии или скупить всех лучших игроков, но все равно это может не сработать. Тут, скорее, замешаны сочетание отдельных игроков и та уверенность, которую тренер может вселить в команду. Именно это делает ее успешной и, следовательно, интересной для зрителей. Искусство футбола заключается в том, что можно проиграть и наслаждаться этим, потому что знаешь, что твоя команда выложилась на все сто. Но на самом деле… Я бы все-таки предпочел гол рукой!
Я болею за «Арсенал», который был моей местной командой в Финсбери-парке, с самого раннего детства. Я обычно околачивался с весьма определенной группой парней на стоячих местах Северной трибуны, фанатского сектора старой домашней арены «Арсенала» – Хайбери. Это – наша территория, наш домен, но более, чем какой-либо еще английский клуб, «Арсенал» всегда был антирасистским. И там всегда была настоящая смесь цветов кожи и вероисповеданий. Очень грустно видеть, во что теперь превратился футбол, когда с появлением там отпрысков среднего класса и так далее все это было перевернуто с ног на голову. Все, что было хорошего в футболе, исчезло. Начиная с фанатских речевок и атмосферы вокруг, все стало стерильным.
Эта чепуха с зональной маркировкой на поле и тому подобное искажает сам формат, в котором они играют. Я имею в виду – давайте начистоту! Если оставить огромные части поля без внимания из-за нелепой одержимости позиционированием, вас поймают. Если у вас слабые, медлительные защитники, вы будете посрамлены.
Футбол – это та игра, в которой, если ваша команда играет очень плохо, вы начинаете смеяться над проигрышем. Вы и правда можете наслаждаться ожиданием следующего трагического поражения. И нет ничего другого, что бы могло дать мне такую способность. Способность, которая служит абсолютно блестящей, прекрасной цели. Это театр эмоций, а не мечтаний.
Самая большая радость быть футбольным болельщиком заключается в том, что в конечном счете нет никакой радости. Наоборот, все может стать только хуже. Много лет назад, когда «Вест Хэм» вылетел во второй дивизион, я помню, как их болельщики пели эту славную песню: «Que sera sera, что будет, то будет, мы едем в Бе-е-е-рнли, que sera sera»[125]. Юмор был просто фантастический.
И где она, радость современного футбола? Да это сплошная гребаная боль, и когда ты действительно что-то выигрываешь, длится это совсем недолго. Пабы закрываются слишком рано, и все кончено. Все расходятся по домам, а ты остаешься стоять там – ва-а-а-а-а-ау-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у! Все равно что пытаться играть в приложениях на айпаде. Настолько неудовлетворительно, что и правда лучше пусть зовется «сокером». Разочарование гарантировано, и нужно постоянно вкладывать деньги, чтобы чего-нибудь достичь.
Правильный футбол – это когда ты видишь, что команда наслаждается собой, полностью погружена в игру, со стопроцентной самоотдачей. И тогда не имеет значения, окончится матч победой, поражением или ничьей. В точности как концерт – что-то выигрываешь, что-то теряешь. Но когда видишь опущенные головы, медлительность, неспособность сделать рывок или создать новую интересную идею – это не впечатляет. Убивает всяческую страсть.
Оказавшись теперь далеко от Финсбери-парка, я не могу уследить, когда будет следующая наша игра. Каждое субботнее утро на рассвете я звоню Рэмбо, тоже живущему в Америке, за двадцать минут до игры, в панике, пытаясь выяснить, будет ли матч по спутниковому телевидению. И если бы я отказал себе в пытке смотреть, как рушится «Арсенал», я бы все равно очень, очень разозлился.
Я определенно не из тех, кто по возвращении в Лондон наблюдает игру из этих лож для знаменитостей. Меня никогда туда не приглашали, да я и не хочу этого. Мне доставляет гораздо большее удовольствие смотреть футбол в пабе с настоящими людьми, настоящими футбольными болельщиками, прислушиваясь к их добродушным поддразниваниям. Футбол подходит для этого просто фантастически. Слушать остроумные реплики людей, юмор – это блестяще, истинно в британском духе.
Но заплатить в наши дни 75 фунтов за билет, чтобы попасть на стадион «Арсенала»? Да за эти деньги они должны предоставить тебе возможность заняться сексом со всеми женами футболистов! Я бы предпочел отправиться в местечко поменьше, вроде того, где играет «Торки Юнайтед»[126]. Сколько там стоит? 20 фунтов? Это цена массажа – и, если повезет, возможно, «кульминации».
Глава 4. Вперед в преисподнюю
Sex Pistols – тема давно избитая, но большинство из тех, кто писал о нас, не отличались особой точностью. Каждый считал своим долгом высказаться о том, кем мы были или кем не были, и теперь все это зашло слишком далеко, но никто из нас четверых, ныне здравствующих, не заинтересован что-либо опровергать. Если люди настолько глупы, чтобы верить чужим версиям нашей истории, то туда им и дорога. Нам нет никакого смысла вмешиваться. И пусть наша работа говорит сама за себя.
Мы выстрелили, и выстрелили очень быстро и сильно. Мы стали, я думаю, самой мощной группой в мире. От этого очень трудно оправиться и перестроиться, поскольку это было так динамично, что пересекло все мыслимые границы и распахнуло людям разум. К несчастью для большинства, двери открывались и закрывались, снова и снова – а-а-а, отсылка к песне PiL[127].
«Пистолзы» были удивительным объединением людей, которые сразу же не понравились друг другу и относились к своим товарищам по группе с большим подозрением, но каким-то неведомым образом сумели сделать так, чтобы это сработало к лучшему. Настоящий поезд с сорванными тормозами, поезд идей и мыслей.
Все эти идеи вертелись в моей голове годами, но у меня никогда не существовало какого-то формата, чтобы собрать их воедино и представить миру. Так что возникшая с появлением «Пистолзов» возможность оказалась просто фантастической! Все это было не зря. Дремавший вулкан извергся, и все вышло наружу.
Совершенно очевидно, что слова песни «Anarchy In The U.K.» удивительны для двадцатилетнего парня. И я говорю об этом вовсе не с каким-то высокомерием. Просто мне никогда не предоставлялось возможности отойти в сторонку и понаблюдать за тем, что я делал в то время, – все было так суматошно и быстро. Постоянно что-то происходило, мой мозг взрывался от всевозможных проблем. И когда я сейчас слушаю эту или любую другую из первых песен, то реально поражаюсь тому, что придумал эти строки. Они исходят откуда-то из глубины меня, и они искренни.
Жизнь в Британии в то время очень напоминала 1940-е гг., мы словно застряли в том далеком десятилетии, со всеми перебоями с энергоснабжением, отключениями электричества и несобранными мусорными мешками на улицах. Страна все еще несла бремя огромного послевоенного долга. В отличие от Германии, которая впоследствии отстроилась, победившая Британия поимела одни гребанные проблемы. Урок, который необходимо запомнить. Война приносит экономическую катастрофу, но она же – источник благосостояния производителей оружия и корпораций. Огромную прибыль от войн получает нефтяная индустрия – вот кто реально оказывается в выгоде. А мы должны быть верноподданным пушечным мясом.
Когда моя тетя собиралась приехать к нам из Канады, то, прочтя в прессе сообщения о нехватке продовольствия, она предложила послать нам посылки с продуктами. Я никогда этого не забуду. Мама и папа были в ярости. «Нет! Никогда! Никогда! Нам не нужны подачки!»
И это определенно вдохновляло на революционные мысли. Я замечал, как все становилось хуже и хуже, и это стало настоящим топливом для того, что мы делали, – ощущение потери энергии. Все эти потребности и возможности целого поколения молодежи просто-напросто игнорировались. Как бы депрессивно это ни выглядело, как бы тяжело ни было это все пережить, все, кого я знал, оказались в одной лодке. И не могли ничего с этим поделать. Это было топливом, которое запустило двигатель того, что стало панком.
Первыми строчками песни «Я – антихрист / Я – анархист» я вовсе не пытался выставить себя каким-то пугалом. Я никогда и не думал об этом. Хотя нет, постойте, нет, нет, нет, где-то в глубине души мне казалось, что меня сочтут жертвой всего этого, отнесутся ко мне с великим сочувствием, и на меня прольются излияния любви и радости! Честное слово! Я вовсе не собирался становиться испорченным пидорасом. Дело было не в этом, и, на мой взгляд, уж точно речь здесь шла не только обо мне. Она шла о нас. Мы все получили здесь возможность высказаться – давайте же расскажем все как есть на самом деле, так?
Конечно, окружение группы в то время постоянно мне советовало:
– Почему бы тебе просто не написать песенку о любви? Почему бы тебе просто не написать хитовый сингл? Будет здорово, все будут тебя любить!
– А что, разве они уже меня не любят? Печаль.
И по сей день это все, что я слышу от разных деловых людей, – они несут полную чушь.
Строчка «Я хочу уничтожить прохожего»[128] – да, я сама любезность, я знаю – она обо всех тех людях, которые просто сидят и стонут и на самом деле не делают ничего, чтобы улучшить свое положение или помочь другим. Безучастное морализаторствующее большинство. И я решил, что слово «прохожий» – в этом смысле удачное, оно полностью отражает суть. Вместо того чтобы использовать двадцать два слова, достаточно одного.
«Ваша мечта о будущем – список покупок»[129]? Это оказалось довольно точно, правда? Похоже, именно так сейчас мир и устроен. Я это предвидел.
Строчки про ИРА и ЮДА[130] были не столько о терроризме и политических махинациях в Ирландии, сколько, знаете… «Постойте, я думал, это – Великобритания»[131]. Все эти политические интриги, разделение по религиозному признаку могут привести только к краху. Я всегда считал, что Великобритания – это хорошие люди, которые ладят друг с другом, а не Империя. И полагаю, это же очевидно, я вовсе не пропагандировал британский колониализм – наоборот.
Но нет, я не был анархистом. Я понял, что слово может вызвать гораздо большее возмущение, чем заложенная в супермаркете бомба. Письменное слово – мощная штука. Не думаю, что до меня об этом часто задумывались, по крайней мере, не в поп-музыке. В том, что я пишу, нет никакой личной мести или злобы. Речь идет исключительно о требованиях ясности от политиков. Пока я знаю, что есть что, чего вы от меня ждете и чего я жду от вас, все в порядке. Я не буду ничьим пушечным мясом. Если это дело недостойно, я с оппозицией.
По мере того как мы прогрессировали и я начал выпускать подобные песни, это занятие полностью меня увлекло, я был на все сто процентов предан делу, несмотря на то что Стив пребывал в ярости. А он часто приходил в ярость, бросал гитару и сматывал. А потом Пол вроде как пытался меня успокоить: «Не волнуйся, он всегда такой, он капризный ублюдок».
И я постоянно краем глаза ловил Стива, который твердил: «О боже, он не умеет петь, он никуда не годится», – не понимая, что это скорее: «Ну, Стив, это ты не умеешь играть! А мы делаем все, что в наших силах, приятель…» Мы были вместе меньше полугода, а уже решили, что мы дерьмо.
По правде говоря, меня вдохновляло то, что делали остальные, все трое. Я был очень, очень впечатлен. А что касается музыкальности, то кому какое дело? Это была бравада, смелая попытка прорваться в море одинаковых групп, состоявших из избалованных деток.
Мне всегда нравился подход к гитаре Стива Джонса. То, как почти разваливалась его гитарная партия, – мне это казалось абсолютно захватывающим. И как он умудрялся вытянуть ее опять. Самое близкое, что я видел у других музыкантов, – это игра Нила Янга на его альбоме Zuma[132], где песня порой балансирует на грани полного краха – самый динамичный момент. Для меня представлялось здорово просто суметь вписаться в это, и это было великолепно. Я мгновенно начинал мыслить строфами. Именно игра Стива давала мне такую возможность, и я не знаю, понял ли он это до сих пор. Не думаю, что он сознавал, насколько помогал мне, и я очень, очень благодарен Стиву, несмотря на все его презрение – на самом деле это просто вишенка на торте.
Умение Пола Кука задавать темп – поразительное и всегда было таковым. Он не выводил меня из себя, Пол, его барабаны звучали твердо, без срывов – на него можно было положиться. Когда я лажал на сцене, Пол обычно произносил самую болезненную реплику и заставлял меня ощутить всю горькую реальность промаха, тогда как от подковырок Стива или Глена мне было как с гуся вода. Пол уверенно выносил вердикт: «Сократи это, а то исправь…»
Я быстро понял, что Пол всегда готов идти на уступки Стиву. Стив мог подначить Пола попросить меня о чем-нибудь. «Э-э-э-э, гм, а тебе не кажется, что этак было бы лучше?» Все эти вещи, независимо от того, как они до меня доводились, я воспринимал с издевкой. Во многом именно они и создали проблемы между мной и Полом, поскольку он думал, что это мои к нему личные подъебки. Но это было не так. Я адресовал их тем людям, которые пытались на него повлиять. Потому что с Полом все было в порядке. И я всегда хорошо с ним ладил. Но я отнюдь не ладил с Полом, когда Стив или Малкольм шептали ему на ухо.
Очень странная она была, наша группа. Пол – тихий парнишка, не из тех, кто суетится, очень похожий на своего отца, тихий и склонный к компромиссам. Не знаю даже, о чем он думал. Пол отосится к числу людей, предпочитающих оставаться незамеченными. Но именно сочетание разных характеров и создает нечто целое, именно это сделало нас теми, кем мы стали. Я имею в виду, если бы все были такими же психами, как я, все пошло бы насмарку – осталось бы только спустить в унитаз! В этом я должен быть честен. Предоставленный самому себе, я на все сто процентов – настоящая катастрофа! У меня нет кнопки «стоп». И тут: «Да, давайте подумаем, как быть».
Я думал, что нашел свой голос почти сразу, но по-настоящему услышал себя только тогда, когда у нас впервые появились сценические мониторы, а именно на концерте с Eddie & the Hot Rods в «Марки». Это оказалось для меня большим шоком. Я случайно «сломал» мониторы, потому что не мог вынести звука собственного голоса. Дело в том, что все остальные оказались достаточно глупы, чтобы позволить мне себя услышать.
Они говорили со мной, используя музыкальные термины типа «тактовый размер», и я понятия не имел, о чем шла речь. Или: «Вступай с “соль”!» Что?! Совершенно невежественный в этом отношении, я обладал огромными знаниями музыки, но ничего не понимал в том, как она создается.
Это было захватывающе – очень похоже на то, как в детстве впервые начинаешь собирать модели из деталек металлического конструктора. Когда-нибудь получали «Мекано» на Рождество? Открываешь коробку – ты уже успел посмотреть снаружи все фотографии того, что можно собрать, – однако едва эта коробка оказывается открытой, ты полностью теряешься. Вот что для меня означало присоединиться к «Пистолзам». Я должен был быстро сложить детальки вместе и догнать их.
Стив, Пол и Глен сделали для меня удивительные вещи, и я буду любить их до самой смерти. И пусть они меня позорят сколько влезет – это их право, но именно так я отношусь ко всем, с кем работаю. Хорошо у нас идет или плохо – не важно; очень быстро ты понимаешь, что если оно вообще не идет, то ты больше и не работаешь с этими людьми.
Изначально помещение на Денмарк-стрит должно было стать нашей штаб-квартирой. Стиву, однако, были не рады в доме его матери, и оказалось, что ему негде жить, поэтому он остался на Денмарк-стрит. Он как бы превратил репетиционную в свою квартиру и попытался создать некую атмосферу, которую мы неминуемо портили, когда приходили туда поработать. У всего есть темная сторона. Поскольку стены были голыми, я принялся рисовать на них отвратительные карикатуры. Мы провели ужасно много времени, играя во вражду, разными способами заводя друг друга.
Мы все очень надеялись, что группа отвлечет Стива от воровства. Однако оказалось, что хрен редьки не слаще. Было очень трудно поладить со Стивом, когда он был не в настроении. Только Пол Кук по-настоящему понимал его. Стиву особенно хорошо удавались злые шутки, он любил поступать людям назло, и Полу приходилось терпеть это, так же как и всем остальным. Все мы рано или поздно оказывались жертвами его розыгрышей, некоторые из которых были реально на грани. Представьте себе юнцов, предоставленных самим себе.
Что же касается Малкольма, то он предпочел бы, чтобы я поменьше высказывался, потому что все еще хотел, чтобы его приняли в модное художественное общество. Один из первых концертов, которые он устроил, был в лофте того парня Эндрю Логана[133]. Он назывался «Бал святого Валентина». Это было очень странное, фантастическое место выступления, но я им не понравился. Возможно, потому что я и сказанул что-нибудь этакое.
Подобного рода чепуха была тем, ради чего Малкольм пресмыкался и к чему стремился, общаясь со всеми этими фальшивыми светскими львицами, уверявшими друг друга в собственной важности и снисходительности. Художники-мусорщики, позеры, чертовы скульпторы. Это было очень «искусно» и, следовательно, очень фальшиво.
В двух словах, Малкольм и его клика были этакими хипповатыми поклонниками искусств, реально. Они сменили шмотки, но их менталитет остался все тем же хипповским пустым тупиком. Все они целовали друг друга в зад и ничего не могли достичь, ничего не предлагали, ничего не делали. Поглощенные и очарованные собой, они закрывали двери в реальный мир. Мир, в котором я прочно укоренился.
В этом зашоренном модном Лондоне не было места для таких людей, как я, чему чертовски рад, потому что тот водоворот мог затянуть в себя, можно было поддаться общему настрою и решить, что самолюбование и самовосхваление сделают тебя спасителем вселенной. На самом деле это не так. Все они высокомерны и поверхностны, переполнены восхвалениями друг друга и из-за этого ограниченны и узколобы. У них нет настоящего понимания того, как работает реальный мир. Они погружены только в себя. Вот что я выяснил. Внешне они очень впечатляют: «Только посмотрите на этих людей, на их безумную одежду и на их типа безумный образ жизни, и все они выглядят так, будто занимаются безудержно-извращенным сексом». А на самом деле они лишь кучка буржуа из пригорода.
Малкольм был вечным студентом арт-колледжа. Однако я никогда не видел ни единого произведения искусства, которое бы он сотворил. Он окружил себя людьми вроде Джейми Рида[134], который был своего рода художником, но больше имел отношение к коммерческим аспектам искусства – подаче, упаковке и продаже вещей. Из всей компании Малкольма мне очень нравился Джейми и еще Софи Ричмонд, ассистентка Макларена. Она всегда была угрюма: «О, все уныло, мне скучно, я в депрессии». Мне было забавно находиться рядом с таким подавленным человеком. Ничто на свете не могло заставить Софи улыбнуться. Надеюсь, она это прочтет, и на ее лице появится широкая улыбка.
Малкольм снял офис на Оксфорд-стрит. В доме было две комнаты, и Малкольм всегда запирался в задней. «Что происходит, Софи?» – «Не знаю, он опять заперся!» Самой большой статьей расходов при организации этого офиса, помимо проведения телефонной линии и покупки стола и стула, стала установка двойных замков, которые Малкольм заказал в свой кабинет, чтобы убедиться, что мы его не взломаем. Он прятался там, чтобы не отвечать на вопросы. Не хотел, чтобы мы мешали его тайным планам. Малкольм держал свои идеи при себе, поскольку знал, что они будут отвергнуты, и я полагаю, что в своей иррациональной, эгоистичной манере он не мог справиться с необходимостью защищать то, что защитить невозможно. Может, он почему-то думал, что подобное поведение, этакая легкомысленность, делает его артистом. Это не так – все привело к какому-то аутизму и просто спровоцировало раздрай между всеми нами.
Так что случалось много ссор. Одна из них произошла в том пабе, «Нэшвилл», в Кенсингтоне. На самом деле мы играли там дважды, и во второй раз атмосфера была просто ужасная – Вивьен ударила кого-то в толпе. Все это превратилось в знатную потасовку между тем парнем и Гленом из серии «я или он», и, гм, догадайтесь, чем все завершилось? Ну да, в конце концов, победил «он»!
За все эти годы между мной и Гленом произошло много горького и перевранного, но я не хочу, чтобы это осталось так, потому что на самом деле Глен мне очень нравится. Нет, хочу! Иногда. Ха-ха-ха! Я понимаю, откуда все пошло, но для меня это два шага назад – совсем неинтересно. Я вовсе не считаю его темным, злым существом. Он просто хочет жить в счастливом мире, где все ладят. К несчастью для нас, этот счастливый мир должен быть устроен по его правилам, а это неприемлемо.
Были и другие проблемы, как, например, ходившие повсюду слухи о «желании быть похожим на Bay City Rollers[135]», хотя никто мне прямо об этом не говорил. Предложение было хитро передано мне через Малкольма, но это – совсем не то, чего я хотел. Тексты становились все жестче и жестче. Стив… Я тогда и не подозревал, что он не умеет ни читать, ни писать, и списал его отсутствие интереса к тому, что у меня было на бумаге, на простую небрежность. Это оказалось не так; на самом деле он просто не имел ни малейшего понятия, о чем я. Единственным, кто действительно читал тексты, был Пол Кук – его интересовало то, что я придумывал. Подход же Глена был таков: «Это не соответствует музыке. Ты не попадешь в такт». Как тут не подумать про себя: «Да только попадись ты мне, долбоеб!» Но между нами никогда не было открытого насилия. Пинались и толкались, но ничего откровенно грубого или отвратительного.
Нам вполне грозила опасность ударить в грязь лицом, но мы уперлись, и все получилось. Мы и в самом деле усердно работали, что часто упускают из виду. Да, мы работали очень, очень тяжело, и совсем без денег. Одним из тех, кто обратил на это внимание, был Крис Спеддинг, бывший в то время гитаристом Брайана Ферри. Он потратил немало времени, чтобы нас кое-чему научить. Отвез нас в настоящую студию звукозаписи и помог сделать демозапись, которая оказалась просто фантастической. И это открыло наш разум для новых возможностей.
До этого мы делали и другие демо с нашей дорожной командой, состоявшей из парочки хиппи с завалявшейся звукоаппаратурой, но это совсем не то же самое, что работать с профессионалами, – когда ребята, на самом деле занимающиеся звукозаписью, показывают, как все делается. Это было фантастически и лишь укрепило наше желание двигаться дальше.
Со стороны Малкольма отсутствовала какая-либо стратегия. Все происходило случайно – он действовал, скорее, наобум. Поднять трубку и сделать звонок – чего он даже сам не делал, этим занималась Софи, – не думаю, что это можно назвать стратегией. Малкольму каким-то образом удавалось вызвать раздражение у каждого, к кому бы он ни обращался. Многие агенты выгоняли его из офисов, некоторые даже с применением физической силы. Им не нравились его высокомерие, его тон, его поверхностность. Ты можешь быть снобом, но веди себя прилично. Эти ребята не хотели тратить свои деньги на то, что им представлялось фантазиями какого-то помешенного на собственном эго парня.
Он устроил нам кучу концертов на севере, но заказывать Sex Pistols на встречу тедди-боев в Барнсли было не очень умно, правда, Малкольм? Вечер мог закончиться очень печально. Когда вы находитесь в не том месте, играя для не той публики, концерт может стать настоящей зоной боевых действий. На тот момент у нас все еще был наигранный пятнадцатиминутный сет, который пришлось исполнить дважды. Среди публики преобладали очень злые тедди-бои средних лет. Они пытались вспомнить свою юность, но у нас – юнцов нового поколения – не было того, что им хотелось.
Следующий вечер в Скарборо оказался просто невероятным. Ненависть! Погода выдалась совсем не по сезону, и вокруг не было никого, кроме местных. Снаружи шел проливной дождь, жуткая холодрыга и штормовое море. Со сцены, через заднюю стену клуба, в которой были сделаны огромные окна, виднелся океан.
А перед сценой столпилось человек триста залившейся пивом гопоты, которые совершенно точно думали: «Эй, слабаки с юга, а не слишком ли сильно вы выеживаетесь?» Я пытался петь, дубася приближавшихся ко мне штативом микрофонной стойки – железным наконечником, который удерживает стойку вертикально. Через какое-то время ты уже входишь в раж, не пропускаешь ни единого такта и продолжаешь песню, и это становится чрезвычайно интересным для людей, которые до того считали тебя своим врагом. Они начинают обращать на тебя внимание, потому что ты тут не просто ради какой-то провальной потасовки, у тебя, видимо, цель поважнее. В конце концов эти люди воспринимают тебя своим приятелем только потому, что в тебя только что угодили бутылкой. Это уважают.
Каждый концерт был похож на битву, но мы выдержали. Музыкальная пресса начала освещать то, что они называли «насилием» на наших концертах, но, надо сказать, они изо всех сил старались выискивать подобные инциденты. Да пойдите на концерт Джастина Бибера, даже там в зале могут начаться драки. Это в порядке вещей. Заведите кучу людей одновременно в одно здание, и будет потасовка.
Никогда, ни в коем разе я не проповедовал насилие. У меня настоящее рабочее происхождение, и в моем окружении насилие считалось в порядке вещей, а мне, возможно из-за перенесенной в детстве серьезной болезни, приходилось всегда искать иной выход из положения.
Может быть, я и говорил что-то там, чуть выше, но… О, это все шуточки! Никогда не принимайте это за сопротивление, если, конечно, меня не пытаются убить, тогда у меня найдется сказать что-нибудь посерьезнее. Мне нравится давать и брать. Нравится, когда люди выкрикивают что-нибудь. Я отвечаю. Это связь. Они – люди, они пытаются поздороваться. Они вовсе не желают тебя оскорбить, хотя некоторые их реплики могут обернуться именно так.
Дерьмо иногда случается, и время от времени в зале появляется какой-нибудь человек, от всей души ненавидящий саму землю, на которой вы стоите, и тут уж ничего не попишешь, приходится иметь с ним дело напрямую. Самое последнее, что можно сделать, – покинуть сцену, поскольку 99,98 % зрителей находятся в зале с абсолютно правильными намерениями. Ты просто должен принять вызов.
В Лондоне из-за всей этой ерунды дошло до того, что никто не хотел разрешать нам играть в своем клубе, кроме Рона Уоттса из «Клуба-100»[136]. Рон мне очень нравился. Он был воспитан на джазе. И это – джаз-клуб, но, будучи парнем очень честным и непредубежденным, Рон был готов дать шанс любому. Он как-то сказал тогда: «Будь это Джордж Мелли[137] или Sex Pistols, какая разница?»
Не думаю, что ему очень нравился Малкольм, но, с другой стороны, того вообще мало кто любил. Малкольм заявился туда в своем фирменном стиле «Я – королевское высочество» и умудрился оскорбить персонал и владельцев этой явной помпезностью. Он всегда старался преувеличить свое положение, что, конечно, делало его мишенью бесконечных насмешек не только со стороны посторонних, но и даже со стороны Стива Джонса – он был в этом, ффу-у-ух, как масло на тосте. У этих двоих сложились очень странные отношения. Стив не хотел ничего делать без разрешения Малкольма, однако потом день и ночь над ним подтрунивал. Глубоко порочная манера, но Малкольму, похоже, это нравилось. Пойди тут разберись.
Я же не мог растрачивать свою энергию на сарказм по отношению к Малкольму. Чем дальше я держался от этого, тем меньше была вероятность выпалить ему какую-нибудь дерзость в ответ на: «Как мне кажется, Джон, что ты должен сделать, так это…» Единственный раз в жизни Малкольм попробовал ко мне обратиться и был послан так, что больше не повторял своих ошибок!
Во время жары, которая обрушилась на Британию летом 1976 г., боже мой, я делал все, чтобы не загореть, но это было неизбежно. Мне нравился мой мертвенно-бледный цвет лица, потому что я был в большей степени ночным созданием, но эта ужасная, смертельная дневная жара, особенно когда пытаешься в это время выспаться, – нет, ни за что! Поэтому примерно в это время я типа изменил свой режим сна и бодрствования и стал больше выбираться из дома днем. Пришлось, спать все равно в такую жару было невозможно. Жара стояла просто нереальная, хорошо за тридцать. Так странно, так не по-британски. Хотя не помню, чтобы кто-нибудь из лейбористов на это жаловался.
Погода влияет на все, это заложено в самой природе, приходится учиться поспевать за ее причудами. Противостоять им невозможно, вас просто расплющит. Однако, с другой стороны, это оказался настоящий дар свыше, и с тех пор в Лондоне все изменилось. Я заметил, что в ресторанах начали ставить снаружи стулья, потому что сидеть внутри было слишком жарко, и Лондон стал очень похож на Европу. Однако едва подобного рода двери открываются, в глобальных масштабах, их уже не закрыть, поскольку к хорошему быстро привыкаешь.
Мне очень нравилось играть в «Клубе-100» в то лето, по мере того как росла наша популярность. Да, это был потный подвал, но там установили нечто похожее на кондиционер, пусть даже звук его напоминал рев авиационных двигателей. У меня осталось только одно смутное воспоминание о том, как я был на сцене, и это связано с фотографией, на которой я стою на полу на коленях в своем разорванном джемпере и ору в микрофон. Я помню, как делал это и чувствовал: «О, посмотрите, что я могу! Я реально наслаждаюсь этим, мне это нравится. Нравится быть в группе, нравятся песни, нравится сила и энергия всего этого, и, клянусь богом, посмотрите на счастливые лица вокруг. Все возможно!» Нас часто изображали на сцене как помешанных на спидах маньяков, однако этот образ был далек от реальности. Другие трое участников группы вообще не имели к подобному отношения. Несмотря на то, что много лет спустя Стив присоединился к анонимным алкоголикам, он никогда особо не употреблял, щепотка солей, и то едва ли. А я… Я остановился. Я не собирался слишком увлекаться наркотическими радостями, поскольку действительно хотел реализовать предоставившуюся мне возможность. Кроме того, ты не можешь петь на любых стимуляторах, просто забудь об этом, это не сработает, с твоим-то учащенным сердцебиением… Ты закончишь песню еще до того, как группа выйдет на сцену. Все это делает тебя слишком взбудораженным, чтобы сосредоточиться на работе, – не совсем то, чего бы хотелось на сцене. Сердечный приступ, паника – вполне вероятные последствия. Я не люблю находиться в состоянии тоски, поэтому для меня наркотики всегда были строго факультативными.
Мой любимый напиток перед шоу в те дни был Liebfraumilch, немецкое вино, – с ним меня познакомила Нора, моя будущая жена, хотя и сказала, что оно отвратительно. Материнское молоко. Да, оно было ужасно, но, черт возьми, это помогло мне пережить… сколько концертов?
Еще одна легенда о панках гласит, будто все мы были на пособии. Ну, а на самом деле мы – не были. Пол довольно долго работал на пивоварне «Фуллерс» в Чизвике. Он был там стажером-электриком. Я старался заработать как можно больше денег и всякого такого. Тогда я еще учился в Кингсуэе, но по мере того, как все больше погружался в «Пистолз», учеба стала невозможной, я не мог сосредоточиться на двух вещах одновременно. Это было типа – рискни, прыгни, нырни, соберись. И я полностью посвятил себя группе. Поэтому меня страшно бесило, что Пол вовсе не собирался следовать моему примеру, и расписание репетиций подстраивали под его работу.
Мы совершенно ясно демонстрировали всем, кто нас видел, что это возможно – возможно, без значительной финансовой поддержки. На самом деле, нам удалось забраться так далеко вообще без всякой поддержки. Мы сделали это до работы со звукозаписывающими компаниями, до всего подобного – мы продвинулись сами. И у нас не было никого, чтобы научить нас тщеславию. Тщеславие – это то, чему ты учишься, нельзя просто так начать нести весь этот вздор.
Когда собирались люди, чтобы на нас посмотреть, для меня главным было не просто выступление, мне гораздо больше нравилось то, что происходило потом – разговаривать с людьми, узнавать, каковы их интересы, их идеи и мнения, и обнаруживать, что все они смотрят на жизнь с разных сторон. Да, публика в Бромли будет сильно отличаться, скажем, от той, с которой вы столкнетесь на севере, но все эти люди одинаково интересны и одинаково равны.
Так называемый «контингент Бромли»[138] был словно создан для Sex Pistols. Многие из них вышли из среды поклонников Боуи и Roxy Music, где все были помешаны на том, чтобы одеваться соответствующим образом. Концерт Roxy Music, особенно большой концерт, был, скорее, про то, чтобы выделиться в фойе. Сам концерт оказывался уже делом второстепенным. И у разных группировок фанатов было разное чувство моды; среди них царило товарищество, но нельзя забывать и про чувство конкуренции.
Когда выглядеть в стиле «Рокси» стало отстойным, не осталось никого, чтобы заполнить вакуум. А затем взлетели мы, и это было: «О, ха, да, пожалуйста! Теперь мы все можем быть самими собой!» Любой мог признаться, что ему нравится совершенно разная музыка, и создать свой собственный образ. Вовсе не обязательно было копировать какого-нибудь чувака со сцены. Это открыло перед ними новую дверь, за которой можно было оторваться от элемента соревновательности и ограничений, поскольку все это становилось уж слишком похоже на бальные танцы – я имею в виду, жесткую ограниченность чрезмерного увлечения костюмами. Мы позволили себе отдохнуть от этого, и бинго, вот оно! Открылось множество дверей, и сексуальная ориентация уже не имела ни малейшего значения. Никто никого не осуждал.
На самом деле вначале появилось множество маленьких глэм-роковых команд, и мы открывали их для себя. Чем больше они отличались, тем интереснее выглядели. Однако с этой сценой вскоре было покончено. Мир отошел от высокодраматичной тревожной музыки, и, честно говоря, Roxy Music делали это лучше всех, так зачем было пытаться стать их продолжением.
Так что было здорово, когда народ просек фишку и стал создавать свои собственные группы. Если я могу это сделать, то и ты сможешь. Это были дети нашего возраста, но не только из моего окружения – из самых разных социальных слоев. Фантастика, настоящее слияние различий. Девчонки, которые могли постоять за себя, из этих замечательных женских групп, типа X-Ray Spex[139] и Slits[140]. Было так много всего этого, так много различий между группами в музыкальном плане. Невероятно интересный и захватывающий период – наблюдать и слушать такую музыку. И «Рокси» был для этого отличным клубом. Несмотря на то, что «Пистолзы» на самом деле никогда там не играли, у нас было место, чтобы как-то выразить самое разное друг к другу отношение. Я всегда думал, что в этой среде прежде вообще не было никакого чувства конкуренции, пока благодаря средствам массовой информации панк не стал доступен самым широким слоям населения, не начали возникать клише, эти вопли на сумасшедшей скорости.
Все это пришло в большей степени от The Clash и The Damned[141], чем от нас. И это было очень похоже на ритм-н-блюзовые команды Джо Страммера, в которых он играл до того, как присоединился к The Clash. Это был бы какой-то бешеный рокабилли на сумасшедшей скорости, который мне никогда не нравился. Не поймите меня неправильно, я любил Джо. Поначалу он был очень дружелюбен, дружелюбен, дружелюбен, но вскоре все изменилось, едва только Джо начал воспринимать The Clash слишком серьезно.
Для меня ярким светом в этой группе всегда будет личность Мика Джонса – прекрасный человек, по-настоящему теплый. То же самое с басистом Полом Симононом – он шикарный парень, скажем так, из хорошей семьи, но двух слов связать не мог. Я всегда списывал это на застенчивость. По отдельности они все мне очень нравились. Ребята играли к тому времени всего пару месяцев, когда выступили у нас на разогреве в кинотеатре Screen on the Green в Ислингтоне. Они пришли с таким количеством оборудования – о боже, у них была огромная акустическая система озвучивания, которую, конечно, они нам не одолжили. Поэтому, когда разогревающая группа удалилась вместе с этими огромными ящиками, мы снова оказались на сцене с нашими маленькими коробочками.
Группа, которую я любил, – Buzzcocks[142]. Отличные, веселые тексты, совершенно иной подход к музыке. К сожалению, в то время, когда все было свалено в кучу и называлось «панком», люди действительно не замечали, что Buzzcocks были немного в стороне от проторенной дорожки.
Они играли свои первые концерты с нами, в Манчестере. Все, что я помню, – это бесконечные споры, что бы вы ни упомянули. Помню еще, как их солист, Говард Девото (он ушел вскоре после этого), и парень, который стал новым солистом, Пит Шилли, отвели нас в паб под названием «Томми Дакс», где самым большим приколом было подвешенное к потолку нижнее белье, и я вел себя соответствующе. Просто мне все это показалось довольно глупым. Ну, потому что ты нервничаешь перед выступлением и не готов к подобного рода идиотским ситуациям, так что я был немного к ним несправедлив, но мне кажется, они поняли, что мы такие, какие есть. Ты всегда должен быть самим собой. Много лет спустя мне пришлось извиниться.
Малкольм любил изображать себя дирижером бурно развивающегося движения, но все это происходило вне его контроля. Буквально каждый его шаг был бестолковым. В сентябре он впервые взял нас с собой во Францию, и в итоге мы играли в переполненном зале парижской дискотеки для твердолобой толпы любителей диско. Ну, понимаете: «Это не есть быть “Би Джиз”, п’гавда?» – «ДА-А-А!»
Но как чудесно мы провели время! На мне был баскский берет и все такое. Малкольм повел нас в шикарный бар с открытой верандой, где, по-видимому, тусовались все крутые селебы Парижа. Он познакомил нас со своим другом-мультимиллионером, который пригласил всех в пятизвездочный ресторан французской кухни. О, обожаю – самый большой, самый жирный, самый сочный, самый сырой, самый кровавый стейк из всех возможных, и я залакировал его перепелкой – целой перепелкой, которая выглядела точно так же, как мой любимый волнистый попугайчик. Крошечная птичка, абсурд. В чем суть всего этого? Никогда не понимал фишки, но я оценил изумительный вкус.
Так что это открывало разум разным интересным штукам, но не позволяло превратиться в изнеженную культурную шлюху. Совсем наоборот. Я думаю, что подобный уровень качества должен быть доступен всем нам. Это мой образ мыслей. Откройте двери. И если вам удастся приоткрыть щелочку, просто пните дверь немного сильнее, чтобы за вами последовали другие. Чтобы сделать мир лучше, а не хуже.
Глен думал примерно в том же духе, но его идея того, что такое «лучше», была обременена правилами. Ты не должен материться, потому что, понимаешь, дети, это же плохо на них влияет. Мы тогда сильно поспорили, и, да, я утверждаю, что не существует такой штуки, как ругательства. Все это вопрос интерпретации. Ругательства – просто издаваемые людьми звуки, которые обладают определенным эффектом. И это относится к любому слову, а как только вы начинаете запрещать слова, вы запрещаете то, что делает человека человеком. Как, черт возьми, мы можем умалять себя таким образом? Это не акты насилия. Это мнения, и если твое мнение ошибочно – что ж, тем веселее. У-ух, класс, почему бы тебе не сгореть синим пламенем! Да кто вам мешает говорить всякое дерьмо. Одно только «но»: если говоришь дерьмо, его же в ответ и получишь.
И еще одно наше легендарное выступление, которое не было спланировано Малкольмом, а состоялось по приглашению. Как, однако, странно, что Челмсфордская тюрьма строгого режима пригласила туда играть «Пистолзов» – убийц и психов. Фантастический концерт и фантастические заключенные. Сколько же дури было у этих парней! Все они мотали серьезные сроки; среди них не было тех, кто сел за то, что подрезал сумочку, – по крайней мере, в толпе, которая пришла на нас посмотреть. Это были реальные люди, которые попали в сети нашей говносистемы и по уши увязли в ее проблемах. Очень легко стать преступником, не понимая правил. Я вижу в каждом заключенном в той или иной степени жертву, в этом проявляется мое сопереживание. Мне это нравилось.
Те парни поняли наши песни, скажу я вам. На середине «Анархии» я бросил в зал: «Кхе-кхе, запах марихуаны меня тормозит!» Но когда их вот так вот запирают, все, что у этих бедолаг остается, – это наркотики. Боль, которую я испытывал за них, была заперта без надежды выбраться.
После концерта мы поговорили с ними – не было никакого контроля со стороны тюремных властей, и мы не были отделены от нашей публики. Они не хотели причинить нам вреда, и многие из них ожидали, что я вскоре стану их товарищем по заключению. «Ты на пути к гибели, ты на пути!» С тех пор я доказал обратное, но они понимали наше общество и то, как оно может против тебя обернуться.
Когда мы собрали кучу групп на двухдневный панк-фестиваль в «Клубе-100», слово «фестиваль» было намеренно использовано совершенно неподобающим образом, с большой долей юмора и ни в коем случае не должно было восприниматься так серьезно, как это было до тех пор. Назвать это фестивалем означало устроить самим себе розыгрыш, вволю посмеяться. А тогдашние репортеры – да, собственно, и до сих пор так считается – восприняли все абсолютно на голубом глазу как какое-то ортодоксальное, продуманное, серьезное мероприятие. Нет, чушь полная! Это была просто куча групп, которые собрались, чтобы повеселиться, развлечься и некоторым образом дать знать о своем существовании.
Бо́льшую часть репортажей заняли события, связанные с журналистом «Нью Мьюзикл Экспресс» Ником Кентом. В какой-то момент он думал, будто является членом Sex Pistols, – он участвовал в той странной репетиционной неразберихе задолго до того, как я присоединился к группе. Впоследствии он превратил себя в рупор разногласий по поводу «Пистолз». Поэтому едва он объявился на «фестивале», все отреагировали типа: «Ага, попался!»
В ту ночь его избил Сид. Что я могу сказать? Меня поражает, что он вообще упомянул об этом, потому что быть избитым Сидом почти невозможно. Если ты будешь говорить гадости, рано или поздно кто-нибудь попытается сказать тебе, чтобы ты заткнулся. У многих людей возникали проблемы с Ником Кентом. Нельзя просто так быть таким злобным и неточным в том, что ты пишешь, и думать, что это останется без последствий. Сид тогда еще не был в «Пистолз», он просто злился на то, что читал.
Но я наслаждался «Фестивалем» в «Клубе-100». На мой взгляд, такое разнообразие групп было потрясающим. Можно было просто стоять в толпе, слушая их всех, а потом пойти и внести свою лепту. Это было невероятно приятно. И, конечно, мы все вместе выпивали, каждый из присутствующих был изрядно навеселе. На тебя не давил тяжкий груз необходимости выглядеть грандиозно. Ты просто был самим собой, а потом оказывался в толпе и братался с публикой. Это было удивительное чувство близости. Обожаю. Чувство товарищества, и, казалось, не было никакой высокомерной ревности к другим участникам.
Девушки, которые ходили тогда на концерты, обладали исключительным творческим гением в плане одежды. Там была целая толпа девчонок, которые начали носить мешки для мусора задолго до того, как это просекла пресса. Из-за забастовок на улицах было полно свалок, и соорудить прикид из мусорного пакета казалось вполне естественным – отсюда все и пошло. У властей закончились черные мусорные мешки, поэтому они начали выпускать ярко-зеленые и ярко-розовые. Поразительные цвета, и идеально, если вы не можете себе позволить дорогой псевдо-панковский прикид – просто натягиваете один из этих мешков, парочка поясов, заклепки, и бинго, носите на здоровье! «Отлично, ну и где там мальчишки?»
Бондажные шмотки Вивьен, с другой стороны, были самой ограничивающей, отвратительной, раздражающей вещью, которую только можно было надеть. Я чувствовал себя в них полным ненависти. Обожаю! Теперь молния на брюках тянулась от задницы к переду. Проблема заключалась в том, что они были слишком тесными – Вивьен всегда кроила брюки под женскую фигуру, и это заставляло мужские гениталии внутри чувствовать себя невероятно неудобно. Эта чертова линия банта, передний срез брюк, была в нижней части скорее V-образной, какой там плавный изгиб, а затем резко шла вверх. Твоим причиндалам было негде разместиться. Проклятье, так что тебе приходилось перекладывать хозяйство то влево, то вправо. Помните присказку старого портного – сэр одевается налево или направо? Но даже в этом случае места не хватало… Так неудобно!
Она никогда не понимала форму человеческого тела и, я думаю, горько на него обижалась. И Вивьен, конечно, не имела ни малейшего представления о том, как располагаются мужские гениталии. Вот что бывает, когда у тебя любовник – Малкольм: она устроила роскошную кастрацию своим обожающим поклонникам моды!
Бондажные штаны с ремнем между ног – это одно, верно? Для меня, имеющего очень хорошее представление о футбольной культуре – я вырос на этом, – идея «Я не могу в них бегать, поэтому должен стоять и драться» была хороша, но Вив же делала совсем по-другому. И да, что касается молний, послушайте, это просто невыносимо стесняло яички. Ее ответ был прост: «Ну, тогда оставь молнию открытой!» Так вот: я попробовал это сделать на одном концерте, кажется, в Лидсе. Нет, в Мидлсбро. На мне были бондажные штаны, и когда я оставил молнию открытой, случилось следующее: молнии по обе стороны моих гениталий впились в меня, как пара острых пил, что привело к действительно серьезной инфекции. Через пару дней ты даешь интервью невероятно важному музыкальному журналу, и они спрашивают тебя, каково это – быть рок-звездой? Ха-ха-ха! Ну давай, Джон, все девушки, должно быть, от тебя без ума! А ты думаешь только о том, что в данный момент уж точно никак не можешь показать женщине пару своих наполовину распиленных орехов. Мое мужское достоинство оказалось под угрозой.
И, боже, если тебе не везло с молнией, которая тянулась от задницы до переда, это было очень больно, поэтому ты должен был внимательно следить за тем, как садишься. Они были скроены исключительно на женщин. Но Вивьен объясняла это так: «Все это часть твоего опыта рабства». Дословно цитирую. Эта женщина была просто уморительна!
Но вскоре о ножные ремни спотыкались уже все. По всему миру! Немного отвлекусь, но это отличная история: мой очень хороший друг, Пол Янг – не поп-певец, – купил как-то себе такие брюки, и его мама отутюжила на них спереди стрелки! Стрелки на бондажных штанах! Она хотела как лучше – это хорошо, когда о тебе кто-то заботится, но боже мой, представьте, насколько болезненно воспринял это подросток? Но не волнуйтесь – всего час в таких штанах, и эти складки прекрасно разошлись от пота.
Должен, однако, сказать, что ее футболки были потрясающими. Мне понравился дизайн одной, скроенной в виде двух сшитых между собой квадратов. Это была задумка Вивьен, там был еще какой-то написанный спереди диалог или что-то типа того, но сама идея сделать футболку из двух квадратных кусков ткани, сшитых вместе от линии горловины до края рукава и от подмышек до низа, превосходна. И зачем нужны вещи по фигуре? Мне это нравилось, за исключением разве что тех случаев на сцене, когда ты совершаешь свою самую стремительную, самую крутую пробежку, а потом появляется фотография чего-то похожего на пивной живот, а тебе всего двадцать. Понимаете, слишком коротко.
Постоянная проблема, с которой я сталкивался в творениях Вивьен, заключалась в том, что эстетика значила для нее гораздо больше, чем реальная физиология человека. Другой проблемой были вечно распускающиеся нитки, поскольку швы она никогда не закрепляла. С другой стороны, у нее действительно не было денег, чтобы нанять хороших швей и сделать правильную отделку, так что все это – дело случая. Я имею в виду, что она реально пережила тогда целую вселенную всяческих напастей. С тех пор мы с ней встречались, и на протяжении всех этих лет она говорила обо мне очень плохие вещи, да и я говорил о ней ровно то же самое. Но я все еще уважаю ее. Кто еще способен так ходить по краю? Кто еще? В том-то и радость от того, что мы делаем, – когда мы говорим друг о друге, мы словно подталкиваем друг друга к следующему шагу. Но в прессе все это совершенно неправильно обозвали «сварой».
Хотя замечу, что у Вивьен всегда был очень сложный характер. Очень неумолимый и осуждающий, и с ней очень трудно ладить. И еще ее манера – она стояла там, выкрикивая оскорбления, взирая на весь мир, как индюшка! О, помню один ее наряд – Вив кричала на меня перед каким-то концертом, на ней был цельный, облегающий, застегивающийся на молнию резиновый комбинезон телесного цвета, на месте сосков были продеты красные кольца, и этот костюм доходил ей до самой шеи. Плюс еще волосы торчком – она на самом деле выглядела как индейка. Истощенная, ощипанная индейка. Ее морщинистая старая шея пыталась высунуться из этой штуки. Это было до того, как Сид присоединился к группе. Я не понимал, о чем она говорит. Кому какое дело? Я просто смотрел на эту нелепую штуку перед собой, и Сид заметил: «Да заткнись ты, индюшачья шея!»
Теперь я жил в квартире Линды Эшби в Сент-Джеймсе, сразу за Букингемским дворцом, почти напротив Скотленд-Ярда. Линда тусовалась с кем-то из «контингента Бромли». Фактически она была девушкой по вызову, и все ее подруги были такими же. Мне очень нравилось их общество. Они мне казались действительно открытыми, честными людьми. Как только они заканчивали со своей утомительной деятельностью на ниве секс-услуг, этой ежедневной рутиной, с ними было очень весело общаться, поскольку отпадала необходимость хранить какие-то личные секреты.
Мы познакомились через девчонок из лесбийской тусовки, которые часто ходили на концерты Sex Pistols. У «Пистолз» всегда было много поклонниц-лесбиянок, и они мне очень, очень нравились. На самом деле они очень ранимые, теплые люди. Я понимаю, что они дают друг другу то, что не могут дать мужчины. Больше силы! Как чудесно сидеть на диване между двумя лесбиянками – такого тепла ты не испытывал никогда в жизни. Просто невероятно, насколько открытым может быть подобное чувство. Знаете, если вы находитесь там, где вам не стыдно за себя, это знак того, что вас окружают хорошие люди, – ключ к поиску правильных по жизни людей. Всегда общайтесь с теми, кто не стыдится себя, будь то лесбиянки, геи, гетеросексуалы, черные, белые, кто угодно – ебанутые, психически ненормальные, извращенцы или просто абсолютно нормальные. Если они действительно имеют в виду то, что говорят, и являются теми, кто они есть, это очень комфортная среда.
Мне очень, очень нравилось общество Линды. Я любил ее до безумия. Между нами не было никаких «отношений», ну, разве что некая общность двух психов. Она была прелестной девушкой, которая втягивала меня в действительно замечательные ситуации.
Например, Линда однажды познакомила меня с Джереми Торпом в баре в здании парламента. В то время он был лидером Либеральной партии в Великобритании, однако его политическая карьера вскоре закончилась гей-секс-скандалом. В парламенте проводилось какое-то вечернее мероприятие с выпивкой, и у Линды был туда доступ, поэтому она взяла меня и еще пару человек. Несколько пенни за пинту – возмутительно, блестяще, какое замечательное для выпивки место! Где-то неподалеку возвышалось здание парламента, а мы стояли там под специально раскинутыми навесами, глядя на Темзу, окруженные этими депутатами, которые весь день, кажется, ссорятся и ненавидят друг друга, но вот они тут – обсуждают, кто с каким эскортом покинет вечеринку.
Мои представления о продажных депутатах всегда многократно усугублялись, когда я получал возможность наблюдать за ними застигнутыми врасплох. Наверное, они решили, что я проститутка мужского пола, просто с несколько иным стилем одежды. Я никогда не одевался откровенно сексуально, так что мне повезло – я не привлекал к себе подобного внимания. Скорее, отталкивал.
Так что в ту ночь я был свободен от поползновений геев-депутатов. Я определенно не был тем, кого мог искать Джереми Торп. И только посмотрите на скандалы, которые развернулись всего через пару месяцев – вокруг нас обоих! Он был так знаменит своими твидовыми пиджаками – ну, знаете, классическими британскими костюмами, это была его фишка – и своей дурацкой маленькой шляпкой. Когда много лет спустя, в 2007-м, я надел твидовый костюм на мероприятие «Пистолзов»[143], то, танцуя в этом наряде, в глубине души думал о Джереми Торпе.
К концу лета концерты стали очень напряженными. На том, что проходил в кинотеатре «Screen on the Green», было полно народа из музыкальной индустрии, всяких людей из звукозаписывающих компаний, занимающихся поиском новых исполнителей и так далее. Это был очень странный концерт, все, что с ним связано. Меня не особенно порадовала идея Малкольма показать перед нашим выступлением фильмы Кеннета Энгера[144]. «О, черт возьми, да это геи, одетые как “Ангелы Ада”, сосут друг другу члены. Правда, Малкольм, разве это Искусство?» Но в «Screen on the Green» заведовал всем очень хороший парень по имени Роджер, и это была его работа – продвигать это безумное кино не для всех. Наверное, и я бы предпочел, чтобы они демонстрировались на экране на концерте Sex Pistols, а не между Дональдом Даком и Багзом Банни.
Я сидел в толпе, смотрел эти фильмы и задавался вопросом: «Интересно, о чем думают люди?» А люди не думали ни о чем, кроме: «Посмотрите на этих старых пердунов, пытающихся произвести впечатление». Таково было общее отношение собравшейся там молодой публики; все это выглядело каким-то утомительно-пресыщенным и было наполнено энергетикой в стиле заблудшего Джеймса Дина. Помню, я сказал все это Малкольму. Это было так забавно. Рядом со мной сидел Джон Грей, который поинтересовался: «А где в этом фильме девушки, Малкольм?»
Я вообще понятия не имел, как заключались сделки со студиями. Конечно, Малкольм делал все это за кулисами со своим адвокатом, которого я никогда и в лицо-то не видел. У меня с самого начала были большие сомнения в юридической силе контракта с EMI, поскольку при подписании мои интересы не представлял мой адвокат. И я всегда держал это в уме, думая, что, если в будущем возникнут проблемы, у меня будет возможность воспользоваться этой лазейкой и как-нибудь отвертеться. Типа что в контракте есть нестыковки. И, как всегда, я ошибся в том, что касается законов.
Будьте очень осторожны с тем, что вы подписываете, я обращаюсь сейчас к каждому в этом мире! Даже если вы думаете, будто знаете, о чем идет речь, вы очень легко можете обнаружить, что ничего не знали! Формулировки контрактов настолько мудрены и запутаны, что с таким же успехом их можно было бы написать по-вьетнамски. То, что, как вам кажется, вы поняли абсолютно ясно и четко, оказывается неправильным и на самом деле имелось в виду нечто совершенно другое. Ты запутываешься в этих вещах, а потом годами пытаешься их распутать. Итак, ты проходишь через все это, и вот он, твой первый контракт на запись, и ты жутко взволнован. Иначе и быть не может, ты думаешь, будто чего-то добился, обеспечил себя деньгами до конца жизни. Ура! Достижение Номер Один. Но это не так. Такова жизнь – череда взлетов и падений.
Ходили разговоры и о других лейблах, таких как Harvest и Chrysalis, которые я очень любил, когда был помоложе, но они все погрязли в хиппизме и уж там точно не было места Sex Pistols. Это совершенно другой жанр, и там бы пришлось менять все, от туалетов в подвале до кладовой на чердаке, чтобы приспособить к совершенно иному подходу к жизни. Так что нет, это не выход.
Было очень трудно сказать, что происходит, кроме того, насколько утомленной и старой студией была EMI и насколько потерянной. Они и понятия не имели, как инвестировать в будущее. Они, вероятно, просто увидели нас: «О, смотрите, похоже, группа может дать какую-то движуху. Давайте ими займемся!» Мы были не первой панк-группой, подписавшей контракт. The Damned сделали это незадолго до нас, что было весьма забавно, – использовав наше старое панковское прозвище[145] и опередив нас на один шаг. Не знаю, были ли они очень довольны своим положением. Об этом мало что говорилось.
Я полагаю, на EMI думали, что это все только шуточки, и они реально, на самом деле реально не справились с тем, во что это вылилось. Весь наш хардкорный напор просто потряс их до основания, так что пришлось быстро убираться из EMI. И во многих отношениях это было здорово, поскольку записи, которые мы сделали для EMI, были настоящим дерьмом, я не преувеличиваю, – они записали такие отвратительные демо, что полная безнадега. То, что в результате получилось, иначе как бездарным шумом не назовешь.
Была тогда записана печально известная ранняя версия «Анархии», полный отстой. В то время мы ее так и не выпустили, и слава богу. Мы порядком поджали хвосты со стыда за то, насколько это оказалось ужасно. Так что наша следующая попытка записать сингл, уже с Крисом Томасом, выстрелила точно в цель – ну, вы знаете, «если долго мучиться, что-нибудь получится». Можно сделать хорошую запись и с фальшивыми нотами, дело было не в этом – всему свое время.
Мой голос сошел с ума на строчке «Is this the I-R-Aayyeeaaaye», но в этом-то и заключается вся магия. Именно так я и чувствовал себя в тот момент, однако парни на студии оказались не очень довольны. «Iiiyiis thii-iis ver…» – «О, нет, ты не можешь делать это таким образом, Джон». – «Я только что сделал. Баста». Мне нужен всего один дубль. И многие продюсеры (когда я уже работал с профессиональными продюсерами) настаивали – или любезно просили, что приятнее, – чтобы я вернулся и попробовал по-другому. Но для меня нет «другого». Я написал песню именно так. Я вам не Рой Орбисон. Я нашел свой собственный голос, свой собственный путь, свой собственный стиль и свою собственную оценочную шкалу, и я буду придерживаться их, потому что именно в этой системе я чувствую себя лучше всего – здравым и готовым к работе.
Когда сингл вышел, у нас не произошло никаких изменений, никакого внезапного притока наличных вашему покорному слуге. Я не обращал внимания на место в чарте или что-то в этом роде. Я был полностью поглощен ежедневной рутиной поисков следующего сэндвича. Эти саркастические ублюдки звали нас на телешоу – мы побывали на шоу «Такие дела» с Тони Уилсоном[146], позднее основавшим «Фэктори рекордз»[147]. Там типа все пытались состязаться в интеллектуальном остроумии; сразу вспоминается Клайв Джеймс[148] – он всеми силами пытался разбить нас в пух и прах, еще когда мы готовились, чтобы выступить вживую. Поэтому я сказал этому парню пару слов и объяснил, что к чему, после чего прославился своей свирепостью. Да, я такой: всегда встану на защиту того, что делаю. Вместо того чтобы признать, что, знаете ли, мальчик говорит дело, Джеймс пустился в грязные тирады.
Мы даже не напрашивались на участие в шоу Билла Гранди «Сегодня». Приглашение стало для нас неожиданностью. Мы получили его только потому, что Queen в последнюю минуту отменили концерт, а у них также был контракт с EMI. Ну и спустя полчаса после приглашения я уже сижу в телестудии, наслаждаюсь своими выходными, и тут мне бросает вызов этот ебанный пьянчуга. Я не мог это так оставить.
Чтобы смотреть то интервью Гранди сегодня, надо понимать общий контекст того времени, насколько все были дисциплинированы, насколько публично, именно по-британски вежливы, и каждый знал свое место. Так обстояли дела в школе: ты должен был знать свое место, тебя всегда этому учили. А мы своего места не знали, и мы были настоящими. В этом нет никакого шоуменства, это просто точное изображение молодых людей, пытающихся что-то сделать в мире, который самым решительным образом настроен против правды. И если я что-то делаю, то только взаправду. Все, что мне нужно, – это правда. Джон Леннон, спасибо!
Мы должны были приехать туда к четырем, а потом ждать – шоу выходило в прямом эфире в шесть. Гримерка была полна бесплатного алкоголя, и должен сказать, Билл Гранди возглавил атаку. «Выпьем, давайте все выпьем, за всех!» Он с самого начала пропустил парочку и не стеснялся открыто насмехаться над Сьюзи Сью[149] и девчонками из «контингента Бромли» – ну, мы позвонили им до передачи и сказали: «Хотите с нами на это?» Мы превратили мероприятие в вечеринку, решив немного приколоться, и это оказалось приколом что надо – мы получили отличную дозу проблем на свою голову!
На самом деле первым выругался я. Гранди бросил в ответ: «Что это?» – «Ну, грубое словцо!» На самом деле я не хотел быть первым засранцем, который начнет разборки, но что поделаешь – он спровоцировал меня на это, и все покатилось. «Он сам напросился. И в том, что произошло дальше, моей вины нет, ваша честь. Я невиновен». Если вы и в самом деле понимаете, о чем весь разговор, это очень увлекательно. Должно войти в курс психологии, столько разных вещей происходило в наших головах одновременно. Похоже на сцену из пьесы Гарольда Пинтера[150].
Скажу честно, вы смотрите запись и видите пятна на моем лице? Видите, какой я мертвенно-бледный? Это говорит о том, что я два дня как под спидами. Мальчик с рекламного плаката амфетаминов!
Гранди, с другой стороны, был представителем морального большинства и шоу-бизнеса. Скажем так, закоренелый циник, насквозь продажен и явно не желал дать четырем парням из рабочего класса и шанса на успех. Да он и не мог поступить иначе, учитывая его происхождение и социальное положение, и поэтому в конечном-то счете его саркастическая отповедь в наш адрес лишь укрепила веру общественности в то, что мы не так уж плохи. Мы не морочили публике голову всякой чушью. Не пытались притвориться, будто мы пришельцы из космоса, или втюхать какую другую эзотерическую хрень.
Малкольм обосрался со страху в студии. Он заявил: «Слышал, что они собираются вызвать полицию. Быстро все бегите!» Ха! От чего? Я всегда знал, что Малкольм – трусливый отступник; он никогда бы не взял этот последний барьер. Возможно, просто потому, что у него были совсем другие амбиции. Может, я немного несправедлив к нему, но он не был готов зайти так далеко, как я или Стив, который в то время казался более чем способным на это. Он был великолепен на этом шоу, его уверенность была превосходна.
После этого все телефоны в студии начали жуткий перезвон, а мы все вместе сели в машину и убрались. Они высадили меня на ближайшей станции метро и, вероятно, отправились на вечеринку или что-то в этом роде, но меня не пригласили. Мне пришлось вообще втискиваться в эту машину, только чтобы меня куда-нибудь подбросили по пути, иначе я брел бы домой пешком по большой дороге.
На следующий день все буквально взорвалось, и вскоре я осознал, что не могу нигде спокойно находиться. У меня была знакомая девушка, которая жила неподалеку от Кингс-роуд, и я поехал к ней. Мне приходилось держаться подальше от глаз прессы, потому что папарацци неотрывно следили за нами – я всегда говорю, что это было рождение папарацци в британском стиле. С тех пор, куда бы ты ни пошел, за отбой тянулись целые толпы. Это разрушало на корню любые попытки вести социальную жизнь. Ты не мог быть просто нормальным, не мог посидеть в местном пабе с друзьями. Всегда рядом с тобой оказывалось двадцать придурков, которые искажали в прессе любую историю (естественно, в неблагоприятном для тебя смысле) и были готовы отыскать скандал там, где его нет. Полный кошмар.
Обычно я не читаю прессу, но написанное в газетах в то время было настолько поразительно, что я радостно зачитывался отдельными статьями, думая: «Но я ведь ничего не сделал, а получилось такое! Зачем платить рекламщикам? Можно получить всю эту ложь бесплатно».
В одночасье все превратилось в хаос, потому что у нас не было за штурвалом хорошего капитана, и все вышло из-под контроля. Хаос – отличный инструмент, но им надо уметь пользоваться. Просто так пускать пузыри, балансируя от одного инцидента к другому, что, я чувствовал, происходило, было не по мне.
А ведь мы были способны произвести действительно значительные социальные изменения во многих вещах – не только в прекрасном мире музыки, но и в самом обществе, которое внезапно обратило на нас внимание, – и Малкольм все испортил. Он испугался этого следующего уровня и всегда боялся быть арестованным и оказаться в тюрьме. Все эти глупости, которые ты вроде как ждешь с нетерпением по молодости. У тебя есть храбрость, у тебя есть молодость, и у тебя, наконец, есть невежество, потому что ты не осознаёшь в полной мере последствия. Что касается меня, я чувствовал, что в состоянии принять все, что бы ни произошло, потому что я мог это оправдать. Я мог постоять за то, что делал.
Тур, который мы организовали, чтобы продвигать «Анархию», стал анархией! Бессмысленные, бесполезные игры разума, без всякого видимого результата. Нас везде запрещали, а Малкольм был совершенно не способен поддержать нас в этой ситуации. Мы должны были воспользоваться этим моментом и наводнить средства массовой информации запросами на тему: «Почему бы вам нас не поддержать?» Но мы не искали союзников. Нам казалось, что мы – муниты, члены какой-то секты, а не точная, хорошо смазанная машина – широкая, с распахнутыми дверьми, прозрачная.
Первоначальная идея состояла в том, чтобы объединиться с цирком и гастролировать таким образом. Идея эта мне очень нравилась, и я внес большой вклад в попытку ее реализации. В детстве я любил веселые ярмарки и цирки, любил смотреть на тедди-боев, которые там выступали. Для меня это стало бы следующим уровнем. Нашелся агент, который был очень заинтересован в том, чтобы продвинуть дело, но оно развалилось. И снова мистер Менеджер просто загубил все на корню.
Вместо этого было три недели неудобных автобусов, отмененных направо и налево концертов и перспектива отсутствия отелей, куда бы мы ни приехали. Все потому, что мы должны были дожидаться денег от концерта, чтобы оплатить жилье, но когда концерт отменялся, приходилось ехать на следующий и пытаться уговаривать заселить нас в отель, обещая заплатить утром – прекрасно зная, что денег нет!
Поскольку в туре принимали участие и другие группы – The Clash и The Damned, – стали возникать проблемы с тем, чтобы поддерживать между собой товарищескую атмосферу. Возникло соперничество между командами – в нем не принимали участие разве что The Heartbreakers[151], которым было не до этого. Они просто искали следующую дозу, однако чем дальше мы забирались на север, тем меньше оставалось на это шансов.
Очень скоро The Clash перебрались в другой автобус, к ним присоединились кто-то из The Damned, ну и всё тут. Мы начинали тур дружно вместе, но все пошло наперекосяк.
На одном концерте в Карфилли снаружи пели псалмы, решив, что мы в буквальном смысле Антихрист. «Алло? Нет! На самом деле я рассматриваю себя как своего рода Спасителя, думаю, что вы все неправильно поняли! Настоящий Антихрист – это религия!» Людей очень трудно заставить это понять, когда ими манипулируют газетные заголовки и читают они не дальше передовиц с хорошо подобранными фотографиями, выставляющими тебя в дурном свете. Пресса действительно пишет то, что хочет.
В туре царило такое полное отсутствие деятельности, что я даже попробовал героин. Лень создает невероятно негативные ситуации, мы знаем это из опыта любого подростка.
Я никогда не хотел наблюдать, как судьбу любой группы рушит шлейф героина. Если вы любите музыку так же сильно, как я, то можете заранее предвидеть все эти проблемы, потому что учитесь на эскападах известных рок-звезд и передрягах, в которые они попадают. Как ни старайтесь, оторвать людей от героина не удастся. Это поцелуй смерти, нечто подобное я наблюдал в случае с Эриком Клэптоном. Я не основывал свое отвращение к героину на страхе перед неизвестным. Это было просто – типа, эй, посмотри, что случилось с этим торчком.
Сидя без дела, я думал: «Я хочу знать, что это такое – самое большое табу. Я знаю все тревожные признаки, но все равно не могу проповедовать против, пока не попробую товар». Поэтому я и попытался сделать это с Джерри Ноланом, барабанщиком The Heartbreakers, – я думал: «С таким-то именем он, должно быть, ирландец. Что может пойти не так».
Я возненавидел это. Тебя тошнит. Какой в этом смысл? «Да нет, старик, если ты будешь продолжать принимать его, то преодолеешь тошноту». А с чего бы мне желать ее перебарывать? Другие говорили мне, что у них сразу случается приход и им это нравится, нравится то ложное чувство безопасности, которое героин создает в твоем мозгу. Это мило, но то, чем вы реально занимаетесь, – это бегство от творчества. Героин полностью убивает в тебе творческое начало. Ты делаешь себя бессмысленным. У тебя больше нет любви к миру. Все твое внимание круглосуточно, безотрывно уходит на поиски новой дозы. И это, по-моему, гораздо более тяжелая работа, чем любая занятость с девяти до пяти. И в конце концов ты неизменно столкнешься с дилеммой: как оплачивать эту ситуацию, то состояние, к которому ты так привык? Вот что может случиться с таким парнем, как я. «Ну, нет, это не для меня».
Гастрольные концерты «Анархии», которые все-таки состоялись, были ужасны. В Плимуте в то время шла война между местными скинхедами и моряками, и, конечно, наш концерт послужил прекрасным фоном. Мы просто очутились посреди всего этого, и на нас обрушились все проблемы. Пресса подала это так, будто мы спровоцировали бунт, что было весьма далеко от истины. Наоборот, я пытался заставить эти воюющие группировки заключить перемирие. Типа получите удовольствие от музыки вместо того, чтобы ссориться и разделяться.
Во многих случаях на таких концертах мне это удавалось. Я давал им одну конкретную цель, которую все бы одинаково ненавидели. Это был Джонни Роттен. Если драки не миновать, займитесь мною. Ты выходишь и подогреваешь толпу, буквально противостоишь каждому человеку в зале. И это прекращало драку. Для меня это был успех. Единственное, чего я реально боялся, выходя на сцену, – это тишины. Вот самый большой враг, с которым только можно вступить в схватку.
Все началось, кажется, с концерта в Карфилли, где собрались эти христиане со своими религиозными лозунгами «Когда мир превратится в гниль»[152]. Внезапно наше имя всплыло в парламенте. Возглавил атаку член Совета Большого Лондона от партии тори Бернард Брук-Партридж, который и выдвинул обвинение. Однажды вечером я увидел, как он проповедовал в шестичасовых новостях. «Э-э-м-м-м, это должно быть остановлено… Э-э-м-м-м, это падение общественных устоев…» Ну, или типа того. Какая глупость! Всего лишь ребячество.
Самое смешное, что много лет спустя у меня появился друг, который присоединился к масонам, а Брук-Партридж, очевидно, возглавлял именно этот орден, и не мог сказать обо мне ничего, кроме хорошего. Как и все политики. Нравится им оседлать своего любимого конька, но на самом деле несут чушь собачью. Они ни во что не верят. Мы были просто легкой мишенью, кучкой дерзких мальчишек из рабочей части Лондона, которые взвились ракетой и были легко сбиты.
Очевидно, это случилось уже после того, как я побывал на ночной пьянке с Джереми Торпом. Быть может, именно это все и спровоцировало, однако мысль о том, что Брук-Партридж объявит нас врагами общества и попытается спланировать наше падение, была в высшей степени абсурдной, поскольку на самом деле законы, на основании которых они устроили слушание, очень загадочны.
Как может парламент в конце двадцатого века вновь одобрить «Закон о повешении предателей и государственной измене»? Они и не могли. Поэтому загнали себя в угол и выглядели чертовски глупо. И, откровенно говоря, это придало еще больше силы моему локтю. Джонни Стронгбоу[153]!
С тех пор я понял, что эти учреждения, которых мы все так боимся, – в значительной степени безголовые цыплята, и с ними можно бороться, если мы когда-нибудь объединимся и точно сформулируем общую цель. Но именно рассеянность, личная неприязнь и ревность останавливают все движения. И я не говорю здесь о движениях, которые пропагандируют насилие. Я просто имею в виду, что если вы хотите изменить ситуацию к лучшему – это на самом деле возможно.
В конечном счете ты перестаешь их бояться. Да, временами тебя охватывает беспокойство, ты думаешь: «О, боже, они собираются меня посадить» или что-то в этом роде, – но знаете, учась на этом опыте, ты достигаешь точки, когда уже все равно, посадят тебя или нет. Это ничего не меняет, на самом деле это просто заставляет их выглядеть глупее – так что не изображайте жертву. И не позволяйте себе быть жертвой или управлять вами тем, кто, на мой взгляд, всего лишь плохо воспитанные, избалованные дети.
«Что вы хотите мне сказать? Почему вы не даете нам работу и достойный образ жизни, ублюдки? Вы намереваетесь заткнуть мне рот, потому что я нахожу экономическую ситуацию, в которую вы поставили страну, проблемой? И используете при этом штуку, которую так любят поддерживать на Западе, – демократию! Ух ты – право говорить то, что нужно, чтобы подняться и быть подсчитанным». Просто потрясающе! Разве я не проделал дырку в этом пузыре? Серьезно, ОГРОМНУЮ дыру. Я обнаружил, что это все абсолютная неправда. И я с этим не смирился. И все равно победил. Итак, мальчики и девочки всего мира, Джонни внес за вас свою лепту. Блядь, скажите спасибо, суки.
Я никогда не читал лекций. Просто указал сокрытые во всем этом пороки. Такая песня, как «Проблемы», говорит вам: «Слишком много проблем / Почему я здесь?»[154] Это всего лишь проблемы, поэтому решайте их одну за другой. И это невозможно сделать, сидя молча на диване или занимаясь демагогией. Ваши песни должны быть разумными с той точки зрения, как именно вы хотите донести свою мысль. Это не лекции. И поэтому мои песни – не лекции, они дают свободу мысли, свободу внутри той идеи, которую я продвигаю.
Я думаю, все поняли, что Джонни Роттен не был трусливым пиздоболом. Этот парень не сдается. И я победил. Я их сделал. Я положил их на лопатки – вот мое послание всем так называемым панк-группам, до которых это еще не дошло. Они так заняты междоусобицами и все пытаются ревниво набить друг другу морды: самый большой враг там, идите и уничтожьте его, боритесь за общее дело, а не пищите из своих маленьких эгоистичных уголков. Это гораздо веселее. Послушайте, мои враги – это не люди, независимо от того, нравлюсь я им или нет; мои враги – это институты.
Обнимаю и целую, детка # 1
Панк распахнул двери во вселенную секса очень милым, невинным, открытым способом. До этого момента я и не подозревал, что секс вполне доступен. Буквально с самого первого концерта Sex Pistols это стало: «О, привет?»
Возвращаясь немного назад и вспоминая посещения клубов типа «Лейси Леди», в те ранние дни еще до «Пистолз», – именно то, как ты одевался, представляло собой определенного рода притягательность. И одновременно было в некотором смысле проблемой, потому что привлекало массовое внимание хулиганов, и мне не раз приходилось оказываться в подобных ситуациях.
Девчонки находили меня интересным, и всегда – как мне это нравится – относились ко мне как-то по-матерински. Я обожаю всех этих «заек» и прочие нежности, хотя мой имидж, то, как я себя позиционировал, был типа – «холодный, жесткий, злобно равнодушный». Так что на самом деле я, скорее, пятьдесят на пятьдесят. У девушек, похоже, есть естественное понимание того, что все идущие вовне сигналы человека, пытающегося выглядеть изгоем, на самом деле являются действиями того, кто хочет внимания и любви. И этот процесс переустанавливает что-то в твоей психике на здоровый лад – типа на самом деле ты не так уродлив, как себе это представляешь. Еще есть надежда.
Однако едва только ты оказывался на сцене с группой, больше не было необходимости в подобной компенсации, и ты уже не чувствовал смущения от того, что не знаешь, как пофлиртовать с девчонкой. Очень, очень интересно. Отличные ночи на ранней панк-сцене, много веселья, и девчонки в том мире были не менее крутые, чем парни.
В какой-то момент я отверг секс, который сводился к двум минутам хлюпающих звуков. Сказал как есть. Это честное заявление. Или это было две минуты пятьдесят секунд? Да, возможно, время и увеличилось – как-никак инфляция. Ну, иногда так и было. Это в каком-то смысле чуть ли не лучшая цифра, средняя норма. Но в этом сексе отсутствовал даже намек на глубину, и, следовательно, он не представлял для меня никакого интереса. Похоже на объяснение, почему я не могу быть наркоманом: постоянное повторение одного и того же утомит меня до смерти. Да я от скуки скончаюсь быстрее, чем от наркотиков.
Став так называемым королем панка, я внезапно стал получать слишком много сексуального внимания. Я есть я, поэтому моя первая реакция натурально следующая: «Тебе нужен именно я? Или все дело в поп-звезде?» И в этот момент я часто отступал, потому что мне не нравилось ощущение, что со мной обращаются как с товаром. Я заметил перемену, когда «Пистолз» начали набирать популярность. От «Ух, что это за уродец в том углу?» до «О, приветик, красавчик!», причем временной промежуток между первой и второй репликой составлял буквально одно мгновенье. Но послушайте, я был вполне способен оценить весь комизм ситуации.
Впервые я увидел Нору в магазине Малкольма в 1975 г. Она пришла с Крисом Спеддингом[155], который в то время играл на гитаре с такими музыкантами, как Джон Кейл[156] и Брайан Ферри. Крис был очень застенчив, а Нора – нет. Он беспокоился, что ему не совсем подходят рубахи-фламенко. Нора суетилась вокруг, и каким-то образом ширма в примерочной упала, а за ней – Крис Спеддинг с животом, выпирающим из слишком тесной рубашки. Это было очень типично для одежды Вивьен. Она никогда не делала вещи по размеру, поэтому всегда приходилось заказывать шмотки на пару дюймов больше.
У Норы уже была дочь Ариана, которая родилась и выросла в Германии, откуда сама Нора родом. Нора устраивала в Германии концерты для таких музыкантов, как Wishbone Ash[157], Джими Хендрикса и Yes. Потом она решила переехать оттуда, покинуть тесные рамки немецкого общества, слишком ограниченного и любящего совать нос в чужие дела.
Когда наступило время панка, Ариана стала Ари Ап, солисткой The Slits. Ее отцом был Фрэнк Форстер, очень популярный в Германии певец, в духе Фрэнка Синатры. Послевоенная Германия находилась под сильным влиянием американских военно-воздушных баз, и это во многом определяло вкусы по части популярной музыки. Нора очень хорошо воспитала Ари и научила ее играть на всевозможных музыкальных инструментах, которые валялись у них в семье повсюду. Ари было, наверное, лет тринадцать или четырнадцать, когда я впервые заметил ее, болтающейся где-то рядом.
Нора, как вскоре я обнаружил, – это путеводный свет и абсолютный хаос. Она была очень странной и необычной душой. Вовсе не похожа на среднестатистических хипповых чувих, которые не совсем понимали, что такое панк. Их было много. Они – или девушки из рабочих предместий, полные всех этих «пошел на хуй, чувак». Ни одна из них не казалась мне подходящим вариантом. Но Нора – боже, она вся сияла. Достаточно было зайти в одну с ней комнату, и это сияние бросалось в глаза издалека – она реально светилась.
Нора возненавидела меня с первого взгляда. По крайней мере, я так думал. Потому что ей все твердили: «О, да ты не захочешь с ним разговаривать, он ужасен», – распространяя всякие обо мне мифы.
Она была невысокой, резкой, жесткой и отпускала очень умные замечания, многие из которых основывались на том, что́ люди ей обо мне говорили. Но Нора, будучи Норой, обладала и огромным любопытством. Если люди советуют ей с кем-нибудь не общаться, она обязательно найдет возможность поговорить с этим человеком – я сам такой же. Мне сказали, что она заносчива, а я нашел ее просто очаровательной. И как только мы начали разговаривать, вся эта чепуха выплыла наружу, и мы поняли, что нам обоим лгали. Причем все. Шокирующее открытие.
Мне всегда нравилось, как Нора умеет одеваться. У нее совершенно индивидуальный, невероятный стиль, и этот стиль отражает ее личность. Это привлекло меня. До такой степени, что я, никогда не куривший сигарет, пока не встретил Нору, узнав, что она курит «Мальборо», тоже начал курить «Мальборо». Так что да, это испортило меня навсегда. Но потом Нора совсем бросила курить, а я все так же дымлю, до сих пор!
Все шло как-то кувырком. Мы не закружились сразу в романтическом вихре в ритме вальса. Напротив, мы постоянно и горячо спорили, но в этих жарких дискуссиях открывали друг в друге личность.
Честно говоря, до того, как мы встретились, мы оба, так сказать, были свободными игроками, не стесняли себя в мимолетных увлечениях. Однако мы пришли к выводу, что все эти увлечения ничтожны, так – поиски вдохновения на одну ночь. Это совсем не то, на чем можно основать солидный образ жизни. Это слишком бессмысленно. Лично я вообще не получал удовольствия от одноразового секса. Просто не понимаю, никогда не понимал. Я всегда выходил из этих ситуаций, ощущая пустоту внутри, переворачивался на другой бок и говорил: «О боже, так вот как ты выглядишь?» – и знал, что они ощущали себя точно так же.
Я прошел через этот период секса на одну ночь, но настал момент, когда он превратился в бесполезную, скучную, повторяющуюся процедуру. В то время я еще не осознавал этого, но то, что я действительно искал, было правильными отношениями, которые медленно начали складываться с Норой. Были девушки, подготовившие меня к этому, отношения с которыми, скажем так, длились не одну неделю, но что-то действительно хорошее произошло именно с Норой. Все встало на свои места, и это было очень серьезно. Мы научились по-настоящему узнавать друг друга, и, мне кажется, это лучшее, чего может желать любой из нас, – правильный человек, который действительно принимает тебя таким, какой ты есть, с бородавками и всем прочим, и не заставляет тебя стыдиться себя, что бы ни было тому причиной. Таким образом, неуверенность в себе исчезла, и это то, чему учит вас правильный партнер.
Сначала у Норы была квартира рядом с домашним стадионом «Челси» в Западном Лондоне. Это был подвал, холодный, сырой, темный и очень неприятный. Мне это место никогда особенно не нравилось, но потом она переехала в маленький домик на юге Лондона, недалеко от Гоури-Роуд. Вот тут-то все и началось. Тогда мы крепко сблизились, и именно туда приезжали из Штатов персонажи типа юной Нене Черри[158] и тусовались с Ари.
Вот чего люди не понимают: Нора реально была этакой «мамочкой-защитницей панка». Без Норы не было бы The Slits. Именно она финансировала их и поддерживала, что бы там другие ни говорили. И Нора вела себя так со многими людьми и во многих ситуациях. И я говорю вовсе не о деньгах, а о доброжелательном руководстве.
Надо иметь в виду, что никто из нас не думал, что сама концепция панка прослужит так долго и будет пользоваться таким влиянием. Или, на самом деле, каким отличным изобретением он станет для обычных людей, которые теперь им балуются. Мы делали это не ради титулов – все просто шло своим чередом. Здравый смысл взял верх, так что это вполне себе хорошо управляемое хозяйство.
Ари было всего четырнадцать или пятнадцать, когда появились The Slits. Очень похоже на фильм «Одноклассницы»[159]. Знаете, школьницы-хулиганки – это очаровательно! О, люблю я их лирику, потому что только двое из них говорили более-менее хорошо по-английски. Палмолив и Ари, напротив, представляли собой языковые контрасты: в Палмолив было больше испанского, чем английского, а в сочетании с Ари, с ее адской смесью из недоученного английского, недоученного немецкого и еще более жуткого растафарианского креольского, у девчонок получились очень забавные песни. Я знаю, что им еще Нора там помогала. Очень, очень весело.
Я всегда гордился тем, что Ари моя… ну, она называла меня дедушкой! Я был очень этим доволен; чувствовалось, что мы принадлежим друг другу, хотя позже мы и ссорились, как кошки и собаки, из-за таких глупостей, как религия. Можете ли вы себе представить, что религия способна расколоть панк-движение? Все, конечно, вероятно. Так что я всегда ладил с Ари; мои отношения с Норой никогда не были для нее проблемой, и Ари ценила меня, потому что я не был паразитом. Я появился в их доме при полном, как говорится, комплекте.
Итак, Нора была рядом, я был рядом, и из этого вышло нечто хорошее. Медленное развитие в нечто невероятное – наилучший способ. Это не всегда происходит сразу, а особенно когда вы постоянно общаетесь с другими людьми, лучше потратить на это некоторое время, как я узнал от других знакомых музыкантов…
Глава 5. Этот парень не сдается
Меня не упустишь в толпе. На мне тот самый розовый женский клубный пиджак, на котором я написал «БОЖЕ, ХРАНИ НАШУ МИЛОСТИВУЮ КОРОЛЕВУ», жилет с леопардовым принтом, который я в конце концов отдал Сиду, и пара серых брюк из магазина Вивьен, в итоге оказавшихся на Поле Куке. Вот такими мы были, сплошное смешение и сочетание. Ну и в придачу ко всему на голове у меня был колючий рыжий ежик.
Чего мне не следовало делать, так это выходить на прогулку во всех этих тряпках с пакетиком наркоты. Это случилось как раз в начале нового 1977 г., и мы все еще были во всех газетах из-за Билла Гранди, «Анархии» и новости, что нас вышвырнули с EMI. Мы репетировали на Денмарк-стрит, когда я выскочил на минутку с Нильсом Стивенсоном, работавшим на Малкольма. На меня как затмение нашло. Я подумал: «Ну, если я оставлю пакетик со спидами где-нибудь здесь, даже если я его хорошенько спрячу, Стив Джонс обязательно его отыщет». Он был очень хорош в поисках всяких штук, этот парнишка. Стив всегда хотел знать все и обо всех. Постоянно готов был землю рыть и чуть ли не в сортирную трубу забраться в своих поисках. Следовало бы прозвать его Доместосом.
Полицейская облава выглядела очень странно, потому что эмблема на их шлемах показалась мне незнакомой. Какие-то питоны – типа что это за чертовщина? Они оказались наемниками, чуть более жесткими, чем обычные бобби. Эти ребята были на ступеньку выше. Позже я узнал, что это какая-то особая патрульная группа.
Они усадили меня на заднее сиденье полицейской машины и разъезжали по округе, пока не арестовали достаточно людей. Я сидел там и думал: «Я облажался, у меня при себе еще и нож, и за кого, черт побери, лучше чтобы они меня приняли?» Я попытался оценить события в очень, очень долгосрочной перспективе. А потом, вспомнив нашу недавно вышедшую пластинку, я осознал, что в суде у меня точно не будет поклонников среди парней в париках и длинных черных мантиях.
Я не считал себя особо склонным к преступлениям, но в те дни полиция обладала большой властью, и за малейшее нарушение можно было получить по шее. У меня был выбор: «Пойти за наркоту или за нож?» Я подумал: «Выберу, что полегче – наркотики!» Очень глупый шаг в конечном счете.
Старший офицер положил амфетамины в пластиковый пакет, сунул его в задний карман и сел на него. Затем они некоторое время ездили по Сохо, приговаривая: «Посмотрите-ка на этого, гррр-рр, забираем!» Итак, что, как вы думаете, будет делать сульфат амфетамина, находясь под прессом его потной горячей плоти? Учитывая мое детальное знание спидов, я был почти уверен, что он испарится. Поэтому по мере того, как шли минуты, я понимал, что мои обвинения уменьшаются.
В участке меня раздели и обыскали в присутствии женщины-офицера, чего, по-видимому, им делать не полагалось. Но что вы тогда могли возразить: «Прекратите, это невежливо?» Это с ними не работает. Под арестом ты, так сказать, задраиваешь люки и готовишься к неприятностям, становясь очень сдержанным на язык. Ты стараешься даже стать ниже ростом, чтобы уменьшить размер мишени.
Когда дело дошло до освобождения под залог, я не знал никого, кто так или иначе не был бы осужден и обладал правом вытащить меня. В результате подобных ситуаций понимаешь, насколько под ударом находятся люди из рабочей среды. Все в чем-то виноваты, если верить властям. Так что было тяжело. Малкольм мог бы меня вызволить, но он не явился.
Я не знаю, как мой отец в конце концов этого добился, как ему удалось вытащить меня под залог. А потом случилась ошибка с моей явкой в суд – они перепутали даты. Дата, стоявшая в бланке, который мне выдали, не соответствовала реально назначенной дате суда, поэтому они провели обыск в доме отца и поймали меня, когда я пытался выпрыгнуть из окна верхнего этажа, так что я был заключен под стражу за уклонение от ареста. Но поскольку рапорт о моем аресте заполнили неправильно, я вышел на свободу. Вы не можете уклоняться от ареста, если на самом деле вас даже не должны были арестовывать.
Малкольму было назначено определенное время, к которому он должен был явиться на слушание дела, и, разумеется, он опоздал. На самом деле Малкольм не смог собрать 40 фунтов, чтобы заплатить штраф, поэтому они назначили новый срок оплаты через несколько часов, и он появился с деньгами буквально за пару минут до его окончания. Иначе все бы сорвалось, и мне пришлось бы отсидеть срок.
Я не думаю, что меня специально выбрали мишенью из-за всей этой суеты с группой. Мне просто следовало быть осторожнее.
К этому времени я, наконец, превратил пиджак АКА «БОЖЕ, ХРАНИ НАШУ МИЛОСТИВУЮ КОРОЛЕВУ» в песню[160]. Однажды я ожидал себе начала репетиции, и это ожидание как-то затянулось. В те дни я вставал около полудня, садился за кухонный стол, готовил себе печеные бобы, брал лист бумаги и просто записывал текст – очень приблизительный набросок, но в нем была суть будущей песни.
Больше всего мне нравилось в этой песне то, что в ней нет припева. Я был весьма впечатлен собой, когда ее перечитал. Повторяющиеся строчки на самом деле не были рассчитаны на то, чтобы служить припевом. Они лишь должны были подчеркнуть и организовать следующий куплет. Я думаю, что «Боже, храни королеву» – это мощный пример того, как поп-песня может быть перевернута вверх дном, с ног на голову, и все же остаться популярной. Это идет вразрез со всеми правилами, определяющими формат популярной музыки.
К сожалению, Глен неверно истолковал «Боже, храни королеву» как фашистскую песню. Он просто услышал словечко, но не уловил общего контекста. И что с этим было делать? С Гленом все пошло совсем плохо, он отказался играть песню на сцене, и вот тут-то все и началось. Прежде чем мы продолжили выступление, я взял мел и написал на его усилителе «Ampeg Stack»: «The Boo Nazis»[161]. Я подразумевал это явно не в благоприятном для нацизма смысле, не так ли? Но Глен воспринял это как какое-то ультраправое заявление. Упаси бог, чтобы вас неправильно поняли! Мое чувство юмора и чувство юмора Глена сильно отличались. Со своей стороны могу сказать, мне не кажется, что то, что я сделал, было мерзким или злым. Я просто повел себя глупо и по-детски, но предполагалось, что в ответ это вызовет лишь улыбку.
В тот момент мы с Гленом довольно часто входили и выходили за дверь. «С меня довольно» – «Я ухожу» – «Тебя нет», но думаю, что в конце концов именно Малкольм и Глен пришли к обоюдному согласию, что в художественном плане это не то, что нужно Глену. Так они это все и порешили.
Итак, бинго, ему пришлось уйти, а поскольку нам больше нечем было заняться, мы сняли небольшой фильм, гуляя по городу, и в нем меня спросили о Глене. Я сказал: «Если ты выглядишь как утка, ходишь как утка и говоришь как утка, ты утка». Правда, я изменил слово «утка» на слово «задница».
Оглядываясь назад, я понимаю, что настоящая проблема заключалась в том, что мы не играли концертов. Мы позволили одержать над нами верх скуке и поэтому отвернулись друг от друга. Мне должно быть стыдно за то, что я так себя вел.
Когда я впервые попал в группу, это реально шокировало Сида. Он и не подозревал, что во мне это есть. Уоббл тоже был потрясен услышанным. Он вообще ничего не знал. Сид был очарован новым моим положением, его тянуло к нам, и он стал нашим самым большим поклонником, однако Уоббл горько обижался на группу, был очень жесток в своем к ним отношении, и они его довольно сильно побаивались. Он и правда воспринял все очень, очень жестко. Поэтому, когда дело дошло до замены Глена, я инстинктивно сказал «Сид», хотя Сиду медведь на ухо наступил.
Я не думал, что они когда-нибудь отнесутся всерьез к моей идее с Сидом, но в тот момент дела в группе обстояли так, что я чувствовал: мне необходим союзник. Я понимал, что сложилось противостояние «они и я», и это была не очень хорошая ситуация. Ты не хочешь быть мальчиком для битья – тебе нужна поддержка. Каким бы дружелюбным ни был Пол – а я иногда с ним тусовался, – у него были свои достоинства и недостатки, он перескакивал с одного предмета на другой, а его привязанность к Стиву была очень глубокой. У меня всегда было ощущение, что именно Стив скажет: «Я просто больше не могу с ним работать», и на этом все кончится. И Малкольм предоставил Стиву эту власть, потому что идея создать группу принадлежала в первую очередь Стиву. Однако настоящая причина была не в этом. Она заключалась в том, что именно Малкольм оплачивал счета Стива, и потому Стив позволял Малкольму делать все, что тому заблагорассудится.
Кстати, именно Лемми из Motörhead среди прочих пытался научить Сида играть на басу. Лемми был очень забавен; он сказал: «У Сида нет никаких способностей, никакого чувства ритма и вообще отсутствует слух». Сид всегда воображал себя барабанщиком. Я думаю, что это влияние Tago Mago, альбома Can, поскольку это была любимая запись Сида всех времен. Он всегда издавал звуки «пссш-шут-пфф-пфф-пфф» и притворялся, будто играет барабанную дробь. Это вошло у него в привычку, которую мало кто понимал. Окружающие думали, что он просто немного туповат.
Мы предполагали, что он просто найдет свой путь в группе, как и мы. И в этом слове заключается опасность: «предполагая», вы часто выставляете себя дураками. Как потом оказалось, нам пришлось отключать бас-гитару Сида от усилителей на большинстве живых концертов, и он почти не играл на альбоме, если вообще играл.
Только много позже я узнал, что Малкольм не только не пытался устраивать нам концерты, но и, наоборот, отказывался от них. Он говорил: «О нет, ты должен понять, Джон, что я пытаюсь создать впечатление, будто ты человек загадочный и никто ничего о тебе не знает». Так он объяснил ужасный вечер, когда я не смог попасть на ежегодную вечеринку Эндрю Логана. Я пришел с приятелями, но меня не пустили. Я типа такой: «Я играл здесь в прошлом году!» Малкольм и остальные уже были внутри. Я увидел Вивьен и спросил: «Что такое? Почему я не могу войти?», – но она просто меня проигнорировала.
Я хорошо понимал, что эти люди за меня не заступятся. Тяжелые уроки жизни. Я бы мог прорваться туда без особых усилий. Но нет! Я хотел, чтобы меня приняли, но этого никогда так и не случилось, ни среди приятелей группы, ни на других светских мероприятиях, которые использовали «Пистолзы» для своего продвижения.
От нечего делать, без концертов, мы с Сидом сходили с ума. Нам нужно было чем-то заняться, чем угодно. Мне пришла в голову идея поехать вчетвером в Джерси на каникулы, потому что я уже бывал на Нормандских островах в школьной поездке от Вильгельма Йоркского, и у меня почему-то остались об этом приятные воспоминания. Я просто представил, как мы выходим из самолета и прекрасно проводим время в этом причудливом и странном, совершенно ином мире.
Но нет, вся группа сошла с самолета, нас встретили в аэропорту и обыскали. Едва открыв чемодан Сида, они обнаружили поверх всех его вещей вонючие носки и сдались. Однако они отменили бронь в отеле, так что в итоге мы гуляли по пляжу с тележкой без осла и всем нашим багажом, который мы в нее загрузили. К счастью, один местный мафиози, с которым мы подружились, нашел нам место для ночлега.
На следующее утро мы отправились в Берлин. Малкольм боялся отпускать нас одних, поэтому послал своего помощника Буги в качестве своего рода наставника. Буги и сам был еще тем перцем. Весело провели мы все тогда время в Берлине. Ух, это прямо открыло мне глаза.
Отель мы почти не видели. Не хотели. Это был «Кемпински», и эти номера… О сне в них даже помыслить было невозможно, настолько они выглядели в высшей степени немецкими. Вам надлежало спать строго по прямой линии, а одеяло не должно было подниматься выше груди. Мебель темного дерева, и все под прямым углом. Мы там практически не показывались, спасибо.
От этой атмосферы никуда не деться: война, а потом Стена, из-за которой наблюдают русские. Западный Берлин был создан для того, чтобы досаждать Востоку. Это была великолепная, но сумасшедшая вселенная. В свободном доступе было все и вся, что не давало спать по ночам. Британские и американские солдаты хорошо разработали это место. Они, так сказать, его прокачали. Я влюбился в Берлин, полюбил его с тех пор навсегда. «Декадентский» в полном смысле слова. Молодцы, Запад, вот чем вы мучаете русских по ту сторону границы. Это свобода! А что у вас?
Именно это вдохновило меня на слова песни «Holidays In The Sun»[162]: «Я не хочу каникул под солнцем, я хочу отправиться в новый Бельзен» – наш путь, от Джерси до Берлина.
В первом же ночном клубе, в который мы попали, мы были потрясены тем, что услышали: музыка была исключительной. Это был какой-то ранний хаус, скажем так, с большой натяжкой. Очень глубокие бас-бочки, некий упрощенный тевтонский танцевальный алгоритм, ритмично структурированный.
Потом была Роми Хааг[163]. Она была трансвеститом, и единственное, что мы о ней знали, так это то, что Боуи упомянул ее в интервью много лет назад, и Сид вспомнил: «У нее есть отличный клуб, куда ходят все извращенцы…» Чтобы найти его, мы с Сидом часами бродили по улицам Берлина, не имея ни малейшего представления, где он находится, и в конце концов это оказалась просто ужасная маленькая дверь, ведущая в подвал. Действительно странное место с кучей британских солдат.
И они были там не для сами-знаете-чего. Они ходили в клуб хорошо повеселиться, а в те дни эти драг-бары были очень социальными местами, очень забавными. Не такие сепаратистские, как вы могли бы подумать, наоборот, там всегда были рады гостям – отличное место, чтобы пойти и надраться и не быть избитым. И в те дни, надо об этом помнить, быть геем, особенно трансвеститом, означало очень суровую жизнь. Это не принималось обществом, и все же я всегда находил их очень восприимчивыми, непредубежденными людьми.
Ходили слухи, что мы с Сидом к этому склонны. Просто НЕТ!!! В песне The Slits под названием «So Tough» была фантастическая строчка: «Джон, не принимай это серьезно, Сиду просто любопытно». Этим все сказано.
Возможно, для Сида это и было правдой. Не знаю, догадывался ли Сид, кто он такой. Он был исключительно странным, «другим» человеком. Очень открытый, очень счастливый, ничто его не задевало. Ему было наплевать, что о нем думают другие, он всего лишь думал, что выглядит красиво, как Дэйв Боуи. Но как только Сид попал в группу, все это ушло, и он стал очень суровым, серьезным страдальцем, который пытался действовать жестко в тех ситуациях, которые его раньше вообще не волновали.
Его любимая фраза «Я абсолютный девственник» вышла из употребления, когда он встретил Нэнси Спанджен, героиновую группи из Нью-Йорка, которую я имел несчастье ему передать. Я предполагал, что все закончится катастрофой, но совсем не так, как это получилось. Я думал, что он трахнет ее и скажет утром: «Ой, какая уродливая старая кошелка!» Но ему нравилась мысль, что она выглядит пустой и испорченной.
Это восходит к прошлому – как интерпретировать музыку? Как понимать Берлин, альбом Лу Рида[164]? Вы воспринимаете его как распад отношений или как похвалу наркомании? Вот в чем проблема. «Прогулка по дикой стороне»[165] для Сида, очевидно, не означало «стать геем», это означало «принимать много наркотиков». Вот как он это видел и был ошеломлен, когда такой человек, как Нэнси, заявила: «О да-а, в Ную-Йоуке мы сможем доставать это постоянно, будет зашибись».
Что ж, они постоянно доставали это до того самого момента, когда оно убило их обоих. Позже я жил в Нью-Йорке и знаю разницу, но мой бедный друг Сид не знал. Не могу представить его на небесах умнее, разве что он полностью забудет свое предыдущее существование. Он был пристрастен к пристрастному образу жизни. Его мать была зарегистрированной наркоманкой, и Сид думал, что это путь к крутым виражам – и я вовсе не имею в виду ямайскую бобслейную команду. Я говорю о серьезном понимании того, как на самом деле обстоят дела и как это воспринимают люди. Восприятие Сида было ограниченным, отчаянным и немедленным. Он ни в коем случае не был неразумным, но то влияние, которое оказала на него мать, ограничило его картину мира, его, как человеческого существа, восприятие этого мира.
Потребители героина могут украсть что угодно. Они украдут у тебя ногти на ногах – все, что стоит доллар, фунт или пенни. Это идет прямо в руку. И вы не можете им доверять, они потеряли свою душу. Это очень странно – находиться в компании наркомана со стажем; они просто чувствуют себя безжизненными, в их глазах нет ничего, напоминающего человеческую доброту или сочувствие, хоть что-то вообще. В конечном счете они являются истинными воплощением зомби. Они – ходячие мертвецы.
Подписание контракта с нашим следующим лейблом, A&M, возле Букингемского дворца было шумным и громким. Сид любил отвесить злую шутку, если обнаруживал, к чему прицепиться, – и продолжал это делать, доканывая жертву реально смешными, но негативными комментариями. Его главной фишкой с Полом было: «Ты горилла-альбинос», – и в то утро в лимузине по дороге на подписание он, наконец, заработал от Пола оплеуху.
Внезапно все в этой машине начали дубасить друг друга, бог знает почему, но так уж случилось. И все мы набросились на Малкольма. На самом деле это был тот момент, когда мы сблизились – как только закончили мутузить друг друга, обнаружилась идеальная цель.
Мы поставили свои подписи, ухмыляясь и дурачась, всего через пару секунд после того, как попытались избить друг друга до потери сознания. Нас окружало так много сдерживаемых проблем благодаря предполагаемой «оркестровке» Малкольма, которая поместила нас в мир вечного хаоса, – это было неприятно. Так что все произошедшее стало для нас великим моментом облегчения. Потом мы устроили пресс-конференцию – нажравшись в стельку. Сид бросил пирог с заварным кремом, крутой парень, уже готовый перейти к серьезному веселью.
В конторе A&M для нас вообще ничего не нашлось, выпивки там не было, поэтому мы настояли, чтобы за ней послали. Это заняло почти сорок пять минут, и нам принесли ящик дерьмовых лагеров; типичная штука, с которой мы всегда сталкивались при подписании контракта с лейблом, – недостаток пойла. Никогда не встречал ничего подобного этим звукозаписывающим компаниям. Они не знают, как накрыть поляну. Я Джонни, ты стучишься ко мне в дверь – приятель, вот тебе пиво. Я заряжен по полной и башляю выпивку. Развлекаю своих гостей.
Обманутые надежды на гостеприимную встречу у любого вызовут приступ ярости, и, конечно, последовавшее за тем было ситуацией, которую они сами и породили. Меня стошнило в горшок с цветами – о да, – и они обвинили нас в том, что мы сломали унитаз. «Послушайте, Сид никогда не был приучен к горшку, ясно?»
Если ты ставишь людей в неловкое и неприятное положение, заставляешь их чувствовать себя нежеланными, то они будут болтаться здесь чертовски долго. По крайней мере, таков мой подход, и Сид был вполне готов вступить в игру. А Стиву и Полу больше нечем было заняться, понимаете, о чем я? Мы вдруг стали очень сотрудничать друг с другом. «Это рейдовый отряд викингов, и мы все в нем заодно!» Мне нравится это чувство товарищества в группе.
Ну что ж, на этом лейбле мы не продержались и недели, не так ли? Я удивлен, что им потребовалось столько времени, чтобы от нас избавиться. По-видимому, именно Херб Альперт – буква «А» в названии A&M – отправил коммюнике из Лос-Анджелеса в офис британского лейбла, в котором говорилось, что мы должны уйти, что он не хочет, чтобы на его лейбле были такие нежелательные люди, как мы. Проще говоря, мы были угрозой для них, поскольку отказались послушно крутиться как белка в колесе, подчиняясь их указаниям.
Эти группы старых пердунов нашли свою зону комфорта и были раздражены необходимостью переосмыслить свои взгляды. Это ужасно, потому что я ни в коем случае не собирался их заменять, просто убирал мусор и отбросы, которыми они забили канализацию, чтобы остальные могли смыть воду. Я не ставлю преграды для новых групп, а вот в те первые дни у нас определенно были преграды и действительно негативное отношение со стороны довольно многих так называемых музыкантов, требовавших, чтобы их лейбл звукозаписи уволил нас – таких, как Рик Уэйкман из Yes и Стив Харли из Cockney Rebel[166]. Типа да кто ты такой, чтобы предъявлять эти требования? Мне вот было все равно, кто мои товарищи по лейблу, для меня это не имело значения.
Мне показалось все это очень забавным, особенно когда придурок Уэйкман, устроивший ледовое шоу под музыку вурлицеровского электрического пианино[167], заявил мне, что я недостоин. Я что, должен это воспринимать серьезно? Дни Yes миновали, и он не мог предложить никому ничего нового, кроме критики, – испорченное, увядающее воспоминание. Но это создавало определенные проблемы, из-за чего мы получили удар, добавивший дровишек в топку обрушившегося на нас негатива.
С самого начала Малкольм отбивался от попыток Ричарда Брэнсона подписать контракт с Virgin, потому что это был лейбл хиппи. Меня привлекли к Virgin их поразительные магазины пластинок. Первый был на Оксфорд-стрит: это было совершенно потрясающе, те вещи, которые они собирали в этой крошечной комнатушке. Просто оглядеться и сказать: «О, какие возможности! Я бы хотел иметь их все, но могу позволить себе только одну». Они заставляли музыку казаться фантастической, разнообразной и безграничной. Ты просматривал эти разнообразные обложки альбомов, и тебя переполняло – потенциал всего этого, чудесное творчество, которым на самом деле является музыка.
Итак, после A&M мы надавили на Малкольма, чтобы он добился для нас сделки, которая бы реально сработала. «Можно нам лейбл? Это было бы довольно интересно, не правда ли? Вот мы, абсолютная панк-группа primo numero uno, и у нас нет ни одной пластинки?»
Тем временем мы приступили к записи альбома, имея на руках наши предыдущие авансы и выходное пособие. Слова я произносил лаконично и правильно, поэтому был счастлив. Я сделал один или два дубля, и вот оно. Там вообще не было никакой работы по наложению, так что мне пришлось постараться быть на высоте, когда пришла моя очередь. Я не выношу бесконечных гитарных наложений, но сессии быстро превратились в маленькую увеселительную поездку для Стива и Криса Томаса, продюсера, возжелавших «поэкспериментировать с возможностями гитары». Это приводило меня в бешенство, и действительно, я в большинстве случаев уходил из студии именно из-за этого.
Крис Томас сводил меня с ума. Я думал, что то, к чему он нас ведет, было на тот момент слишком для нас сложным. В любой группе отодвигать в сторону солиста, чтобы получить больше гитарных наложений, – это нонсенс. Единственное, что представляло в нем для меня интерес, так это то, что он встречался с Микой из Sadistic Mika Band[168], группы, которую я любил. Любые разговоры всегда сводились к вопросу: «Какая она на самом деле?» Не думаю, что это его ко мне расположило, но Sadistic Mika Band была очень впечатляющая группа с японской солисткой, визжащей по-японски. Оказалось, что Крис глух на одно ухо. Никто не говорил мне об этом, пока на середине записи я не обнаружил, что он ведет одним ухом. «Что ты делаешь?» – «О, на самом деле я не слышу другим».
Во время записи альбома Сид, конечно, заболел гепатитом. Фантастика, да? Мне почти кажется, что он сделал это намеренно, чтобы не пришлось признаваться в своей музыкальной неадекватности или брать на себя ответственность. Он был просто сбит с толку; он никогда не понимал этого, по многим параметрам. Сид никогда не работал с кем-то вместе, у него не было чувства локтя, не было понимания более серьезных проблем.
Сид привнес в «Пистолз» новый интерес, что, как я сразу понял, грандиозно наебало нас по самые яйца. Это был интерес к наркотикам, и я никогда не думал, что он сделает это. Я думал, он умнее. Я никогда не понимал, насколько неуверенным Сид был на самом деле. Он использовал наркотики, чтобы скрыть свое чувство неадекватности, и подставил нас под это героиновое оружие таким губительным, гребаным способом. Это были трудные, очень трудные времена – иметь с ним дело.
Сид был действительно пропащим – и я должен был понять это гораздо раньше – из-за своей матери, женщины, которая дала ему героин в подарок на день рождения. Он всегда говорил: «Ха-ха-ха, я не становлюсь таким, как моя мама». Сид гордился тем, что может это делать – баловаться, а потом быть в порядке и не требовать большего. Но когда в его жизнь вошла Нэнси Спанджен, все стало по-другому; он полностью купился на эту свою фишку с Лу Ридом.
Бедный старичок Сид, он ни с кем не мог заниматься сексом. Он был дрянью. Но я любил его, потому что он был дрянью! Он не был большим тупицей, он был просто смущенным, забавным, веселым и блестяще комедийным. Он мог мгновенно спародировать что угодно. Но вся печаль сложившейся ситуации в том, что из-за этого своего качества он теперь пытался пародировать нью-йоркский образ жизни.
Я даже не знал, что королева Англии празднует свой Серебряный юбилей, пока мне не позвонили насчет вечеринки на берегу Темзы. Серьезно, искренне – я перестал читать прессу и следить за новостями. Сид и подавно. Он вообще никогда не обращал на это внимания. Для нас это было: «Что, черт возьми?» «Сегодня Юбилей», – заявил Малкольм по телефону. Я такой: «И что это значит? Можно мне немного денег?»
Это оказалось очень драйвово – принять участие в нашей легендарной лодочной вечеринке, как для меня, так и для Сида. Ну, мы рассчитывали получить по 25 фунтов, а все завершилось сокрушительным, взрывным фиаско. Есть что-то прекрасное в создании фиаско, и, поверьте мне, это действительно была катастрофа.
Virgin наконец-то выпустили «God Save The Queen», и, о чудо, это был хит. О нет, погодите, не так, на той неделе вообще не было в чартах номера один – ну, во всяком случае, не для нас! То, что это произошло, показало – гораздо больше, чем все, что мы делали и говорили, – что общественные институты коррумпированы. Тот факт, что наша группа не смогла получить номер один в чартах Британии, доказывает… махинации, верно? Незаконные закулисные операции, манипуляции, внушение публике, что́ ей может нравиться, а что нет. И это действительно придавало энергии и подпитывало настроение – вот еще в чем сила этой песни.
Наступили день Юбилея и наша нахальная лодочная вечеринка, я замерз, мне было скучно, и я не ел почти целую неделю. Все это было слишком похоже на цирк, с тщательно подобранным списком гостей и толпой прессы. Забавно было видеть там Ричарда Брэнсона с бородой и длинными волосами, похожего на Гая Фокса, и, надо отдать ему должное, он был готов повеселиться. Но Ричард немного заскучал, когда у нас кончилась выпивка. Я заявил: «Не начну, пока не появится ящик лагера». И каким-то чудом это произошло, и все двадцать четыре банки исчезли за двенадцать секунд.
Когда мы играли, мы не могли слышать, что делаем, это было очень похоже на все наши ранние концерты, но в тот момент нам было все равно. Наверное, это был единственный способ согреться. Стоял холодный вечер – и для меня он был слишком холодным, поскольку я определенно недоедал.
Мы сделали все возможное, чтобы быть деструктивными. Мы трижды прошли туда-сюда перед зданием парламента, но ничего не происходило. Так что мы решили прокатиться еще раз: «О, боже, серьезно? Надо ли? Ладно, давайте, погнали!» – и как раз в этот удачный момент полиция решила подъехать к нам и крикнуть: «Прекратите! Это не по-британски!»
Как только мы причалили и я увидел всю собравшуюся там полицию, я подумал, случится что-нибудь или нет, но я не собираюсь быть пойманным в суете и хаосе, поэтому рванулся вперед, спустился и первым сошел с лодки. И сразу же мне попался коп, который поинтересовался: «Который из них Джонни Роттен?» Я, само собой: «Он там, наверху!» И, конечно же, они направились прямиком к длинноволосому чуваку с бородой – бедному старине Ричарду Брэнсону, – потому что все знали, что именно длинноволосые люди в наши дни являются главной причиной всех неприятностей. Как это, блядь, весело, а? Кто-то говорил, что Малкольм указал на меня полиции, но если он это и сделал, то безуспешно. Меня уже давно там не было.
В те дни полиция была такой отсталой. Они были жестоки, тут нечего и говорить. Такие школьные громилы – кованые ботинки и дубинки, приготовленные для всех, у кого есть к ним вопросы. Но устроив на нас облаву на набережной, когда причалила лодка, они и понятия не имели, как выглядит член группы Sex Pistols. Не было никого, кто бы отвечал за это наше фиаско, поэтому они спустились на пристань, чтобы найти длинноволосых. Однако большую роль сыграл тот фактор, что я был очень молод – прыщавый мальчишка в смокинге на двадцатидюймовой талии. «Да какой он хулиган? Не смеши меня, позови старших!» Вместо этого они арестовали моего брата Джимми и целую кучу других людей.
В тот день, казалось, была амнистия для всех, кроме тех, кто был из «Пистолз». Просто поразительно. Мы что, не можем плавать вверх-вниз по Темзе на лодке? Мы на середине реки, и кто-то решил, что это их обидело? Честно говоря, я с нетерпением жду появления общества, которое научится не лезть не в свое дело. Без крыс обойдемся, понимаете, о чем я? Сами с этим справимся. Устраните своих полицейских громил, и мы сами о себе позаботимся. Никаких растлителей малолетних на районе.
Вечером я немного побродил по набережной с Сидом и Винсом, близким другом Сида, ища, чем бы заняться. Делать было особо нечего, потому что денег не было. Поэтому я побрел обратно в свое скромное жилище. Помню, я много прошел пешком и был очень раздражен, поскольку не люблю ходить, когда пьян. Потому что это все равно что вообще не ходить.
Со всем этим возмущением и заголовками газет неделю или две спустя на меня напали возле паба на задворках Хайбери-Квадранта, рядом с Wessex Studio, где мы записывали альбом. Сомнительный район. Бррр, полно различных банд. И – типично для меня – я выбрал паб, который грозил серьезными неприятностями. Я знал, что делаю, когда шел туда, я знал, что у меня могут возникнуть какие-то проблемы, но не думал, что это будет похоже на мачете и клинки гуркха, как в итоге оказалось.
Время от времени появляются люди, которые просто хотят тебя убить. Правы они или нет в своем намерении – главное, не сомневайтесь в их решимости.
К моему несчастью, меня сопровождали глупые парни, которые не были готовы защищаться, – Крис Томас и его инженер Билл Прайс. Я имею в виду, Крис Томас, что, черт возьми, он знает о жизни? Немного. Как можно делать хорошие записи, будучи глухим на оба уха? Ладно, возьму свои слова обратно: глух он был только на одно ухо, на второе всего лишь фальшивил.
Случайные акты насилия – это то, к чему я с детства привык в этой части Лондона. Это было в порядке вещей. Я предупреждал их, что мы вот-вот пойдем ко дну, но они не слушали. Мы столкнулись с хорошей такой бандой и могли бы с ними справиться, но Крис и Билл от меня отделились, и те парни налетели прямо на меня. Что оказалось немного повыше классом, чем обычная драка, потому что, когда люди идут на тебя с ножами и мачете, это совершенно новый уровень. У одного из них был меч – я не знаю, как правильно его называть, но это был длинный клинок. Я видел его в фильмах о джунглях, но, понятное дело, не ожидал увидеть в Северном Лондоне. Все в порядке, я все еще держусь на ногах.
Мне в запястье вонзили стилет – в ту же самую руку, в которую меня ударили, когда я гулял с Полом Куком в дни ранних «Пистолз». Моей левой руке реально досталось от жизни.
Что хорошо, так это то, что в тот вечер на мне были удивительно неудобные кожаные штаны. Они были очень толстые, в них ужасно трудно было садиться, и жутко болело под коленкой. Должно быть, их сделали из одной очень старой коровы. Реально, крепкие, как спецодежда, – если бы на мне оказалось надето что-то еще, я бы сейчас был Иэном Дьюри[169] или Безногим Лазарем. Я бы точно прихрамывал или остался калекой. С другой стороны, если бы на мне было что-нибудь полегче, я мог бы двигаться быстрее. Давайте не будем слишком благодарны моде, а?
Такова жизнь. Могут возникать разные ситуации, и у тебя в запасе всего лишь секунда, чтобы выплыть или пойти ко дну, и действовать приходится очень быстро. Иногда случаются вещи, которые могут представлять опасность для жизни, финансового благополучия, да любые другие опасности – и ты должен быть полностью вооружен. Поэтому, когда ты выходишь на публику, ты на самом деле не можешь позволить себе находиться в состоянии опьянения, любом, иначе ты – потенциальная жертва. Есть люди, которые специально охотятся на таких, и обычно они прячутся среди большого скопления народа.
Встреча с каким-нибудь заурядным Джо на улице вполне может закончиться хорошо, но я быстро понял, что больше не могу себе позволить быть застигнутым врасплох таким образом. Никогда больше не допущу, чтобы меня опрокинула толпа мордоворотов. Время от времени ты все равно будешь сталкиваться с настоящими парнями, так сказать, высшего уровня, но с ними, как правило, все в порядке – им нечего доказывать, они не гонятся за трофеями. В этом-то и проблема.
Тогда, я полагаю, я был главной мишенью – и до сих пор ею остаюсь, во многих отношениях, опасность никуда не делась, и я вынужден это сознавать. В конечном счете это ревность. Но к чему тут ревновать? Господи, если бы они только знали! Быть Джонни Роттеном никогда не было легко. Поддерживать целостность, которая, как мне кажется, у меня есть, – это ежедневная рутина.
С тех пор я знал, что не могу, хорошо приняв, бежать в магазин за добавкой. Меня засекут, так что следует запастись, пока трезв. Урок жизни!
То лето, должен сказать, грандиозно испортило мою социальную жизнь. Я не мог сходить посмотреть концерт так, как привык это обычно делать. Не мог никуда пойти один. Это было невозможно. Враждебность исходила даже не от зрителей на концерте, скорее, от вышибал у входа. Все начиналось оттуда. А владелец клуба затаивал обиду или выказывал свое отношение или систему убеждений, которые шли вразрез с моими.
В то же самое время меня охватило чистое ликование – потому что надо брать от жизни все доступные удовольствия. А тот факт, что я понимал, что умудряюсь раздражать всех одновременно, был единственной наградой, в которой я нуждался. Ух ты! От Прентиса Обоссанные штаны, моего старого учителя английского, я перешел к гораздо более важным вещам.
Малкольм устроил меня жить в шикарной квартире какой-то своей знакомой девицы в Челси, чтобы спрятаться от вторжения прессы. По сей день, когда вы слышите о поп-звездах, которые ввязались в скандалы и где-то скрываются, знайте, что они обычно находятся в квартире какой-нибудь пташки в Челси, там все заканчивают. Должно быть, существует целый класс девиц из Челси с квартирами, ожидающих, чтобы спрятать там попавших в неприятности поп-звезд. Умора! Но я уверен, с точки зрения Малкольма, все это играло на руку его гениальной идее обо мне как о «человеке-загадке».
Итак, я был изолирован в этом районе высшего класса, и самое большее, что я мог придумать для развлечения, – индийский ресторан в конце улицы. А поскольку это Челси субботним вечером, даже там можно было нарваться на какую-нибудь крикливую сцену. Дитя рабочего класса Джонни Лайдон ака Роттен хотел вернуться в свои привычные места, но не мог из-за развязанной газетами клеветнической кампании, и делать ему было нечего. Вместо работы сплошная изоляция.
Приходили друзья и знакомые, но на этом все и заканчивалось, и очень скоро я им надоел, потому что просто не мог куда-нибудь с ними выйти. Сначала они не понимали, а потом, очевидно, решили: «Какой смысл туда ходить, он все равно не выйдет – и мы не хотим, чтобы он выходил!» И это мои лучшие друзья.
Вы должны понять: враждебность ко мне была настолько летуча, витала настолько высоко, настолько, я полагаю, выходила за пределы всего когда-либо виденного в послевоенную таблоидную эру или типа того… И это было очень трудно преодолеть. В то же время в глубине души я понимал, что заслуживаю такого внимания. Я проявил себя и получил по заслугам.
Я недолго продержался в Челси и вскоре уже скакал по всем хатам – то там, то сям, от прежних сквотов до съемных квартир. Просто ужасные, кошмарные времена.
Попытка снимать квартиру вместе с Сидом оказалась моей самой большой ошибкой, потому что в то время он общался с Нэнси, и это было невыносимо. Где-то на Сазерленд-авеню, в Мейда-Вейл. Сложно было подобрать худшее место, потому что там процветала очень наркотическая культура, то есть героин. Вы никогда не подумали бы об этом, глядя на красивые ряды домов среднего класса, но именно там действительно обитает зло.
Где бы я был без охоты на ведьм? За все эти годы я полюбил их, этих охотников, люблю и даже нахожу их весьма утешительными. Суть в том, что я никому не причиняю вреда, это не входит в мои намерения. Так что, каковы бы ни были ваши оправдания или причины, по которым вы пытаетесь меня запереть, вы можете это сделать, вы можете заточить мою физическую сущность, но вы не можете заточить мой ум. НЕ МОЖЕТЕ.
Когда приходилось иметь дело с прессой и всей этой «пошлой гопотой», у нас был прекрасный ответ: «Pretty Vacant»[170]. Так вот, кто я по вашему мнению? Ладно, поиграйтесь с этой штукой! Ну, я не красавец и уж точно не пуст, и кого вы теперь из меня сделаете? Не такая большая атака, чтобы защищаться, но она прекрасно отражает суть всей той кампании, которая была против нас развязана.
И это была очень мощная кампания. Против нас выступили Руперт Мердок[171] и Роберт Максвелл[172], вся эта мутная сцена британской бульварной прессы, и в самом деле уделявшая нашему делу огромное внимание, главным образом проповедуя ненависть и презрение к нам. Нам приходилось всеми силами уклоняться от этих вещей, в которые нас втягивали. Чтобы выжить, мы должны были очень тщательно готовиться к каждой битве.
Мы оказались вовлечены во всевозможные теле- и радио-дебаты, где нас готовы были порвать в клочья. Было одно интервью, в нем меня спросили (это подразумевалось): «Это Малкольм вами руководит?» А я ответил: «Малкольм – пятый член группы, мы все равны». Что Малкольм, разумеется, воспринял как комплимент. Это было не совсем так – я всего лишь старался принизить их мнение о нем. Мне приходилось искать какой-то политический подход ко всему этому, но в то же время оставаться свирепым голосом точности и не быть зажатым в угол, где они могли бы заявить, что я просто тривиален. Приходилось постоянно быть настороже, держать двигатель включенным.
Было время, когда панк был действительно захватывающим. X-Ray Spex, The Adverts[173], The Raincoats[174], The Slits – у этих групп были разные подходы, которые меня завораживали. У них было женское влияние, что интересно в музыкальном плане. Это другое социальное обучение, другой обмен мыслями, обычно закрытыми для музыки. Парни и девушки в одной группе – это потрясающе. Казалось, они выступают на одном уровне, а не просто: «А теперь спой что-нибудь миленькое в добавку». Они были абсолютно равны, очень зажигательны, и это открывало так много возможностей в написании песен. Какое прекрасное время! Сцена не была пронизана конкуренцией, никто из нас не соперничал друг с другом. Мне казалось, что это панк, который должным образом развивался во что-то реально внушающее благоговейный трепет.
Однако по какой-то причине The Clash стали позиционировать себя как наши соперники. В «Мелоди Мейкер» появился заголовок – процитированное высказывание Джо Страммера: «Мы станем больше, чем Sex Pistols!» Это привело меня в бешенство, и я поговорил с ним. Когда появляются прямые цитаты, которые, на мой взгляд, вызывают раскол, необходимо обсудить это, потому что я не хочу, чтобы мы были разделены. Что это за отношение? Никто из нас не делает этого ради чехарды в чартах, соревнуясь за места. Когда мы начинаем внутренние войны между собой, это открывает шлюзы для разных засранцев, и каким бы творчеством вы не занимались, засранцам здесь не место.
Между Берни и Малкольмом шла какая-то дурацкая война, друзья поссорились, и Берни пытался использовать свою группу как оружие, чтобы отомстить Малкольму. Все это очень глупо, и вот я, молодой человек, наблюдаю, как взрослые ведут себя подобным образом. Гораздо хуже то, что некоторые участники The Clash восприняли призывы Берни всерьез.
Берни много рассказывал им о политике. Джо часто заходил ко мне на разные квартиры, где я жил – даже добрался до Эдмонтона, – и всегда держал в руках марксистскую книгу, изучал ее и делал заметки. «О, по телеку “Шестичасовые новости”, я должен их посмотреть!» Вместо того чтобы воспринимать «Би-би-си» с долей иронии и уметь читать между строк, он заглатывал заголовки и «вдохновлялся». Вот что вдохновило «Sten guns in Knightsbridge»[175] и подобную чушь.
Это не мой путь. Мне нравился Джо, и мне нравился Пол, и Мик Джонс был таким беспечным парнем, но Берни скармливал им всю эту хрень из серии студенческих союзов и «объяви войну обществу». Если вы хотели хорошо провести вечер, познакомиться с интересными людьми, место за кулисами концерта The Clash – точно не ваш выбор. Там было полно прилежных учеников, типа «Да, хм, да, я солидарен этой программой. Да…» СКУЧНО! ЧЕРТОВСКИ СКУЧНО!
Джо всегда был очень дружелюбным, но едва только он начал воспринимать The Clash слишком серьезно, как превратился в недружелюбного и реально ввязался в ссоры с некоторыми из моих друзей. Ему стало не хватать чувства юмора. Он начал слишком серьезно относиться к себе как к идеологу какого-то нелепого социализма и определенно собирался захапать себе корону. Он зашел слишком далеко, похоже на то, как переусердствовал в свое время Хемингуэй. Или знаете ту роденовскую статую нахмурившегося человека? Статуя «я типа тут думаю», как я ее называю. Вот во что он сознательно превратился. Его самомнение было мне противно. Фу-у-у, что за позерство. Но одну вещь я усвоил: мы все всего лишь люди, у нас у всех есть бородавки.
У The Clash был типичный среднеклассовый подход ко всему, и их аудитория его вполне разделяла, а самодовольные журналисты их любили, и, конечно, они проложили дорогу для всех бездельников, всех групп, которые просто хотели играть на безумной скорости, и вопить, и кричать. Эти люди меня не интересовали.
Благодаря им панк стал неким стандартизированным клише, и почин возглавили средства массовой информации. «Дейли Миррор» опубликовала статьи: «Как одеваться как панки». А когда подобные засранцы обрели популярность, все просто перевернулось с ног на голову. Многие из групп, которые тогда объявились на панк-сцене, думали, что основная идея в том, чтобы быть гнилее Роттена. Так постепенно в панк вкралось насилие, и вскоре у нас появились всякие Sham 69[176], пропагандирующие насилие через балет. Просто мудаки. Тупые, дебильные, разбивающие-свои-головы-об-стены-чтобы-показать-насколько-они-крутые-дураки. Они ничего не слушали. Они были неспособны ни учиться, ни расти и развиваться, ни видеть надежды или перспективы на будущее.
Мы говорили «будущего нет» в «God Save the Queen», потому что надо было выразить это, чтобы иметь будущее. Нет, той компании все это было не нужно. Это как разбежавшиеся из стада лошади. Когда начинается паническое бегство, как вернуть их обратно, в стадо? И на самом деле, а зачем? Если это действительно то, чего они хотели, тогда ладно. Вперед, в атаку! И чем скорее ты окажешься за следующим холмом и я тебя больше не увижу, тем лучше для всех нас.
Мои мама и папа очень поддерживали меня, несмотря на все поношения, которые на меня сыпались, но им было очень тяжело. Негативные отзывы их сильно расстраивали. Они не были большими любителями шума, который я производил, но они знали, что все уничижительные заявления в прессе, будто я плохой человек, были неправдой.
Мама всегда хотела знать, каков мой мир – для нее это было загадкой, – и я показал ей, что он вовсе не был глубоким, темным, скрытным и неправильным. Я сводил ее посмотреть несколько концертов – Элиса Купера, Гэри Глиттера, да на всех, кто выступал в «Финсбери-парк Рейнбоу», – и, вау! – она была на высоте. Мама просто гордилась тем, что я, не обладая очевидными талантами, каким-то образом сумел найти свой путь в этом мире. Потому что до того самого первого дня, когда я начал работать в «Пистолз», они и понятия не имели, что я заинтересован в том, чтобы быть в группе, писать песни или вообще петь.
И я был более чем счастлив привести на концерт своих друзей, поистине странную коллекцию чудаков. Это всю жизнь смешило моих маму и папу (папу в глубоко саркастической манере) – но у меня всегда были странные друзья. Вероятно, они – единственные, кто мог со мной общаться. Все они по-своему находились в одинаковом социальном положении. Никто из нас не мог найти себе нишу в обществе.
Мне приходилось звонить родителям и умолять их – умолять – не давать интервью и предупреждать, что они будут подвергнуты публичному унижению. «О, но мы же ж чуем, нам надобно за тебя постоять!» – отвечали они с сильным ирландским акцентом. «Пожалуйста, не надо! Вы только сделаете еще хуже». Они дали единственное интервью «Айлингтон Газетт», которое оказалось особенно топорной работенкой. Родители отдали им все мои детские и юношеские фотографии, и ни одна из них не была возвращена. Ужасная и очень злобная статья.
Я инстинктивно хотел защитить свою семью от публичного цирка. Благодаря «Пистолз» я оказался заброшен туда, в самую бездну, и понимал, что у моей семьи нет способов с этим справиться. Очень трудно смириться с тем, что целый мир, который ты привык считать важным, актуальным, заботливым и реальным – то есть журналистика, – на самом деле оказался диким, мстительным, самоуверенным мешком желчи.
Благодаря прессе мы оказались втянуты в трясину неверных толкований и ложных интерпретаций – настоящий испорченный телефон. И все это распространялось через средства массовой информации – то, что возникало как крошечная неправда, превращалось в огромную ложь, а затем взрывалось как атомная бомба, не имеющая никакого отношения к реальности. И это очень трудно отследить и исправить.
Средства массовой информации уж точно не накажут себя за то, что сделали что-то неправильно. И куда тебе идти? Кому звонить и говорить:
– Эй, вы не можете так обо мне писать! Это выдумка, это ложь!
– Ну что ж, тебе еще надо это доказать.
– Откуда у меня на это деньги?
В то время в наших карманах не было ни пенни. Мы не зарабатывали, не могли давать концерты, не могли делать ровным счетом ничего.
Все это вбило клин между нами, потому что подобные ситуации обычно разделяют, а не сближают. Я думаю, что, хотя в прессе и не подозревают о таком эффекте своей деятельности, он в конечном счете способен тебя уничтожить – если ты достаточно слаб. Мы были слабы, но не слишком, потому что каким-то образом нам удавалось удерживать корабль на плаву. Однако Малкольм снова скрылся и ни с кем не разговаривал. Его невозможно было найти; вокруг него постоянно толпились люди, все его старые дружки по колледжу: «У Малкольма сейчас болит голова» или «Малкольм не может подойти к телефону, он занят». И так далее, и тому подобное.
Я так и не понял, что двигало Малкольмом. Очень плодовитый ум, но склонный время от времени быть ядовитым. На самом деле саморазрушительный. Он создавал замечательные ситуации, но не обращал на них внимания. Он зажег бомбу, но не захотел, чтобы она взорвалась, так что он не Гай Фокс. Идея быть Гаем Фоксом нравилась ему больше, чем реальность.
После Гранди он стал кастратом, ему отрезали яйца, и он сделал это с собой сам. Он жил скорее в страхе, чем в бесстрашии. Слишком много образования, поэтому интеллектуальный процесс просто закончился для него неуверенностью в себе – ты зацикливаешься на ситуации до такой степени, что убиваешь всю радость от нее и убиваешь инстинкт. Иногда мы совершаем в жизни поступки, чтобы поставить себя в такое положение, когда наши инстинкты берут верх. Только не с Малкольмом. Инстинктивно он был прав, но потом интеллектуальный процесс отринул эту правоту. Сперва я думаю, потом действую. Или, как в случае с Малкольмом, бездействую.
Малкольм не был отъявленным мошенником или вором, но то, на что он считал важным потратить деньги, не обязательно было тем, с чем согласился бы я. Малкольм всегда был склонен к артистизму и сумасбродству, тогда как для меня мотивацией было: «Мне нужно где-то жить, дай мне денег!» Малкольм возражал: «Ну, если я запишу это на свое имя, сделка пройдет гораздо быстрее!» У Стива и Пола возникло много проблем, потому что их квартира была записана на имя Малкольма. И я видел, что эти проблемы приближаются.
Я думаю, с его стороны присутствовала определенная проницательность – так взрослые склонны манипулировать детьми. Даже после получения всех этих авансов нам по-прежнему перепадало на руки всего 50 фунтов в неделю. Все копилось, чтобы вложить в фильм о Sex Pistols. Это был проект, который я горько возненавидел, потому что Малкольм держал все при себе. Его проект и исключительно его идеи. Достаточно просто сказать, что подобное мог придумать только человек с комплексом Энди Уорхола. На него всегда производила сильное впечатление фраза Энди Уорхола о том, что «в будущем каждого ждут свои пятнадцать минут славы», и он сам надеялся их заполучить.
Одним из соавторов, которого он опробовал для этого шедевра, был режиссер жанра сексплотэйшн Расс Майер. Когда я его встретил, он мне совсем не понравился. Властный болван – невежда и, очевидно, извращенец. Между ним и Малкольмом было что-то очень странное. Я знал, что эти два человека никогда не смогут поладить. Никогда. Общего языка не было. Майер был очень дерзок в своем подходе к сексуальности, и я полагаю, что Малкольм пытался что-то почерпнуть из этого. Малкольм превозносил себя чужими стараниями, так что, полагаю, в тот момент он тоже считал себя любимцем женщин. Расс смотрел на Малкольма и говорил: «Ты выглядишь как леди, парень!»
На самом деле я предложил на роль режиссера Грэма Чэпмена из «Монти Пайтон», потому что видел его выходки в пабе в Арчуэе. Он проделал небольшой трюк с маленькой собакой, когда лег на пол и пролил немного сидра на свои гениталии, и собака, конечно, их лизала. И если уж Малкольм заговорил о том, чтобы снять о нас фильм, я подумал, что именно такой человек должен стать режиссером. Но он не собирался мириться с фальшивостью Малкольма. Малкольму в конце концов пришлось бы убегать и прятаться от таких людей, потому что в какой-то момент пришлось бы выложить товар на стол. Любой может поднять шум, но тут важно доказать, насколько велики твои пушки, а у Малкольма они были крошечные.
В конце концов я уговорил Малкольма приобрести для меня жилье в Гюнтер-Гроув, неподалеку от паба «Край света» в Челси. Я был сыт по горло всеми этими переездами и чертовски хорошо знал, что все это не будет длиться вечно с таким менеджером, как Малкольм. В любой момент они могли вытащить из-под меня коврик. Я хотел что-то для себя, чтобы быть полностью обеспеченным. Мне было все равно где, но на Гюнтер-Гроув было дешевле. Мне кажется, на самом деле квартира принадлежала Стиви Уинвуду[177], и Island Records продавала ее от его имени. В итоге я туда въехал, и там прошли лучшие вечеринки, которые я когда-либо устраивал.
В то время власти отчаянно пытались хоть что-нибудь на меня повесить, и тогда же начались полицейские рейды, которые так или иначе никогда не прекращались.
Я искренне чувствовал, что несу на себе всю тяжесть этой жестокости. Не было никакой поддержки от группы и, совершенно определенно, никакой от руководства, да и кто, черт возьми, вообще меня поддерживал? Какой-нибудь скучающий подросток, живущий в съемной комнатушке, с которым я никак не мог связаться?
На самом деле примерно в то время я действительно начал отвечать на письма фанатов. Я часто так делал, потому что это была моя единственная настоящая отдушина. Я никогда не встречался ни с кем из моих корреспондентов, насколько я знаю или помню, но точно скажу, что многие письма были – «Спасибо – спасибо, за то, что научили меня думать самостоятельно», примерно в том же духе, что чертовски согревало сердце, а затем два часа спустя полиция распахивала твою входную дверь! У меня всегда было время для людей, которые хотели общаться со мной таким образом. Всегда.
Наличие у меня собственной квартиры очень раздражало Стива и Пола. Они такие типа рычали: «Кем ты себя возомнил?» А я отвечал: «Ну, я же пишу песни, не так ли? И кто, блядь, эта пизда, Малкольм? Это ваш приятель, ваш выпендрежник с Кингз-Роуд. Он не мой, я ему не нравлюсь, ему не нравится все, что я делаю, и все равно вы все наживаетесь на этом. Откровенно говоря, если бы “Anarchy In The U.K.” или “God Save The Queen” были бы написаны на любой другой текст, “Пистолз” не стали бы теми, кем сейчас. В них не было бы никакого смысла, они были бы бездумными, скучными, бесполезными. Просто еще одна мусорная поп-группа».
Их отношение ко мне из серии «ты не умеешь петь» проистекало из того факта, что бойз-бэнд был пределом их мечтаний. Но, откровенно говоря, если я не умею петь, то чем тогда занимаются Пол, Стив и Глен? Наверное, им нужна была известность. Меня, естественно, влекло прямо противоположное, и я автоматически привел их туда, где они хотели быть.
Но из-за того, что они не совсем понимали, что такое мятежный дух и тому подобное, это было проблемой и навсегда осталось проблемой, без всяких шансов на изменения к лучшему. Никто даже не пытался ее решить, она никогда открыто не обсуждалась. Все, что я делал, воспринималось с отвращением – это был именно тот подход, с которым мне пришлось столкнуться. И чтобы как-то вырваться из этой среды, конечно, я вполне естественно выбрал Сида. Давай, задвинь еще этой убойной штуки, детка! Это был лучший путь. Бедный старина Сид, мой друг – это погубило его, и у меня разрывается сердце, когда я говорю это, потому что он был загнан в угол, но в то же время он сделал группу лучше. Речь никогда не шла о миленько сыгранных мелодиях, да и с какой стати? В бунте нет ничего от нежных мелодий. Просто нет.
Тем не менее существовал тот дурацкий образ, который ко мне там прицепился, но я не такой. Я тихая, созерцательная душа, глубоко и широко мыслящая, и, как ни странно, я очень рационален. Совсем не то, что стало пропагандистским клише, и очень жаль. Я пытался хоть как-то внести свою лепту, чтобы исправить это, когда стал делать радиопередачи и ставил там музыку, которая мне нравилась. На лондонском радио «Кэпитал» была одна передача с Томми Вэнсом, которая привлекла большое внимание. Я играл Can, Капитана Бифхарта, Culture[178], Нила Янга, Питера Хэммила[179], Dr Alimantado – и все, что я услышал от Малкольма, было: «Как ты смеешь? Ты губишь панк!» – «Что? Прошу прощения?»
Это стало началом конца, после мы практически больше не разговаривали – на эту тему, – потому что для меня это была возможность поставить всю музыку, которую я любил и обожал, и объяснить причины, почему и что я делаю прямо сейчас и где я в этом мире. И он был просто в ярости, поскольку, по мнению Малкольма, панк – это New York Dolls, Игги Поп, Ramones, – но Ramones не существовали для меня в тот момент, потому что у меня был Status Quo! Да и The Flamin’ Groovies никогда не стояли на вершине моего чарт-парада.
Он просто пытался скроить нас, будто мы были какой-то новой глупой футболкой, которую он придумал. Помешанный на контроле фрик. Неужели ты думаешь, что я какой-то хомяк в коробочке, которого ты только что купил и надел на шею колье с блестками?! Ты, тупая пизда, будешь учить меня, что мне делать, а что нет. Отъебись! Я был очень зол – действительно очень зол. Мы должны научиться перестать мыслить стереотипами. Это то, а это другое. Нет, все время происходит перекрестное опыление. И я не верю в шесть степеней разделения[180], я верю в непрерывный процесс.
Вот тут-то и начался раскол, причем довольно серьезный – кардинальное разделение на то, что панк, а что не панк. Извините, но я на правильной стороне этого дела, борюсь с примитивными представлениями, свойственными тем, кто пытается оправдать себя трешовым отвращением к определенным вещам. И это не в обиду ни Игги, ни New York Dolls, которых я люблю и обожаю, – они прекрасно сочетаются с моим Тоддом Рандгреном[181]. Меня интересуют люди, которые в жизни экспериментируют. Не просто: «Трам-бам, спасибо вам, вот куча мусора, посмотрите, какой я торчок».
Я не желал ассоциироваться с образом джанки, а Сид, конечно же, купился на это и хотел жить нью-йоркской жизнью – за что уцепился и Малкольм. Малкольм был очень влюблен в Нью-Йорк.
В конце концов мы уговорили его устроить нам несколько концертов в Англии на август. И в итоге нам пришлось рекламировать себя под вымышленными именами, такими как Tax Exiles, Acne Rabble и S. P. O. T. S., что означало Sex Pistols On Tour Secret[182].
Необходимость выходить инкогнито была одновременно нелепой и вызывающе освежающей. Это превратилось в самую страшную в мире тайну. Но это держало власти подальше от нас. Были ли мы под запретом или нет, вопрос спорный – возможно, все это являлось частью так называемого генерального плана Малкольма. Мне не известно, с какой стати некоторые из этих местных советов заранее были уверены в наших намерениях, знали, будто наши выступления вызовут беспорядки, но этого никогда не происходило таким образом. Единственный негатив, с которым мы когда-либо сталкивались, был от праведных «любителей музыки», ха-ха-ха.
В том туре – который состоял всего из полудюжины концертов, так что это мало было похоже на гастроли – нам удалось сильно сблизиться с местной аудиторией. Очень теплая атмосфера, но казалось, что всякий раз, когда что-то реально работало хорошо и комфортно для нас и для зрителей, Малкольм находил способ саботировать это, будто боялся, что гастроли и в самом деле пройдут успешно.
Он очень испугался длинных рук закона, который со злобой посматривал на нас, и опять отступил, сделав этот провальный фильм под названием «Кто убил Бэмби?»[183]. На тот момент его нельзя было расценивать иначе, как беззаботное бегство от реальности того, чем мы на самом деле являлись. Малкольм также очень боялся иметь дело со мной в любой словесной конфронтации, поскольку чертовски хорошо знал, что у меня есть своя артиллерия.
Во многих отношениях это стало этакой борьбой за власть. Складывалась очень странная ситуация: Стив и Пол обвиняли меня в том, что я привел в группу «этого засранца Сида». Малкольм еще больше разворошил все это и очень разозлил их обоих – изолировав меня этой ссорой, – а потом попытался создать трения между мной и Сидом. Потому что Сид и Малкольм, как ни странно, общались. Так что он топил за обе стороны, наш Малкольм, и я проигрывал ему по всем фронтам. А ситуация в группе постепенно превращалась в ту бессмыслицу, которой она в конечном счете и стала.
С самого начала Малкольм не очень хорошо справлялся с межличностными отношениями в группе. Ему и правда должно было быть стыдно. Теперь же все вышло из-под контроля, но он продолжал устраивать злобные разборки и распускал слухи, которые провоцировали всевозможные неприятности. Никому из нас он не говорил одного и того же. Было не очень весело кричать друг на друга, а потом, когда мы выясняли, что именно Малкольм сказал каждому из нас, мы понимали, что причина всех разногласий – в нем. После мы все говорили: «Ладно, давайте заставим его “признаться” или что-то в этом роде», – и тогда, конечно, он оказался бы за дверью.
Я помню, как Стив однажды ухмыльнулся и радостно сказал ему в лицо, какой он пиздобол, на что, конечно же, Малкольм улыбнулся и воспринял это как какое-то свое достижение. Вот как складывались их отношения. Невозможно было изменить этот непреодолимый бред.
Я просто продолжал быть самим собой, пока в какой-то момент, после попытки снимать вместе с Сидом квартиру, я не начал размышлять: «Ну, так ли и нужно мне быть в этой группе?» То, что я писал и о чем думал, не укладывалось в рамки моей в ней роли. Мои амбиции заходили гораздо дальше, чем просто быть вовлеченным в эту безнадежную домашнюю драму.
Альбом Never Mind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols, когда он наконец вышел в том октябре, стал, должен признать, хорошим результатом нашей работы. Это показало мне, что у Стива были большие возможности; он мог уводить свою гитару в самые разные, новые, захватывающие и оригинальные места. Это было похоже на целую гитарную армию, а не просто беспорядочный шум типа «и так сойдет». У него прослеживался значительный прогресс, у нашего Стива. Вот как я тогда на это смотрел. Запись продолжалась вечно, и это почти превратилось в гитарное шоу, но, боже мой, мне это нравилось. Сведение всех этих совершенно разных дублей дало восхитительный результат, хотя и добавило группе некоторые проблемы с тем, чтобы воспроизвести это звучание вживую.
Ричард Брэнсон великолепно продвигал Never Mind The Bollocks. Он заполнил магазины пластинок Virgin постерами Never Mind The Bollocks (желтыми постерами с текстом, выполненным вроде как вырезанными из газет буквами) – особенно много их оказалось в Лондоне на Оксфорд-стрит, потому что у него там было два магазина, один на одном конце улицы, а другой на другом, – так что мы выглядывали из каждой витрины. Фантастика.
Такие же плакаты появились в магазинах и на севере, но север относился к этому иначе – в частности, Ноттингем, где они решили привлечь к суду местный магазин за якобы оскорбительную витрину. Их должны были судить на основании «Закона о непристойной рекламе от 1889 г.». Поэтому нам пришлось присутствовать в суде. Ну, на самом деле нам не нужно было идти в суд, но я вызвался. И я хотел, чтобы и Малкольм тоже там присутствовал. Мы собирались пойти и отстаивать свое право использовать слово «bollocks», которое, на мой взгляд, если обратиться к оксфордскому словарю, является вполне приемлемым англосаксонским словом для «яичек». Малкольм, конечно, отказался, и поэтому меня пригнали туда представители Virgin, потому что они-то понимали важность всего этого. Мы наняли Джона Мортимера[184], сценариста телесериала «Судья Рампол», чтобы доказать, что «bollocks» на самом деле происходит от прозвища священников.
Я против запрета любого слова, поэтому я был бы более чем счастлив сидеть в первом ряду в зале суда, чтобы послушать, что скажет этот судья, доказывая мне, какое слово я могу или не могу использовать. Я просто умирал от желания встать и выступить с речью. Я даже приготовил ее, я и в самом деле, реально работал над этой речью, не пил в течение нескольких дней, держал себя абсолютно трезвым – но они не дали мне шанса, потому что судья сказал: «Мы вынуждены признать вас невиновными». Так что мы сразу же помчались к друзьям из музыкального магазина, которые управляли местной радиостанцией, и отлично поговорили. Я получил еще один замечательный шанс поставить свои любимые пластинки, чтобы закрепить таким образом победу в суде. И, конечно, я успел заметить свое: «Где же Малкольм? Какой придурок, так что я хотел бы посвятить “Devil Woman” Клиффа Ричарда именно ему». И я наслаждался этой шуткой «губителя панка».
Позже мы ехали домой на «астон-мартине» одного из приятелей Брэнсона на огромной скорости. Фантастический день. Virgin поддержали меня, они поддерживали это дело. Для меня оказалось личной трагедией, что ни ребята из группы, ни наш менеджмент – никто – не захотел там присутствовать, и я действительно серьезно чувствовал, что с этого момента мы никогда не будем единой группой. Потому что им не хватало мужества и решимости. Не явившись, они полностью обесценили Sex Pistols.
В начале декабря мы все были готовы сыграть наш самый большой концерт в Лондоне и его окрестностях, в университете Брунеля. К сожалению, это превратилось в плохо продуманную чепуху благодаря угадайте кому. У нас не было никакого оборудования, чтобы хоть кто-нибудь мог нас услышать, все было организовано просто отвратительно, а наркотическая околесица Сида делала все это мерзким, трудным и болезненным. Сплошное жлобство.
В тот вечер в Брунеле присутствовали сотни людей, и сотни стояли снаружи, они пришли отовсюду – так что мы, по крайней мере, должны были бы быть обеспечены хорошей звуковой системой. Я не возлагаю всю вину исключительно на это, но одно дело, когда группа не может слышать друг друга, и совсем другое – когда приходится напрягать слух залу. Непростительное невнимание. Но Малкольм типа хотел создать сцену хаоса. Чушь собачья, он просто не хотел тратить деньги. Он ничему так и не научился: нужно вложить много, чтобы получить еще чуть-чуть.
Единственной передышкой стали два благотворительных концерта, сыгранных на Рождество, – для бастующих пожарных и их детей в Хаддерсфилде. Дневное шоу для детей и вечернее шоу для взрослых, которое оказалось последним концертом, который мы когда-либо давали в Англии. Было здорово сделать для них это, потому что все они оказались разорены, и всем было на них плевать. Эти люди не могли устроить себе настоящее Рождество, поэтому мы все сделали, завалили то место, где проходил концерт, разными тортами и подарками для детей.
И вот мы, якобы самая крутая группа в мире, на детском утреннике, и нам предстоит выступать перед семилетними! Для этого нужно очень многое оставить за дверью. Начиная с того, что я задумался: «И как мне исполнять “Анархию” здесь, откуда взяться реализму?» Ну, дети совершенно сбивают тебя с толку. Они такие: «Ты просто один из нас, Джон, большой сутулый ребенок».
Затем начали летать торты, и все превратилось в абсолютно безумное ослепительное великолепие. Совершеннейшая буффонада. Концерт показал нашу светлую сторону. Это было «Так держать, Sex Pistols», со Стивом в роли Сида Джеймса[185]. Дети могут стать ударным возвращением к реальности. Это и из Сида дух вышибло! Он пытался быть крутым рокером, но как можно быть крутым с рождественским тортом на лице? То шоу напомнило нам, что все стало слишком серьезно.
Для нас как группы это, пожалуй, был момент самого тесного единения, но дело дошло уже до той точки невозврата, когда Малкольм просто хотел, чтобы группа прекратила свое существование. Мы же желали, чтобы он ушел, но он продолжал свои ядовитые закулисные штучки, и это стало совершенно безнадежным. Мы были на грани распада, но не ранее чем…
Вы можете себе представить, каково это было для нас, «Секс Бухтулз», иметь возможность гастролировать по Америке? Это было совсем не то, что в наши дни, когда любой дурак может выложить деньги за билет. Большинство людей тогда не могли позволить себе билеты на самолет – никогда-никогда-никогда, – и уж точно не такие, как мы. У-ух, отправиться посмотреть страну Джона Уэйна, ура-а-а-а! Да и еще все это будет оплачено – совершенно поразительно! Это главное преимущество пребывания в группе: ты реально получаешь возможность делать то, о чем никогда не мог и мечтать. Конечно, это открывает твой разум, могу вам сказать. Что бы ни случилось, у нас был прекрасный шанс поднять на этом немного наличности.
Америка для нас была «Коджаком»[186], «Айронсайдом»[187] и, да, позвольте еще упомянуть «Старски и Хатча»[188], сериал, который я запомнил только из-за машин. Америка – сплошные машины с огромным задом, прямо как в кино. В наши дни они, правда, уменьшились в этом отношении, так что можно было бы подумать, что на автострадах будет больше места – но нет, просто стало больше машин.
Американский рок, однако, отчаянно нуждался в каком-то позитивном толчке. Сплошная банальность Западного побережья. Мягкий, сочный бланманже, как у Eagles – а-а-а!
Я люблю музыку. Я хочу знать все концы и начала, все! На самом деле, иногда мне больше нравятся вещи, которые я ненавижу, они странным образом оказываются более полезны. Но Grateful Dead были такими угасающими и скучными.
Идея «завоевать Америку» была фантастически веселой. Однако прежде чем нам удалось туда добраться, у меня возникли серьезные проблемы с получением визы благодаря неладам с законом из-за амфетаминов. Единственное, что сыграло в мою пользу, так это то, что в один дурацкий вечер незадолго до того, как мы должны были отправиться в американское посольство, я пошел в клуб с несколькими моими друзьями – работавшими в эскорте (Линдой Эшби и ее компанией) – и растянулся на лестнице, когда кто-то решил ограбить кассовый аппарат. Грабители попытались взбежать по лестнице, но споткнулись о мою ногу, попадали навзничь, нокаутировали себя, и вдруг меня похвалили в прессе за то, что я остановил ограбление.
Внезапно я стал героем дня. Ай! В то время я был довольно этим напуган. Я вовсе не хотел, чтобы об этом упоминали, и отрицал всякую за это ответственность. Я думал: «Послушайте, мои друзья совсем меня за это не полюбят». Но это стало хорошим предзнаменованием для получения визы в Америку. В итоге официальный представитель посольства, который проводил со мной собеседование, сказал: «Ну, вы сделали кое-что для общества». Ух ты, вот как вы на это смотрите? Но это окупилось, я получил свое разрешение на работу. Хотя вскоре я пожалел об этом.
Малкольм, наш мудрый Малкольм, решил, что мы не будем играть в больших городах на побережье, таких как Нью-Йорк или Лос-Анджелес, а вместо этого дадим концерты для «настоящих людей» на Юге. Да уж, Малкольм хорошо понимал рабочий класс. Итак, по этому нелепому расписанию в начале января 1978 г. мы пересекли Америку, среди льда и снега, на том, что было по сути своей школьным автобусом.
Многие начинающие звезды были бы сломлены этим опытом, но не я! Чистейшая радость и удовольствие смотреть в окно автобуса и видеть проносящуюся мимо меня Америку были абсолютно захватывающими, и в особенности потому, что мы пересекали Юг. Это напомнило мне ковбойские фильмы, которые отец заставлял меня смотреть в детстве. Всматриваться в названия городов, как в телевизоре. Черт возьми, это было здорово. После всех этих интриг я чувствовал себя в те минуты ребенком. Пейзаж Америки произвел на меня неизгладимое впечатление, и я влюбился в эту страну. Несмотря на ужасную ситуацию, которая у нас складывалась, все равно я чувствовал радость.
В то же время я понимал, что ничего не могу поделать с Сидом. Это было непреодолимое препятствие, поскольку Малкольм использовал его как инструмент, чтобы проводить свою политику в группе. Он хотел уничтожить то, что не мог контролировать в своей маниакальной манере, что в свете нынешнего дня представляется очень по-детски с его стороны. Но это было полностью в его духе, он таков. Малкольм был очень ревнивым человеком, и если кому-нибудь приходила в голову идея сделать что-нибудь свое, то вместо того, чтобы как-то поощрить ее и принять к сведению, он начинал действовать вопреки.
Я и не подозревал, что Малкольм тайком брал уроки пения. Он просто посмотрел на Джонни Роттена и подумал: «И я так смогу!» Мне бы очень хотелось, чтобы он всерьез занялся этим, потому что тогда все бы увидели отсутствие таланта.
Несмотря на то, что между нами все рушилось и концерты были ужасными, я пытался как-то достучаться до Стива. На самом деле однажды мы провели великолепную ночь. У Стива была коробка из-под обуви, полная марихуаны. «Не хочешь попробовать?» Как ни странно, я так и сделал, и это было весело, но нам пришлось иметь дело с проблемой Сида, который двумя дверями ниже тусовался к каким-то черным трансвеститом. Это было уродливо, и глупо, и совсем не в стиле Sex Pistols. Скорее, грустная интерпретация Лу Рида и погружение в проблему «Есть ли где-то поблизости героин?».
Нам всем было очень тяжело, мы сражались каждый из собственного угла и не могли объединиться. Мы поняли, что проблема не в Сиде, а в нас самих. Мы просто не могли поладить друг с другом, вот и все. На тот момент было бессмысленно пытаться продолжать, потому что внешнее воздействие постоянно оставалось губительным.
В течение всего тура за нами ездили репортеры. Сид дал интервью «Хай Таймс», которые следовали за нами повсюду. Так вот, «Хай Таймс» был журналом, имеющим самое непосредственное отношение к наркокультуре, однако ходили слухи, что у них были связи и с ЦРУ. Так что на самом деле с их стороны это больше походило на выяснение того, что вы делаете, с кем вы это делаете, кто вам это продает, откуда это берется и куда идет дальше. А Сид не был в состоянии понять, что не следует вообще касаться подобного рода вопросов. Кроме того, он охотно нес всякую чепуху, втирал этот свой наркотический бред людям, которые были более чем счастливы это напечатать, что обернулось для нас репутацией команды торчков.
Я писал свои песни не для того, чтобы все так случилось, да и Стив, когда основал эту группу, я уверен, имел в виду совсем иное. От невинных детских шалостей до придурка с мозгами, накачанными героином. И, о да, конечно, его деньги украл этот черный трансвестит, который еще и избил его в придачу. А потом Сид типа: «О-о-о, это просто ужасно».
На концертах он пытался быть «гнилее Роттена». Он соревновался со мной на сцене и старался встать передо мной, чтобы показать, что он действительно крутой и жесткий. Сид стремился подраться со зрителями, стоявшими в первых рядах, и самое печальное, я знаю почему – я чувствовал в нем боль. На самом деле он использовал это как уловку, чтобы скрыть свое собственное чувство неполноценности. Сид знал, что не тянет, что не сможет добиться успеха, понимал, что у него нет этого, и потому саморазрушение стало щитом, за который он мог спрятаться, ведь это – самый легкий выход, не так ли?
Это было ужасно – наблюдать за кончиной очень близкого друга; это разбивало сердце. Но в тот самый момент я был просто в ярости от того, что до него ничего не доходило. «Привет, дружище, ты в самом привилегированном положении в этом мире, люди, так сказать, жизнь готовы отдать, чтобы обладать твоим влиянием. И просто взять и пустить все под откос, выставить себя и всех вокруг идиотами…» Он был управляемым роботом. Вот вам важный жизненный урок, вам надо бы научиться ему быстро и сохранить его на всю оставшуюся жизнь: сами дергайте за свои собственные ниточки и не подчиняйтесь кукловодам – и не будьте кукловодами сами.
Что разбило мое сердце, так это то, что некоторые люди наблюдали за ним и на самом деле думали, что это был прикольный героиновый финал. Для меня поведение Сида – преступление против человечности. Его пример – пример саморазрушения. Как это может быть привлекательным? К тому же добавилась еще и пресса, готовая соответственно упаковать это, чтобы снизить политический накал песен. И внезапно серьезное социальное содержание отходит на второй план, а в центре внимания остаются поступки какого-то наркоши.
В разгар всего этого у меня немного улучшились отношения со Стивом. Конечно, его точка зрения была такова: «Этот Сид должен уйти». – «Нет, это ничего не решит!» С этого момента Стив и Пол начали перемещаться от одного концерта к другому на самолетах и заказывать себе номера в разных с нами отелях – просто смешно. В середине тура я мог целыми днями не разговаривать с другими участниками группы, потому что Малкольм их от меня прятал – абсолютно детские, глупые вещи, которых не ожидаешь даже от пятилетней девочки на детской площадке.
Во время саундчека в Сан-Антонио я хотел попробовать новую песню, которую я написал, «Religion», и они просто с ней не справились. Не захотели знать. Хорошо. Тогда оставим все как есть. Все это настолько глупо, что даже нет слов, когда оглядываешься назад, – корчить рожи, не обращая на меня внимания. Сид был готов повозиться с новой песней, но это было не то, чего я хотел. Он объективно не мог с ней справиться. Поэтому я отложил «Religion» и использовал ее позже, когда основал свою новую группу PiL[189]. Вероятно, было к лучшему, что в то время никто не говорил о создании нового альбома – его так и не случилось. Я очень рад, потому что это стало бы еще одним камнем преткновения – сколько можно выдержать?
Не знаю, действительно ли я хотел сделать это так, как на том саундчеке, и я, очевидно, не сделал этого, потому что и по сей день не могу вернуться к тому звуку и попытаться его повторить. Это скучно, и это было бы неправильно, и это не сработало бы. Во всяком случае, для меня. Дело вот в чем: я уверен, что выпусти мы Вторую часть, которая была бы похожа на Первую, это принесло бы деньги. Но нет, деньги тут даже ни при чем. Если я ощущаю, что это бросает вызов моему чувству творчества, творчество побеждает независимо от финансовых проблем, которые бы оно мне создало. Я буду постоянно рисковать, потому что не смотрю на это как на риск. Наоборот, я вижу в этом самый смысл и главную цель того, чем я занимаюсь. В жизни предоставляется только один шанс, я получил его с «Пистолз», и я намерен использовать его на все сто. Используйте свой шанс правильно, используйте его полностью, до самого конца. Утонуть или выплыть.
Малкольм, очевидно, хотел заставить сумасшедшего культового убийцу Чарльза Мэнсона спродюсировать наш второй альбом из тюрьмы. Я читал подобные вещи, но ни у кого не хватило бы смелости сказать мне это в лицо. Таких слухов было много, очень много. Например, что после американского турне мы едем в Бразилию, чтобы работать с Ронни Биггсом, участвовавшим в Великом ограблении поезда[190]. Это настоящее блядство, и ничто из этого никогда не будет для меня приемлемым. Просто погоня за дешевыми заголовками и дискредитация того серьезного или хорошего, что было в этом деле. За всеми подобными идеями – это бросается в глаза мне, как и любому, кто это читает, – стояла обида Малкольма. Он потерял контроль и поэтому пытался вернуть его в мире глупости, там, где у него было бы место. Мир дезертирства и бегства от реальности.
Так что к тому последнему концерту в Сан-Франциско я действительно потерял интерес. В том моем состоянии меня даже не заботила необходимость писать песни. Я чувствовал: «Вот и все, вот и полная остановка. В этой обстановке я достиг всего, чего мог». Так это и закончилось, когда я сказал: «Вы когда-нибудь чувствовали себя обманутыми?» Мы стали предателями того, с чего начинали.
Мне кажется, да кому на хрен вообще было до меня дело на том последнем концерте на Зимнем стадионе в Сан-Франциско? Еще меньше они заботились о Сиде, кроме того, что хотели использовать его позже – а Сид был в высшей степени полезен на тот момент. Сид сошелся с Малкольмом, в основном из-за денег на наркотики, и, конечно, я не хотел иметь с этим ничего общего. Малкольм говорил ему: «Да, Сид, мы дадим тебе то, что ты хочешь», – а потом, когда год или около того спустя запахло жареным, просто его бросил.
Я абсолютно четко понимал, что не могу оставаться ни в этой группе, ни с кем-либо из этих людей. И потому, когда Стив и Пол улизнули в Бразилию, даже не сказав мне об этом, все было прекрасно – я этого ожидал. На самом деле я даже почувствовал облегчение, но затем озадаченность: «Где мой билет домой? Почему нет денег? Что, мой гостиничный счет здесь не оплачен? ЧТО?!» А потом я позвонил в звукозаписывающую компанию, и мне ответили: «О, нам сказали, что Джонни Роттен уехал в Англию, поэтому мы вас не признаем». Абсурд. Безумие.
Единственным человеком, который хоть как-то обратил на это внимание, оказался Джо Стивенс, друг Малкольма, фотограф. Я рассказал ему, что происходит, и он был просто озадачен и шокирован всем этим. В конце концов он оплатил билет на самолет, чтобы я приехал к нему в Нью-Йорк, пожил немного и прочистил мозги. Какой фантастический поступок. Какой замечательный парень Джо Стивенс.
Потребовалось около недели, чтобы связаться с Бобом Регером из нашей американской звукозаписывающей компании «Уорнер Бразерс». Он тоже счел это безумием со стороны Малкольма. Он приехал и встретил меня в отеле, чтобы помочь со мной разобраться, и тут же кто-то по какой-то причине предъявил ему судебный иск. Чокнутые! Я понятия не имею, что это была за ситуация, но, очевидно, она на самом деле связала нас обоих – что реально окупилось для меня пару лет спустя.
Я дал интервью «Нью-Йорк пост», чтобы изложить свою точку зрения. Я не хотел, но это нужно было сделать. Я тогда был не в том настроении, чтобы разбираться с этим, но, как заметил Джо Стивенс: «Посмотри, что этот долбаный Малкольм говорит о тебе», – и ему нужно было ответить.
Это было по-настоящему жестоко, по-настоящему злобно. Он просто хотел убедиться, что у меня больше не будет никаких шансов на продолжение карьеры, пытался вбить гвозди в мой гроб вместо того, чтобы оставить все как есть и сказать: «Что ж, наши пути разошлись…» Нет, и это действительно укрепило мою решимость: «Прекрасно, я поквитаюсь с тобой, уебок! Полный вперед – как только вернусь в Англию, сразу к адвокату… Я хочу расставить все по местам».
На мой взгляд, они разрушили все, что было блестящим и славным в Sex Pistols, то единство, своим эгоистичным дерьмом они надрали задницу всем нам. И чем все это кончилось? Преклонением перед грабителем поезда? За мой счет, на мои деньги?
Потом мне пришлось подать на них в суд, типа: «Привет, разве я не в счет? Помните меня? Я написал песни!» – по крайней мере, тексты песен, и, откровенно говоря, если быть честным с самим собой и со всеми остальными, я не думаю, что кто-то когда-либо покупал пластинку Sex Pistols из-за соло на гитаре, барабанов или баса – хотя я и не смог бы создать тексты без этих трех составляющих. Но я никогда не получал того уважения и любви, которые, как мне кажется, мы как группа действительно должны испытывать по отношению друг к другу. Так что нажритесь дерьмом и умрите, вы, пидоры. Это мой вежливый способ сказать, что у нас все могло бы быть хорошо.
Кто цензурирует цензоров? # 1
Не судите, да не судимы будете
По-видимому, недавно в Интернете появилось старое аудиоинтервью со мной 1978 г., в котором я рассказываю о Джимми Сэвиле и говорю что-то вроде: «Все знают, что он растлитель малолетних, но нам нельзя об этом говорить». Я не помню интервью. Мне сказали, что это была Вивьен Голдман, но я рисковал, затронув тему задолго до того, как все это стало достоянием общественности. Да, надо всегда рассказывать все так, как оно есть, как ты на самом деле это видишь, и не умалчивать то, что тебе реально пришлось пережить за кулисами.
Люди называли меня грязным, отвратительным Секс-пистолетом или типа того. Но что, блядь, это за херня? Разве вы не знали, что происходит с ним, с этим узаконенным, дряхлым извращенцем? Он получил орден ПОЧЕТА, потом стал сэром Джимми Сэвилом, но я не думаю, что когда-либо вообще существовали хоть какие-то сомнения относительно того, кто он такой и каковы его намерения. На самом деле мне не кажется, что и сейчас обнародованы все эпизоды того скандала. Все знали. Это было общеизвестно, но существовал некий негласный заговор молчания.
С самого раннего возраста, глядя на него в Top of the Pops, ты понимал, что с ним что-то не то. И он всегда ухмылялся, как бы намекая. По его глазам можно было догадаться, чем он занимается, прочесть язык его тела.
Так вот откуда я узнал о Сэвиле – его глаза. Я мог сказать, что он был лживым и скрывал что-то темное и уродливое, и он ухмылялся, словно зная, но не заявляя. Откровенная наглость, она сводила меня с ума. Это то, что я обычно делаю – наблюдаю за глазами человека и понимаю, что с ним происходит. Мне кажется, у лучших актеров или актрис все говорят их глаза. Кэтрин Хепберн, Питер О’Тул, Шарлотта Рэмплинг. Вы видите столько глубины в том, что они делают. Они способны выйти за пределы слов. Это почти музыкально.
Радиодиджеи в Британии в начале-середине 70-х были богоподобны. Если они не издевались над маленькими детьми, то определенно издевались над кем-то еще, потому что их власть становилась все более всепоглощающей и диктаторской. И они смели пропагандировать себя там, на радио «Би-би-си», как эталон хорошего вкуса, от их негативного влияния зависели чьи-то карьеры.
Конечно, «Би-би-си» потребовалось ужасно много времени, чтобы впервые поставить пластинку Sex Pistols, и я сомневаюсь, что они часто это делают и по сей день. С тех пор мне пришлось пережить всевозможные строгие отказы, и все от этих поставщиков хорошего вкуса, которые в то же время занимаются ужасно развратными вещами. И у меня не было иного выбора, кроме как восстать против этого и получить запрет навсегда или же попытаться придерживаться общей линии, что, конечно, я сделать не мог.
Глава 6. Избавление от альбатроса[191]
В то время люди в Англии хотели жить в крошечных комнатушках, которые было бы легко отапливать зимой. Моя гостиная на Гюнтер-Гроув, напротив, представляла собой просторное помещение, почти как бальный зал; в своей задней части она соединялась с кухней, наверху располагались две крошечные спальни. Это было именно то, чего я хотел. Я думаю, что главная комната, вероятно, использовалась в качестве офиса кем-то, кто был там у Стива Уинвуда, прежде чем я получил квартиру в свои руки. У меня же были другие идеи.
Я поставил проигрыватель на стойку, а телевизор, с вешалкой в качестве антенны, между двумя окнами, за которыми снаружи располагался полукруглый балкон, и играл музыку так громко, как хотел, и приглашал к себе столько людей, сколько могло вместиться: частенько там оказывалось около трехсот-пятисот человек, ха-ха. Летом мы пили на крыше – это всегда было любимым занятием ребят.
Все знали: «Ты можешь просто прийти к Джонни, он будет беседовать и со стенами, если придется, но он будет говорить!» Я очень тихий, склонный к одиночеству человек, но всегда готов к преодолению себя в любом направлении. И я действительно люблю интересную компанию.
Моя квартира на Гюнтер-Гроув была всегда открыта для гостей, почти проходной двор, с этаким витающим вокруг общинным духом. Ко мне приходило огромное количество посетителей, и все они были очень интересными. Какое великое собрание людей! Каждые две недели я устраивал по пятницам вечеринку и просто сообщал об этом всем своим приятелям и сотрудникам лейбла Virgin, поскольку у меня там уже было много друзей. Так что ко мне захаживало множество людей из мира музыки, но таких, которых вы никогда не ожидали бы там встретить или иметь с ними что-то общее. У меня бывали и диско-группы, и совсем неожиданные гости, вроде Джоан Арматрединг, фолк-певицы и автора песен, которая мне показалась очень веселой.
Были и киношники, писатели. Даже как-то раз у меня оказались в гостях солист группы Bay City Rollers, кто бы мог подумать, и композитор Джон Барри[192]. Какой замечательный вечер! Потом, позже, в разгар всего этого веселья, заглянул японский композитор Стому Ямашта[193]. Это было очень похоже на потусторонний опыт, четыре очень разных человека, но с общей идеей создания музыки. Захватывающие беседы!
Какое удивительное для меня открытие. После несчастий предыдущих месяцев с «Пистолз» все снова стало казаться возможным, поскольку я общался с людьми из самых разных слоев общества, музыкантами и не только. Для меня основным смыслом всего этого стала возможность взглянуть на жизнь с самых разных ее сторон. Если ты не открыт для такого опыта, ты обречен. Обречен повторять те же неудачи, что и все остальные идиоты.
Первоначально у меня была только эта двухэтажная квартира – два верхних этажа в торце блокированного таунхауса. Однако живший снизу сосед не смог вынести шума и вскоре после того, как я переехал, продал мне свою квартиру, нижнюю половину. На самом деле у меня были некоторые проблемы с получением на это денег, в свете моего судебного иска против Малси и мальчиков.
Я никогда не жил там совсем один. Я не такой человек, я не люблю уединение. Люблю разнообразие, поэтому через квартиру на Гюнтер-Гроув в разное время прошел бесконечный парад людей. Начнем с того, что у меня был Дэйв Кроу, которого я знал и поддерживал со школьных времен Вильгельма Йоркского, и еще один друг из Финсбери-парка Пол Янг ака Янги – тот самый, чья разбойница-мама сделала стрелки на его бондажных брюках. Пол очень дерзкий парень – модник и настоящий дамский угодник. О, девчонки обожают этого парня, у него с этим все как по маслу. Он из тех парней, знаете, с которыми надо тусоваться, если хочешь подцепить девочек – просто встань рядом с ним.
Сначала было здорово делить квартиру с Полом и Дэйвом, потому что мы так хорошо знали друг друга. Всю неделю мы с Дэйвом и Джоном Греем собирали микстейпы на выходные. «А-а-а, какие у нас будут записи?» И еще: «Как мы будем их соединять?» У Дэйва был катушечный магнитофон, так что вместо того, чтобы возиться всю ночь с проигрывателем, мы предварительно записывали все это и использовали двойное эхо, которое было на его «Ревоксе», для связки между треками. Добавляли в эти связки отрывки из «Бен-Гура» и тому подобное.
Одной из наших любимых мелодий в те первые недели 1978 г. был танцевальный регги-хит «Uptown Top Ranking» Алтеи и Донны – «In a mi khaki suit an t’ing!»[194] – какая чудесная песня! Однажды ночью этот трек включился, потому что мы поместили даб-версию на один из наших катушечных миксов. И мы понятия не имели, что Алтея и Донна были на самом деле среди гостей, девчонки вскочили и начали петь.
И это все время происходило именно так, это была настоящая радость, любовь к музыке, любовь к нашим сборищам и любовь к тому всепоглощающему интересу, который каждый испытывал по отношению ко всем остальным. Правильное время. Предвестник того, что, как мне кажется, пытался сделать рейв. Исполнялись все запросы и предложения, за исключением, конечно, ревнивых и злобных, принадлежавших людям, которые никогда не были желанными гостями. Правда, иногда очень сложно было сделать правильный выбор. Все время от времени совершают ошибки, а ты думаешь: «Ну что ж, надо дать им шанс». Это мой путь, я готов дать шанс любому, но, если человек его не оправдает, что ж, дверь там.
Какое-то время моя жизнь на Гюнтер-Гроув была немного похожа на противостояние: Джонни vs остальные окрестные жители, учитывая все эти жалобы на шум. Мои соседи, с которыми у меня была общая стена, никогда ничего через нее не слышали, пока не появились строители и по какой-то странной причине не сделали эту стену тоньше. И внезапно шум стал проходить прямо через нее. Британские строители – говорю вам, на них стоило посмотреть. Они были так плохи, что, разбирая кирпичи смежной стены, разворотили эту стену настолько, что я мог видеть их за работой из своей спальни наверху. «Это уже слишком, послушайте! Вы что, обоями эту дырку заклеивать будете? Положи-ка кирпич обратно!» Кстати, я уверен, что это было не пьяное видение – самая что ни на есть реальность.
Другая жалоба была смешной: это оказались какие-то итальянцы, которые жили напротив моего заднего двора. Они подошли ко мне и заявили: «Мы не против громкой музыки, но чего мы действительно не выносим, так это регги!» Вы будете смеяться. Так что это дело вкуса. И, конечно же, это не создавало проблем. Если люди говорят мне, что́ на самом деле их беспокоит, я открыт для сотрудничества. Я согласился не играть эту музыку в 4 часа утра.
Примечательная особенность регги заключалась для меня всегда в том, что это не агрессивная музыка, мелодичные ритмы были просто прекрасны, но, бог мой, диалог, который велся в песне, абсолютно иной, настоящий хардкор. Это противопоставление выглядело пугающе громко: невероятно грустные песни боли и страдания, даже революции, внутри счастливых мелодий. Очень эффективный способ донести свое послание.
Такие песни, как «Born For A Purpose» Dr Alimantado, относятся к числу тех, что изменили мою жизнь. Я думаю, текст в ней гениален, это звучит особенно фантастически, когда ощущаешь, что у тебя нет смысла жить. Типа не навязывайте мне жизнь! «Ого! Здоро́во, Ямайка! У тебя там хорошие мозги работают». Для меня это было совершенно определенно одним из тех моментов, когда ты слышишь песню и понимаешь, что это утверждение высшего порядка. Например: «А-а-а, мы здесь все вместе – люди, которым не все равно, которые действительно думают о том, что они делают, и знают, что они на этой планете для того, чтобы сделать что-то позитивное».
Рано или поздно на Гюнтер-Гроув приходили все, кто имел отношение к регги, потому что у нас, конечно, была такая звуковая система, которая им нравилась, но главным образом потому, что это был дом, где к вам никто не относился предвзято или с осуждением. Добро пожаловать, все до единого, и никаких проблем.
В начале 1978-го я провел месяц на Ямайке. Я хорошо ладил с Саймоном Дрэйпером, вторым лицом после Ричарда Брэнсона в Virgin. Он был бывшим военным, служившим в южноафриканской армии, но ему было не все равно, он был искренним. Он понимал, что, когда «Пистолз» распались, я мог попасть во всевозможные неприятности, поэтому предложил мне хоть какое-то занятие – поехать в Кингстон, насладиться исходящими оттуда новыми звуками и помочь подписать контракты для нового дочернего регги-лейбла Virgin – Front Line. Создание такого лейбла, как мне казалось, было отличной идеей, и я испытывал огромное уважение к Саймону и Ричарду за то, что они делали для меня на личном уровне.
Когда же мне представилась такая возможность, я сказал: «Послушайте, я поеду туда не один. Я знаю, что там будут и другие парни из Virgin, но мне нужна своя рабочая команда». Команда из людей, которые заслуживали того, чтобы быть там, но на самом деле не имели бы особого отношения ко всяким подписаниям. Я не ожидал, что они возьмут на себя такую нагрузку; это не их задача. Мне нужны были люди, непосредственно связанные с этим местом. Поэтому я предложил Дона Леттса, диджея с дредами из клуба «Рокси», и Денниса Морриса, фотографа, который сделал много снимков «Пистолз» уже ближе к концу группы.
Дон и Деннис казались мне правильными ребятами, потому что у них там была семья, а это важно. Я думал от чистого сердца, а не с эгоистичной точки зрения банды британцев, отправляющихся в Испанию. Это не должно было стать каникулами всякого наглого хулиганья. Я мог бы заполнить до отказа парочку самолетов, но мои намерения были совсем иные. Я не собирался этого делать, чтобы не оскорбить Virgin или чтобы это не было воспринято как такая увеселительная поездка. Нет, я отнесся к делу очень серьезно. Для нас троих это, скорее, было похоже на музыкальное паломничество.
Брэнсон встретил нас в аэропорту на «роллс-ройсе» 1940-х гг. с плоской крышей. Это было просто потрясающе – ехать через Кингстон в этой абсурдно напыщенной а-ля индийский раджа машине. Ямайцы, будучи теми, кто они есть – очень громкими, – всегда выскажут тебе парочку-другую острых словечек, чувак! Казалось, на нас обрушилась стена оскорблений, цинизма и остроумия. Таково было мое знакомство с Ямайкой, и я бесконечно благодарен.
Поэтому я немного потрудился на Брэнсона, чтобы убедиться, что он обращает внимание на правильные группы. Это было захватывающе – посещать разные студии и слышать разные стили. Ходить по музыкальным магазинам да просто ввязываться во все это дело всерьез, начиная по-настоящему любить этих людей.
Открытое дружелюбие идей раста[195] было поразительным. Мне казалось, это отличный ключ к пониманию того, каким мог бы стать правильный новый мировой порядок. А ведь то время, как все прекрасно знают из их записей Боба Марли, ямайцы терпели худшее из худшего, вся эта бедность и политическое насилие, но они шли по жизни легко, с улыбкой – какое удивительное превосходство!
Посмотрите, сколько бед им пришлось пережить, чтобы стать Ямайкой, начиная с рабства. Боже мой, эти парни прошли через настоящую мясорубку. Со всеми этими спорами между Народной национальной партией (PNP) и Ямайской лейбористской партией (JLP) (или JVC, как я их называл) в стране шла гражданская война. Настоящий хаос. Когда ямаец говорит «Мир!», это обладает для меня некоторым весом, потому что они действительно очень искренне имеют это в виду. Они реально знали, что такое пережить войну. Ямайцы не трусы, они храбрые парни, храбрые мужчины, женщины и дети.
Мы открыли магазин в отеле «Шератон» в Новом Кингстоне и вскоре обнаружили, что большинство музыкантов уже знали о нас и толпами повалили, чтобы нас увидеть. Это нарушало многие социальные табу, существовавшие в то время на Ямайке, потому что вокруг растаманов сложилась очень негативная штука, они ассоциировалась с грязью и непристойностью, ленью и бродяжничеством.
Тогда вышла отличная пластинка под названием «Ain’t № 40 Leg Pon Di Dread»[196] Джорджа Нукса, ставшая ответом ужасному городскому мифу, который получил широкое распространение, – будто на пляже был найден мертвый растаман, а у него в дредах ползали сороконожки. Очевидно же, что их там не было до того, как он умер, но мы все знаем, как побеждают заголовки, и в погоне за сенсациями журналисты не обращают внимания на реальные факты.
Итак, там, на Ямайке, все полагали, будто в прическе раста прячутся всевозможные грязные насекомые, и поэтому им приходилось прятать свои дреды. Можно было попасть в тюрьму просто за то, что ходишь с непокрытой головой. Например, когда Дон прыгнул в гостиничный бассейн, поднялся крик – его волосы плавали на поверхности, в то время как остальная часть тела была в четырех футах под водой. Однако когда эти парни пришли к нам, у нас ничего такого не было. «Вы можете снять шапку… Послушайте, я тоже сниму тренч».
Я отправился туда почти без шмоток. У меня был тренч, две футболки, пара туфель на толстой подошве, широкополая шляпа, типа как у Ли Ван Клифа, – и синий бондажный пиджак, больше ничего. Я не ожидал такой жары.
Кстати, бондажный пиджак был от костюма, сделанного Вивьен для американского турне. Я настоял, чтобы на этот раз в штанах была хоть какая-то промежность! И я не хотел, чтобы молния шла с зада наперед, мне нужна была нормальная мужская молния – спереди. Плюс я не хотел какого-то идиотского маленького полотенца, я хотел килт и жакет болеро. К сожалению, к тому времени, как я добрался до Ямайки, бондажные штаны сгнили, в буквальном смысле слова, от гастролей. У меня не было ни малейшего желания их стирать, поэтому все, что осталось, – это пиджак. Пару лет назад я с большим удовольствием отправил этот пиджак в нью-йоркский музей Метрополитен, так что он совершил кругосветное путешествие.
Поход на пляж на Ямайке оборачивался настоящим кошмаром. Я довольно трепетно относился к разоблачению на публике, и я все еще остаюсь таким. Не люблю прийти на пляж и, скинув одежду, броситься в море, если только мне не предоставляется возможность сделать это очень быстро, желательно полностью одетым. Я знал, какой я белый и какие это вызовет взрывы смеха, потому что ямайцы не из тех, кто будет держать свое мнение при себе. Но я больше не мог потеть на пляже, поэтому просто взял и сделал это – снял одежду и пошел купаться. Поднявшийся вой был реально хорош. Но вполне дружелюбен, если вы правильно это понимаете. Они знали, что я чувствую себя глупо, да и так же выгляжу – я очень быстро стал красный как рак от солнца. Кроме того, для них это была зима.
Поначалу мы собирались пробыть в Кингстоне всего две недели, но потом решили поскрести в собственных карманах и задержаться еще на две. Дон и Деннис познакомили нас с некоторыми из своих уважаемых родственников, так что это стало семейным делом, а не просто холодным деловым предприятием.
Одно из худших происшествий случилось у тети Денниса Морриса – или у его бабушки? Мы ходили туда, и, знаете, у этих людей нет денег, поэтому, когда они ставят перед тобой тарелку супа или тушеное мясо, ты проявляешь уважение и ешь. Конечно, там было полно этого перца «огненный шар» – разновидность чили, вероятно, самая острая штука, которую я когда-либо пробовал. Просто не-ВЫНОС-имо. И это в 40-градусную жару! Так что тренч пришлось снять. Потом пришла подружка саксофониста по имени Грязный Гарри и сказала: «Джан, тебе нечего одеть», – и купила мне серый топ, который я носил все оставшееся время.
Было очень приятно дать Дону и Деннису возможность встретиться с их родственниками. Это принесло Дону море позитива – он реально нашел себя во всем этом, даже несмотря на то, что ему пришлось вынести гнев всех местных растаманов. Они типа такие: «Растаман ест омаров?!» Это часть религии раста – никаких моллюсков. Дон не сплоховал: «Ага!» Он не придерживался фанатично догм, в которых нет особого смысла.
Его бабушка и дедушка, с другой стороны, не одобряли того, что он был растаманом. В таких ситуациях всегда больно встречаться с родственниками. В то же время это то, что сделать было необходимо. Прощание далось им трудно, а тут еще я на заднем фоне в своем нелепом наряде, пытаюсь не отсвечивать.
Ямайцы такие забавные. На улице мне говорили: «Ты что, гангстер? Из Мэй-хи-ко?» Но опять-таки U-Roy[197], DJ Originator, был похож на человека, только что вышедшего из фильма Клинта Иствуда. Отличный парень, безумный, как шляпник, но полностью погруженный во все эти растаманские штуки, и у меня возникала куча недоумений. Во дворе висел гамак, я как-то спросил о нем, и оказалось, что именно там должна была спать его мисус по ночам, потому что, когда у женщин месячные, в дом их не пускают. Это, знаете ли, бр-р-р, как по мне, своего рода нарушение сделки, согласны? Я видел проявления этого аспекта растафарианства и на примере других людей, которые нам там встречались, – женщина всегда должна была идти на некотором расстоянии позади мужчины.
Мне казалось, что невозможно придерживаться всех этих разделяющих обычаев, а затем выступать в своей музыке против неравенства, поскольку вы сами и навязываете это неравенство другим людям. Так что я видел много проблем с раста. По моему мнению, им следует поставить женщин и детей с собой на один уровень. Место для улучшения! И будучи опасным мерзавцем, я не мог им об этом не сказать!
Мы также побывали в очень опасных гетто и встречались с людьми типа Таппера Цуки[198]. Он был горд показать нам свою банду и их оружие, разгуливая туда-сюда по улице и помахивая пушкой. Я такой: «О боже, что я здесь делаю, в любую секунду может начаться перестрелка?» Это Ямайка, и мы попадали в очень опасные ситуации. И только наша непредубежденная глупость была единственным пропуском туда и обратно. Иногда, если вы слишком беспокоитесь о том, что вас окружает, с вами никогда не случится ничего хорошего, впрочем, и плохого тоже.
Мы побывали всего лишь на нескольких «саунд-системах» – мобильных дискотеках. Типичная Ямайка, это все не начинается раньше полуночи, а к тому времени ты настолько обкурен, что едва можешь говорить или даже стоять. Мне очень жаль, но эта трубка просто вырубает. К этому трудно привыкнуть, и, как единственного белого мальчика в компании, меня на это подзуживали. Вот тебе и вызов мужественности. Я, конечно, еще смешивал травку с «Хайнекеном», и, хотя в то время к пиву в кругах регги относились с неодобрением, все же это приносило мне призовые очки – две вещи, чтобы положить тебя на лопатки, и обе разом. Молодец, Джон!
Из всего местного народа моими любимыми были, вероятно, Congos[199], вокальная группа, которая записала один из своих величайших альбомов на студии Black Ark Ли «Скретч» Перри[200]. Я любил их, и их семьи, и просто щедрость этих ребят по жизни. Очень вдохновляюще – быть с ними честным и по-настоящему откровенным. Все предрассудки и осуждения летели к черту, как только ты садился и начинал разговаривать с этими парнями, которые были поистине классическими примерами пассивного сопротивления во всей его красе. Не хотите никому зла – превосходно, эти люди мне по душе.
Мы реально побывали на студии Black Ark. Я даже пытался записаться с Ли Перри, но не смог с этим справиться. Слишком много отвлекающих факторов, слишком много нервов и слишком под кайфом. Я пытался поиграть с песней «Пистолз» «Submission», чтобы сделать ее ямайскую версию. Ты пытаешься наложить вокал, а вокруг происходит слишком много всего. Там был гитарист по имени Чинна, и у него на гитаре стояла эта «квакушка вау-вау». Его любимая игрушка, и она жутко отвлекала. Этот звук мне не понравился.
На многих миксах Перри той поры можно услышать скрип на заднем плане. Я обнаружил, что это – дверь студии, петли были ржавые, люди просто входили и выходили, чем они, казалось, занимались бо́льшую часть времени. Его оборудование – или его отсутствие – было очень, очень примитивным, но результатов они достигли выдающихся. Замечательно. И все с одного дубля.
Перри сошел с ума вскоре после того, как я там был, и сжег свою студию. Он вроде как поссорился из-за денег с Island Records и, видимо, закрасил все мастер-копии зеленой краской, чтобы они не могли их у него отобрать. Чтобы не позволить украсть свою музыку, он ее уничтожил.
Когда я там был, чем больше бонг – тем активнее становился Перри. Не знаю, как это получается у этих парней. Я до сих пор не понимаю, как вообще можно курить травку, не портя свой голос. Из меня просто вытягивало большую часть звуков, и все, что вырывалось из глотки, – скрипучий шум. У меня, видимо, нет для этого труб.
Честно говоря, я был удивлен, когда меня пригласили в студию Перри. Я никак не мог собраться с мыслями. Я не был к этому готов. Упс. Время поджать хвост.
Самые смешные моменты были, вероятно, с гениальной ритм-группой Sly & Robbie[201]. Их жизнь была тесно связана с Островом, так что дело заключалось не столько в работе, сколько просто в общении. Они реально были такими ямайскими Нилами Роджерсами[202]. И без конца дразнили Дона. Да и надо мною подшучивали. «Да ладно, чувак, зачем те такое большое пальто?» В конце концов я остался в шлепанцах, шортах и футболке, потому что так и должно было быть с самого начала. Я ужасно переживал, какой белой и бледной была моя кожа. Я выглядел как нечто среднее между жертвой концлагеря и Дракулой.
Что касается новой музыки, которую я подхватил, то меня очень привлекло целое направление под названием «Dread In The Arena», которое было значительной штукой в то время, и все дочерние записи, которые выходили с использованием этой темы. Это было фантастически, с большим количеством даб-версий Джонни Кларка. Когда студия Front Line в конце концов выпустила пластинки Джонни Кларка, там не было этого аспекта, а именно на нем я хотел бы, чтобы они сосредоточились, – на чистом благоговении перед тем, чем был даб. Все дело в том, чтобы путешествовать в танце, танцевать головой. Просто освободи себя. Не надо правильно танцевать или знать какие-то правильные движения – делай то, что нравится. Пока тебе это доставляет удовольствие. Фантастика. Вот в чем суть даба.
Я вырос с музыкой регги; она всегда была рядом со мной, с самого раннего возраста, так что для меня стало настоящей фантастикой реально почувствовать ее так, как она должна ощущаться, и именно на Ямайке. Я влюбился в это. Ямайка стала частью меня.
Гюнтер-Гроув стал своеобразным фоном, декорациями, которые помогли мне привести себя в порядок и собрать новую группу. На одной из своих вечеринок я познакомился с Глорией Найт, которая тогда писала для «Санди Миррор» и была замужем за ее редактором. Мы вроде как сдружились через общих приятелей, и мне казалось очень забавным тусоваться с кем-то, кто имел хоть какое-то отношение к тому, что я считал сплетнями. Ведь за последний год или около того они превратили мою жизнь в кошмар! Это было так: «О-о-о, это не сработает». Но это случилось. Из этого вышло нечто хорошее, но вместе с тем и плохое. Глория сказала, что мне нужен адвокат.
Пока мы были на Ямайке, вокруг нас творилось что-то странное. Макларен отправил туда своих людей, которые тайком пытались снять меня для его идиотского фильма «Великое рок-н-ролльное надувательство»[203]. Кроме того, у Брэнсона были Devo[204], электронная группа из Огайо, которая подписала контракт с Virgin, или, по крайней мере, некоторые из них. Возможно, он пытался, а может и нет, сделать меня их солистом. Мне совершенно определенно не кажется, чтобы он когда-либо об этом меня спрашивал. Иногда алкоголь приводит ко всяким глупостям. Знаю, что мы как-то поймали одного из них, когда тот за нами шпионил. Он спустился к нам на балкон и рассматривал комнату через занавески, а Деннис его спугнул. Это на самом деле моя единственная с ними связь.
Мысль присоединиться к такой группе, как Devo, заменив их солиста, была для меня абсолютно неприемлема. Это меня сильно разозлило. В свое время, ближе к концу «Пистолз», у Малкольма была аналогичная идея меня заменить. Невозможно просто взять и поменять солиста группы. Группа для меня всегда и прежде всего – солист. Это направление, личность и энергетика, особенно в случае с Devo.
Я постоянно ощущал, что люди хотят меня надурить, как паразиты, используя, чтобы поддержать свои грошевые таланты или вписать в сомнительные проекты.
Самое главное, Малкольм пытался присвоить себе мое имя, Джонни Роттен, которое он объявил своей собственностью, и это нужно было остановить. Как можно пытаться украсть чье-то прозвище? А? На каком основании? Не сомневайся, увидимся в суде, мальчик. Я бы не стал заниматься этим раньше. Отпустил бы его на все четыре стороны и пошел своей дорогой. Но воспылать такой мстительной злобой, чтобы, блядь, пытаться отобрать у меня мою же собственную жизнь, мое имя, мою карьеру. Просто порочно!
Поэтому Глория связала меня с Брайаном Карром, адвокатом, который специализировался на индустрии развлечений. Вскоре после этого мы с ней серьезно поссорились, когда в ее газете появилась статья о том, что я будто бы выздоравливаю от героиновой зависимости. Боже мой, настолько перевернуть все с ног на голову. Я мог бы многое о ней порассказать, но я не из тех, кто любит сплетничать.
Но Брайан Карр, адвокат, оказался уморительным. Когда я впервые встретил его, он был похож на Авраама Линкольна; такая же штука типа бороды как у него, черные слегка волнистые волосы и сапфирово-голубые глаза. Это был странный человек. Когда он говорил, с его нижней губы на бороду всегда катилась слюна. Поэтому я подумал о нем: «О боже, он такой неприятный, это может сработать!» И действительно, он оказался очень хорош в этом затянувшемся на несколько лет судебном процессе. Этот парень реально нашел подходящих барристеров, чтобы разобраться в деле с собственностью «Пистолз», и все устроил так, как я хотел.
Я не хотел урвать себе все трофеи или типа того. Я позаботился о том, чтобы, когда дело дошло до урегулирования, мы, оставшиеся в живых, получили равные доли прибыли. Даже несмотря на то, что я питал очень серьезную обиду за то, как Стив и Пол вели себя по отношению ко мне, я не хотел кровавых денег, или грязных денег, как я это рассматривал. Я просто хотел то, что было моим, то, что Малкольм пытался у меня отнять.
Как ни странно, когда мы поселились в Гюнтер-Гроув, мы узнали, что Питер Грант, менеджер Led Zeppelin, живет через дорогу, а Брайан Ино – чуть дальше по улице, в перестроенной церкви. Тут же прошел слух, что Питер Грант предложил мне стать моим менеджером – опять один из тех сказочных слухов в прессе, – хотя, после Малкольма, какой восхитительный слух! Я даже использовал его какое-то время – типа всегда можно рассматривать различные варианты.
Питер Грант заработал замечательную репутацию, когда Led Zeppelin впервые отправились в Америку, как такой жесткий, серьезный парень. С ним не забалуешь! Все это прекрасно, но я не хочу, чтобы в моем окружении были такие громилы. Не хочу, чтобы кто-то повернулся и сказал: «Сделай это, или…» Я никогда не допущу подобного, потому что здесь альфа-самец – Джонни. Это не могло сработать и никогда не сработало бы.
Я и узнал-то, что дом напротив принадлежит Питеру Гранту, только потому что мне об этом сказал Дэйв Кроу. У нас был любимый котик, которого Дэйв назвал Сатаной. Это был бездомный котенок, и Дэйв сказал мне, что его «бросил тот ублюдок, менеджер Led Zeppelin, из дома по другую сторону дороги. Он выгнал его, а я спас Сатану».
Он спас Сатану, замечательно, но Дэйв вернулся в свою каморку, а лоток с кошачьим наполнителем поставил у меня, рядом с кухней. Так что мне пришлось самому убирать за котенком, хотя это был его питомец. Бедный маленький Сатана, это было крошечное существо, угольно-черный котик, очень маленький – у него, вероятно, был дефицит роста. Даже в зрелом возрасте он напоминал котенка, но так никогда по-настоящему не привязался ко мне. Он спускался по лестнице и мяукал у люка Дэйва. К тому времени Дэйв переехал в квартиру на первом этаже, которая была изолирована, а мы никогда не переделывали ее полностью, просто пробили небольшое отверстие с люком, чтобы можно было подниматься и спускаться из одной части дома в другую. Но Дэйв никогда не открывал люк, и бедный котик чувствовал себя покинутым.
Тем временем я пытался собрать свою новую группу. Джа Уоббл все еще был одним из моих лучших друзей, и он часто брал бас-гитару Сида, чтобы потренироваться играть – вероятно, даже больше, чем сам Сид. Уоббл был пока в этом деле новичком, но не это главное: я хотел, чтобы он присоединился к группе.
В последующие годы Уоббл заявлял, будто мы пытались создать нечто вроде даб-группы – смешно слышать это от басиста, который в то время едва учился. В таком случае он смотрит на мир через кривые очки – возможно, пытается проложить себе дорогу в поспевшую поросль современных групп из серии «белые мальчики играют регги».
В то время это, конечно, не входило в наши планы. По крайней мере, в мои. Мне хотелось чего-то совершенно нового и свежего, не похожего на то, что очень быстро превратилось в формат Sex Pistols. Мы были вместе всего лишь короткое время, но это стало форматом – форматом музыки, который надоел мне до смерти.
Быть открытым для восприятия любой музыки – урок панка номер один, но многие так называемые панк-группы, которые последовали за нами, этого так и не поняли, отмахнувшись от этой идеи в своих панк-манифестах. Мне жаль, но я никогда не делал музыку для узколобых. Я пришел в ужас от клише, в которое превратился панк.
У меня не было – и до сих пор нет – много панк-пластинок в коллекции, потому что я никогда не любил их по-настоящему. Buzzcocks, Magazine, X-Ray Spex, The Adverts, The Raincoats – они мне нравились. Они ярко проявляли себя, сражаясь на переднем фланге, в отличие от типичных слэм-панковых групп, которые сводили меня с ума, потому что звучали все абсолютно одинаково и преследовали одну и ту же лошадь. Меня не впечатляет дерьмовая бравада мачо. Она не имеет никакого содержания, и на самом деле у нее нет никакой цели, кроме как показать свою маскулинность. Отказано!
Да, тогда было полно всех этих исключительно мужских команд, которые пытались напугать друг друга. Для меня это самый низкий общий знаменатель. Их развелось очень много, и все они занимались одним и тем же, все они были непроходимо тупы, не понимая Правила Номер Один: правил нет. И все же эти команды жестко придерживались правил и предписаний. Они-то и стали новыми Boo Nazis.
Мое участие в этом всем процессе заключалось в том, что я открыл совершенно новый жанр и способ просмотра музыки, и что произошло, когда дверь отворилась? В нее ворвался весь плавающий на поверхности мусор, все отбросы, очень гордившиеся своей глупостью.
Моей целью было поделиться своим жизненным опытом, а не уходить в изоляцию, как это произошло с панком. Они сами сузили свой кругозор – и мне кажется, началось это с бедняги старичка Джо Страммера. Он вообразил, будто возглавляет всю эту политическую панковскую хрень, представляя, как мы все там стоим, типа «Солидарности»[205], размахивая знаменами, – полная чушь. И если вы не делаете этого для бедной старой тетушки, которая живет по соседству и не может позволить себе включить зимой отопление, вы вообще не в счет. Шипованные кожаные куртки для всех – совсем не та идея, которую я готов одобрить.
Поэтому настроение у меня было такое: «Нет, я больше этого не вынесу». Я-то представлял себе некий консорциум психов-единомышленников, готовых прыгнуть в следующую вселенную без каких-либо инструментов и найти там свой путь – захватывающая возможность! И действительно, так оно и было, поскольку мы не играли по кем-то установленному стандарту, не использовали музыкальных клише. Да и вообще, группу невозможно переделать задним числом, исходя из концепции какого-либо одного человека. У нас не было схем. Это стало для нас неким приключением в свободной форме, и такие штуки, как музыкальные несовершенства, не имели никакого значения. Только не для меня. У меня была твердая почва, на которой я мог бы спокойно стоять и просто давать Джонни Роттена, и это, несомненно, сработало бы, но меня это не интересовало. Извините, но я очень люблю рисковать.
Ну и я их всех собрал. Я пригласил их поработать вместе. Никто сам не приходил ко мне с подобными идеями. Они все тусовались вокруг без особых занятий, и тут – бинго!
Без малейших затруднений я разыскал Кита Левена[206], которого знал еще с тех пор, как мы с Сидом околачивались в Хэмпстедском сквоте, когда амфетамин был новой фишкой дня. С тех пор Кит успел поучаствовать в The Clash, в самом начале. Я знал, что он много работал для этой группы, но я также знал и что он совершенно туда не вписывался. Их манифест был слишком ограниченным. Однажды Кит пришел за кулисы на концерт «Пистолз» и рассказал мне, насколько он несчастлив с ними работать. Его позиция была типа: «Смотри, я делаю всю работу, я пишу все песни, а меня не уважают. Весь этот ужасный вздор, ты только послушай их. Жуть!»
Я запомнил эту историю. Всякий раз, когда я сталкивался с Китом, я ни разу не слышал от него ни о ком хорошего слова. Это несказанно меня потрясло – никогда не видел такой профессиональной скорби. Когда вы молоды, эта черта в ком-то может показаться забавной. Но когда тебе уже за двадцать, это уже не так интересно, потому что, очевидно, тот человек ничему не научился на своем опыте. Я и себя вижу во всем этом. Раньше мне нравилось слово «мрачно». «Как тебе это?» – «Мрачно! Мне скучно!» Не думаю, что я когда-либо реально имел это в виду, просто совершенствовал искусство быть неудовлетворенным юнцом.
После The Clash Кит был в собранной мною группе под названием Flowers Of Romance[207]. Хорошая компания людей, просто приятелей, болтавшихся вместе, веселящихся, и поэтому я дал им это название. Ну и мне в любом случае нравились Марко Пиррони из Adam and The Ants, я знал его, поскольку он всегда тусил где-то поблизости, и Крисси Хайнд, и для них было хорошей идеей создать группу и посмотреть, что из этого выйдет. Кит, Сид и Вив Альбертин – все побывали в составе, понятия не имею, чем это все закончилось. Помню, вроде существовало еще одно название – Moors Murderers; возможно, это другая группа, или та же самая, не важно. Какая-то смутная, незначительная штука, но в ней проявилось искреннее желание порвать с навязшими панк-клише. И совершенно определенно это оказало влияние на Кита.
Кит язвителен. По сути, он – бутылек уксуса: добавьте каплю в пакет с чипсами и получите самые разные вкусы. Любопытно его музыкальное образование. В его прошлом скрывалось, например, увлечение Wishbone Ash; он учился играть на такой музыке. Кит рассказал нам, что брал уроки игры на гитаре у Стива Хау из Yes. И мне бы очень не хотелось обнаружить, что все это сказочная ложь. Отчасти это имело смысл: у Кита было совершенно иное понимание того, что сейчас происходит вокруг. Он был вне панковских клише.
Как только мы собрались вместе, игра Кита поразила меня. Тогда была популярна идея, будто после Джими Хендрикса никто больше не сможет играть на гитаре. Что типа в этом нет никакого смысла, инструмент исчерпан. Однако, на мой взгляд, игра мистера Левена полностью доказала, что это не так. Мне кажется, это было творчески и очень инаково; немного диссонанса, который тем не менее разрешался музыкально. Очень похоже на транс. Он не сбивался, но как бы разлетался одновременно в разных направлениях, никогда не теряя фокуса. Я находил это чрезвычайно захватывающим и очень, очень вдохновляющим. Не покидало ощущение, что он играл как ритм-гитарист, но доводил ритмы до крайностей.
Таким образом, музыкальный ландшафт был намного шире, чем некоторые себе это представляют. У нас имелись все возможности для продвижения, самым невероятным образом. Все, что нам было нужно, – это барабанщик. Мы прослушали кучу претендентов, но Джим Уокер оказался круче всех. Он приехал из Канады, чтобы попасть в панк-группу – боже мой, ну что сказать, он выбрал лучшую в мире, не так ли? Приехав из-за границы, он оказался абсолютно неизвестной величиной, но совершенно ошеломил всех нас. Я подумал: «Вау, эти модуляции меня реально захватывают и волнуют. Бог мой, он заставил вибрировать все мои частички!» Диско, афро, всего понемногу – почти такой же подход, как у Джинджер Бейкера[208].
Джим обладал непредубежденным умом и не набрасывался на тебя, как какой-то меломан. Он был взволнован всем этим безумием, и в самом деле, как потом выяснилось, он и сам оказался немного не в себе. Да какое немного – очень даже много! Ему негде было остановиться, поэтому я отвел ему комнату в подвале на Гюнтер-Гроув и дал денег на мебель, а он потратил их на лосиную голову. Когда я наконец вошел в его комнату, там не было ничего, кроме газеты на полу и головы лося на стене. Его не интересовали никакие удобства. Не знаю, как он там спал и что вообще делал.
Дом PiL – вот во что натурально превратился Гюнтер-Гроув, поскольку сюда переехал Кит и все такое, – был организован вокруг того, что показывают по телевизору и что проигрывается на магнитофоне. Джим сообщил, что ему вовсе не надо быть с нами наверху – его комната располагалась в нижней части дома, – потому что он вполне может слышать басы, грохочущие через половицы. И он останется там, внизу, в темноте. Очень странно. Как я уже говорил, меня в жизни странности привлекают. Его самостоятельный приезд в Лондон из Канады напомнил мой выход из больницы и возвращение в школу. Я оценил его страсть к приключениям.
У нас не было никакого реального представления о том, как мы хотим звучать, кроме как «Мы собираемся сделать здесь что-нибудь другое», потому что никто из нас не желал подражать своему музыкальному прошлому, да и это было бы очень неудобно. На самом деле новый звук сформировался с первых репетиций.
Очень скоро мы записали песню «Public Image»[209], которая стала моментом освобождения – мы вырвались из ловушки «Пистолз» одним рывком. Песня была задумана и записана у Лондонского моста, на репетиционной базе к югу от реки. Уоббл выводил переливы басовой линии, Уокер был просто исключителен, быстро поймав кайф и вписавшись в общую работу, и Кит оказался что надо и реально наслаждался тем, что мы делали. Мы формулировали иной подход, и это у нас получалось совершенно естественно, все отлично сходилось, и слова рождались сами собой.
Я так гордился вкладом каждого участника, и они создали для меня крутое пространство, чтобы я мог изменить манеру пения, попробовать что-то другое и двигаться дальше с пониманием того, что мы все пытались здесь собрать воедино. Я хотел объявить о нашем месте в этом мире, буквально: «Не судите меня по рекламной шумихе и той чепухе, с которой мне пришлось мириться в “Пистолз”». Я собирался сделать широкий шаг в сторону от всего этого и знал, что последствия не заставят себя ждать. Я понимал, что весь так называемый панк-мир взорвется негодованием, потому что я отказался следовать стереотипам. Но это их вина, а не моя. С моей точки зрения панк не приемлет подобных авторитарных подходов.
Эти строчки были важны: Я не тот, каким был, когда начинал, И со мной не будут обращаться как с собственностью[210]. Они говорят: «Кто вы такие, чтобы учить меня, что есть, а чего нет? Вы можете либо обратить внимание, либо продолжать сидеть в той дырке в земле, в которую вы все себя закопали. Ну, попробуйте пошевелить почву у себя над головами. До свидания».
Это была замечательная, великолепная песня, и да, на всякий случай, если кто-то из участников группы не в курсе, «Public Image» принадлежит мне.
Всего лишь шутка! Я сейчас не обращался непосредственно к группе. Речь о том, что Джонни Роттен – это я, не пытайтесь отнять его у меня и не переписывайте его историю.
С моей стороны было очень дерзко начать именно с песни «Public Image», названия группы. Я позаимствовал его из прекрасной книги Мюриэл Спарк[211] «На публику» – она еще написала «Мисс Джин Броди в расцвете лет». Очень маленькая книга, но с отличным сюжетом о том, как известность превращает обычную актрису в чудовищную диву, которая губит всех, кто ее окружает. Я не хотел, чтобы это происходило со мной или моим имиджем.
Я хотел держать Джонни Роттена и все, что с ним связано, подальше от того, что творилось в Public Image Ltd (ака PiL). Я полностью и с превеликим удобством перешел в образ Джона Лайдона, которому не нужен скандал, чтобы сбыть пластинку. Дело было не только в том, что мы получали свои права с точки зрения продаж, а, скорее, в качестве и содержании.
Упоминание в названии «ограниченности»[212] было придумано с целью «ограничения» нашего публичного имиджа, чтобы всякие скандальные газетенки к нам не совались. Сохранить нашу частную жизнь в тайне – спасибо, до свиданья. Держаться на определенном расстоянии от скандальной шумихи в прессе – шумиха была тем, чем дорожил Малкольм, а я считал пагубным. Публичность вредна для вашего здоровья, это и правда так.
Двусмысленность названия и использование приставки Ltd было вместе с тем очень преднамеренным, когда речь зашла о создании настоящего общества с ограниченной ответственностью. Что я и сделал с помощью Брайана Карра. Мы хотели быть полностью свободными от всех аффилиаций и чужого диктата, хотели сами управлять собой. Идея состояла в том, чтобы попытаться проникнуть во все сферы, где можно заработать деньги, но предложить качественный товар и отвязаться от страха перед корпорациями, создав собственную версию, какой мы бы хотели видеть идею «корпорации». Некий «кооператив», в котором все работают вместе и делают разнообразные вещи, но все это для общего блага – королевство без короля, республика без президента, логически основанная на предположении, что здравый смысл обязательно возобладает.
Мы хотели расширить сферу нашей деятельности и работать с творческими людьми в других областях. Первым шагом в этом направлении стало обращение к Деннису Моррису, который занимался не только фотографией, но и искусством, с просьбой о сотрудничестве в разработке логотипа PiL. Я почерпнул вдохновение в логотипе химической компании ICI, и в итоге мы сделали лого похожим на таблетку аспирина, что довольно забавно. Это было нечто, что я запомнил в детстве, проходя мимо здания ICI в лондонском районе Миллбанк – на фасаде этого здания висел большой круглый логотип. Меня всегда это поражало – сила и мощь, стоявшие за холодными корпоративными образами. Нечто новенькое для борцов за свободу, не так ли?
У Virgin были прерогативы первыми подписать с нами контракт на выпуск музыки из-за моего предыдущего контракта с Sex Pistols. Они воспользовались возможностью, и на тот момент это стало облегчением: «О, слава богу!» У меня не было ни сил, ни энергии на поиски нового лейбла. Это отбросило бы все на пару лет назад, потому что пришлось бы очень много гастролировать, прежде чем вернуть былую репутацию и получить надлежащий контракт. А поскольку мой подход к музыке сильно изменился по сравнению с «Пистолз», предстояла бы долгая и тяжелая битва. Любые предложения, которые бы мы получили, основывались бы на идее выпустить Never Mind The Bollocks, Part 2.
И только после подписания соглашения с PiL я узнал, что на самом деле Virgin тоже этого хотели. Ну, может, хотеть они хотели, только я дал им то, что им, по моему мнению, было нужно, и в итоге нельзя сказать, что они оказались обделены хитами.
Мы подписали контракт на восемь альбомов и получили аванс в семьдесят пять тысяч. Из-за судебного дела с той стороной росли судебные издержки, и это влекло за собой всевозможные бухгалтерские и налоговые счета, так что в финансовом отношении я плавно двигался в сторону весьма печального будущего. Но мы оказались сильнее. Стоял вопрос о том, чтобы хоть как-то продержаться. Мы пытались двигаться вперед и делали это по возможности весело и без особых затрат. Создавая вместе с Брайаном Карром компанию, я настоял на том, чтобы все получали еженедельную зарплату. Я просто подумал, что это правильно. Большинство групп этого не делают, потому что это большая экономическая нагрузка. Я решил, что так мы будем крепче держаться вместе. Ты работаешь, и у тебя есть деньги в кармане. Не думаю, что стоит повторять то, что было с «Пистолз», – пытаться свести концы с концами на 20 фунтов за концерт.
Однако прежде чем мы двинулись дальше, мне надо было слетать в Америку, чтобы заключить сделку с моим новым приятелем Бобом Регером из «Уорнер Бразерс». Я поинтересовался, могу ли взять кого-нибудь с собой, и они слегка удивились, когда я объявился там с мамой. Она всегда хотела побывать в Америке – мама была очень больна, а когда кто-нибудь болен, я – доктор Джон. Для меня это норма – я вырос таким из-за необходимости заботиться о братьях.
Маме нужна была передышка от всего того, что на нее навалилось в связи с диагнозом «рак желудка». Врачи тогда пичкали ее всякими ужасными лекарствами, вроде снотворных. Это заставляло ее натыкаться на стены и прочее. Они хотели как лучше, хотели отвлечь ее от ситуации, но в результате мама чувствовала себя потерянной, поэтому я вытащил ее из всего этого, и она отлично провела время.
Я занял деньги, чтобы отвезти маму в Канаду и навестить там ее сестру в Торонто. Так что поездка стала отчасти семейной, и это было очень важно. Я тоже многое от этого выиграл – мне необходимо было вновь отыскать свои корни, прежде чем сгореть, погрязнув в чудесном мире эгоизма и пустоты поп-звезды, ну или позора – назовите это как угодно. Ты можешь запросто заблудиться в этом мире и забыть, кто ты есть на самом деле и ради чего все это делаешь. Яркий свет вспышек фотокамер может затмить реальность, и ты уже как ослепленный светом фар олень. Будучи окруженным прессой, очень легко влюбиться во всю эту шумиху и думать о себе как о более важном и значимом, чем ты есть на самом деле.
Так что поездка была действительно необходимой – я даже сам не понимал насколько, – причем для нас обоих.
Левен и Уоббл с самого начала воевали друг с другом. Еще на первой репетиции я столкнулся с презрительным отношением Кита к тому, что Уоббл не умеет играть. Я поддержал Уоббла: «Ну, он ведь скоро научится, правда? Мы все здесь учимся; вот только не надо нам еще одного Глена, который смотрит на всех, задрав нос. Прекрати это!»
Кит очень злобный человек, к которому сложно относиться с пониманием – а если называть вещи своими именами, попросту терпеть – достаточно долго. Боже, я, по всей вероятности, милейший человек, потому что мне это удавалось. Бывали ситуации, когда Уоббл хотел его убить. Просто убить. Прикончить. Разорвать на части.
Кит был очень умен и постоянно ставил перед собой сложные задачи, что всегда меня впечатляло. Он вечно возился с какой-нибудь штукой, чтобы попытаться продвинуться и стать полезным. Чего я не сознавал, так это того, что Кит совсем не вырос с тех пор, как я впервые его встретил. Он выражал себя каким-то трусливо-язвительным способом: саркастические замечания, комментарии вполголоса, кислое лицо – словно специально выставляя себя неловким и неудобным в приятной дружеской обстановке. Кит приходил и садился посреди комнаты, старался, чтобы всем было не по себе. Эдакое ребячество – стремление обратить на себя внимание. И настоящее несчастье, ведь все, чего ему удавалось добиться, – насмешки и глумление.
Если говорить откровенно, типа между мной, вами, да и всеми, кто был в то время рядом, мальчик на самом деле употреблял героин. Он был отравлен химией, или у него в мозгах какой химический дисбаланс случился, но только в результате эта крысиная задница, рычащий, презрительный мудак, становился в высшей степени невыносимым. Иначе я не могу объяснить тот факт, что время от времени он вел себя словно избалованный ребенок.
Он жил в задней части первого этажа дома на Гюнтер-Гроув, в своей типичной провокативной крысиной манере – все за просто так, без арендной платы, и ни тебе хоть намека на «спасибо». Кит не контролировал себя, но это не означало, что мы должны были с этим мириться и терпеть. Какое-то убогое уродство. И Уобблу было что сказать. Как только он понял, в чем проблема Кита, то не оставлял его в покое. В общем, все были далеко не ангелами.
Мне приходилось постоянно находиться внутри этого конфликта, причем до такой степени, что я упустил из виду неловкость, возникшую между Джимом Уокером и Уобблом, и это повлекло за собой еще одну сложную ситуацию в коллективе – Джим Уокер решил, что над ним издеваются. Все шло совсем не так, как я предполагал, – в идеале все должны были ценить друг друга.
Так что из огня да прямо в полымя. Я собрал всех этих людей и вроде как оставил без лидера. Я думал: «Народ сам все уладит», но, к сожалению, в реальной жизни происходит иначе. В какой-то момент ты должен встать и сказать: «Прекратите!» Потом определяются позиции, и, как правило, в итоге пути расходятся. Очень похоже на то, что было со мной в юности, когда мне приходилось иметь дело с детьми из детского сада или младшими братьями.
Поначалу все эти взрывы гнева прекрасным образом выплескивались в песни. За счет личных вендетт и враждебности процветало творчество – так же, как и в моем первом опыте с «Пистолз»! Но ведь я-то хотел, чтобы все было не так. Однако не в моих силах это изменить. Когда люди по-настоящему, реально обижают друг друга, это необходимо прекращать. Это просто вопрос экономии времени. Плюс в процессе всей этой ситуации за мной постоянно подслеживала звукозаписывающая компания, говоря: «Ты должен избавиться от бла-бла-бла… Бла-бла тебе не подходит… Ты должен работать с…» – «Нет, я хочу остаться со своими друзьями и посмотреть, сможем ли мы с этим справиться, и я не желаю, чтобы какой-нибудь лейбл вынуждал меня волей-неволей избавляться от людей, не давая возможности самому разобраться на своей территории». Ух! Суровые, тяжкие времена.
В августе, перед выходом сингла «Public Image»[213], мы должны были впервые появиться на телевидении в новом субботнем вечернем музыкальном шоу под названием Revolver на «Ай-ти-ви». Кит решил отправиться в студию в Бирмингеме самостоятельно, со своей новой подругой Джанет Ли. Джанет только что рассталась с Доном Леттсом – они вместе управляли магазином «Акме Аттракшнз», располагавшимся на Кингс-Роуд, недалеко от магазина Малкольма и Вивьен.
Очевидно, они «не хотели ехать всей толпой», поэтому отправились туда вдвоем. Я немного разозлился из-за этого, поскольку они даже не сказали: «Увидимся позже» – или что-то в этом роде. «Давай лучше поедем на пляж Камбер-Сэндс!» – воскликнул кто-то. В итоге мы так и поступили. Мы вообще не явились на это шоу, просто поехали и провели холодный ветреный день у моря в Камбер-Сэндс. Я никогда раньше там не был, так что это оказалось захватывающе. Мы по-настоящему смеялись и улюлюкали, бегая по песчаным дюнам как сумасшедшие.
По моему мнению, кому-то было необходимо преподать урок хороших манер. Отделяешь себя таким образом от группы – ну что же, вот мы, мы – команда, так что иди на хуй! Хочешь – путешествуй отдельно, мы поедем куда-нибудь в другое место. Это превратилось в одну из лучших вечеринок, на которых я когда-либо бывал: я, Уоббл, Джим Уокер и два моих приятеля Джон Стивенс и Янги. Все напряжение, подпитываемое беспокойством о том, как выступить на этом идиотском телевизионном поп-шоу, исчезло. Время от времени надо напоминать себе, что на самом деле важно не только собственное благополучие, но и благополучие окружающих тебя людей – тогда речь шла об Уоббле. Он был моим приятелем и обиделся на все это совершенно справедливо. Кит пренебрег нами, типа это «его шоу», и не хотел иметь с нами ничего общего. Да как это вообще бы сработало в прямом эфире?
Честно говоря, если вы движетесь навстречу неминуемой катастрофе, лучше всего остановиться. Может показаться, что я оправдываюсь. Отнюдь нет, я рассказываю все так, как было на самом деле. И я был очень рад узнать, что Кит в конце концов вернулся, поджав хвост. Когда ты ведешь себя с нами как избалованный ребенок, мы будем точно так же обращаться и с тобой. Мы не собираемся сообщать, что не придем и все такое, мы просто не приходим! Вместо очередной свары, которую мне бы пришлось разнимать, было принято гораздо лучшее решение: пассивное сопротивление тому, что быстро становилось серьезной проблемой в PiL, – эгоизму Кита.
Когда в октябре вышел сингл «Public Image», для многих людей он стал открытием – они впервые поняли, что я на что-то способен. Что я не просто дерзкий мальчишка, исполнитель одного хита. Однако потом по какой-то таинственной причине Virgin решила придержать наш альбом. Конечно, на самом деле они хотели штампованный Sex Pistols – дубль два, но этого никогда не случится. На студии говорили, что не знают, есть ли вообще рынок или своя ниша для нашего нового альбома. Вскоре действительно стали появляться пиратские записи альбомов, которые обошли разные магазины звукозаписи, и это вынудило Virgin поторопиться с выпуском.
Я на полном серьезе отрицаю всякую ответственность за эти пиратские кассеты. Это реально поставило под угрозу наш первоначально запланированный релиз, потому что в итоге Virgin выпустила альбом за неделю или две до Рождества – лучшее время, чтобы провалиться с нашим совершенно иным подходом к музыке. В это время года люди хотят счастливых колядок и сборников величайших хитов. Все остальное отправляется в утиль.
Обложка нашего первого альбома – это сатира на все те «серьезные» журналы типа «Тайм», которые заполняли полки газетных киосков, поглядывая на вас оттуда сердитыми лицами. Сам альбом для меня сенсационно едкий. Колкий и жалящий. Наверное, в нем нашел отражение мой гнев на то, с чем пришлось иметь дело после распада «Пистолз»: судебное разбирательство, да и те штуки, что уже начали происходить в PiL. Это грубые песни, едкие и хлесткие, но сделать их было необходимо. Такие вещи, как «Theme», где через всю песню проходит этот резкий свист бритвенных лезвий Кита, – фантастика!
В какой-то период я перестал быть способным заботиться о написании текстов для «Пистолз» и чувствовал, что достиг всего, чего мог в этом окружении, но это не помешало мне сочинять песни. Это не было типа: «Вот и все, муза улетела!» Я не анализирую то, что делаю, таким предусмотрительным образом. У моего двигателя нет тормозов, он просто работает на полную мощность до самой смерти.
«Religion» была единственной песней, предшествовавшей PiL, – той, которую я пытался сделать со Стивом и Полом в Америке. Это был, похоже, последний раз, когда я использовал в песне пистолзовский подход. Тогда моя идея встретила отторжение, поэтому я взял ее в PiL и превратил в гораздо более изобретательную штуку. Я имел опыт общения с Католической церковью с самого раннего возраста, поэтому прекрасно понимал, что́ хочу сказать.
В PiL музыка могла звучать отдельно от голоса, и мы сделали это с «Religion»: звук находился как бы между левым и правым динамиками, чтобы можно было слушать их вместе или каждый в отдельности. В моем голосе столько эха, что кажется, будто я читаю проповедь. Разве не так они с нами поступают? Они именно проповедуют нам. Да, это театрально, но это инструменты, используемые против прихожан. Иногда ты просто можешь развернуть пистолет. Направьте пушку в другую сторону и посмотрите, как им это понравится. Адский пламень и сера.
Иисус Христос и я, мы знаем, как эти священники вопили и что они кричали нам с кафедры, когда мы были молоды, – что мы грязные, никчемные язычники, что мы умрем и сгнием в аду. И на этом почти все проповеди заканчивались. После звучала парочка фальшиво спетых гимнов, и все. Пустая трата воскресенья.
Все демоны пришли из религии, и католическая религия – самый серьезный демон из них всех. «Annalisa» рассказывает о юной девушке из маленького городка в Германии, которая погибла, когда ее родители позволили церковникам провести над ней обряд экзорцизма. Эта бедная девочка была затрахана глупой средой, в которой она выросла, – маленький город, полный недалеких людей. Я уверен, ее проблемы были типично подростковыми, через которые проходят все тинейджеры: чувство индивидуальности, стремление к бунту и, естественно, осознание сексуальности. Набожные родители стремились задушить это в ней и после бесчисленных попыток наказания самыми разными способами уморили голодом. «Избавление от демонов».
Предвестником смерти была их религия. Если вас насильно кормят такой пищей, вы обязательно убедите себя, что кто-то одержим. Вместо того чтобы иметь дело с реальностью, люди предпочитают верить в богов, призраков или демонов. Я в высшей степени антирелигиозен. Это все глупость, блеф, афера и кидалово, и это приводит к большим трагедиям. Не вижу здесь ничего хорошего. Нужно перестать вешать людям лапшу на уши. Те, кто у власти, любят одаривать вас макаронными изделиями. Это лишает способности думать, держит в состоянии постоянного бездумного принятия. Это прямая мне противоположность, противоположность моей природе.
Темы, которые я начал обсуждать в своих песнях, конечно, выворачивают наизнанку и абсолютно душераздирающи, но на самом деле достойны изучения и вложений, потому что в конечном счете делают меня лучшим человеком, способным видеть вещи с точки зрения других людей, и в то же время это ведь и моя собственная история.
Люди, похоже, думают, что бо́льшая часть других песен альбома – всего лишь выплеск тоски по поводу кончины «Пистолз». Это не так, хотя я понимаю, на чем могут быть основаны подобные умозаключения. «Low Life» – это поиск чего-то внутри себя, вероятности, которая мне не нравилась, жажды внимания, и я хотел избавиться от этого навсегда. Почти крикотерапия, хотя в то время я этого не знал, просто рассматривал песню как самоанализ. Спор с самим собой, поиск того, что правильно.
С другой стороны, «Attack» – ну, да, это Малкольм. «Ты тот, кто стерег всю добычу… / Тот, кто похоронил меня заживо»[214] – да, я думаю, здесь все предельно ясно. Никаких тебе подводных камней.
Чтобы закончить альбом, мы слонялись по самым разным студиям, всегда поздно вечером, когда цены на аренду были самыми низкими. В чайна-тауне в подвале было одно заведение под названием «Гузбери»[215], которым пользовались многие соул-, регги- и паб-рок-группы, потому что оно было дешевым, веселым и очень грязным. Спускаешься по лестнице в подвал, а там все тот же старый грязный коричневый ковер и вонь несвежего пива. Идеальное место, чтобы заняться делом. И ходили туда не ради декора. Вот где мы сделали «Fodderstompf»[216] – ту самую раздражающую песню, в которой повторяется: «We only wanted to be loved»[217]. Мы придумали это прямо на месте. Начав записывать альбом, мы поняли, что у нас не так много песен, как нам казалось, и тут любые средства хороши. Каждый, у кого появлялась идея, подстегивал всех остальных.
Поскольку альбом вышел прямо перед Рождеством, у нас было очень мало возможностей для продвижения альбома, чтобы попытаться спасти его от абсолютно безнадежной даты релиза. Мы организовали парочку концертов в Европе и принялись искать площадку в Лондоне. Я очень хотел сыграть в «Финсбери-парк Рейнбоу» – на домашней территории. Промоутер сказал: «Ну, есть только два свободных дня, и это Рождество и День подарков[218], и, как вы знаете, в эти дни играть невозможно». – «Да что вы говорите?» Это были волшебные слова; настоящий джинн из бутылки.
Как ни трудно в это поверить, в те времена нельзя было ничего купить ни на Рождество, ни в воскресенье. Ты работаешь всю неделю, возвращаешься домой поздно, и если идешь в субботу на футбольный матч, это означает, что ты останешься ни с чем – у тебя нет возможности что-то купить, что-то сделать, куда-то пойти или найти какую-либо альтернативу. Настоящая ловушка. Воскресенье считалось Днем Господним, и людям было грешно вам что-нибудь продать. А в Рождество – грешно вдвойне! Что? Да кто мне смеет указывать?!
Еще в «Пистолз» я ясно дал понять, что не собираюсь следовать правилам, которые, по моему мнению, написаны дураками для дураков. Вы можете быть настолько религиозны, насколько вам нравится, – никто не заставляет вас покупать хрустящий батончик в воскресенье, но только не говорите мне, что я не вправе это сделать. Итак, мы задали новую социальную повестку дня: «Почему магазины не могут быть открыты на Рождество? Почему мы ограничены средневековым правом? Или какой-то определенной религиозной доктриной?»
Многие кондитерские лавки и винные магазины держали и до сих пор держат иммигранты, а их религия не обязательно христианство – они указали нам путь и выступили против архаичных законов. Это было хорошо и для них, и для нас. Некоторые люди смотрели на это как расисты, но я типа: «Нет, пожалуйста, хочу их религию, позаимствую-ка самую малость – ненадолго, просто чтобы купить себе “Твикс”».
Таким образом, нам удалось оспорить все законы того времени, согласно которым запрещалось устраивать концерты или работать в Рождество и на День подарков. И это изменило в Англии все. Господь не сошел на нас с небес.
Наш дебютный концерт, однако, состоялся в Брюсселе – концерт, который вылился в настоящие массовые волнения после того, как Уоббл ударил охранника ногой по голове. Конечно, вышибалы вышли из-под контроля. Все хорошо, пока те просто держатся подальше, но они, как правило, пытаются выпендриться и использовать свои габариты для того, чтобы встать перед группой, думая, будто отлично выглядят. Они портят весь концерт; это вовсе не «шоу вышибал». Считаешь иначе – иди и продавай билеты на собственный концерт.
Я всегда ненавидел громил. Любому, кто заявится к нам таким образом и попытается указывать, что делать, придется плохо. Так что, хотя я и не совсем помню все детали, в тот раз в Брюсселе я полностью поддержал Уоббла. Это наша сцена, и раз не вам там выступать, будьте готовы огрести по полной.
На следующую ночь в Париже Уоббла свалила брошенная из толпы свиная голова. Свиные головы довольно дешевы в этой части света, не так ли? Французы клянутся жареной свиной головой. Моя единственная жалоба: а где типа яблоко во рту?
Просто удивительно, с чем нам с самого начала пришлось столкнуться. Всю дорогу это была обида: во-первых, на то, что мы так выделяемся из общей массы; во-вторых, на то, что мы не «Пистолз», и, в-третьих, нам хотели отомстить за «Пистолз» – все не в том месте и не в то время, абсолютно не понимая мистера Роттена. Вот так оно и обернулось. Панк начал превращаться в рупор невежества. Истинное содержание и заложенное в нем послание, к великому сожалению, оказалось полностью из него вычеркнуто.
Наступило Рождество в «Рейнбоу», зал был полон, но в День подарков возникла реальная проблема с некоторыми вест-хэмовскими футбольными хулиганами, которые заявились на концерт и попытались сорвать нам праздник. «Алло, это Финсбери-парк, это настоящий “Арсенал”, приятель! Ищешь встречи с “канонирами” – ты ее получишь!»
Это был первый случай, когда экс-Рэмбо Джон Стивенс вместе с моим братом Джимми официально руководили нашей охраной. Да, мы решили использовать местных парней. Нам было известно, что на концерт заявится какая-то группировка, чтобы попытаться все испортить. И они вдвойне дураки, раз не оценили того, что здесь собрались мы. Но, по крайней мере, у них был выходной. Даже враги не могут жаловаться – их развлекали!
Так что все сработало, и, хотя на самом деле это не имело никакого отношения к выступлению PiL, к тому времени, когда известия достигли страниц газет, все превратилось в организованные PiL беспорядки.
Мы вышли на сцену очень поздно. «Простите, это Рождество – отъебитесь!» Мы принесли с собой – и именно потому так долго готовились – набор сабвуферов, которые воспроизводили басы настолько низко, что вы не слышали их, но чувствовали, а если стояли слишком близко к сцене, перспектива обосраться была весьма велика. Ультразвуковые динамики! Фантастика! Сцена гудела. Вы могли почувствовать это каждой клеткой своего тела. И дело не в звуке, а в вибрациях.
Все это было незаконно, как мы выяснили позже, поскольку могло нанести зрителям физические увечья. И оно создавало на сцене такую обратную связь, что мы почувствовали себя плохо еще до того, как начали. Он пошел, б-в-в-вввв! Звук возвращался назад и зацикливался в басовых струнах, подключенных к усилителю. У Уоббла не хватило ума выключить эту штуку. Или у него хватило ума оставить эту штуку включенной, одно из двух. Полагаю, у меня в голове что-то замкнуло, потому что ведь была же история с Can в «Раундхаусе», когда их звуковая система обрушила деревянные конструкции сцены. С такой группой, как PiL, надо всегда помнить, каковы могут быть последствия экстремальной музыки.
В глубине зала, по всей раздевалке, дребезжали стекла и шатались оконные рамы. Так у нас начались проблемы со здоровьем и безопасностью еще до того, как мы объявили первый номер! Боже, мы все умрем! Отлично! Мы рванули с места в карьер, и это был очень безумный концерт. А главное, поклонники «Пистолз» ни хрена не поняли, потому что никогда раньше не слышали такого шума. Так что все это очень напомнило мне ранние концерты «Пистолз», которые вызывали реакцию из серии: «Что это?!»
Уоббл был новичком в игре на басу. Мысль о том, чтобы отключить его, когда уходишь со сцены, перед тем как сыграть на бис, не пришла ему в голову. Отдача была яростной. Все вокруг жутко дребезжало. Если бы мы продержались еще час, здание бы рухнуло. Были жалобы, но каким надо быть брюзгой, чтобы жаловаться. А что еще ты собирался делать на Рождество? Смотреть «Рождественский спецвыпуск» Кена Додда[219]?
Глава 7. Открываем ящик Пандоры молотком и зубилом
Когда Сида Вишеса арестовали за убийство Нэнси Спанджен в нью-йоркском отеле «Челси», Малкольм ужасно запаниковал. Это был конец 1978 г., и вся эта грязная история разлетелась по первым полосам таблоидов. Я слышал, что именно Мик Джаггер, единственный из всех, вмешался и нанял адвокатов, чтобы попытаться помочь Сиду. Я отреагировал типа «Вот это да!», потому что на тот момент нас с Сидом было сложно назвать лучшими приятелями – у нас были проблемы, в основном из-за его наркотической хрени.
В последний раз, когда я слышал о Сиде, он появился с Нэнси поздно вечером на Гюнтер-Гроув. Ему нужны были деньги, чтобы купить наркотики. Когда мы не открыли, он решил, будто сможет сорвать дверь с петель. Ну, мне, конечно, очень жаль, но у нас для этого была полиция, и им это удавалось гораздо лучше. В конце концов Пол Янг сбежал вниз по лестнице с топором в руках и выгнал Сида и Нэнси – Янги не хотел рисковать, поскольку знал, что Сид всегда носит с собой нож. Кстати, топор был у Пола под рукой только потому, что он плотник.
Я не люблю героиновых наркоманов, но мне нравятся мои друзья. Я хотел сделать для Сида все, что в моих силах, но Малкольм держал меня от него подальше. Через моего адвоката Брайана Карра мне удалось узнать только, что «да, Мик Джаггер втянул в это дело своих адвокатов, и они собираются защищать Сида». Ну и я поинтересовался: «А что сделал Малкольм?» – «Ничего». Не думаю, что Малкольм пошевелил и пальцем. Он просто не знал, что делать.
Сид попал в ужасную ситуацию, связанную с тем, что он задолжал деньги каким-то серьезным наркоторговцам. Теперь я знаю в жизни одну вещь: торговцы героином не могут позволить, чтобы кто-нибудь их наебывал, и, если вы это сделаете, они выебут вас по самое не балуйся.
Эта было именно то, с чем познакомила Сида Нэнси Спанджен, когда они приехали в Нью-Йорк. Так что идея Сида о крутом и модном образе жизни вскоре превратилась в угнетающую проблему «Где достать следующую дозу?» Вот так мой друг, этот глупый мальчишка из Хакни, закончил тем, что потерялся и запутался в чужой стране. Вам всегда следует понимать, что вы делаете в этом мире, во все времена, и вы реально должны знать, чего от вас ожидают торговцы наркотиками.
Народ, послушайте, никогда не пытайтесь кинуть дилеров, потому что на кону стоит их репутация. Сидни должен был это знать. Мне известно, кто за ним охотился, и если говорить строго с точки зрения морали, принципов, справедливости и стоимости, то я не вправе был бы их останавливать, потому что он перешел черту. Это абсолютный нью-йоркский факт.
В Нью-Йорке в то время было потяжелее, чем в большинстве городов. Бо́льшая его часть была под контролем мафии, в этом нет никаких сомнений. И этим парням не скажешь: «Да отъебись ты, у меня кончились деньги. Ха-ха». Последуют серьезные разборки, и вы за это заплатите.
Правда заключается в том, что Сид не был человеком, хорошо знающим законы улиц. С этими законами приходится мириться, и без их знания выжить невозможно. Но никогда не ставьте себя в положение человека, который настолько зажрался, потворствуя собственным желаниям, что задолжал огромные суммы денег. С вами неминуемо расправятся, потому что это ставит под сомнение авторитет банды, устроившей сделку, а они с этим мириться не будут.
Когда его впервые арестовали, это было так трагично и печально: единственное оправдание Сида звучало: «Я не знаю, что случилось» – и это с ножом, воткнутым в Нэнси. Ой, ладно тебе, ради всего святого! Догадайся. Серьезно, это тебе не по зубам. Говорил же тебе. Сидни не был умным парнем. Я много раз предупреждал Сидни. Не пытайся прыгнуть выше головы, ни в чем. Играй на своем уровне.
Нэнси была убита, а бедный глупый мальчик остался с ножом, не понимая, что происходит. Для меня в этом нет никакой тайны. Ты задолжал им и получил ответку. И никакая полиция не стала бы этим заниматься как-то иначе.
Жизнь парнишки закончилась, и вот он сидит в тюрьме Райкерс-Айленд в Нью-Йорке, не имея особого выбора. Как только его выпустили под залог – бац! – он пустил еще одну дозу по вене, и до свидания. Сид выходит, встречает свою мать и умирает от передозировки – якобы покончил с собой, приняв убойную дозу, и устроила это его собственная мамаша. Заебись какая фантастика, да? Какой замечательный образ жизни. Не ищите в этом никакой тайны. Это то, что вы получаете, потому что это то, чего вы хотите[220]. Дошло, о чем песня PiL?
Смерть Сида причинила мне боль – серьезную. Я довольно долго писал после этого о нем песни. Все они в какой-то степени искренни. Он просто не видел леса за деревьями. И опять-таки все упирается в образование. Ведь образование – это не обязательно то, чему вас учат в школах, оно заключается в приобретении самого способа понимания и умения правильно собирать информацию. А Сидни не хватало этого потенциала. Мне всегда казалось, что я защищаю Сида, всегда. Куда бы я его ни повел, я знал – а-а-а! – из-за него будут проблемы. Но это нормально!
Едва только он переступил черту и оказался предоставлен самому себе, боже, все превратилось в такую глупость, глупость, глупость, в этом не было никакой ценности, принципа, системы или логики. Не связывайся с наркодилерами, ладно? Они серьезные ребята, с ними не шутят. У них нет иного выбора. Просто скажи «нет».
В то время как все это происходило, как раз по другую сторону Рождества, на Гюнтер-Гроув, назревал серьезный кризис в отношениях между Уобблом и Джимом Уокером. Я никогда не понимал, из-за чего случались все эти ссоры – ну, типа, конечно, что-то до меня доходило, – но там был замешан какой-то буллинг. Я полагаю, что Уоббл чувствовал себя неадекватно из-за отсутствия у него должных умений играть на басу и поэтому должен был страдать кто-то еще.
Джим ушел. Ему достаточно быстро все это надоело, и внезапно, менее чем через год после нашего создания, мы остались без барабанщика. Я думал, что Джим продолжит заниматься другими замечательными музыкальными проектами. Но нет, он уехал в Израиль, чтобы работать в кибуце и прочее безумие. На самом деле он не еврей, так что это стало для него даже еще более решительным шагом. По-моему, сейчас он снимается в кино.
Мы испробовали несколько замен, но ни одна из них, похоже, не прижилась. Кто-то играл чистое диско, кто-то – исключительно регги, но ни один из них не мог приспособиться ни к чему, кроме определенного формата. С кем-то у нас просто не получалось сработаться, не рождалось нужной атмосферы.
Какое-то время мы с Рэмбо в шутку говорили народу, что он станет нашим новым барабанщиком. Рэмбо даже согласился, и это могло бы сработать, но он должен был бы в течение месяца научиться играть. Слишком большой напряг для любого человека. Я рад, и, думаю, он тоже, что этого в итоге не произошло, потому что мы нашли способ работать вместе, который оказался в дальнейшем гораздо более выгодным для нас обоих.
Так что все это превратилось в набор по объявлению. «Эксчендж энд март»[221] стала нашим любимым чтивом. Когда мы пробовали найти кого-нибудь через музыкальные газеты, всегда приходили какие-то неправильные задницы. Они заявлялись с идиотскими портфолио, а не с нормальным материалом, дающим представления о них как о людях.
Мы немного повозились с Ричардом Дудански. Он был в The 101ers[222] Джо Страммера, но на самом деле Дудански нам не особо подходил. Он слишком мягкий и ласковый, чтобы ужиться с нашим отсутствием страха. Бедняга Дудански был немного хиппи, но потом отошел от этого, потому что облысел. Выпадение волос избавило его от хиппизма.
Большинство новых барабанщиков чувствовали себя не в своей тарелке. Они замечали трения, возникавшие между Уобблом и Китом, Китом и мной, мной и Уобблом, между всеми нами тремя одновременно – очень трудно внезапно оказаться в центре событий. Я понимаю их позицию: Сид, должно быть, чувствовал то же самое, когда присоединился к «Пистолз». Ты попадаешь в львиное логово, и все львы отлично друг друга знают. Ух! Тяжело, очень тяжело, когда тебя оценивают!
Как ни странно, несмотря на то, что мы остались втроем, без постоянного барабанщика, теперь, выпустив первый альбом, мы стали даже более устойчивыми и уверенными. Мы приспособились к системе записи по частям, наобум. Мы никогда не работали достаточно долго на одном месте. Просто неделю здесь, день там.
Было довольно много ночных сессий в «Таун хаусе» на Голдхок-Роуд, в Шепердс-Буше, и они всегда заказывались в самую последнюю минуту. В то время этой студией часто пользовались The Jam[223]. Когда они заканчивали вечером репетировать, мы получали наводку и могли прийти и пользоваться оборудованием, при условии, что не будем касаться микшерного пульта. Сами The Jam, конечно, не имели к этому никакого отношения. Такая своеобразная вселенная низких цен.
Итак, все, что мы делали, – записывали так называемые «мониторные миксы», то, что не проходило через главный микшерный пульт. Однако едва ты начинаешь иметь дело с более продвинутыми технологиями, звукорежиссеры немедленно принимаются возиться со звуком, все резкие места и зазубрины сглаживаются, и это уже невозможно ничем заменить. Вот что придавало ранним записям PiL столь захватывающее звучание – в них присутствует необузданная энергия группы, играющей в студии вживую.
Больше всего нам понравилось, когда Virgin отправляла нас в Манор, свою студию-поместье в Оксфордшире. Это место опять-таки было совершенно иной вселенной, и по нашим меркам – настоящим дворцом. Они предоставляли на несколько дней помещение и оборудование, и вы оказывались там единственной группой. Вся радость заключалась в том, что нам гарантировалась полная свобода действий. Там было двенадцать спален, так что в Манор вмещалась вся тусовка – приводи с собой приятелей! В гостиной толпились люди, и там были безлимитные еда и выпивка. Позже они изменили порядки, но в те первые дни у нас была открытая чековая книжка – они тогда еще не удосужились затянуть шнурки кошелька.
Повсюду стояли камины, так что лучшим временем для работы на студии были холодные месяцы – этакая старая добрая атмосфера, создаваемая ревущим в очаге пламенем. Обеды состояли из огромных жареных блюд, традиционная Англия. Это, конечно, не совсем кабан на вертеле, но что-то типа того. Жареная картошка и настоящий, традиционно приготовленный ростбиф – полусырой посередине – восхищали меня. Я сразу набрал столько веса.
Еще у них имелось спутниковое телевидение, которого в то время не было ни у кого в Британии. Все мы сразу подумали: «Отлично, можно просто сидеть в этой комнате, уютно устроившись у камина, и смотреть бесконечный телевизор!» Но – гр-р-р! – оказалось, что это одни и те же каналы на итальянском и испанском, которые повторялись до бесконечности! Или каналы, на которых не было ничего, кроме рекламы, и все.
Но я любил Манор. Это было абсурдное, нелепое «путешествие во времени». Я всегда думал: «Эгей, вот мой шанс стать властелином хоть чего-нибудь», и я чертовски уверен, что то же самое приходило в голову всем и во все времена.
В основном мы писали в ночную смену. Прошу прощения, но я даже подумать не могу о том, чтобы бежать в студию в 10 утра. Мой мозг начинает работать в своем обычном режиме примерно в 8 часов вечера. К 10 вечера я был полностью сосредоточен, а все остальные, вероятно, уже хотели спать. И все же всякий раз, когда у нас появлялась такая возможность, желание войти и начать писать, удовольствие и трепет от работы с механизмами, нажатия кнопок, воплей и исполнения песен стали исключительной движущей силой. Это не было потеряно, несмотря на все окружающее уродство. Подлинные волнение, радость, смысл и цель пребывания в группе – и это невозможно отнять.
Мы знали, что материал, с которым мы начали выходить, будет раздражать звукозаписывающую компанию, но я был уверен, что у меня есть единственная возможность в жизни сделать и сказать то, что я действительно чувствую, и я не был готов отступиться, даже понимая, что могу пострадать от финансовых и деловых последствий, потому что верил, что работа важнее. Было бы наполовину бесполезно отправляться туда, чтобы записать вполне убедительный и коммерчески успешный хит, который бы понравился лейблу, чего они от нас и добивались. Я Джонни, блядь, Роттен, понимаете, это все еще я, что бы там ни думал Малкольм, и я делаю то, что хочу.
Для меня успех заключался в том, чтобы создать что-то совершенно неожиданное и в то же время естественное. Записанный нами альбом, речь идет о Metal Box[224], не был надуманным. Написать поспешный хит – вот что было бы надуманным. Каким-то образом, несмотря на все личные передряги, разницу в жизненных подходах, а также давление со стороны Virgin, нам удалось сделать действительно сплоченный альбом. Он звучит так, будто был записан сразу, от начала до конца. Это потрясающе красивый гобелен высокой тревоги.
Идея заключалась в том, что альбом потрясет вас, введет в состояние оцепенения, сгладит любое сопротивление, измотает своим вездесущим присутствием. Кажется, мы этого добились.
Бо́льшую часть времени я возился с синтезатором «Ямаха», который обожал. Дешевая, противная штука, один из тех, самых ранних, издававших вихревые и свистящие звуки оркестра, если покрутить некоторые рычажки. Мне это ужасно нравилось. На самом деле я заигрался в эту штуку до такой степени, что на моих запястьях появлялись кисты, которые меня очень тогда беспокоили, – я понятия не имел, что это такое. Вы знали, что, когда ты безжалостно продолжаешь делать что-то снова и снова – изо дня в день, – молочная кислота стремительно накапливается в руках? Кажется, это была Джанет Ли, которая таскалась с Китом, так вот, она сказала: «О да, я слышала, что если ударить кисту тяжелой книгой, она лопнет и исчезнет». Единственной пришедшей мне в голову тяжелой книгой была Библия. Один хороший удар – о да, кисты пропали, но боль! Ай!
Поэтому я понял, что игра на синтезаторе не станет моим будущим. Но она жутко интриговала меня и доставляла огромное удовольствие – как раскусить песню совершенно иным способом. В общем, я понял, что клавишником мне не стать. Но это было здорово и ужасно интересно – песня могла зазвучать совершенно по-новому, когда клавиши, совершенно по-змеиному, то переплетались с голосом, то отдалялись от него. Мне это нравилось.
Мы почти не репетировали, пока готовили Metal Box, просто не было на это денег, поэтому я писал в голове и размышлял о разных для себя форматах. Более свободный порядок действий, меньше диктата вокала. Я заставлял себя пробовать новые, бросающие вызов способы пения и подачи композиций. И конечно, когда мы перешли к записи, речь зашла о том, чтобы минимизировать вокальную часть, потому что я хотел, чтобы музыка была настолько мощной, чтобы заявить о нас на гораздо более интересном игровом поле, где вовсе не нужно откровенного вокала, как это было в то время принято в поп-музыке.
Вам придется напрячься, чтобы различить вокал на некоторых треках Metal Box, но в этом-то и смысл. Он медленно, но верно просачивается в вашу психику, на таком уровне, что вы почти того не осознаете или уже убаюканы ложным чувством безопасности – или столь же ложным ощущением незащищенности. В любом случае музыка проникает в ваше мышление и влияет на восприятие окружающего мира. По крайней мере, таково было мое честолюбивое желание: заставить вас думать о чем-то большем.
В значительной степени мы сами отвечали за свои записи. Настоящее искусство баланса – добиться именно того тяжелого баса, который мы хотели. И это касалось не только регги: в большей части музыки модов 1960-х присутствует очень тяжелое басовое звучание – The Yardbirds, The Animals, у них был такой глубокий звук. А еще фанк, диско. Но чтобы получить бас, который мы хотели, нужно было чем-то пожертвовать, и поэтому хитрожопый я пожертвовал вокалом. Мы немного его понизили, чтобы поднять бас, поскольку речь шла о музыкальном гобелене, сотканном из всего этого, о настоящем высшем пилотаже на всех уровнях. Хотелось избежать ситуации, при которой вокал вышел бы на первый план, а вся музыка осталась на заднем фоне. Необходимо было произвести просто ошеломляющее общее впечатление.
Часто на пути к этому возникали препятствия, например, когда Virgin посылала какого-нибудь именитого продюсера «нам помочь». Один из этих продюсеров работал с «Роллинг Стоунз», и это стало серьезной проблемой. Мы приехали в Манор, чтобы записать пару песен, и он принялся доказывать, что на пластинке не может быть столько баса. Нелепость. «Нет, может. Вот так и так. Вот – так – и – так!» Этот человек продолжал спорить, так что я встал на микшерный пульт, прошелся по нему в своих кованых ботинках и сломал все кнопки. «Я здесь не для того, чтобы ты указывал мне, что делать!»
Попытка втиснуть нас в хорошо известные, проверенные и опробованные форматы стала серьезной ошибкой. Мы пребывали вовсе не в том настроении, чтобы мириться с этим или быть неправильно мотивированными и введенными в заблуждение. Это было бы настоящим вмешательством звукозаписывающей компании, пытавшейся исподтишка влиять на процесс. Они постарались обставить все очень красиво:
– Я подумал, что было бы хорошо, если мы бы пригласили Бла-Бла.
– Хорошо, я попробую.
Двадцать минут спустя:
– Попробовали, я сломал его студию.
Когда Кит хотел заморочиться, он был в ударе. Помимо своей гитары, он очень увлекался коллекционированием странных электронных музыкальных приборов, что часто приносило нам кучу пользы. Однако бывало и так: «Что ты такое притащил? Это невозможно. Что ты хочешь, чтобы мы сделали с этим?»
В то время мы довольно очевидно были аналоговой группой, но однажды он притащил «Fairlight», цифровой сэмплер – отличная штука, но это случилось еще до того, как появилось что-нибудь, что хоть как-то могло с ним работать. Это была похожая на синтезатор штука с компьютером, но у нас не было ничего, что могло бы с ней синхронизироваться. Она во многом опередила свое время, и я реально уверен, что в конце концов этот сэмплер очутился у Кейт Буш с ее «Хитклифом»[225].
В течение многих лет подобные штуковины казались слишком безумными. Теперь я понимаю, на что они способны, но тогда мы еще не были компьютеризированы. Просто не существовало доступных технологий. Этот прибор был своего рода пультом управления, который слишком опережал свое время и не имел к нам никакого отношения. С Китом такое случалось довольно часто: он не понимал, почему это может не сработать.
Если доверить бразды правления Киту, он бы потратил все до последнего пенни на мечту какого-нибудь сумасшедшего технаря о том, чтобы PiL делал музыку для третьей вселенной, вкладывая деньги в электронную телепатию. Это ведь именно те беседы, которым он хотел бы предаваться. Все хорошо и интересно, но это все – теории. И не существует той реальности, в которой они бы сработали.
Когда его за подобные штуки высмеивали, он, естественно, превращался в настоящего брюзгу. Кит был слишком сложным человеком, чтобы просто сесть и поговорить об обычных вещах. А такие штуки очень важны, поскольку формируют привязанность, дружбу, которая позволяет затем перейти к более серьезным вещам. С Китом всегда было напряжно. Это, конечно, будоражит, но также и разочаровывает, когда пытаешься избавиться от давления.
Давайте посмотрим правде в глаза, я тоже не без греха и не раз напоминал себе об этом: если бы я был на сто процентов предоставлен самому себе, вокруг царил бы хаос. Из-за этого я всегда предпочитаю работать в команде. Я знаю, что перелезу через край и выйду с другой стороны. Я буду первым, кто примется убеждать, будто я вовсе не перебарщиваю, но я чертовски уверен, что все люди вокруг меня думают иначе, о чем они мне постоянно сообщают. Рэмбо часто говорит: «Джон, ты не знаешь, когда остановиться, ты можешь довести кого угодно до белого каления». Это правда. Всем нам нужно, чтобы наши друзья за нами подслеживали.
Несмотря на напряженность, мы любили всячески позабавиться, особенно в Маноре. Я имею в виду розыгрыши, большинство из которых были вполне безобидными, но иногда мы переходили границы, и любой мог стать мишенью. Вполне возможно, это был Карл Бернс, барабанщик The Fall[226], который как-то приехал на студию и отрубился под ЛСД, чтобы проснуться и обнаружить, что его кровать горит. С ним ли это случилось на самом деле? Трудно сказать наверняка, но мне так кажется.
Подобная ерунда могла продолжаться все время. Мы веселились в гостиной, и если ты настолько глуп, что думаешь, будто сможешь заснуть в такой обстановке, значит, сам подставляешься. Все это очень напоминало историю из серии «остаться в живых», и в том-то и заключались увлекательность и вызов – посмотреть, как долго ты сможешь продержаться. Не хочу сказать, что мне жаль – я на самом деле очень даже рад это вспомнить, потому что в то время я любил амфетамин, – но это был мир, периодически подпитываемый солями. Не каждый день и не когда я пел, но случалось, что я с нетерпением ждал особенного вечера, когда реально можно было себе позволить – опять же, я знаю, клише – пуститься во все тяжкие. Но вы не смейте этим заниматься, потому что будете страдать от последствий!
На этом развеселом фоне я терял маму из-за рака желудка – самого страшного и болезненного из всех. Я проводил с ней в больнице как можно больше времени, но не так много, как следовало бы.
Как-то раз, когда я пришел в больницу, туда заявился местный священник, эдакий фриковатый монах-иезуит. Он только что вернулся из Африки – один из тех людей, которым достаточно прикоснуться к тебе, и ты типа «исцелился». Впутать в это мою маму было уже достаточно оскорбительно, но потом все переиначить и заявить, будто «лечение» не сработало, потому что я подверг его сомнению, – это просто отвратительно. Я был очень, очень расстроен. Мне отнюдь не нравится быть жертвой мошенников. Каждый психоаналитик, психиатр, духовник, охотник за привидениями, экстрасенс или священник от мира сего здесь только для того, чтобы причинить вам зло.
Величайшее преступление заключается в том, что, когда мама умирала, она хотела, чтобы у ее постели был священник, а он, конечно, не пришел. Все дело в деньгах. Как оттащить священника от кабака и молодых парнишек? Все это было очень, очень болезненно.
Мама всегда проявляла свою любовь очень тихо. Было сказано не так уж много, но все, что нужно тебе от родителей, – правильное внимание. Перед своей кончиной она попросила меня написать ей песню, и ею стала «Death Disco»[227]. Мне удалось сыграть маме только очень приблизительную версию. Она знала, что я задумал. Мне пришлось немного сократить песню, потому что то, что я изначально написал, было слишком напрямую связано со смертью, поэтому я хотел, чтобы она чувствовала, что это, скорее, вызов болезни. Грубая демоверсия, с нечетким текстом, казалась немного мягче, чем полная определенность: «Ты умираешь – ах!»
Только исследуя эти области психики, вы сможете освободиться. Не отделяйте музыку от тревоги и боли, и тогда вы найдете решение. Я никогда не сталкивался со смертью, но через музыку я вроде как нашел способ иметь с ней дело. В таких песнях я задаю себе серьезные вопросы. Почти на грани психического расстройства. Это я вою в горькой агонии. Горе, горе, горе, но в то же время вы должны дарить радость тем, кого вы любили. Не купаться в жалости к себе, а, скорее, радоваться тому хорошему, что было в них при жизни.
Когда мы выпустили «Death Disco», это вызвало большую путаницу. Была ли это танцевальная пластинка? Что вообще это было? Конечно, сингл не означал пожелание смерти диско, как некоторые его интерпретировали. На самом деле, когда Моррисси появился со своим «Kill the DJ», я подумал, что он делает неправильную отсылку[228]. Я? Мне нравились мои вечера в «Лейси Леди» в Илфорде и вся музыка, которая к этому прилагалась, но нельзя постоянно придерживаться стандартного диско-шаблона. Вовсе не значит, что ему нужно подражать или дублировать. Вы развиваете его, или реструктурируете, или что вам там надо сделать, чтобы приспособить форму к содержанию. И Джонни не поет строчками Майкла Джексона.
Мне было очень приятно, что сингл «Death Disco» создал интригу относительно того, что именно мы затеваем. Я был восхищен, когда услышал, что «Рекорд Миррор» поставил нас на восьмое место в своем танцевальном чарте. Я подумал: «Боже, что подумают соул-мальчики, когда услышат это?» Но сингл действительно попал на вертушки в клубах, чему, несомненно, способствовал тот факт, что мы выпускали различные его миксы.
Сингл говорил нашим поклонникам панкам: «Послушайте, почему вы прячетесь в тени, мальчики и девочки, выходите под этот сверкающий шар. Вот вам возможность! И получайте удовольствие, вы, ублюдки, все-таки танцуете в память о моей матери!» Очень жесткая задача.
По радио «Death Disco», конечно, не передавали. Песню не ставили ни у Тони Блэкберна[229], ни даже у Джона Пила – при всей кажущейся открытости и прославлении чудесного мира музыки у этого человека был довольно узкий формат. Во многих отношениях, как сказали бы мои ямайские друзья, «это меня освобождает»[230]. Мы не должны обдумывать плейлист.
И все же люди из Virgin продолжали мне советовать: «Почему бы тебе просто не написать хит?» – «Здрасьте! Я пишу песни, я не знаю, хиты это или нет, и мне все равно!» Все, что я создал, всегда имело очень хорошие продажи, это реальный факт. Проблемы возникали, когда мои пластинки либо недостаточно рекламировали, либо не устраивали концертов в поддержку. Это две главных причины, объясняющие, почему пластинки не продаются. Если вы не рассказываете людям, что они доступны в продаже, этих пластинок с тем же успехом могло бы и вообще и не существовать. Это работа звукозаписывающей компании, и по мере того, как изменялись в то время лейблы, подобные задачи все чаще и чаще выходили за рамки их деятельности. Сама идея аутсорсинга – продвижение приобретается артистом независимо от его звукозаписывающей компании – постепенно стала в порядке вещей.
Так что поддержки было все меньше и меньше, и в конце концов меня все же изгнали с лейбла как эксцентрика – одинокого волка, – не имеющего связи с умонастроениями аудитории. Ну и проваливайте! Есть ли какая-то причина, по которой я должен ее иметь? Я пишу не для того чтобы кого-то поучать, я пишу, чтобы выразить свое отношение к тем вопросам или проблемам, которые непосредственно меня затрагивают и поэтому, как мне кажется, затрагивают всех.
* * *
Скажем так, я никому не сосал яйца. Я чертовски хорошо знал, что все вряд ли закончится гладко, когда согласился пойти на шоу «Жюри музыкального автомата»[231]. Это был старый телевизионный формат «Би-би-си», где пустоголовые знаменитости прослушивали последние поп-релизы.
С одной стороны, мне все еще приходилось иметь дело с панками-прихлебателями, занявшими в своих пистолзовских привязанностях глухую оборону и не готовыми сделать следующий шаг, и они, как правило, были самыми ожесточенными. «Это не панк, ты продался!» – «О, еб твою мать! Я дал тебе ботинки, ты их носишь, но теперь научись-ка в них ходить. И, кстати, реально лучше бы тебе их сменить – держи, вот тебе новая пара!»
С другой стороны, на «Би-би-си», вероятно, надеялись на еще один взрыв матерной бомбы, но я не намеревался доставить им это удовольствие. Я отправился туда добровольно, но только после того, как сказал: «Нет! Г-р-рр!», – а все, кто был в тот момент рядом, принялись меня уговаривать: «Нет, ты должен, все будет хорошо». Я понимал также, что, согласившись принять участие в передаче, могу вызвать недовольство некоторых членов группы, которые решат, будто я перетягиваю на себя одеяло. И так будет всегда, с этим ничего не поделать. Однако я думаю, что мне прекрасно удаются всякие открытые дискуссии. По-моему, я в них очень даже преуспеваю. Вы не получаете то, чего ожидаете, – вы должны ожидать лучшего, и это то, что даю вам я.
Я пришел в студию в довольно привлекательном красном шелковом костюме. Тогда у меня было два таких костюма, один красный, другой зеленый, оба сделаны нашим другом-дизайнером Кенни Макдональдом, который держал ателье на Кингс-Роуд. Мне очень понравился его подход к одежде. Ямайского происхождения парнишка, серьезный псих, жесткий и крепкий, и его одежда была оригинальной и очень продуманной. Все наши ранние визуальные послания исходили от Кенни: например, серый клетчатый костюм, который был на мне в видео «Public Image», одна из его работ. Он придумал красную шубу, которую раньше я частенько надевал и которую все считали халатом. Кенни также сшил мне белый костюм, в котором я был похож на белого медведя. Он придумывал очень забавные покрои из твида и тому подобное.
Во всяком случае, тот красный шелковый костюм отличался довольно разумным покроем, но был пошит из какой-то охеренно-крезанутой ткани. Ужасно смешно, просто супер. Кенни мне очень нравился, однако я слышал, что он уже много лет сидит в тюрьме. Но у нас есть терпение.
Ведущим «Жюри музыкального автомата» в то время был Ноэль Эдмондс[232] – мистер Снисходительность, подобострастный до кончиков ногтей, человек, из которого так и перла угодливость. То, что он творил, – низкопробное жульничество.
В жюри на той неделе была Джоан Коллинз – вообще-то кто она такая, чтобы рассказывать вам, что есть что в музыке? Кроме того, рядом со мной сидела Элейн Пейдж, с которой я, как ни странно, отлично поладил. Такие люди, как она, мне не враги, а вот претенциозные поп-дивы – да. Элейн поет в мюзиклах. С ней было очень весело. Она мне сказала: «Ты такой забавный, но ты прав!» Обожаю эту фразу. Элейн поняла, что там, откуда я вышел, люди реально относились весело ко всему этому, а не рассуждали с постными рожами о легкомыслии в поп-музыке.
Нужно было держать в руках маленький диск, с одной стороны которого была надпись «Хит!», а с другой – «Промах!», и показывать его нужной стороной после каждой песни, которую они нам ставили. Один раз я просто держал этот диск ребром – это не хит, но и не промах, есть как есть. А еще этот чертов тупой ведущий с бородкой очень ждал, что мне понравится одна пластинка, потому что она была выпущена моими мнимыми коллегами-панками, – какая-то вещь Siouxsie and the Banshees. «Ну уж нет, так не пойдет, я вам не штамп, я не собираюсь послушно следовать уготованной мне роли и делать то, чего от меня ждут, только потому, что они этого захотели. Я выражу свои истинные чувства, желаете вы того или нет». Мне кажется, это то, ради чего меня пригласили на шоу, и вы получили честный ответ.
В конце шоу предполагалось, что ты пожмешь всем руки и помашешь ладошкой на камеру – все это было заранее подготовлено. «Нет! Это фальшь, это вселенная Джоан Коллинз, а не моя». Я не стал обмениваться любезностями. Я сам себя подверг остракизму и покинул студию. Возможно, иногда я немного перегибаю палку, не соблюдая нормы, однако медленно, но верно это приносит свои плоды – после этого выпуска «Жюри музыкального автомата» вновь убрали на полку[233]. Хорошая работа, Джон!
Возможно, поэтому не было ничего удивительного в том, что следующий сингл Public Image Ltd «Memories»[234] в коммерческом плане не особо преуспел. Сама песня прыгает взад-вперед от одной текстуры звука к другой, как нам показалось, очень пронзительным образом – от ломкого звучания к теплому. Мне очень нравилась эта песня, но это не был хит, потому что «Memories» длится почти пять минут, и мы знали, что из-за этого композиция не попадет в эфир. Мы с Китом пришли к единодушному согласию по поводу песни: ни один из нас не знал, где ее сократить или что именно вырезать, да и какой в этом был бы смысл? Именно длина «Memories» передавала истинные эмоции. Нельзя убрать последнюю главу детективного романа только потому, что в нем прибавилось лишних двадцать пять страниц. Но тем не менее реальность такова, что это выкидывает вас с радийных плейлистов. Что, честно говоря, никогда не было для меня проблемой.
Треки становились длиннее, и это было вполне естественно: «Нет никакого смысла останавливаться, у нас еще не закончились идеи». Мы вовсе не затевали крупномасштабного аналитического исследования из серии: «О, я думаю, что мы должны сделать десятиминутную композицию!»
«Альбатрос», рассказ о трусости Малкольма, длится именно столько, хотя бы потому, что это все, что мы могли вместить в запись. Он заслужил такую длину. Ты позволяешь песне диктовать темп и время вместо того, чтобы пытаться овладеть ею, полностью взять под контроль и вылизать до ноты. Я нахожу такой подход удушающим, оскверняющим.
Это противно тому, каким образом, по моему мнению, человек физически и умственно работает. Когда мы садимся, чтобы расслабиться, или взволновать себя, и/или что-то еще, мы используем музыку в большей степени как фон для наших собственных бессвязных мыслей. Мы же даем вам нечто, подо что можно поработать, где вам не надо сосредоточиваться на отсчитывании ритма или думать, какие здесь танцевальные шаги. Это, скорее, пища для размышлений. Каждый раз, когда вы ставите что-то подобное, песня звучит иначе, вы как бы подходите к ней под другим углом, и вы не пойманы в ловушку отточенного совершенства.
Мне очень нравилась зона звукозаписи в Маноре. Как только я попадал туда и преодолевал все свои страхи и фобии, я мог работать там часами. Что бы мы ни делали, мы расходились по разным секциям, и у каждого человека было свое время, чтобы разобраться в себе, поработать в одиночку, а затем объединить усилия. Это было интересно. Вы входили в студию и слышали, как кто-то что-то пробует, или возится, или репетирует самостоятельно.
Что касается меня, то я не мог заставить себя засесть за все это, пока не наступала поздняя ночь. Все остальные чувствовали примерно то же самое, потому что на улице светило солнце, и это было очаровательное старинное поместье вроде замка, со многими акрами полей, чтобы по ним бегать, и всякими штуками, чтобы их исследовать, а еще – с дорожкой до паба длиной в три мили, и это очень весело. И старая каменная кладка, и игра в «лорда поместья», и вся эта еда и питье – я имею в виду, что ты ничего не мог с собой поделать.
С другой стороны, были крики Кита и понимание того, что Уоббл не может долго держать себя в узде. Он более чем способен покалечить Кита, который, по справедливости, вел себя как визжащий хорек. Уоббл замирал, обманчиво затихая, и я понимал, что из этого может выйти и что должен это остановить. Я глубоко убежден, что насилие ничего не решает. Ты не можешь допустить его на своем рабочем месте. Если кто-то переступает эту черту – не просто правило, а абсолютную величину, – они уничтожают сами себя.
В других случаях было очень весело. Например: пепельницы на струнах рояля! Я с детства очень люблю клавесинную музыку – что-нибудь такое, что можно увидеть по телевизору, какой-нибудь старый Бах или Бетховен, исполненный на оригинальных инструментах. Этот звук приводит меня в трепет. И вот я в студии, там стоит рояль, а я ищу металлические пепельницы, чтобы вызвать это звонкое металлическое жужжание. Какой прекрасный шум, гораздо более волнующий! И на клавишах рояля лишь локти!
Кит, Уоббл и я находились на одной волне, когда речь шла о таких экспериментах. Вся наша вражда была на личном уровне, о чем нельзя не сожалеть. Все эти диссонирующие резонансы, эти звучные тона, которые проносятся туда-сюда, просто чудесны. Они почти разрушают мелодию, но очень полезны для самопознания. Необходимо свободное пространство, причем не только исполнителю, но и слушателю, чтобы появилось желание мыслить. Конечно, ничто из всего вышеперечисленного иные знатоки не сочли бы правильной работой в студии. Но в итоге вы получаете отличные результаты, потому что реально заинтригованы звуком, по крайней мере я, – целиком и полностью. Вот что значит быть заядлым коллекционером пластинок. В своей голове ты создаешь богатейший репертуар из различных звуковых элементов. Не подражаешь или копируешь, а модифицируешь уже накопленное. Ну, или как сказали бы некоторые чокнутые музыканты – уничтожаешь.
С точки зрения лирики я тоже стремился в совершенно иные места. В то время как Джо Страммер был занят просмотром новостей, пытаясь усвоить политические заголовки, я слушал, например, историю об изнасиловании юной девушки и понимал, что заложенный в этом личный, человеческий аспект гораздо интереснее – попытаться преодолеть огромное горе, через которое прошла эта девушка. Ее схватили двое мужчин, завязали глаза, запихнули в багажник машины, увезли за город и изнасиловали. Если бы она не убежала, ее могли бы даже убить, а она почти ничего не помнила, потому что боль от всего этого была просто невыносимой.
Все, что осталось у нее в памяти, – это мелодия, которая доносилась из кассетного магнитофона в машине, и именно так поймали виновных – когда полиция выследила машину, кассета все еще стояла в магнитофоне. Это была та самая мелодия, которую запомнила девушка. В средствах массовой информации никогда не упоминали, что это была за мелодия, но мне удалось разузнать, что это песня Bee Gees. Относясь к Bee Gees с искренней любовью и привязанностью, я счел это еще более интересным. Отсюда и строчка в песне: «А кассета играла попсовый мотив»[235].
Это, возможно, наш самый гипнотический и вдохновляющий трек, и Кит здесь абсолютно в общем потоке. Какой замечательный способ привлечь слушателя, чтобы он понял боль этой бедной девушки и проникся к ней сочувствием. Каждый раз, когда я исполняю «Poptones», я словно проживаю эту историю внутри себя. Я полностью тот человек, та жертва. То же самое с «Аннализой». Может показаться глупым с моей стороны, но это то, что я делаю. Сочувствие ко всем жертвам. Не так это уж и здорово – ставить себя в положение жертвы, очень печально и глубоко ранит. Но далеко не так остро, как боль, которую испытывала настоящая жертва.
Речь шла о том, чтобы соприкоснуться с различными человеческими эмоциями, которые обычно отодвигаются в сторону. Если я и открываю ящик Пандоры, то делаю это молотком и зубилом. Я сломал тот висячий замок, сломал страх перед неизвестностью.
Песня «The Suit»[236] – это совсем другая история, она о моем приятеле Поле Янге, который взял и без спроса одолжил мой костюм для какого-то свидания с девушкой из Тоттеридж-парка. Потом он вернул его обратно, и, конечно, костюм весь провонял. А костюм мне очень нравился! Я совсем не против поделиться одеждой, но это немного чересчур, когда твой лучший костюм, приберегаемый для подходящего момента, оказывается весь заляпан пятнами – и далеко не все они от пива, – и вот ты весь такой, будто в сене извалялся. Мог бы и в химчистку сдать! Дерзкая обезьяна, ха-ха.
«No Birds Do Sing»[237] – отсылка к стихотворению Китса «La Belle Dame sans Merci» (фр. «Безжалостная красавица»). «Ax, что мучит тебя, горемыка, / Что ты, бледный, скитаешься тут?»[238] – и так далее и тому подобное. Навязчивое, призрачное стихотворение, поэтому я решил адаптировать эту штуку о несчастной любви к жизни в пригороде. Довольно раздражающая песня, но попробуйте поживите в Тринге.
Не думаю, что кто-либо до того момента атаковал синтезаторы так, как это делали мы, чтобы создать столь напряженную атмосферу. «Careering»[239] – песня о проблемах в Северной Ирландии. Этнические разногласия наложились на религиозный бред, и все это позднее вылилось в бандитские разборки. Я не могу поддержать ни одну сторону, которая полагает, будто, убивая противников, она делает это ради общего дела. На мой взгляд, если ты кого-то убил, у тебя вообще нет никакого «общего дела».
В музыкальном плане песня должна была быть такой резкой, чтобы достичь своей цели – заставить слушателя осознать. Во всей этой католико-протестантской чепухе, с моей точки зрения, есть «бактерии» по «обоим берегам реки» – я не собираюсь делать выбор между двумя сторонами. Я не собираюсь спорить с людьми о том, какая «бактерия» лучше. В самом деле, все религиозно или политически окрашенные ситуации одинаково токсичны. И по ту, и по другую сторону имеют место грязные манипуляции, о которых последователи не вполне осведомлены, и люди должны об этом знать. Ты всегда должен знать, когда тебя используют.
Эта песня вызвала у меня много проблем в Ирландии, особенно на юге, где решили, что я не имею права оскорблять ИРА. Очень жаль. То же самое и с песней «Религия»: мне приписали прямые нападки на Католическую церковь, но, я думаю, это то, что просто необходимо было сделать. В жизни не должно быть священных и неприкасаемых предметов, потому что именно они приводят ко всем бедам. Вооруженные банды убийц никогда не получат моей поддержки. И они никогда не приведут к миру добра и счастья.
На Radio 4 я не мог вписать вокал в композицию, поэтому решил не петь вообще. Я вырезал свою часть, чтобы предоставить группе немного больше пространства. Я был более чем счастлив отбросить требование, будто ты должен петь на всем. Я же занимаюсь многими другими вещами, не только пою. Разного рода решения, связанные с записью, продюсерские штуки, я добавляю маленькие вставки здесь и там и все такое, так что это очень хорошая комбинация.
Мы хотели нарушать каждое правило, любой порядок. Это было все равно что запустить в магазин игрушек четырех детей, изголодавшихся по развлечениям. Мы хотели, чтобы от бас-гитары исходил самый глубокий рык, да такой, чтобы он почти разрывал ваши барабанные перепонки. Или то, что вы могли бы принять за какую-нибудь электронную примочку, на самом деле было обычным телевизором, записанным на двух дорожках, ускорявшихся и замедлявшихся. Все это довольно абстрактно, но и здесь всегда присутствовала танцевальная основа – хотя, как говорили мне многие мои друзья: «Тебе понадобится три ноги, чтобы танцевать под это, Джон!»
Каждый трек был из серии «быстренько разберись и жахни». Часто кому-то из нас приходилось играть на барабанах – Кит вставал за установку на «Poptones», а Уоббл на «Careering». Мне все это ужасно нравилось. Нравился страх. Это было похоже на огромный грузовик, несущийся с горы без тормозов. Мы надеялись, что в конце нас ждет подъем.
Вскоре после того, как в 1978 г. «Пистолз» распались, я поучаствовал в кастинге для фильма The Who «Квадрофения»[240], потому что меня об этом попросил Пит Таунсенд. Он хотел, чтобы я попробовался на главную роль, на которую в итоге взяли английского актера, этого крысиного персонажа с черными волосами, Фила Дэниелса[241]. Достаточно быстро выяснилось, что я не понравился менеджеру The Who, и они решили, что я не смогу выдержать весь процесс съемок. Откровенно говоря, они, вероятно, были, абсолютно правы, поскольку мне понадобился бы какой-то инструктаж или обучение, чтобы понять, как у них там все устроено со съемками, а я просто не был готов слушать что-либо от кого-либо.
На протяжении всей моей карьеры Пит Таунсенд всегда выказывал ко мне доброжелательное отношение и готовность помочь. Наши пути впервые пересеклись в самом начале существования Sex Pistols, когда мы писали демо в студии The Who. Мистер Таунсенд узнал, кто пользуется его оборудованием, и сказал: «Мы не будем брать с вас денег», – так что я испытываю к нему исключительно самое глубокое уважение. Он также сделал несколько одолжений для группы моего брата Джимми, 4» Be 2».
Пит Таунсенд один из тех недооцененных персонажей, о которых многие люди из музыкальных кругов – если бы они потрудились поделиться информацией – могли бы рассказать, что он часто делал все возможное, чтобы помочь, сохраняя при этом свое имя в тайне. Разрешал работать в студии, мог поговорить с тобой, обсудить песни, обратить внимание, если чего-то в них не хватает. Когда он рассказывал о The Who, возникало ощущение, будто ты сам являешься участником команды. Это было вовсе не типичное «А потом я…» – нет, он говорил с тобой от имени группы. Так что, встретив много лет спустя Роджера Долтри[242], я понял, что это первое, что у нас общего. «А, так вы были с Питом? О, бла-бла-бла-бла…» Так что у нас состоялась очень любопытная беседа.
Трудно дать этому точное определение, но тебя не покидает ощущение защиты и покровительства, если рядом Пит. Он всегда настроен благожелательно и непредубежденно, и даже если Пит не понимает твоих идей, он не будет вступать в споры. Поддержит даже в этом, очень по-отечески. Я знаю, что он тот, к кому я всегда мог бы обратиться, если бы захотел, но я существо независимое и не хочу решать проблемы таким образом. Однако я абсолютно уверен, что Пит всегда готов прийти на помощь. Он именно такой человек.
Во всяком случае, когда я был на пробах, все это снималось на пленку, и потом эти короткие кинозарисовки доставили на Гюнтер-Гроув – они прибыли в огромных металлических круглых коробках. Оказалось, что Дэйв Кроу, который в то время еще квартировал на Гюнтер-Гроув, знал компанию, производившую эти коробки в Британии, потому что их завод находился в Борхемвуде, где он жил в юности. Короче, одно за другое, и мы придумали новаторский способ презентовать нашу новаторскую музыку – буквально в металлической коробке.
Отличной идеей было выпустить все эти длинные треки на трех 12-дюймовых пластинках на 45 оборотов, однако почти весь наш бюджет на Metal Box ушел на экстравагантную упаковку. Мы потратили на металлические футляры для кинопленки больше, чем на саму запись, и Virgin не оплачивала этих расходов – все легло на наши плечи.
Сами металлические коробки оказались крайне неудобными. То, что мы получили в итоге, было похоже на два сложенных вместе круглых подноса для пирожных. Они очень сложно открывались, и достать пластинки было невозможно. Однако это выглядело вполне уместно, потому что то, что предлагалось слушателю, могло быть истолковано как очень неприятное – словно специально задумано для тех покупателей, которые были готовы приложить немного усилий. К тому же, когда вам все-таки удавалось добраться до содержимого, бас был настолько глубоким, что выбивал иглу с пластинки. Мы оказались немного впереди хай-фай-оборудования той эпохи.
Когда альбом Metal Box вышел в ноябре 1979 г., он получил хорошие отзывы критиков, но я доверяю им еще меньше, чем плохим. Первую партию пластинок раскупили сразу, однако влияние альбома с годами только росло и росло. В интервью я описывал Metal Box как «музыку настроения» – понимая, что это обязательно заденет за живое.
Давать концерты в это время было невозможно. В сентябре 1979 г. мы были хедлайнерами крытого фестиваля в Лидсе под названием «Футурама» – настоящий концерт-катастрофа. Все было организовано из рук вон плохо, и нас это очень разозлило. На подступах к помещению, где проходил фестиваль, собралась кучка парней, одетых в нацистскую униформу, которые зиговали и раздавали публикации Национального фронта. Что? Это абсолютно неприемлемо. Не было никакой охраны – полная противоположность всевластию секьюрити, поэтому люди просто бродили вокруг и отключали любое оборудование, которое им нравилось. Выступая на сцене, ты понимал, что из раздевалки могут что-то украсть, поэтому постоянно одним глазом следил за дальним концом коридора. Глупый, идиотский, ненужный хаос. Слава богу, что есть такие друзья, как Рэмбо, которые пришли на помощь, внимательно следили за происходящим и останавливали людей, занимавшихся всяким непотребством.
Отключение оборудования было в те дни штукой очень массовой и популярной – люди выбегали на сцену и направлялись прямо к кабелям электропроводки или типа того, просто чтобы попытаться отключить питание, и видели в этом достижение. И занималась этим совсем не та публика, которую можно было бы назвать фанами или людьми, увлеченными музыкой. Нет, это были группировки по типу банд футбольных фанатов, которые специально приходили на концерт и пытались его сорвать. Особенно если ты отправлялся с гастролями на север, а сам – с юга. Ага – попался! Такова была их психология. Требовалось много храбрости, чтобы стоять на сцене и сопротивляться, не прибегая к насилию. Вы должны понимать психику аудитории и полностью контролировать свои действия в подобных ситуациях.
Люди хотели, чтобы я был плохим парнем, но они же хотели меня за это проучить. Это были две стороны враждебности. Большая проблема, потому что каждый раз, выходя на сцену, ты оказывался окружен всеми этими доисторическими монстрами, которые жаждали утащить тебя обратно в прошлое. И так будет всегда, когда ты сознательно встаешь на путь обучения и просвещения. Я воспринимал подобную ситуацию вполне себе весело, хотя бы потому, что рано или поздно те люди, которые сперва выступали против тебя из-за отличия от привычных клише, в конце концов просекали фишку. Потребовались годы, чтобы понять первый альбом PiL и Metal Box. К тому времени у меня уже было в запасе два-три альбома, и, конечно же, именно тех, которых они не понимали, так что я всегда на три, четыре или пять альбомов опережал кривую обучения.
На этих концертах случались проблемы, но для меня всегда существовали смягчающие обстоятельства, которые обычно не учитываются. На рубеже 1980-х гг. Британия стабильно находилась в состоянии катастрофы, с бесконечными забастовками, беспорядками, футбольным насилием и всем прочим. Очень жестокое время, и все команды на своих концертах сталкивались с этой ситуацией. Однако некоторым газетам оказалось очень удобно повесить все на меня, нанеся тем самым большой ущерб группе. Многие промоутеры отказывались иметь с нами дело, потому что полагали, будто раздутые в прессе сообщения о подобных инцидентах создадут в будущем еще больше проблем.
Все всегда упирается в промоутеров, потому что именно они поднимают деньги, но только если понимают, что за тобой стоит должным образом обеспеченная поддержка лейбла. И это очень серьезно влияет на концерты. Если бы звукозаписывающая компания поддерживала то, что ты задумал, никаких экономических проблем с промоутерами вообще бы не возникло. Неожиданно, прежде чем выйти на сцену, мы столкнулись с необходимостью подписывать все эти страховые условия, давая нелепые гарантии, будто каким-то образом, если мы согласимся с написанным, мы автоматически считаемся потенциальными организаторами любых беспорядков, которые могут произойти, – подписанная тобой бумага, будто ты приложишь все усилия, чтобы не вызвать волнений, подразумевает, что это в принципе в твоих руках. Господи, да поймите вы, что я не могу отвечать за то, что делает масса людей, я отвечаю только за то, что делаю сам.
Очень быстро мы оказались более или менее изгнаны из Британии. Невозможность давать концерты – опять! – отнимала у нас жизненную силу. Это вело к разнообразным сильным антагонистическим конфликтам, обычно сфокусированным – опять! – на «Я хочу больше денег!». Да и чего еще хотеть, когда больше нечего делать? Это вполне понятная человеческая реакция на разочарование, которая становится главным камнем преткновения и яблоком раздора. Неприятности растут как снежный ком, и вскоре их уже очень трудно контролировать. Подобное и вызывает раскол в группе.
Так что к тому времени, когда в апреле 1980 г. мы отправились в свое первое американское турне, PiL пребывали в довольно плачевном состоянии. Мне практически было нечего надеть, но я узнал, что Уоббл использовал моего приятеля Кенни Макдональда, чтобы сшить себе костюмы, за которые, как мне стало известно позднее, заплатил PiL. Я разговорился с Кенни совершенно случайно, прямо накануне отъезда в аэропорт. Итак, мы добрались до отеля, Уоббл открыл свой чемодан, и я первым делом заявил: «Отлично, я беру это, потому что я за них заплатил!» В любом случае я всегда придерживался «комбинированного» подхода к одежде: мой чемодан был открыт для всех, с кем я работал. Уоббл ничего не сказал, но я понял, что он затаил обиду. Ему не следовало использовать моих приятелей, чтобы пошить себе одежду, не сказав мне об этом, и оплачивать ее за мой счет.
Несмотря на подобные разногласия, наш образ в медиа был довольно вызывающим. «Хай таймс» поместили нас на обложку: Вилли Нельсон[243] с одной стороны и Джонни Гребаный Роттен с другой. Внизу было написано что-то вроде: «Две стороны музыки», – или, по крайней мере, это подразумевалось. Фантастика! Я подумал: «Вилли Нельсон – не враг, вы что-то неправильно поняли, ребята!» Я всегда с интересом слушал песни Вилли. Он тоже по-своему бунтарь – не хочет, чтобы кто-то говорил ему, как он должен или не должен жить.
В другом интервью я заявил: «Рок-н-ролл – это дерьмо, его нужно ликвидировать». С этого момента, откровенно говоря, Америка объявила нам войну. «У-у-у, как ты можешь такое говорить?» Что ж, я был прав. Рок-н-ролл реально превратился в «хромую утку»[244]. Отвратно было ожидать чего-то нового в музыке, что могло бы вписаться в этот устоявшийся жанр. Он стал цепью с ядром на ноге у каторжника. Просто подумайте непредвзято.
Metal Box перевыпустили по обе стороны Атлантики в новой упаковке как «обычный» двойной альбом под названием Second Edition. Мы сделали релизу рекламу на радио, объявив его «двенадцатью треками несусветной чепухи от Public Image Ltd. Полная и несусветная чушь для вашего сомнительного удовольствия!» Я надеялся, что юмор подхватят. Это была попытка проявить дружелюбие и открытость, используя иронию, которую, возможно, не понимают в Америке.
Мы снова подписали контракт с Warner Records на распространение нашей музыки в Америке, и у нас снова возникли с ними проблемы. Им не очень понравился наш первый альбом, и они отказались от его выпуска. Они не знали, чего ожидать. Я предполагаю, что они надеялись заполучить «Ту самую великую рок-н-ролльную группу Sex Pistols-дубль 2», но чего ожидать от людей, которые не могли принять Sex Pistols-дубль 1? В результате я еще дальше отклонился от возможности наверстать упущенное.
Мы сыграли около десяти концертов, в основном на площадках ключевых городов, в том числе в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Также состоялось наше легендарное телевизионное выступление на шоу Дика Кларка[245] American Bandstand. Все пошло не так, когда мы приехали, а они вдруг нам сообщили, что мы будем петь под фонограмму. Мы подумали, что наше оборудование не прибыло вовремя, но вскоре еще больше расстроились, когда они заявили: «О нет, вы все равно не могли бы играть вживую, просто имитируйте пение под запись».
Они записали несколько отредактированных версий «Poptones» и «Careering» и вручили нам кассету, чтобы мы заранее порепетировали. «О боже, неужели они ее так порезали? Я не знаю, где здесь должен быть вокал. И что нам теперь делать?» Никто из нас не знал. От одной только мысли о том, чтобы попытаться спеть ее так, как она у них записана… А-а-а-а! Можно еще сымитировать игру на инструменте, но как подделать урезанное пение. «О’кей, значит, вы вычеркнули смысл и цель, это все равно что убрать припев из Национального гимна, чтобы он уместился в отведенное на телешоу время. Полная задница!»
Перед тем как мы начали, я сказал: «Хорошо, давайте импровизировать – прикройте меня, пожалуйста!» И я заварил такую кашу! Я не делал никаких попыток изобразить пение, перемещался по сцене, выходил к зрителям и вытаскивал их на сцену танцевать. Несмотря на все проблемы, которые это вызвало – подобное спонтанное поведение не вписывалось в их обычный уютный формат, – Дик Кларк, ведущий шоу, большая звезда американского кабельного телевидения, после всего этого очень даже дружелюбно с нами общался, хотя Уоббл и немного порезвился с его париками. Мы нашли комнату Дика за кулисами в гримерке, и там на крючках висели все эти разные шиньоны, которые, знаете ли, гм, подверглись нападению. Но в конце концов все получилось очень хорошо, потому что, когда Дик Кларк сделал подборку лучших выступлений на шоу American Bandstand, Public Image оказался там в первой десятке. А Кларк руководил этим шоу десятилетиями – почти полвека.
Я знал, что в этом мире все они льстиво пресмыкаются, целуют друг друга в зад и сбиваются в стаю, опасаясь, что кто-нибудь из новеньких займет их место. Это то, чего от меня хотела музыкальная тусовка, то, что хотели от меня все, и этого не произойдет. Никогда. Мне не нужно искать нишу в подобном обществе. Чем больше они раздражаются из-за такого человека, как я, тем для меня лучше, потому что я, откровенно говоря, не думаю, что веду себя с ними как-то неправильно.
По дороге домой после тура у Левена в самолете случились сильные ломки. Я мало что помню, но мне его как-то не очень было жалко. Я считаю: так тебе, блядь, и надо. Кит утверждал, что все в порядке, но было очевидно, что́ с ним на самом деле происходило. Как же меня расстраивает необходимость иметь дело с лжецами! Я очень снисходителен к друзьям и, когда они лгут, пытаюсь понять, что заставило их так поступить, но это уж слишком – особенно когда подобное происходит публично, – я был в ярости.
Уоббл к тому моменту стал совершенно невыносим. Его издевательское поведение по отношению к барабанщику было неприемлемо. Учитывая еще его враждебность к Киту, нельзя было не заметить, что он вызывал слишком много ссор. Он оказался вовлечен в такое количество конфликтов одновременно, что вряд ли это можно назвать простым совпадением. Да еще его подружка появлялась у нас на Гюнтер-Гроув и спрашивала, где он, настаивая на том, чтобы ее впустили – на тот случай, если он на самом деле дома и от нее прячется.
Уоббл стал очень корыстолюбив. Он культивировал в себе образ этакого плывущего по течению, крутого и самоуверенного юнца, которому нужны лишь деньги. Он старательно производил именно такое впечатление, причем, к сожалению, слишком громко и гордо, и поэтому получил то, о чем просил. Будучи в группе, он не предлагал решений или ответов на вопросы. Просто сидел, откинувшись на спинку стула, и хихикал, и никогда не вносил своего вклада в общее дело, никогда. Никогда не хотел брать на себя обязательства, по которым впоследствии можно было бы сделать вывод, прав он или нет. Поверьте мне, все это само по себе не было бы проблемой для PiL. Проблемой стало полное отсутствие хоть какой-либо вовлеченности в дела группы.
Высказывать неправильные суждения – это не проблема. Совершать промахи – не проблема тоже. Это вещи, с которыми мы можем справиться и двигаться дальше, но отсутствие приверженности – серьезная ошибка. Было невыносимо сознавать, что он каким-то образом умудряется делать вид, будто вообще выше всего этого. Невозможно быть в группе, которая работает, как PiL, и при этом удалиться от проблем, от ситуаций, связанных с написанием песен, а потом, в конце месяца, протягивать руку за чеком. Твоя рука упрется в кирпичную стену, приятель.
Все спорили о деньгах, все хотели их побольше. Но когда этого «побольше» нет, что можно поделать? У меня работал мой приятель Дэйв Кроу, который пытался вести какой-то бухгалтерский учет, потому что он был очень хорош в математике. На самом деле до PiL у меня не существовало ни банковского счета, ни кредитной карты, вообще ничего, но потом это стало необходимо. Что касается заработной платы, то у меня вообще не было к ней прямого доступа, я хотел, чтобы ею занимался Дэйв, дабы избежать всяческих подозрений, будто я хожу и потихоньку ворую со счета. Деньги – корень всех зол. Если у вас имеется какая-то сумма, то каждый обязательно начинает хотеть большего. И, боюсь, не так уж много способов это обойти. Вот настоящий первородный грех.
К сожалению, примерно в то же время Дэйв Кроу перестал на меня работать, потому что, скажем так, у него были свои проблемы. Слишком рискованно доверять управлять финансами парню, который мог забыть сходить в банк в пятницу и оставить нас всех таким образом на мели в выходные. Все, что ему следовало сделать, – пройти около 140 метров, потому что прямо за углом от Гюнтер-Гроув находился банк «Барклайс», а ему почему-то это не удавалось. В результате я чувствовал себя полным придурком, поскольку именно мне приходилось объяснять всем остальным, почему в эти выходные нет денег. В банке деньги-то были, но я ни хрена не мог поделать.
Это было еще до круглосуточных банкоматов, так что вообще без вариантов. У меня даже не было чековой книжки. Я просто не видел в таких вещах необходимости. Я был вполне счастлив иметь свои 10 фунтов в день, да и сейчас не изменился, но нельзя вести себя таким образом, когда есть другие люди, которые ждут свою зарплату, заработанную или нет. Это ваша обязанность, подобного рода чувство ответственности очень серьезно и должно таковым и восприниматься. Так и получилось, что мне пришлось отпустить Дэйва, и с тех пор мы никогда по-настоящему не разговаривали.
Моя проблема в том, что я искренне предан людям, с которыми работаю. Я обычно говорю: три предупреждения, и ты уволен, но в реальности всегда нахожу оправдания для четырех, пяти или шести, поскольку верю, что в долгосрочной перспективе преданность даст гораздо лучшие результаты, чем всякие истеричные разборки, которые заканчиваются уходом.
В отношениях с Уобблом накопилось слишком много мусора. Он поставил себя так, что с ним стало неловко рядом находиться. С меня было достаточно. Слишком много маневров, которые я считал хитрыми и коварными. Пока мы записывали Metal Box, Уоббл тайно брал кассеты с некоторыми нашими «минусовками», чтобы использовать их в сольном альбоме, который делал для Virgin. Однажды я поймал его на месте преступления. Один из моих самых близких друзей! Мы с ним так и не помирились как следует. «Нам придется расстаться, – сказал я. – Ты мой друг, но на этом любые твои отношения c PiL окончены. Это конец, так оно больше не работает. Мы в группе не друзья, и это трагедия. Но давай останемся друзьями». Так для меня все и закончилось.
Так что теперь остались только мы с Китом. В лагере PiL все шло далеко не гладко, но случилось нечто, что немного наполнило наши сердца радостью. Едва только мы вернулись из Америки, фильм Малкольма о Sex Pistols – «Великое рок-н-ролльное надувательство» – наконец-то появился на экранах кинотеатров.
Я был очень, очень счастлив, потому что это оказалось мучительно плохо. Мы с Китом пребывали на седьмом небе от того, какой это мусор, – фильм был слишком длинный и полон проповедей Малкольма. Там оказались задействованы разные нацистские прикиды и резиновые маски, причем безо всякой на то видимой причины. Лучшей сценой в нем мне показался пролог с повешением и сожжением чучел. Это было здорово. Я подумал: «О боже, это к чему-нибудь, да приведет. Настоящее, глубокое послание, от которого я приду в ужас». Но нет, потом он забросил эту линию. Просто упражнение во втыкании булавок в куклу вуду – то есть в меня.
Это выглядело беспомощно и очень вяло, потому что он ничем меня не заменил. Он так и не понял, что это была за группа на самом деле. Он попытался ее опошлить, чтобы самому выглядеть позначительнее. Десять заповедей по Малкольму: «О, и тогда я подумал… И тогда мне пришла в голову мысль…» – да еще таким напыщенным тоном! Как ты думаешь, Малкольм, кто будет это слушать? Теперь мы знаем, зачем ты постоянно запирался в своем кабинете – затем, чтобы совершенствовать вот это!
Это было именно то, чего я хотел, потому что теперь люди видели, от чего я сбежал. И в качестве контраста могли сравнить с тем, на что я реально способен – пожалуйста, судите обо мне на этом основании. А если думаете, что я должен быть вовлечен в тот мир надувательства – ну и пошли вы на хуй!
Это была какая-то наркоманская фантазия. Сделан фильм был плохо, очень тривиально, злая насмешка, в которой нет никакого смысла. Классический пример предоставленного самому себе Малкольма – катастрофа. Этот фильм, этот альбом и все остальное – они не были поисками чего-то хорошего. Все это было похоже на поверхностное путешествие под волшебной пылью.
Конечно, часть меня думала: «Я пытаюсь продвигать PiL, и по неизбежной ассоциации мы оказываемся снова втянуты в эту компанию, о нас опять пойдет слава, будто все, что мы делаем, является жульничеством». Это причинило мне огромный ущерб, потому что люди сочли, что в этом есть своя правда. Все, что им надо было сделать, – услышать любое написанное мною слово, любые два предложения, которые я связал вместе, чтобы понять, что я занимаюсь этим не ради денег.
А еще они занимались прослушиванием певцов на место Роттена – ха-ха-ха! – и вы знаете, где это все происходило? В «Рейнбоу» в Финсбери-парке, рядом с домом, где я вырос. Как мы смеялись!
В общем, мы от души повеселились. Краткий счастливый период для меня и Кита. Тем же летом 1980 г. Ричард Брэнсон пригласил меня на свою яхту в «Маленькой Венеции»[246] на северо-западе Лондона. С тех пор он сделал там студию, но тогда Брэнсон на ней жил – сомнений нет, очень модное занятие – ожидая, пока не построят его новый замок.
Так что я направился туда с совершенно искренними намерениями, но был реально потрясен, обозлен и возмущен, когда понял, что вся эта встреча задумывалась с целью вновь свести меня со Стивом Джонсом и Полом Куком. Теперь они называли себя The Professionals, и Брэнсон прокрутил мне кассету с черновыми записями этих кошмарных дынц-дынц-дынц-мелодий, на которые, как они ожидали, я придумаю пару слов. Ни авторства, ни продакшена – просто ужасно.
Я тогда так и не избавился от чудовищного стресса, который оставило разбирательство в суде. Боже, моя голова – не знаю, как я с ней справился. А Стив и Пол все еще были на стороне Малкольма, который, на секундочку, если вы не забыли, украл мое имя и пытался покончить с моей карьерой.
Мне стало очень горько от этой встречи, потому что я всей душой вкладывался в PiL. Я сделал то, что считал правильным решением для Public Image, когда мы только начинали. Правильным решением для себя. Оно было удобно неудобным. В этот момент мы, возможно, находились на распутье, но это было все еще правильное решение, и я не собирался делать два шага назад, скатываясь в подобную ерунду. Это было бы в корне неверно. Поджатый между ног хвост.
Ответ, само собой, был: «Блядь, нет!»
Кто цензурирует цензоров? # 2
Лебединые времена
Меня беспокоит, что эта книга может стать слишком заурядной. Больше всего я боюсь, что скачусь в лекцию. Написанный текст – сухая вещь, без акцента на определенных словах в предложении. Я мыслю музыкально, я говорю музыкально и именно так формулирую слова песен. Если вы читаете их на листе бумаги, они не имеют такого же влияния, как произнесенные вместе с музыкой.
Я люблю ораторское искусство. В колледже Кингсуэй я полюбил посыл звука, научился по-настоящему читать и интонационно акцентировать значение слов. До того момента я стеснялся, и вдруг мне стало на самом деле интересно. Я с нетерпением ждал, когда надо будет встать и прочесть перед классом то, что я написал, или то, что мы изучали. Очень нервная вещь, но исключительно приятная, когда объясняешь правильно.
Самым моим увлекательным занятием всегда было чтение Шекспира с простонародным выговором. Язык напыщенной риторики становится реальным. «Истлевай, огарок! / Жизнь – ускользающая тень, фигляр[247] … Советуясь, во сколько штук гроздей![248]» Тогда это звучит так, как будто кто-то разговаривает в пабе, чего на самом деле и добивался Шекспир. Он не хотел, чтобы народ сбивался с толку. К тому времени, как Шекспиром завладели типы из Оксфорда и Кембриджа, они превратили его в нечто совсем иное.
То же самое относится и к классической музыке. Партии клавесина теперь играют на роялях, используя большие пальцы. А мне запомнились слова моего учителя музыки, который однажды сказал, что если вы хотите быть хоть сколь-нибудь точными в игре на фортепиано, то не должны использовать большие пальцы, потому что на клавесине большими пальцами не играли. На самом деле их просто было некуда поставить. Очень любопытно. Я усвоил этот урок больше, чем что-либо другое. Само исполнение было скучным. Но тезис и стоящая за ним теория всегда меня завораживали.
И точно так же с искусством. Я мог слушать, как народ рассказывает учителям о том, как они понимают замысел своей картины, и мне это казалось бесконечно увлекательнее, чем сидеть там и пытаться сделать сердитый мазок кистью на счет три. «Теперь все вместе. Кисти готовы? Гнев! Я хочу увидеть на листе гнев…»
Много лет спустя, когда я приехал в Кельн в Германии, там проходила художественная выставка, на которую меня захотели пригласить несколько местных немцев. Я пошел и обнаружил небольшую экспозицию картин Капитана Бифхарта. Всего несколько моментов, но я действительно понял гнев и подход Бифхарта к живописи. Это была просто фантастика – смотреть на реальные вещи, а не на обложки его музыкальных альбомов.
Ф-фух, как я хотел одну из тех школьных картин! Еще я хотел значок «Синего Питера» из одноименной детской телепередачи на «Би-би-си»[249]. Но мне никогда не хотелось получить автоматический карандаш «Крекерджек»[250]. Все хотели значок «Синего Питера», потому что это было здорово. Пусть он и был пластиковый, но с напечатанным красивым трехмачтовым кораблем. В то время пластик считался очень современным и потому невероятно восхитительным. Значок был похож на средневековый щит – крошечный, но производивший потрясающее впечатление. Белый с нарисованным на нем синим кораблем – именно его я тогда так желал заполучить.
К слову сказать, сама идея о том, каким должен или не должен быть голос певца, мне отвратительна. American Idol, «Икс-фактор» – эти телешоу подразумевают, что артисты будут исполнять все трели и рулады, которые требуют педагоги по вокалу, словно аксиому. Что за херня, чувак. Почему ты не можешь петь так, как ты ЧУВСТВУЕШЬ? На самом деле пение вовсе не обязательно должно быть, как это принято называть, музыкальным, пойте то, что вы чувствуете в данный момент, рассказывайте о чем-то. Понятие о мелодичности или немелодичности кажется мне странным. Когда я слушаю кого-то, я уверен, что исполнение не обязательно должно идеально попадать в тональность соль-бемоль минор, нет, оно просто должно быть точным. Акцент, характер, настоящая боль в звуках, которые они издают, и послание. Когда такие вещи присутствуют в пении, немелодичности не существует.
Вот где очень важно быть на одной волне, так сказать, гармонировать, так это, конечно, в морских круизах. Вот кого на самом деле разыскивают на American Idol! Певцов морских круизов! Боже мой, ха-ха-ха! Мне всегда нравилась эта история про The Cure[251], потому что ее солист, Роберт Смит, терпеть не может самолеты. Итак, группа села в Нью-Йорке на круизный лайнер «Королева Елизавета II», и ходили слухи – понятия не имею, насколько они соответствовали действительности, – что они там выступали. Я не знаю, правда это или нет, но мне нравится сама идея!
Я никогда не встречался с Робертом Смитом, не разговаривал с ним и не имел с ним ничего общего. Мы вообще незнакомы, и, как ни странно, мне это нравится. Каждый раз, когда я приближался к людям, чья музыка мне нравилась, я чаще всего обнаруживал, что они мне не нравятся. Посмотрите на диапазон музыки, которую я слушаю: это же почти все, верно? Мне нравится эмоциональный заряд, который я получаю от услышанного на пластинке. Даже когда я описываю это, я просто такой: «У-у-ууууууууу-ух!» У меня комок подступает к горлу, потому что я люблю музыку, люблю слушать, что создают люди, но мне не нравится, когда они думают, будто музыка должна быть жесткой и не допускающей отклонений, должна совпадать с определенной последовательностью и длительностью нот.
Я и в самом деле люблю огромное количество классической музыки. Безумно люблю Моцарта, однако не думаю, что его больше интересовала точность, чем эмоции. Он был, очевидно, гением и охуительным безумцем. Ну, мне кажется, что я реально безумно охуеваю, когда слышу Моцарта, особенно когда его играли в пабе в Северном Лондоне после похорон моего отца. Ух ты! Это был «Реквием» – дан-дан-нан, дан-даннн. И знаете, почему его играли? Не потому, что это замечательная мелодия, а потому, что она прозвучала в фильме «Барри Линдон»[252] – моя мать была Барри, мой отец Лайдон. Они там поставили слишком много «н» в его имени. Но… Забавно было видеть, как и те, кого вы бы назвали местными хулиганами и гангстерами, и ирландский контингент, целая огромная армия друзей, которую мы, семья и соседи, собрали за столько лет, слушали это, а не – что там тогда было популярно? No Doubt или In Doubt, в общем, что-то такое Doubt-Ful[253].
Гвен Стефани я тоже никогда не встречал. Я сейчас противоречу самому себе, но мне бы хотелось. Не знаю, все ли с ней хорошо. Этого никогда не узнаешь, и, к сожалению, в мире шоу-бизнеса люди склонны общаться с равными им по материальному достатку. На это есть свои причины, потому что никому бы не хотелось, чтобы на нем паразитировали, однако деньги диктуют, кто ваша компания, поэтому обычно даже рок-звезды рулят своей шайкой избранных. И общаются там на равных только с приятелями, которые, как и они, тоже выиграли «Грэмми». Вы наблюдаете это на премии из года в год. Бригада Тейлор Свифт, знаете ли.
Подожди секундочку. Дада-да-нана-нана – те-кии-лаааа! О, какое паршивое пойло. На днях кто-то купил мне бутылку этого напитка, и на мгновение я совершенно отвлекся. Ух. На самом деле это мескаль. Боже мой, почему бы им просто не дать мне мескалин и не покончить с этим?
Можно подумать, что после менингита и всех этих галлюцинаций человеку вроде меня и в голову не придет приблизиться к кислоте, но в свое время я находил ее вполне терпимой. Лет в пятнадцать-шестнадцать, когда я ходил по разным фестивалям и концертам, мне это очень даже нравилось. Все вокруг меня кричали: «О, она делает это, она делает то». Нет! Я думаю, что благодаря всему тому, что случилось со мной в детстве, я научился понимать, что в моем мозгу реально, а что нет. Я знаю, когда мой мозг со мной играет. Теперь я могу сказать: «Прекратить глупости!» Я намеренно цитирую здесь «Монти Пайтона»[254]. Я раньше регулярно смотрел все эти шоу и столькому научился из комедий. Норман Уиздом и его замечательная фраза – «Со мной все в порядке!».
В детстве на Бенуэлл-Роуд у нас стоял крошечный черно-белый телевизор. Я так привык к черно-белому, что потом долго не мог воспринимать цветной. Дома у нас никогда не было такого. Кажется, это я купил своей семье их первый цветной телек. Первый же цветной телевизор с пультом, «Сони», появился у меня, когда я переехал на Гюнтер-Гроув. К нему прилагался пульт, поскольку у него было всего три кнопки: «вкл/выкл», громкость и переключение каналов. Какая сложная наука для того времени! Беда в том, что я так и не удосужился приобрести настоящую антенну, поэтому использовал вместо нее вешалку для одежды – старый ирландский способ! Я вырос, думая, что телевизор всегда автоматически дает помехи, когда кто-то идет в туалет. Никогда не связывал это с тем, что сигнал прерывается, – я думал, что это имеет отношение к нажатию на кнопку слива.
Как я уже говорил, мне нравился «Доктор Кто», но только когда в нем появлялись да́леки[255]. Все остальное – сплошной идиотизм. «Это не настоящее!» Вот почему я не люблю научную фантастику; просто не думаю, что она отличается разнообразием. Хорошее исследование умов, но, по большому счету, все эти путешествия довольно утомительны, потому что в итоге все закончилось асексуальностью «Звездного пути». Еще один шаг в сторону от того, как на самом деле эволюционируют человеческие существа или как работают сообщества, и это не тот шаг, который стоит делать. Научная фантастика, похоже, этого не понимает. Кажется, что в ней обо всем рассказывается с точки зрения отшельнического путешествия одиночки, и поэтому, на мой взгляд, это очень субъективно. Вот как я смотрю на Азимова – он субъективен! Не в хорошую сторону. В нем нет понятия «мы».
В то же время Шекспир, который, как вы могли бы подумать, должен бы показаться мне странным, – не такой. Все дело в языке. Он использует слова и иногда их звучание, а не только смысл, который поэтому часто становится совершенно иным; вы просто следуете за ритмом поэтической строфы. И еще имеет значение произношение – слушая Шекспира, ты получаешь гораздо больше информации, чем следя за словами на листе бумаги.
Я люблю живого Шекспира, если это хорошая постановка. Много лет назад я видел, как Джеймс Эрл Джонс[256] играет в «Отелло» – фух, ух ты! Мне нравится, набравшись смелости, зайти с улицы в какой-нибудь маленький театр, чтобы увидеть нечто, судя по афише, производящее впечатление какой-то полной хрени. Типа экспериментального театра. Это будоражит; смущающая близость к актерам, а потом постепенное осознание того, через что они проходят, чтобы показать постановку. Я считаю это прекрасным развлечением, потому что именно так происходит на живых концертах. Так что я понимаю театр с этой точки зрения и слушаю, наверное, более внимательно, чем обычная аудитория.
Кошмар подобного рода постановок, в том числе и современного танца, заключается в том, что зрители часто подводят исполнителей. Однажды нас с Норой взяли посмотреть балет «Лебединое озеро», поставленный Кэролайн Кун, панк-журналисткой, – тогда она еще тусовалась с Полом Саймононом из The Clash. Пол очень приятный, он мне нравится, и в тот вечер мы вчетвером здорово повеселились. Кэролайн сказала: «Джон, ты так увлекся “Лебединым озером” – у тебя даже в “Death Disco” есть из него отрывки, так что тебе понравится!» Какое коварство с ее стороны.
Итак, мы с Норой собрались, сели в такси и вот стоим такие перед театром – возможно, мы даже не знали, куда идем. Черт возьми, нас привели на балет! Это было поразительно, но, скажу вам, мне очень быстро стало скучно. Я ничего не мог с собой поделать, бар манил меня гораздо больше. Когда вы смотрите балет по телевизору, как бы тоскливо это ни было, вы просто видите прыжки, вытянутые пальцы ног и все такое, и это относительно терпимо, но когда это происходит вживую, с настоящим оркестром, то оркестр едва слышно.
А вот сорок девушек, которые прыгают вверх-вниз на пуантах, звучат, как кованые сапоги на террасе. Похоже на вторжение армии хулиганов. Это реально громко; деревянный пол вибрирует и отражает эхо. Я подумал: «Фу, это чертовски неудобно!» И еще одна неприятная для зрителя штука: в танце много боли, и на это довольно трудно смотреть. Нора рассказывала мне разные истории. Ее сестра в молодости занималась балетом, но для профессиональной сцены оказалась недостаточно хороша, поскольку у нее было, скажем так, немного ширококостное телосложение. Позже она руководила в Германии балетной школой. Так вот, это очень печально. Когда я увидел ее ноги, увидел, как большой палец превратился в нечто очень, очень уродливое… И артрит, и боли на всю жизнь. Теперь, по крайней мере, я понимаю профессиональную этику.
Однако публика на таких мероприятиях обычно мерзкая и снобистская. Слишком модные и слишком увлеченные своими гребаными разговорами, они упускают суть.
Кстати, если говорить об упущенной сути, большинство панков были в этом чемпионами! Они увлеклись одеждой, а не содержимым. Совершенно определенно прошляпили главное, не так ли? Американская интерпретация, начиная с самых ранних опытов поэтического панка и до панка грубого и буйного – просто ужасна, оба этих направления казались мне слишком раздутыми и смешными. Я не хочу чрезмерного упрощения ни того, ни другого. Я хочу впитывать все, четко различая при этом хорошее и дурное. Не будьте чрезмерными ни в чем, это неправильно.
Послушайте, я понимаю, что виляю из стороны в сторону, но все это суть, до которой надо докопаться, и в конечном счете это абсолютно верный подход. Не могу же я делать все исключительно в хронологическом порядке.
Глава 8. Если вы параноик, это не значит, что за вами не следят
Название этой главы взято с плаката, который Поли Стайрин, вокалистка X-Ray Spex, дала мне, когда я жил на Гюнтер-Гроув. Ее иногда забирали и отправляли в сумасшедший дом. Она вырывалась и всегда бежала прямиком ко мне. Однажды вечером за ней даже пришли на Гюнтер, так что Стайрин купила мне этот плакат, потому что он был типа уместен. Обожаю двойное отрицание. Очевидно, многим позже Курт Кобейн превратил эту идею в стихи песни. Может быть, он увидел этот плакат на фотографии моей тогдашней гостиной[257].
Чувство, исходившее от Поли, было и впрямь просто очаровательным – чудесным, от сумасшедшей! С тобой все в порядке, Поли! Это дерьмосистема, в которую она попала, была не в порядке. Стайрин казалась мне почти гениальной, реально – песни, да и все в ней было обалденно! Возможно, внутренне она и была очень подавлена, но внешне Поли производила впечатление компанейского, веселого человека. Да, она была очень веселой, пока за ней не приезжали скорая помощь и полиция. А в то время у меня дома было полно растаманов. Дон Леттс[258] и кое-кто из его команды тоже зашли потусоваться, так что они реально запаниковали. Они решили, что это полицейский рейд. Нет-нет, ребята, всего лишь бригада из психушки.
Мать Джона Грея была сумасшедшей. Мне она нравилась, но он ее стеснялся. Я думаю, что это было неправильно, потому что люди такие, какие они есть, и я всегда считал немного сумасшедших очень интересными. Они кажутся мне блестящей компанией. Эти люди смотрят на жизнь слегка иначе. Пусть на них две левые туфли, но две левые туфли – вполне нормально, если это все, что у тебя есть. Меня всегда вдохновляли люди, которые смотрят на жизнь иначе, поэтому безумие для меня – это не то, от чего нужно бежать. Находиться в обществе сумасшедшего – очень увлекательно. Если бы я работал в психиатрической лечебнице, это была бы лучшая работа в моей жизни. Сложно сказать, был бы я пациентом или врачом. Иногда это одно и то же, понимаете? Мне очень понравилась песня Пита Хэммила «The Institute of Mental Health Burning»[259]. Да, он горит!
Однако жизнь на Гюнтер-Гроув начинала меня угнетать. Мне было скучно, да и поднадоело все. Я чувствовал себя пойманным в ловушку – в ловушку собственного дома. Который уже не казался мне домом. К тому времени он превратился в пристанище всех бродяг и отбросов Лондона. Очень неудобно. У меня не было иного способа отключиться, кроме как запирать дверь и периодически уходить куда подальше.
Мартин Аткинс, который присоединился к нам в самом конце записи Metal Box – кажется, он играл только на одном треке, а также был нашим концертным барабанщиком, – очень рано понял, что все это меня душит. И это не клаустрофобия. Я стал заложником ситуации, которую сам же и создал. Он сказал: «Послушай, я живу в очень скучной квартире на Кенсал-Райз, – или где-то в этом роде. – Почему бы тебе не остановиться у меня на пару ночей, просто чтобы освободить голову от постоянного напряга?» Но я отказался. Хотелось бы мне поступить иначе, но я сделал так. Я очень настороженно отнесся к этой идее по нескольким причинам.
Я не мог избавиться от чувства, что дом на Гюнтер-Гроув – это мое место. Как только я начал сознавать, что мое место стало представлять собой проблему, мне было очень трудно с этим смириться. А ведь было очевидно, что мой дом, равно как и люди, в нем живущие, – я имею в виду других участников группы, – большая, реальная проблема.
Мне нравилась идея, что все мы, пиловцы, живем под одной крышей. Я всегда говорил, что, когда мы делаем запись, все должны – все! – находиться вместе в совершенно абстрактной вселенной, без ваших регулярных поездок на работу. В итоге, однако, я оказался в тупике. И мне было не избежать дилемм. Все остальные могли отправляться куда угодно. Мне некуда было идти, потому что это – мой дом, это – я, прямо там. Это все, что мне принадлежало, и я очень гордился своим достижением. Но становилось все хуже.
Я почти никогда не видел Левина. Он запирался в подвале. И так могло продолжаться неделями. Однажды я почувствовал, что оттуда исходит очень неприятный запах. Я почти ожидал увидеть гнилую тушу, но оказалось, что это воняет мусорный бак, который он не вынес. Он никогда не утруждал себя подобными домашними делами. Все это было ниже его достоинства. Но я-то решил, что он мертв. Тревожный момент, я сильно переволновался, так что это вызвало большой скандал.
А еще там, в нижней части дома, под люком, пребывал Дэйв Кроу с таким же «проблемным образом жизни», давайте так это назовем. Может, там и привидения водились – Дэйв жил в той же комнате, где Джим Уокер спал на газете с лосиной головой на стене и без всякой мебели. Странные вещи там случались.
Когда Дэйв перестал присматривать за административной стороной, это создало еще более скверные ситуации. А поскольку где-то поблизости всегда порхала Джаннет Ли – мы знали ее как подружку Дона Леттса, хотя они уже расстались, – получилось типа: «Не могла бы ты немного помочь, мы реально периодически нуждаемся в администраторе». Какое-то, довольно короткое, время это работало, но потом она начала общаться с Китом, в итоге мы не видели эту пару целыми днями, и ничего толком не делалось.
Не знаю, можно ли когда-нибудь будет понять, в чем заключалась роль Джаннет. Уверен, что она и сама была бы озадачена этим вопросом. В этом-то и кроется радость и одновременно трудность пребывания в PiL – сложно сказать, в чем твоя конкретная роль, потому что у нас нет четко закрепленных задач. Кто бы ни оказался под рукой, он в любой момент должен быть способен справиться с любой ситуацией. Джаннет внесла в наши дела некоторую ясность. Мы не имели возможности заниматься бизнесом или какими-то чертовски скучными финансовыми встречами, потому что пытались писать песни и не могли справиться с остальным на должном уровне. Я там чуть с ума не сошел, пытаясь управлять офисом и заниматься текстами, это было просто невозможно. Отвечая в течение всего дня на телефонные звонки, ты не можешь думать ни о чем другом. Административная структура – антитеза творчеству. Она нужна для того, чтобы иметь возможность создавать, но нереально помимо творчества создавать еще и администрацию.
Отношения между Джаннет и Китом были темные, но по какой-то причине эти двое сильно сблизились. Кто знает? Джаннет выступала в качестве настоящего отвлекающего фактора на рабочем месте. Парни сходили по ней с ума! Некоторые из них работали с нами, например Дэйв Кроу, который безумно влюбился в Джаннет, но держал все при себе, ожидая, что она сама как-то об этом догадается. На какое-то время он погрузился в мир нелепых страданий. Кроме того, поблизости всегда ошивался Джо Страммер. Было очевидно, что многие парни приходили сюда, потому что она им нравилась. На самом деле так устроена жизнь: все постоянно гоняются за кем-то другим. Такова человеческая природа. Просто иногда, если ситуация с отношениями в рабочем коллективе становится слишком запутанной, ее надо как-то решать, иначе образуются всякие группировки и начинается развал.
Иметь дело с Китом и в лучшие времена было сущим кошмаром. Например, он настоял на том, чтобы быть на обложке Second Edition, но потом ему не понравилась фотография – вполне закономерно, они были похожи на искаженные зеркальные изображения, но до него не дошел прикол. В понимании искусства мы с ним были совсем не на одной волне. Ему не нравилось его любое образное изображение. Я понимаю это, но надо как-то двигаться дальше и преодолевать свое большое плохое «я», быть способным посмеяться над собственной глупостью.
Я придумал обложку для нашего концертного альбома Paris Au Printemps[260] и поместил на нее одну из своих собственных картин. Если взглянуть на нее, наверху я, старая козлина, а Кит и Джаннет внизу, как парочка пуделей. Все решили, что обложка получилась очень забавной, кроме Кита, который был глубоко возмущен своим карикатурным изображением. Хотя с чего бы, мне казалось, что картинка довольно хорошо отражает его характер.
Его героиновая проблема становилась все более реальной. В его поведении всегда присутствовал эгоизм, который только усугубился наркотиками. Был один конкретный эпизод, когда я попытался заставить его резко завязать, надеясь, что из него выйдет вся эта дрянь. С тех пор он затаил на меня обиду. Похоже, когда вы помогаете наркоману в подобных ситуациях, он винит не себя за то положение, в котором оказался, а вас. Конечно, это очень неприятно для «жертвы», которая сама себя до этого довела, то есть Кита, но и также невероятно тяжело для помощников, то есть для меня. А когда наркоман приходит в норму, он просто над тобой насмехается. Ох, все как обычно. Полагаю, с таким персонажем, как Кит, нельзя винить во всем наркотики. В любом случае он реально неприятный тип.
Мы делали все, что могли, – все мы, Джаннет, Дэйв, все, кто был в доме, – старались помочь ему, но особой радости ему это не доставило.
Мир за нашей входной дверью представлялся мне не более гостеприимным. Казалось, все знали, что я живу в этом доме. Меня все еще преследовали репортеры из таблоидов, это было ужасно. Возле Гюнтер-Гроув всегда ошивался кто-нибудь с фотоаппаратом. Время от времени я выходил, и болтал с ними, и в итоге со многими познакомился. Тогда все вроде как стало в порядке, потому что они типа такие: «Ты обычный парень, мы все это знаем и топить тебя не будем». И я смог продолжать вести свой образ жизни более-менее спокойно. Честная игра, потому что Гюнтер, конечно, был далеко не приютом монашек.
Совсем другое дело – фанаты. Они вырезали стихи на входной двери и расписывали все наружные стены. Большинство фанатов приезжало с континента. Вообще, фан-база менялась от местных панков до панков со всей Британии, а потом и вообще каких-нибудь детишек из Италии, которые требовали, чтобы их впустили. В какой-то момент это перешло все границы. Где-то за углом располагался небезызвестный «Секс» – теперь он назывался Seditionaries[261], – так что совершенно очевидно, что я оказался на панковской туристической тропе.
Вообще-то я все время пускал фанатов в дом. «Привет!» – «О, здравствуйте, входите!» Но это превратилось в настоящее безумие, потому что среди них появлялось все больше психов, прилипал и абсолютно невыносимых эгоистичных чудаков. Так уж случается. Вся непредубежденность в мире перестает работать в ту же секунду, когда появляется какой-нибудь злобный мудачок, готовый тебя убить. Ты впускаешь их, и они в мгновение ока и безо всякой на то причины становятся отвратительными. Мне было невероятно трудно это принять и терпеть. Попытка найти какой-то пассивный способ вышвырнуть их за дверь никогда не давалась легче, но на ошибках учишься.
Еще одним поводом для беспокойства на Гюнтер-Гроув стал конфликт, который завязался с Джоком Макдональдом, другом моего брата Джимми. У них была группа под названием 4» Be 2», которая шла путем, типичным для какой-нибудь банды фанатов «Арсенала». Тогда было много футбольных группировок, которые начали выпускать пластинки, – «Пистолзы» открыли много дверей.
Джимми и Джок всего лишь хотели, чтобы у них была группа, и в ней также были Рэмбо и Пол Янг. Я тоже начал принимать какое-то очень смутное участие, когда понял, что это все не дурная шутка. В какой-то момент они пытались воспринимать себя всерьез, тогда-то я и предложил любую посильную помощь со своей стороны. Даже мой отец в этом поучаствовал – ну, они использовали его имя, говоря: «Продюсер группы – Джон Лайдон». Мой отец заметил: «Ну, дык, это ж навроде как мое имечко было до тово, как ты начал его пользовать». – «Да, папа, это точно твое». В остальном я не имел ни малейшего представления о том, что они задумали. Просто знаю, что, когда к ним постучались из налоговой, это не моя вина.
Однако вскоре я оказался втянут в историю с Джоком и всяким его вздором, потому что он поссорился с Полом Янгом, который все еще жил на Гюнтере. Братья Джока были моими друзьями, и Джок приходил с ними, чтобы попытаться меня запугать, а они говорили: «Нет, Джок, сперва мы побьем тебя – Джон наш друг!» Подобного рода идиотизм.
Мой брат Джимми на год младше меня, и мы очень близки. Мы невероятно разные, и, может, именно это делает нас такими близкими. Я тихий, старший, ответственный. Но я еще и Джонни Роттен! Джимми – дерзкий парень, он неуемный комик, прямо настоящий стендапер. Во всем в жизни он находит повод для смеха. На самом деле, это наша общая черта, вероятно, наследство Лайдонов, хотя оба наших родителя были очень тихими. Возможно, мы просто росли, учась использовать слова, чтобы развлечь себя, потому что мама и папа почти не разговаривали. А потом мы свалили из семьи и периодически попадали в настоящий адок, и, хотя старший я, в любой неприятной ситуации, в которой мы оказывались, виноват был Джимми. Я говорю это не со зла. Всего лишь хочу сказать, что у Джимми талант находить, ну, как бы получше выразиться, катастрофы. Что он может с этим поделать. А старший брат всегда был где-то поблизости, что помочь из них выпутаться.
История с Дублином – отличный пример, просто классика: «Еще одна прелестная заварушка, в которую ты втянул меня, Стэнли!»[262] Я был там в октябре вместе с 4» Be 2» и их странствующей армией друзей и членов семьи, и все они отправились туда, чтобы хорошенько выпить и погулять.
Я заполучил на свою голову целую кучу неприятностей, когда мы с другом пошли после обеда спокойно выпить. Мы сидели в пабе под названием «Лошадь и трамвай» у реки рядом с нашим отелем. Я только купил выпивку, когда хозяин, похоже, на меня обиделся. Не думаю, что ему особо понравилось, как я выгляжу и как говорю. Наверное, я выделялся, как больной большой палец. Прозвучала пара слов, и кто-то выхватил у меня из рук пинту. Несколько местных жителей – по крайней мере один из них, как позже выяснилось, был местным полицейским не при исполнении – решили заняться делом и присоединиться. Они определенно хотели надо мной поиздеваться – подумали, что я какой-то английский идиот. Одно за другим, последовала небольшая потасовка. Раздались крики, и в ход пошли кулаки. Только не мои! Я уже как-то рассказывал, что напал лицом на кулаки двух полицейских. Это в значительной степени правда.
Я вернулся в отель, чтобы переодеться, и за мной последовал один из этих полицейских не при исполнении, который сразу же арестовал меня за нападение. Похоже, что они сперва хотели меня только припугнуть, поскольку выпустили в ожидании обвинений. Но потом все изменилось. Я отправился в город и встретил в Тринити-колледже 4» Be 2», а потом вернулся в отель, чтобы выпить, когда приехала полиция и забрала меня. В тот день по радио прошло музыкальное шоу с моим братом Джимми, а перед ним – концерт. Возможно, кто-то из представителей власти послушал радио и решил снова меня арестовать после того, как понял, кто я. Не знаю. Все это было фарсом.
На следующее утро я оказался в суде по обвинению «в нападении без отягчающих». Они отказали мне в освобождении под залог, несмотря на то что один из моих друзей, Джонни Бирн, предложил внести залог в размере 250 фунтов. Он также нанял мне адвоката. Джок Макдональд тоже помог. 250 фунтов тогда были большими деньгами – спасибо, Джонни, я не забыл, – но они наотрез отказались. И это несмотря на то, что как раз передо мной парень на скамье подсудимых отделался 50 фунтами залога за то, что ударил кого-то молотком на концерте 4» Be 2» прошлой ночью. Обвиняющая сторона пыталась заявить, что я назвал бармена «ирландской свиньей». Мой адвокат возразил им, что я ирландец и оба моих родителя родились в Ирландии. Дело отложили до понедельника, а меня отвезли в Маунтджой – печально известную тюрьму, полную террористов ИРА и УДА и всевозможных психопатов.
По прибытии надзиратели решили преподать мне урок. Они раздели меня, бросили во двор и облили из шланга. Но знаете, можно раздеть меня, покрыть блошиным порошком и посмеяться над размером моего члена, это не имеет значения. Это – не – имеет – значения. На протяжении многих лет я замечал, что, когда до тебя добираются эти учреждения, единственный способ, который они используют, чтобы тебя унизить, – сделать посмешище из твоей наготы и твоего пениса. Давайте я сразу вам скажу, что у Джонни идеальный пенис, над которым можно смеяться, и ему все равно. Это никогда не будет проблемой.
Там, внутри, был жесткий – реально очень жесткий и тяжелый – карательный режим. Я старался следовать распорядку, но они всячески препятствовали. Надзиратели будили меня всю ночь своими дубинками и заставляли стоять у кровати. Оглядываясь назад, понимаешь, что, когда попадаешь в руки властных институтов, тебе довольно быстро приходится научиться приспосабливаться, не выделяться из толпы себе подобных и сливаться с тенью. Что для меня, конечно, было невозможно. Так что игнорируйте мои советы и в конечном счете просто будьте собой. Как делал это я.
Тебе разрешили часок посмотреть телек, и кто, как не ваш покорный слуга, появился в новостях! Потом была программа об истории музыки, и вашего покорного слугу опять-таки там показывали, а все осужденные столпились вокруг и на меня смотрели. Какой позор! Мне хотелось заползти под бетон. Хотя заключенные вели себя вполне нормально.
Надзиратели не любили меня только за то, что я существую на этом свете, и это давало некоторую передышку моим сокамерникам. «Боже, посмотри, через что ему пришлось пройти». Многие заключенные ощущали, что, стоя рядом или болтая со мной, они попадали под пристальный взгляд надзирателей, которые пытались сделать мою жизнь наказанием. Но я такой: «Это лучшее, что вы можете предложить? Вы не заставите меня чувствовать себя неловко из-за того, что я – это я, мне все равно».
В понедельник я снова был в суде, где меня приговорили к трем месяцам тюремного заключения. К счастью, мой адвокат подал апелляцию, и на сей раз мне позволили внести залог. Я немедленно вернулся в Англию и уже на следующий день приступил к работе над альбомом Flowers of Romance.
Когда через несколько месяцев в Дублине наконец приступили к рассмотрению апелляции, я понял, что на кону моя карьера. Я обязан был вернуться. Наступил переломный и очень волнительный момент. Если бы я проиграл апелляцию, мой срок был бы удвоен до шести месяцев. Как вы можете себе представить, в то время я находился в состоянии сильнейшего стресса, но дело решилось буквально в течение десяти минут. Судья сразу же увидел противоречия в показаниях двух свидетелей. Они даже не потрудились явиться, по крайней мере, пока дело было открыто. Меня оправдали и отпустили на свободу, однако не ранее, чем я сделал пожертвование в размере 100 фунтов в «ящик для бедных», как меня о том попросили. Вот вам и ирландское правосудие.
Весь 1980 г. многие люди получали удовольствие от клаустрофобии Metal Box. Все здорово и прекрасно, но так и возникает проблема фанов, которые хотят слышать этот звук во всем, что вы делаете, отныне и навсегда. Если вам этого хочется, я совсем не подходящий парень. Мне это не нравится.
Теперь, когда ушел Уоббл, я полностью убрал бас и принялся исследовать барабанные звуки, используя коллекцию лупов[263]. В то время я был очень зол на подавленное настроение Кита Левена и на его очевидное нежелание приложить какие-либо усилия, чтобы помочь в проекте, что, конечно, было в значительной степени связано с его пристрастиями. Большую часть времени он проводил наверху, играя в видеоигры. Он только что купил модель «Космических захватчиков»[264], которая шла в маленькой черной треугольной коробке, и капитально к ней пристрастился. Его невозможно было от нее оторвать. На этом все – будь то утро, день или ночь, он просто таращился на эти точки, двигающиеся вверх и вниз по экрану. На мой взгляд, настоящее компульсивное поведение. Он не мог прерваться, все зашло слишком далеко.
Так что мне пришлось справляться самому, и я сделал барабанные лупы с Мартином Аткинсом[265]. Однако на Мартине уже лежали обязательства по американскому турне вместе со своей группой Brian Brain, так что мы с ним поработали совсем недолго. Как только он уехал, мне пришлось собрать из этих записей все, что можно, и сделать паттерны, на которые я потом наложил вокал. Я отлично провел время, занимаясь этим с Ником Лонаем, инженером-стажером и оператором пленки на студии «Таунхаус» в Шепердс-Буше. Он оказался единственным, кто был доступен поздно вечером, и хвала Господу за это счастливое совпадение.
Когда Кит, наконец, спустился, о боже, с каким высокомерным презрением он отнесся к готовому материалу. Кит немного поиграл, а потом снова исчез, так что я продолжил работать с Ником и с ним же закончил альбом. Мы собрали звук на базе барабанных лупов и вокала, а затем я начал добавлять фортепиано, бас и саксофон. Вот что мы должны были сделать, чтобы довести все до конца. Вряд ли я мог бы назвать себя саксофонистом, но вот он тут, на Flowers Of Romance. Даже нехватку или отсутствие каких-либо возможностей можно превратить в полезный инструмент.
Я играю почти все, что есть на альбоме. Кит присоединялся ко мне совсем ненадолго и вел себя как кислая киска. Для меня на тот момент это было предметом моей особой гордости, потому что впервые в музыке я сделал все сам. Свел треки абсолютно самостоятельно, без чьей-либо помощи. Я показал, что могу это сделать. Я инстинктивно использовал разные инструменты, пепельницы на пианино, и все эти штуки стреляли направо и налево.
Я буквально бурлил идеями, потому что был свободен! Перспектива провести полгода в Маунтджое – суровая реальность. И если бы обвинения были доказаны, я оказался бы там. И, смею заметить, ложные обвинения. Вся эта травма определенно нашла отражение в музыке.
Есть на альбоме песня под названием «Francis Massacre»[266], на которую особенно повлияла эта ситуация. Речь идет о записках, которые присылали мне заключенные из части тюрьмы с усиленным режимом, в надежде, что я смогу передать их людям на волю. Но это оказалось невозможно, так как меня предупредили, что обыщут, поэтому я вынужден был смыть их в сортир. Я не хотел рисковать. Одна записка была от парня по имени Фрэнсис Моран, о котором я и написал песню: «Сиди всю жизнь, Маунтджой – это весело». Песня была вдохновлена сочетанием всех этих событий.
«Francis Massacre», на мой взгляд, напрямую связана с «The Cowboy Song» со стороны B сингла «Public Image», в том смысле, что это еще один нойзовый набор всяких воплей и трещащих и клацающих звуков. И по сей день проигрыш этих вещей меня освежает, потому что я хорошо помню ситуации, в которые оказался тогда вовлечен, и для меня это стало лучшим их воплощением – кричащая тоска и какофония скрежета.
«Flowers Of Romance» – песня, которая представляет собой другую крайность. Я любил эту песню так же сильно, как люблю «Sun», вещь, которую я сделал более или менее самостоятельно для своего сольного альбома Psycho’s Path[267]. Это мои гимны, они написаны в беззаботном поп-формате, но, на мой взгляд, вписываются в тот же контекст, что и, скажем, «Life’s A Gas»[268] T. Rex, которая навсегда останется для меня путеводной звездой. Это мои версии гимнов фестивальной музыки, и все это восходит к одному живому концерту The Who, на котором я присутствовал, – концерту на крикетном стадионе «Овал» в 1971 г., когда на разогреве выступали The Faces[269] и Mott the Hoople. В перерыве между живыми выступлениями диджей Эйнсли Данбар – я любил его вещи, он был отличным диджеем – поставил «Life’s A Gas». Собравшаяся аудитория считала себя хардовыми рокерами, типа большое фи всему, что делал T. Rex, которого они называли продажным поп-трэшем, но песня их проняла. Потрясающе было слышать это через акустическую систему! Это просто открытая, счастливая вещь, как и мои «Flowers». Некоторые люди находят в них темноту. Ну, в музыкальном плане я кто-то вроде цыгана, мне нужно путешествовать.
«Four Enclosed Walls»[270] передают энергетику мусульманского призыва к молитве. В моей лирике я попытался отразить понимание того, что корни тех поступков, в которых обвиняются эти современные мученики за мусульманское дело, уходят в действия христианских крестоносцев. Столетия назад крестоносцы вторглись в их страну с религиозной чепухой, чтобы обосновать настоящую причину – грязные гребаные разрушения и воровство. Так что это долгий, непрерывный процесс. Вот как далеко восходит терроризм и вот как крестовые походы могли привести к столь трагическому завершению. Строки: «Я внимаю, / На Западе восстает, / Новый крестовый поход»[271] – против любой религии, потому что, хвала Аллаху, Он пришел бы в ужас от того, что делают с его посланием современные последователи. Послушайте, Аллах мой друг, и Иисус тоже. Серьезно, я не откажусь от своих слов, потому что это то, что религии вроде как изначально предлагали всем, – мир дружбы. Этот мир незаконно превратили в мир войн и жестокостей, и, как то происходит во всех религиозных войнах, стремление к уничтожению взаимно.
Мой голос на этой пластинке обладал удивительно глухим звуком, который доносился из каменных комнат «Таунхауса» и Манора. Звук мог быть очень четким, особенно с барабанами. Я всегда высоко ценил барабанный звук Led Zeppelin, поэтому, когда дело дошло до «Flowers», это было просто ура-ура, что получилось перебраться в этот район. Помню, я где-то читал, что «Зеппелины» записывали все отдельно, а Джон Бонэм играл на барабанах в своем каменном коттедже. Фантастика. Иногда сочинение песни не обязательно происходит в одной комнате в одно и то же время или даже на одном континенте.
Наверное, в тот момент я мог бы взять и разогнать группу, но я подумал: «Все в порядке, я вполне терпимо отношусь ко всему этому, потому что только что вырвался из тюрьмы!» Моя энергетика буквально била ключом. Мне кажется, пластинка получилась отличная. Она и по сей день приводит меня в трепет, когда я ее ставлю. Как ярко и свежо это звучало. Ничего подобного не было записано таким способом.
На обложке альбома мы представили Джаннет как участницу группы и поместили лучшее ее изображение. Она похожа на девушку, устроившую дерзкую вечеринку в Испании, с розой в зубах. Что-то из серии «англичане за границей».
Как группа, однако, мы не смогли поехать в тур, чтобы поддержать пластинку, которая все-таки вышла весной 1981 г. «Проблемно-концертная» сторона существования PiL зашла в Англии в окончательный тупик. Поэтому мы начали подумывать о том, чтобы играть где-нибудь подальше отсюда, просто чтобы уйти от смехотворных промоутеров, не желавших поддерживать нас из опасений беспорядков. Мы чувствовали себя так, словно нас вырезали, списали как ненужных. Поэтому, чтобы выжить, мы должны были мыслить нестандартно и держать PiL как этакую мобильную артиллерию.
Мы также пытались развить идею PiL как зонтичной организации, занимающейся разнообразной мультимедийной деятельностью, но всякий раз, когда мы упоминали об этом публично, это вызывало море негодования. Мы с Китом рассказывали об этом в паре телевизионных интервью в Нью-Йорке во время наших американских гастролей предыдущим летом – с Майклом Роузом, а затем с Томом Снайдером[272]. Эти люди реально доставили нам немало проблем. Мы говорили о том, что существуем за пределами системы чартов, в мире творчества, который не должен пресмыкаться ни перед одной корпорацией или организацией, и что нам наплевать на то, что мы не получим «Грэмми». Интервью с Томом Снайдером получилось особенно холодным.
Много лет спустя у меня появился шанс снова встретиться в эфире с Томом Снайдером. Мы чертовски хорошо поговорили, как во время самого интервью, так и после. Я назвал бы его настоящим другом. Он мне очень нравился. Том начал присылать мне все свои старые интервью и прочее, а также несколько чудны́х музыкальных вещей, а потом спустя пару лет он умер. Как ужасно, у нас были планы сделать что-то с Томом. До него реально «дошла» идея с зонтиком. Когда разговариваешь с такими ребятами, как он, понимаешь, что возраст не имеет значения, главное – идеи. Иногда нужно иметь ужасно много терпения, пока ситуация для тебя не изменится. Но когда ты молод, у тебя нет таких возможностей.
Понимание Китом расширения нашего «корпоративного» духа было типично эгоистичным: его сестра увлеклась вязанием, и Кит хотел притащить ее под «зонтик PiL» в качестве создателя линии вязаных джемперов. «О-о-о, БОЖЕ! Просто нет!»
Я имею в виду, что все мы были недовольны ценами, которые Вивьен Вествуд назначала на свои мохеровые джемперы во времена «Секса». Они были великолепны, каждый хотел приобрести себе один из них, но в финансовом плане большинству людей они были недоступны. Моя мама однажды связала мне такой, но без дырок. «Знаешь, мам, его я не смогу надеть даже на Аляске, как-то жарковато будет», – он реально выглядел очень плотным. Она сказала: «Да те дырки – глупость, кому нужон джомпер с дырками?» – «Мне, мам!»
Но все равно: «Нет, Кит, мы не собираемся открывать вязальный отдел…» Вот так-то и прокрадывается кумовство, все начинается с попытки втянуть в дело семью. Это никогда не работает, потому что приводит к самым разнообразным проблемам. Я не могу представить нас в роли людей, которые пытаются сделать дешевую имитацию того, что кто-то уже делает. Нет ничего страшного в том, что мама связала мне свитер, но я отнюдь не собираюсь открывать коммерческую линию. И это было абсолютно в духе Кита. Он постоянно выступал с подобными дурацкими идеями. Все, конечно, здорово, но в конце концов ты уже начинаешь думать: «О боже, только не снова. Не мог – бы – ты – просто – помолчать!»
Рейды на Гюнтер-Гроув реально дошли до абсурда. Весной 1981-го их случилось три за три недели, каждую пятницу, и это было уже слишком. Полицейские переворачивали все вверх дном, высаживали входную дверь, разносили дом в пух и прах, а потом такие: «Хорошо, спасибо!» – и уходили. Или по той или иной причине тащили меня с собой в участок, а потом отпускали. Они могли задержать меня в пижаме, босиком. И, конечно же, не возвращали домой. Естественно, будучи не одетым, я не имел при себе денег, поэтому мне приходилось идти обратно к себе домой по Фулхэм-Роуд босиком, в пижаме и красном халате. Многие думали, что, разгуливая по улице в пижаме, я копирую Джонни Фингерса, клавишника группы Боба Гелдофа[273]. Очень неловко. Кто-то даже крикнул мне как-то: «Эй, Фингерс!» Какое позорище!
Я возвращался домой, и, разумеется, моя входная дверь оказывалась сорванной с петель. Дело дошло до того, что мне пришлось оставить у двери молоток и новый набор шурупов, защелок и гвоздей, приготовленных к следующему рейду. В наше время в полиции существует отдел жалоб, куда можно позвонить, и они позаботятся о причиненных вам повреждениях. Тогда же приходилось раскошеливаться самому. К счастью, со мной все еще жил Пол Янг. Он работал плотником на стройках, поэтому каждый раз ставил входную дверь на место.
В качестве единственного объяснения подобных вторжений назывались рейды по борьбе с наркотиками. Подозрение в незаконной деятельности. Какие у вас доказательства? «Флаг ИРА на окне, которое выходит во двор». – «Э-э, вообще-то это итальянский флаг». Мне его подарили соседи – те, что просили не играть регги слишком громко после полуночи, – потому что на том окне не было занавески. «Мы видим то, что ты делаешь, а мы этого не хотим!» В наши дни, несомненно, они бы уже стояли там с камерами на изготовку. Жизнь тогда была другой, люди старались помогать друг другу, так что к тебе выказывали уважение. Поэтому ты, конечно, говорил в ответ: «Ой, извините, я больше не буду громко ставить музыку в 3 часа ночи». Или, как в данном случае: «Да, я повешу ваш флаг, чтобы вы не видели мою попку». Меня это вполне устраивало. Сложно найти соседей, которые бы жаловались на меня, потому что я забочусь о них, а они обо мне. Для меня это очень важная часть жизни.
К сожалению, у полиции ко мне было совсем иное отношение. Дошло до того, что я начал их узнавать. Их лица примелькались мне возле пабов, в которых я бывал. Они там, вероятно, находились под прикрытием – не знаю, может быть, ожидали, что произойдет сделка с оружием или наркотиками. О, да ради бога. Скажем так: в те дни полиция имела злобные намерения и подозрительное отношение ко всем, кто хоть как-то выходил за рамки нормы, тем самым становясь легкой мишенью, человеком, не защищенным тогдашним якобы обществом – кем я совершенно определенно и являлся, по крайней мере, по мнению скандальных газет.
Самый последний рейд а-ля Джонни Фингерс случился на самом деле в понедельник утром, но он был хуже всех. Лай разъяренных немецких овчарок и все такое. И знаете, что они мне предъявили? Когда выломали входную дверь, я спустился вниз, размахивая одним из старинных мечей, и бросился на вломившихся ко мне людей. Я не заметил их униформы. Однако это было расценено как нападение на полицейского. Настоящее кидалово. В наши дни законы несколько изменились и теперь больше защищают домовладельца, как тому и следовало бы быть. По-моему, что бы вы ни делали за своей дверью, это ваше личное дело. Полностью. Я никогда не смогу принять или оправдать подобные набеги. Никогда.
Наступило раннее утро понедельника, рассвет, мы стояли там абсолютно измученные, усталые, но у нас в доме не было ничего компрометирующего, за исключением чайника, полного травы, который они так и не нашли, что было странно, потому что они даже пнули динамик, который стоял позади него. Они так и не допетрили! Вероятно, во многом это было связано с нашим котом Сатаной. Сатана прыгал вокруг, испуганный всем этим лаем, и одна из собак бросилась на него, опрокинув чайник, но так этого и не заметила, потому что смотрела только на котейку. Как странно: они даже не знают, как правильно работать! Бедный старичок Сатана так испугался собак, что убежал и больше не вернулся.
Внимание полиции было слишком пристальным, оно подавляло. Это означало, к примеру, что я не мог просто отправиться в Финсбери-парк потусоваться с друзьями, потому что полицейские бы всюду за мной следовали. Они бы заявились туда, заставляя всех чувствовать себя неловко, и я был бы виноват в том, что привел их в родной район. Это полностью разрушало все мои социальные связи, и ради чего? Не представляю, сколько денег угробили на организацию полицейских рейдов. Ведь это не дешево? Плюс огромное количество потраченного впустую времени, и все это по причине того, что у меня был штраф в 40 фунтов за хранение сульфата амфетамина.
Это выглядело как откровенное запугивание, мне явно намекали, что они пытаются выгнать меня из страны. Три рейда подряд и еще парочка до того. Стало очевидным, что полиции наскучило этим заниматься. Они ясно дали понять, что всего лишь выполняют приказ: «Не принимай это на свой счет, Джон». Мы называли друг друга по именам – как я уже сказал, двое полицейских, которые ко мне заявились, следили за мной, когда я ходил по пабам в Ноттинг-Хилле. Кит Бертон, который в то время работал в Virgin, а через несколько лет стал моим менеджером, узнал полицию сразу, как только я зашел в паб рядом с офисом лейбла. «О боже, смотри, и здесь твои тени!» – заметил он.
Казалось просто бесполезным оставаться в столь небезопасном окружении. В средствах массовой информации не было никого, кто мог бы поддержать меня, спасти или объявить это несправедливым или необоснованным задержанием. Бульварная пресса хотела сообщать обо мне только плохие вещи – пришло время валить.
Примерно тогда же Кит первым отправился в Нью-Йорк. Все это было связано с концепцией, что мы станем «зонтиком идей». Ну, возможно, этот зонтик и оказался рыболовной сетью. Оглядываясь назад, я понимаю, что Кит совершенно очевидно следовал по тому же пути, что и Сид, – доступность героина в Нью-Йорке в то время была общеизвестна. Как бы то ни было, Кит вроде бы отправился туда, чтобы хорошенько провести время, и едва он только там оказался, как узнал о новой системе камер и экранов, установленных в ночном клубе под названием «Ритц». В итоге мы все отправились туда, чтобы с этим поработать, и больше не вернулись. Мы прожили там в общей сложности около трех лет.
Месяцы, предшествовавшие моему отъезду из Лондона в Нью-Йорк, показались мне почти праздником. Я пытался собраться с мыслями и обдумать следующий шаг. С этой целью я связался с Рэмбо и намеревался у него пожить. Он сказал: «Гюнтер-Гроув тебя убивает. Мои родители в отъезде, я побуду в их доме, так что приезжай, и ты сможешь собраться с мыслями». Он хотел помочь мне во всем разобраться, потому что понимал, какое давление я тогда испытывал, так что мы намеревались вместе повеселиться. В тот день мы с несколькими ребятами поехали на поезде в Маргит, чтобы оттянуться. По дороге домой мы купили ящики с выпивкой и собирались пировать до следующей недели. В первый же вечер раздался телефонный звонок. Я до сих пор не знаю, как они узнали номер Рэмбо, и не знаю, кто перевел туда звонок – вероятно, кто-то в доме на Гюнтере. Звонившим оказался Кит, и он так и подпрыгивал на том конце провода: «Приезжай в Нью-Йорк, у нас есть шанс сделать прямую трансляцию выступления в “Ритце”». Я ответил: «Я сейчас у Рэмбо, не могу заказать билет». – «Не волнуйся, билет ждет тебя в аэропорту». Так что я подвел Джона, поскольку мы собирались повеселиться вместе, и на следующее же утро уехал.
Напомню, мы по-прежнему нигде не могли добиться концерта, но люди в этом месте, в «Ритце», собирались поставить нас на две ночи, как некий живой музыкальный видеоряд. Идея состояла в том, чтобы в прямом эфире спроецировать несколько видео на один большой экран. Это была интересная концепция, которая, как мне казалось, имела огромный потенциал, особенно учитывая, что Джаннет постоянно носила камеру в футляре для скрипки, а мы все только и мечтали: «Фильм, фильм, фильм!» Мы понимали, насколько важна была съемка для «Пистолз» и как на самом деле мало оказалось отснято реальных событий. Мы хотели, чтобы все было запечатлено, но также пытались мыслить нестандартно, когда дело доходило до живых выступлений группы – вроде как мы не только играем в обычном формате, но и создаем иные ситуации. Множество разных вещей, происходящих одновременно. Подлинная широта взглядов и непринужденность, и… Бинго! Начался настоящий дебош, массовые беспорядки. Или нет. Это не были массовые беспорядки, это было фиаско, но довольно приятное.
Идея состояла в том, что мы встанем за огромным экраном и будет включена запись. Мы должны были производить какой-то шум поверх играющей пластинки, да еще с живыми барабанами, чтобы усилить звук. Мы заполучили барабанщика из музыкального магазина, довольно пожилого парня по имени Сэм Улано, всего такого в духе джаза. Его музыкой был Фрэнк Синатра. Мы могли выбрать любую пластинку, чтобы поставить ее на тот проигрыватель, но я настоял на Flowers of Romance. Я знал, что это будет бесконечно раздражать Кита из-за его пренебрежительного и отстраненного отношения во время записи. «В этой группе ты получаешь по заслугам, приятель. Что, не знаешь гитарных партий? Это потому, что их там нет – равно как и тебя тогда, ты играл наверху в “Космических захватчиков”. Вот тебе запись, и давай-ка разберись с нею!»
Итак, на проигрывателе завели пластинку, Кит со своей гитарой издавал протяжно-взрывно-рокочущие звуки, причем намеренно неуклюже, а старичок играл на ударных, что вполне соответствовало общей картине: вокруг все с камерами, которые двигаются вокруг нас, и это проецируется на стоящий перед нами экран. Мы находимся на сцене, поэтому люди видят экран, а не нас – экран с множеством различных изображений каждого из нас одновременно, разделенный экран, множество экранов, любая комбинация камер, которую только можно себе представить.
За микшерным пультом, куда попадали кадры со всех камер, сидел очень забавный американец по имени Эд Карабальо. Он преобразовывал все эти изображения в прямом эфире и проецировал их на экран, с периодическим показом зрителей и чего-то в этом роде. Поскольку я стоял за ширмой и видел картинку в зеркальном отражении и вблизи – а зрение у меня не очень хорошее, – все это выглядело для меня, как обложка альбома Tangerine Dream[274].
А потом… о боже! – игла проигрывателя слетела с дорожки пластинки, потому что люди, облокотившись на переднюю часть сцены, тянули брезентовый коврик, на котором мы стояли, и толкали проигрыватель. Передний ряд локтей – мощная сила – почти как вода, сметающая плотину. Вслед за этим рывком пластинка начала скрипеть и перескакивать с одной песни на другую. И вдруг: «Фуууу-у-у! Это не живой концерт! Мошенничество!»
Не успел я сойти с самолета, как уже практически оказался на этом выступлении – я и понятия не имел, что оно было объявлено по радио как настоящее живое шоу. Я соглашался совсем на другое. Я бы вообще здесь не появился, если бы знал, что это какая-то несусветная чушь, замаскированная под концерт. Я думал, это будет типа «ура-ура», за ящик пива и просто поржать. Но на какое-то мгновение мне показалось, что нас сейчас убьют. Люди швырялись бутылками, обычная потасовка.
Ничего такого, к чему бы я не привык. Может быть, я немного раззадорил публику – я Джонни, это мое дело. «Глупая уебищная публика!» – сказал я им. Это был момент, когда дошло до настоящих воплей и свиста. Это инстинктивная реакция. Если они чувствовали себя обманутыми, то и я чувствовал себя обманутым вместе с ними. И здесь, как ни странно, мы возвращаемся к вопросу: «Вы когда-нибудь чувствовали себя обманутыми?» – прозвучавшему на последнем концерте Sex Pistols в Сан-Франциско.
В этот момент пришлось взять себя в руки и агрессивно объяснить публике, что это совсем не то, что им преподнесли в рекламе. Но в то же время: «Постойте, это же увлекательно – это стоит ваших денег». Это совсем другое! Это эксперимент, нацеленный в будущее, и теперь, если взглянуть на выступление любой современной поп-группы, у них там везде стоят эти огромные проекционные экраны, не говоря уже о вертушках. Именно эту идею мы и пробивали. Я не говорю, что мы изобрели проекционный экран, но мы придумали эту штуку с разрезом[275].
Охрана офигела, и люди прорвались в гримерку. Единственным человеком, который очень быстро свалил, оказался Кит. Он просто всех кинул, бросил ту самую задумку, которой так гордился, и вдруг снова воцарились улыбки. Джаннет была в тот вечер очень веселой, она тоже тусовалась поблизости. Люди говорили: «Это самый прекрасный дебош, в котором мы когда-либо участвовали!»
Я полагаю, что легкомысленный подход ко всему этому оказался полезен. «Почему бы вам всем не пойти в бар и не выпить с нами?» Они ответили: «Это очень хорошая идея», – и так и сделали. Потом персонал попытался закрыть ночной клуб пораньше, потому что они объявили, что не хотят повторения предыдущей катастрофы. Они закрыли бар около половины двенадцатого, в час. А потом отменили следующее вечернее шоу из-за так называемых массовых беспорядков.
Так что этот якобы скандал на самом деле был довольно забавным. Экраны и камеры практически не пострадали. Полицейские смеялись, они даже присели за стойку и выпили пива с Джонни Роттеном. Они такие: «Эй, ты тот парень, Джон? Ты дикий и сумасшедший, наверное, очень обидно, что это был всего лишь какой-то пиздобунт, pussy riot!» Возможно, я все-таки был предшественником той женской группы из России.
Великое заблуждение и иллюзия Нью-Йорка, касающаяся всеобщей доступности разного рода химических наркотических веществ, вовсе не были причиной, по которой я хотел там находиться. Я хотел жить в Нью-Йорке, потому что это дешевле, и мы имели реальную возможность устраивать концерты. Это вроде бы казалось легко осуществимым, и мы могли зарабатывать деньги.
Какое-то время после фиаско с «Ритцем» мы останавливались в маленьких дешевых отелях. Мы делили между собой две комнаты, но вскоре начали снимать за небольшие деньги мансарду. Квартира находилась на Западной 19-й улице, между 10-й и 11-й, почти точно напротив ночного клуба/роликовой дискотеки «Рокси». Это, конечно, не Средний Манхэттен, и даже не Нижний. Это был невзрачный район, более известный благодаря мясокомбинату – вокруг нас постоянно маячили контейнеровозы, которые круглосуточно ввозили и вывозили мясные туши. Прямо за углом находился бар под названием «У Моран», где подавали потрясающие дешевые фаршированные моллюски и настоящий импортный «Гиннесс» из Ирландии. Вкусный. Здесь была даже женская тюрьма, которая располагалась позади лофта. Летом женщины кричали нам из окон камер. Многочисленные стоянки для грузовиков поблизости были местом встреч геев. Реальное такое местечко.
Это был грязный, дешевый, индустриальный район, полный невероятно убогих ночных клубов для геев, которые не имели ничего общего с тем, что мы знали в Англии. Завсегдатаями таких заведений были бородатые, худосочные мужчины средних лет, готовые снять штаны и отсосать прямо за грузовиками, – просто грязь, настоящие мерзость и разложение в чистом виде.
В доме под нашей мансардой была мясная лавка, в которой варили кузова лимузинов, бог знает почему – в Нью-Йорке не задают вопросов. Я знал только, что работают они явно не на правительство. Стоял невероятный шум, но это тоже оказалось нам на руку, поскольку им точно было наплевать на шум, который мы производили наверху.
Сам лофт был потрясающим: он занимал площадь около 760 квадратных метров, с одной убогой маленькой спальней – моей – и одной громадной спальней, располагавшейся в задней части мансадры, даже не спальней, а, скорее, офисным помещением, которое я уступил Киту и Джаннет. Я взял себе маленькую каморку между большой спальней и кухней, потому что всегда хотел быть рядом с едой. Когда через пару месяцев приехал Мартин Аткинс, он занял переднюю комнату, которая на самом деле была не передней комнатой, а сценой. Должно быть, здесь некогда проводили тусовки, потому что рядом находилось небольшое помещение, где раньше стоял микшерный пульт.
Это место прекрасно подходило, чтобы создать жилое пространство в духе Public Image. Но мы так и не дошли до этого. Я хотел поставить здесь диджейскую будку и микшерный пульт, чтобы превратить лофт не только в то место, где мы спали по ночам, но и в нечто вроде репетиционной базы и площадки для проведения живых концертов. Не-е-ет. Кита невозможно было уговорить хоть чем-то заняться. Я не видел его целыми днями, а Джаннет постоянно твердила: «О, ты не можешь сейчас с ним разговаривать, пусть он придет в себя». У-ууу! Она жутко потакала этому дураку. Что довольно удивительно, потому что сама Джаннет была девушкой жесткой. Джаннет сводила мужчин с ума. Настоящая красотка, и все-таки связалась с этим идиотом – абсолютно бессмысленная связь.
Под нашим домом находился гараж, и идея заключалась в том, что прямо оттуда мы могли бы отправляться во все окрестные штаты и играть во многих ночных клубах и театрах. В конце концов нам это удалось, но потребовалось некоторое время, чтобы «освоиться». Когда мы все-таки занялись концертами, приходилось колесить туда и обратно, но мне это нравилось, потому что напоминало о ранних «Пистолзах», когда мы ездили на концерты по Лондону или отправлялись в туры на север. Проблема заключалась в том, что теперь мы все возвращались в одно и то же место. С «Пистолз» мы, по крайней мере, расходились после по своим лачугам. Теперь у нас была одна лачуга на всех.
И все-таки здесь оказалось очень здорово. Я представлял себе, что не буду так часто попадать в тюрьму и смогу делать все, что захочу. Я не имел никакого отношения к нью-йоркской сцене, и реально, все мы чертовски хорошо знали, что PiL никак в нее не впишется. Поэтому, что бы мы ни задумали, это должно было происходить за пределами города. Так оно и случилось. Люди, которые приходили и хотели с нами пообщаться, были сумасшедшими художниками, делающими сказочно, глупо, занимательно иные вещи. Нью-Йорк полон подобной движухи, это очень неоднородный город. В нем столько всего происходит. По крайней мере, так было тогда.
Джаннет больше всего хотела начать поскорее что-нибудь снимать, а поскольку она была очень в этом заинтересована, мы были заинтересованы в ней. Мы надеялись, что вся эта история получит продолжение, но этого так не произошло. После перформанса в «Ритце» ничего особенного не случилось. Виноваты в этом мы все – мы отнеслись к пребыванию в Нью-Йорке как к отпуску и начали заниматься каждый своими делами, а не общими проектами, и не было особого смысла снимать подобные моменты, которые казались не столь уж и значительными.
Джаннет обладала очень открытым характером: она могла подружиться с кем угодно в любое время, ей присущи были врожденные способности, которые помогали ей стать важным участником нью-йоркской клубной сцены. Она перезнакомилась со всеми швейцарами, бог знает как. Мы ходили в клубы благодаря тому, что Джаннет участвовала там в различных мероприятиях. Меня не слишком привлекала музыкальная сцена танцевальных клубов Нью-Йорка – она не произвела особого впечатления. Тогда набирал обороты хип-хоп, и существовали радиостанции, которые играли нью-йоркский хип-хоп нон-стоп, но я никогда по-настоящему им не увлекался. Мне казалось, что все это немного однообразно, с отвратительными звуками синтезаторов, которые напомнили мне Crazy Horses группы The Osmonds[276]. Этот ужасный синтезаторный звук.
С другой стороны, в Америке было более ста телевизионных каналов, в то время как в Британии все еще только три или четыре. Как, черт возьми, это возможно? И если вы что-то пропустили, это повторялось позже на другом канале. Я смотрел их, проводя своего рода исследование. Я полностью погрузился в Америку, в американскую телевизионную культуру. Даже телевизионные рекламные каналы, которые пытались сбагрить покупателям какой-нибудь кусок старого пластика, показались мне по-настоящему захватывающими. Хороший урок, как заставить дурака расстаться с деньгами! Я нашел их фантастическими, меня реально шокировало, что люди могут так этим увлечься и быть настолько отчаянными, чтобы купить чудо-швабру за 21 доллар – швабру, которая светится в темноте. Зачем ты убираешь кухню в темноте? Послушай, у тебя есть как минимум 21 доллар, который можно потратить на оплату счета за электричество.
Америка ушла далеко вперед. Все в Нью-Йорке начиналось поздно вечером. Это казалось нам, приехавшим в то время из Англии, удивительным, поскольку все реально работало круглосуточно. Единственный европейский город, с которым можно было сравнить Нью-Йорк, – это Берлин.
В тех редких случаях, когда я возвращался в Англию, я уже прямо по дороге из аэропорта замечал, насколько низкие тут дома. Здесь не было небоскребов, и все это казалось жалким по сравнению с манхэттенским горизонтом. Шокирующе. Я прекрасно понимал, что мог бы начать восклицать в типично американском духе: «О, здесь все вокруг такое необычно старомодное!», – но я наконец-то осознал, что американцы подразумевают под словом «старомодный». Мы использовали бы в этом случае слова «старье» или «развалина». Но все равно я любил то место, где родился, потому что без него я никогда не стал бы собой.
Уже находясь в Нью-Йорке, я столкнулся с этаким напоминанием о ранней лондонской жизни, когда в мае-июне 1981 г. The Clash приехали играть в Bond’s на Таймс-сквер, чтобы получить вид на жительство. Они последовали за мной на Ямайку, а теперь эти ублюдки прикатили по моим стопам в Нью-Йорк! Я пытаюсь решить проблемы с PiL, а тут еще эти заявились. Не помню, сколько вечеров они там играли – что-то около семнадцати? – и, по-видимому, заполняли зал каждый вечер. Принимая во внимание тот факт, что их песни не имели никакого содержания, и они, похоже, не выступали за что-то иное, кроме абстрактного социализма, им как-то удалось с этим справиться. Значит, хороший все-таки менеджер Берни.
Я сходил на концерт два вечера подряд и мог бы бывать там каждый день, если бы захотел, но, боже, с моей точки зрения, это слишком плохой театр – оба раза шоу было абсолютно одинаковым. Как группе, им оказалось нечего предложить публике с точки зрения развития характера. Джо просто подбегал к микрофону и вопил: «Аааа-а-а-а!» – в той же остервенело-придушенной манере, в которой он делал это концерт за концертом. Обычная группа из паба – с таким же успехом они могли бы быть Eddie & the Hot Rods. И все же к нему устремились толпы людей. Что бы я ни делал в этом мире, я не для масс, я абсолютно не для них.
Казалось бы, если у тебя нет четкой идеологии, кроме какого-то расплывчатого социализма, тебя ждут проблемы, потому что публика решит, что с тобой нелегко иметь дело. Однако с The Clash дело было иметь легко, они вообще не предлагали слишком много. Они никогда не заставляли людей думать о себе и своем образе жизни. На самом деле они давали публике возможность почувствовать себя комфортно. Вот в чем загвоздка. А бедный старик Джонни Роттен никогда не заставит никого из вас чувствовать себя комфортно.
На нью-йоркской музыкальной сцене было полно кокаина – повсюду и в любое время. Вы не могли избежать его, куда бы ни пошли. В обычном местном испанском ресторане можно было приобрести все что угодно. В этом смысле Нью-Йорк был очень доступен. По-видимому, бо́льшая часть рынка кокаина контролировалась мафией, что делало криминальную составляющую в некотором смысле более организованной и не столь заметной. Это привело к популярности эксцессивной модели поведения, и опять же кокаин не является наркотиком для творчества. Нисколько. Мне прием кокаина давал тридцать секунд сильного беспокойства, а затем следовало три часа насморка – пока не вдохнешь следующую дорожку. Затем беспокойство удваивалось, и на столько же увеличивался «отходняк», и так далее, и так далее, пока внезапно не обнаруживалось, что ты употребляешь так много, что уже не можешь восстановиться, и ты в состоянии сильнейшей ломки. Это было далеко не мое любимое занятие, но должен признать, что я убил по крайней мере целый год на это дело.
Кокаин как бы лишает нас способности к творчеству. Он заставляет чувствовать себя виноватым, в то время как героин, очевидно, – ну, я узнал это, наблюдая за своими друзьями, сидевшими на героине, – убивает чувство вины. Кокаин же на самом деле усиливает его, заставляет вас чувствовать себя плохо. Это не развлекательный наркотик. Это, блядь, самая большая глупость в мире. Если только вы не живете в Андах и вам не нужно что-то, что придаст энергии, чтобы двигаться дальше, я не могу найти для него применения. Давайте просто скажем, что, как и с большинством вещей, которыми я когда-либо баловался, я завязал с ним до самой гребаной смерти. Я поместил кокаин на ту же полку, что и Southern Comfort, – где стоит кое-что, к чему я больше никогда не прикоснусь. Я могу время от времени быть существом чрезмерной глупости. Я хорошо знаю о предупреждающих знаках и все равно погружаюсь в это с головой и переусердствую. Мне, как правило, не хватает тонкости. Может быть, став старше, я и догоню эту идею, идею быть тонким.
С другой стороны, героин – это настоящий убийца, а я предпочел бы иметь дело с вещами, которые меня чертовски волнуют, чем позволить ему усыпить меня ложным чувством безопасности, а затем заставить отчаянно хотеть следующей дозы. Этого никогда не случится.
Вокруг нас разворачивалось множество дурных наркотических историй, что рождало бессмысленную, бесполезную, тупиковую активность. Она была сосредоточена не столько на творчестве, сколько на стремлении к удовлетворению собственных эгоистических потребностей. Для меня всегда существовали наркотики, всевозможных форм и размеров, но у меня была склонность к энергетическим стимуляторам. Я был не из тех, кто принимает «спокойные» наркотики.
Конечно, я знал о пристрастии Кита еще до того, как предложил ему присоединиться к группе. Я относился к этому абсолютно непредвзято, но когда замечаешь, что синдром отмены регулярно мешает творчеству, это в определенный момент должно прекратиться. Ты надеешься, что люди смогут осознать это сами, и мягко пытаешься ввести их в такое состояние ума, когда они поймут, что навязывают свою невероятно эгоистичную привычку всем остальным, ожидая, что мы… что? – будем сидеть и ждать, пока они очнутся от этого ленивого эскапизма.
Люди, которым трудно со мной работать, говорят, что у меня очень ленивая манера поведения. Я делаю это, когда подзаряжаю свои батареи, но в целом я не выношу ленивых педерастов. Ты должен думать, должен использовать свой мозг, потому что у тебя только одна жизнь, чтобы ее жить, – это моя постоянная движущая сила. Мой мозг не останавливается. Пейзаж из мира снов, вот мы и вернулись к этому. Очень похоже на то, когда тело останавливается, а мозг – нет. Это все неотъемлемая часть того, кто я есть.
Самым близким к тому, о чем я говорю, был живой концерт Робина Уильямса, покойного великого американского комика, на котором я побывал в Нью-Йорке примерно в это время. Концерт шел нон-стоп в свободной форме, и это было очень смешно. Совершенно уморительно. Я не хотел идти, я был один, но в кассе оказался билет, и я подумал, а почему бы нет. Я ненавидел «Морк и Минди»[277], но я дал Робину Уильямсу шанс, и он оказался фантастически живым. Многое из его манеры свободно формулировать шутки и беспорядочно перескакивать от одной ситуации к другой, а потом тем или иным способом сделать так, что все это в конце концов обретает смысл, очень напоминало мой образ мышления, то, как я сам себя понимаю.
На такие вещи я был бы готов сходить посмотреть. Например, на множество офф-бродвейских постановок. С кем было очень приятно общаться, так это с Кеном Локки[278], когда он приезжал к нам погостить. Он постоянно околачивался где-то на периферии PiL, но мне не очень-то хотелось брать его в группу. Я никогда не видел в Кене настоящего «пиловца» – слишком уж он спокоен. В нем не было этакой энергичной динамики. Кен – очень образованный музыкант. Он разбирается во всех нотах и форматах, но для меня это не самый полезный навык. Кен был довольно уважаемым музыкантом и другом Кита, но как только Кен перебрался в нашу квартиру, он перестал нравиться Киту, и поэтому в итоге тусовался с ним я.
Одной из самых безумных вещей, на которые он меня водил, был фильм Райнера Вернера Фассбиндера, который в то время был, что называется, в тренде. Мы отправились в кинотеатр в Верхнем Вест-Сайде, и оказалось, что речь в фильме шла о гомосексуальной сцене Берлина. История жизни одного человека, школьного учителя, и там рассказывалось про сцены секса в парках и туалетах. Очень на-гляд-но! Знаете такую фразу: «Я не знал, куда глаза девать?» Неправильно! Это просто типа открыло мне глаза. Я знавал многих геев, но нам с Кеном было очень трудно сидеть и смотреть на это. Мы не обсуждали фильм, после того как вышли из кинотеатра, это было так странно. Потом, пару недель спустя, мы вместе оказались на какой-то многолюдной вечеринке, кто-то что-то сказал, и я поймал взгляд Кена, и мы оба расхохотались. Все хорошо, что хорошо кончается.
Я как-то пригласил к себе на две недели своего друга Джона Грея – он хотел отдохнуть. У меня было полно пива. И угадайте, какой диск мы достали, чтобы посмотреть? «Агирре, гнев Божий» и другой безумный художественный фильм Вернера Херцога о гребном пароходе «Фицкарра́льдо»! Ух-ты, что за странный вечер! Это может свести с ума, если только у тебя в голове нет хорошего местечка для поглощения такого рода человеконенавистничества. Все эти рутинные детали, которые показывает Херцог, – он оскорбляет свою аудиторию. Но не совсем, ты закончишь просмотр, а в голове что-то, да останется. Полагаю, на самом деле это изучение темперамента.
Я и не подозревал, что мир искусства и кино скоро снова позовет меня и я предстану перед камерами.
Обнимаю и целую, детка # 2
Несмотря на вполне очевидное радостное возбуждение от переезда в Нью-Йорк, все это разбило мне сердце. Когда я принял решение переехать, Нора в этом не участвовала, но мысленно мы никогда не расставались. У меня были обязательства перед группой, и получилось так, что нам пришлось сорваться и бежать в Америку. Но со всеми этими событиями я никогда не забывал ее. На самом деле, я не мог встречаться ни с кем другим. Я не хотел, и мне было ужасно даже думать об этом. Нора – лучшая женщина, которую я встречал в своей жизни, и я хотел, чтобы это было навсегда.
Нью-Йорк предлагал всевозможные соблазны, и «нет» было моим ответом на каждый из них. Абсолютно никакого интереса. Мне было все равно, что люди считали меня чудаком. Я знал, чему хочу посвятить себя, и понимал, это того стоило.
Я очень, очень преданный. Я уцепился за эту штуку и хотел, чтобы она сработала. Я никогда бы не ощущал себя комфортно, будучи беспечным плейбоем. Не выношу легкомысленных связей на одну ночь. На следующий день я буду чувствовать себя ужасно, настолько оно все бессмысленно, и зачем, черт возьми, это вообще было?
Я всегда ищу более глубокие привязанности, отношения и связи. На самом деле мне нравится изучать людей вокруг себя, пытаться понять, что заставляет их сердца биться, и любить их за это, бородавки и все такое. Это для меня гораздо более приятный процесс, чем бездумная и бесполезная игра в пинг-понг. Ты ничему не учишься, ничего от этого не получаешь, и прежде чем до тебя это доходит, ты обнаруживаешь, что остался совершенно одиноким придурком.
Надо научиться отдавать, ведь главное, почему отношения работают, – это момент отдачи. И отдавать гораздо лучше, чем получать. Ну, это мой опыт. Покажите мне счастливого мультимиллионера. Все эти ситуации относительны. Любая человеческая деятельность – это осознание всей человеческой деятельности. Если ты просто занят сбором трофеев, что ж, на самом деле ты ничего не добился. Ноль. Мусор, засоряющий унитаз.
Я не хочу никого унижать или звучать так, будто я негативно отношусь к свободе поступать так, как вы того хотите; с некоторыми людьми это вполне работает, и это их образ жизни. Но это не то, что подходит мне. Разговоры, болтовня, теплота эмоциональной близости – гораздо важнее, чем случайный бесплатный секс.
Нора казалась мне очаровательной во всех отношениях, фантастической, не похожей ни на кого вокруг. В ее образе не было ничего от этой хипповской цветочной чепухи или всякого хлама из «Бибы»[279]. Нора напрямую связана с фильмами-нуар 1940-х гг. и пыталась найти себя в этом сдержанном, но сексуально привлекательном образе, подальше от мира шлепанцев и длинных платьев с цветочным принтом.
Норе нравилось показать коленки в юбке-карандаше. В моем раннем детстве именно так выглядели правильные девчонки-скинхеды. Когда Нора надевала юбки с цветочными принтами, они были выше колен – и вот она девчонка, «беззаботно порхающая по летним лужайкам». Знаете, все эти штуки, которые делали ее непохожей на типичную «жертву моды», но в то же время невероятно хорошо продуманные. Идеальная одежда. Шмотки имеют большое значение, но незначительным образом. Как только вы поймете, что делать с одеждой, вам больше не нужно об этом думать, вы действуете естественно и одеваетесь по случаю. Если жарко, зачем надевать кожаную куртку с шипами и называть себя панком! В этот момент ты уже не панк, а придурок. Случаются ситуации, когда надо носить одежду в соответствии с погодой и своим местонахождением. Это называется способностью к адаптации. Но я отвлекся. Извините, так работает мой мозг.
Да, это говорю я, любитель бандажных штанов и костюмов Кенни Макдональда, тот, взглянув на которого, я полагаю, вы бы сразу подумали: «Это не сработает». Но мысленно это работало, причем на всех уровнях, а всякие подозрительные персонажи, которые называли себя типа членами группы, друзьями и партнерами, не совсем это понимали. Между мной и Норой проскочила искра. Я не знаю, как объяснить эту искру, когда харизма склоняется к чему-то невероятно привлекательному. Ничто не может остановить это, ни за что, и это мое виденье любви.
Удивительно, как вообще люди могут желать разрушить отношения, столь глубоко основанные на истине. Мы не лжем друг другу, в этом вся прелесть; мы наслаждаемся правдой. На самом деле я никогда и ни с кем не мог всем этим поделиться. В музыке – может быть, но не таким глубоко физическим, личным образом. Это необъяснимо, и я полагаю, это действительно причина понимания, которое в конце концов к тебе приходит: ты родился. Это ощущается правильным, все будто встало на свое место.
Длительная разлука была очень трудной, но в то же время Нора чертовски хорошо знала, что может мне доверять. Когда Нора наконец приехала навестить меня в Нью-Йорке, в лофте царил полный раздрай. С Китом невозможно было общаться, а Джаннет казалась до странного безразличной. Это было ужасно. Я пытался как-то поддерживать все в рабочем состоянии. Я понял, что Нора значила для меня больше, что Public Image значил для меня больше, чем дурацкие капризы Кита.
Нора помогла мне выбраться из этой ловушки. Я осознал, что окружение, в котором я оказался, меня слегка подзаебало. Время от времени те, кто действительно заботится о тебе, должны как-то тебя подстегивать. Я понял, как сильно разбила мое сердце разлука. В то время я полагал, будто слишком молод для постоянных отношений, но теперь я был уверен, что это именно то, что мне нужно на самом деле.
Необходимо было пройти через это, найти себя, выйти за пределы обыденности. Знаете, если бы я не пытался, так сказать, найти счастья в другом месте, не заигрывал и не засматривался на других девчонок, прежде чем встретить Нору, я бы не чувствовал себя так потрясающе от перспективы стать на сто процентов полностью преданным ей, кем я сейчас и являюсь – буквально во всем. Мне просто потребовалось много времени, чтобы осознать это и взять на себя обязательства, а «моя детка» ждала меня.
И как только я взял на себя эти обязательства, я взял их навсегда. Вот такие мы с Норой есть и такими были. Все получилось замечательно. Я не могу представить себе жизнь без нее, совсем не могу, и не имеет значения, что ей говорят обо мне. И вот мы здесь и всегда будем.
Глава 9. Нет ничего лучше перемен
Будучи членом британского профсоюза музыкантов, солистом и исполнителем, я автоматически становлюсь и актером. Типа ты значишься где-то в списке, этаком пуле комедиантов, ожидающих приема на работу, и пребываешь в блаженном неведении. Некоторые агентства, которые мы использовали для продвижения туров, имели также отделы, занимавшиеся деятельностью в сфере кино, и, вероятно, какие-то идеи могли получить распространение по этим каналам. Конечно, это было не то, за чем мы гонялись, но как гром среди ясного неба мне пришло предложение сняться в малобюджетном итальянском фильме в качестве антагониста молодого Харви Кейтеля. Фильм был основан на романе Хью Флитвуда «Орден смерти»[280]. Вообще, получилось много путаницы, поскольку фильм вышел в прокат в разных странах под разными названиями – «Убийца полицейских» (Copkiller) в Европе, «Коррумпированный» (Corrupt) в Штатах и «Орден смерти» в Великобритании[281] – так я его всегда и называл.
Это была прекрасная возможность ворваться во что-то новое, восхитительное, захватывающее и очень опасное. Абсолютно неизведанная территория! Я был, само собой, в ужасе, потому что это актерская игра, а я понятия не имел, как это делается, не считая проб на «Квадрофению», которые так и не принесли мне роль. Так что это был просто классический пример из серии «О боже, в какую яму я себя загнал». Вокруг не было никого, на кого я мог бы опереться, кто мог бы меня ободрить. В тот период у меня вообще не было поддержки, и единственная причина, по которой я пошел на этот шаг и в итоге добился своего, заключалась в том, что в группе ничего не происходило. Совершенно.
Решение принять участие в фильме оказалось не таким уж трудным. Чего не сказать о получении соответствующих виз. После подписания контракта, но еще до начала съемок, я вылетел в Рим, чтобы встретиться с продюсерами. Попытка вернуться в Америку стала кошмаром. В аэропорту меня остановили на иммиграционном контроле, а в моем чемодане лежал контракт, который уже был подписан в Нью-Йорке. Поэтому у меня отсутствовало правильно оформленное разрешение на работу. Очень сложная ситуация, в которой было довольно трудно разобраться, однако в итоге из всего этого получилось нечто действительно хорошее, потому что парочка людей, работавших над получением моих иммиграционных виз, Боб Тулипан[282] и Морин Бейкер, стала моими хорошими друзьями.
Морин Бейкер – суперзвезда. За эти годы она сделала много интересных вещей; она также фотографировала нас, когда мы были в Нью-Йорке, но долгое время помогала артистам получать разрешения на работу в других странах. Она, например, делала все визы для Кировского балета[283]. Очаровательно, не правда ли? Интересная вселенная. В мире так много великих людей, которые делают столько разных вещей, и если вы не обладаете умом, свободным от предрассудков и предубеждений, то не поймете, как это может помочь вам улучшить себя и свои собственные дела. Это вовсе не означает, что я собираюсь бросить все и стать балетным танцором. Я просто очень впечатлен ее мотивами, и это, в свою очередь, меня вдохновляет.
Итак, где-то между маем и июлем 1982 г. я взял в группе тайм-аут и уехал в Италию. Съемки проходили между Римом и Нью-Йорком. За всеми этими занятиями я замечательно провел время и отлично поладил с большим количеством вовлеченных в съемочный процесс людей. Мне довелось работать с Харви Кейтелем, он мне очень нравится. Но не только он: на съемках также присутствовал автор сценария и книги, Хью Флитвуд. Ну и, конечно, режиссер, Роберто Фаэнца.
Наблюдать за тем, как они работают, чтобы собрать все воедино, было захватывающе. Особенно мне понравился Рим – встречи и обсуждение плана съемок на следующий день, жена режиссера, готовившая пасту в итальянском стиле. Настоящая Италия! А также ссоры, в которые постоянно ввязываются итальянцы, и автор книги, переводивший то, что кричали мне эти люди, – фантастика! Жена Роберто – я думал, что это его жена, вполне возможно, что так оно и было, они жили вместе, – она была одним из продюсеров и еще готовила, но какие случались у этой парочки скандалы! Изучение сценария фактически было отодвинуто на задний план. И вопросы типа: «Не могли бы вы, пожалуйста, обрисовать, каким, по вашему мнению, должен быть мой характер?», – не имели никакого значения! Личная неприязнь была в порядке вещей. Люблю я итальянцев – они готовы взорваться в любой момент.
Ну, а посреди всего этого я должен был играть сумасшедшего персонажа, Лео Смита, избалованного богатого сопляка, предоставленного самому себе. Подразумевалось, что он одинок, но происходит из богатой семьи, и здесь вроде как была заложена идея, что это в конечном счете может подействовать развращающе. В какой-то степени это было мне созвучно – но не совсем. Очевидно, образование научило его тому, что он превосходит других, и в этом заключалась суть моего подхода, так я пытался заставить все это работать. На самом деле я не получал никакой помощи, но все в порядке. Лучшим советом Харви мне было: «Просто сделай это! И отнесись ко всему серьезно, как только включат камеру!» Спасибо, ну прям фантастика. И вот я такой, изо всех сил пытаюсь вспомнить диалог, что для меня было самым сложным. Мне очень тяжело выучить диалог, потому что для меня в нем нет личного смысла, он не исходит из глубины души. Многие актеры говорили мне об этом: если у тебя сильная личность, ты понимаешь, что это почти невозможно сделать. Ты должен быть чистым листом.
В фильме явно подразумевалась смена ролей персонажей, такая же штука, как в «Представлении»[284], например: «Кто на самом деле доминирует, а кто манипулирует? Типичная ситуация с альфа-самцом: кто реально здесь командует?» Мне казалось, что в «Представлении» Мик Джаггер был потрясающим, особенно из-за той песни, которую он исполнял, блюзовой песни на гитаре – «Memo From Turner». По крайней мере, ему было за что ухватиться, а мне – нет. И на задворках моего сознания вертелась одна мысль: только бы не кончить, как Дэйв Боуи! Он такой чурбан в кино.
Как оказалось, у меня недостаточно актерского опыта, чтобы знать, как изобразить персонажа. Я не мог смотреть в глаза другим актерам и произносить реплики, потому что в ту же секунду, когда я ловил чей-то взгляд, диалог мгновенно исчезал из моей памяти. Это было так: «Ха-а-арв-и, а что я теперь делаю?»
Конечно, я был жутко напуган Харви. Да ладно, как тут не быть? Что за охуительно классный актер. Но опять-таки я был на него типа немного зол, потому что тот слишком серьезно относился к своей роли. Если мы вместе шли куда-нибудь поужинать, он все еще был в образе. Играя полицейского, он искал свой пистолет в кобуре. Эти вещи значили для него больше, чем просто весело провести время. Я как-то сказал ему на одном ужине: «Давай повеселимся!» Он повернулся и спросил: «Что такое веселье?» Серьезно! «Ух ты, черт возьми!» Впервые в жизни я лишился дара речи.
Похоже, Харви знал обо мне не слишком много или, по крайней мере, не подавал виду, что знает. Потом, после того как в сентябре мы закончили снимать фильм, он пришел на концерт в зал «Роузленд» в Нью-Йорке, чтобы посмотреть, как я выступаю с PiL, и типа: «О боже, я и не подозревал, что ты такое выдаешь! Ух ты!» Какого бы персонажа он ни видел во мне, пока мы снимали фильм, он не знал, что делает мистер Роттен, когда выходит на сцену, как я могу войти в раж, как реально умею завести толпу… Я выплескиваю всего себя на сцене, и, возможно, я не показал этого на съемках фильма. Жаль, Харви мог бы научить меня, как использовать такую энергию в актерской игре. После фильма мы с ним несколько раз встречались, мы прекрасно ладим друг с другом.
Я был шокирован тем, какие хорошие отзывы я получил за «Орден смерти». Популярный в то время на телевидении «Би-би-си» кинокритик Барри Норман сказал что-то вроде: «Пока все неплохо, но надо подождать его следующего фильма, чтобы понять, действительно ли он хороший актер, или он всего лишь играл самого себя». Я совершенно определенно не был собой!
Я осознал, что нахожусь за пределами своей зоны комфорта, но не сказать, что это было особо интересно. Мне не нравилось постоянное давление. Я могу понять напряженность подготовки к выступлению – после этого ты выходишь на сцену и работаешь, и это полтора часа облегчения. В кино же надо пятнадцать часов ждать, чтобы отработать одну минуту, плюс пара дополнительных дублей с разных ракурсов. Это так запутывает мозг. Что, черт возьми, я должен здесь воспроизводить? К тому времени, когда снимается уже третий ракурс с затылка, наступает момент, когда ты реально понимаешь свою роль, поэтому лучшее, что тебе удается достичь в фильме – все то напряжение, гнев, тоску и развитие характера, которые когда-либо были возможны, – оказывается запечатлено на пленке с затылка. Они живут в другой вселенной, и я никак не могу с ней свыкнуться.
Я не мог смириться с тем, что фильм, в том виде, в каком его увидят в кинотеатрах, не поддается моему контролю. То, что выбросят на пол в монтажной, может оказаться моими лучшими кадрами. Это пугает. Я знаю себя – я не могу работать в той обстановке, где у меня нет права голоса при создании окончательного продукта. Я должен быть вовлечен во все это на всех стадиях производства, и то, что предопределено интерпретациями других людей, для меня не работает. Я не считаю себя одним из инструментов. Я не инструмент! Актеры могут возвеличивать себя и получать награды, «Оскары», что угодно, но на самом деле они не более важны, чем модели на модном показе – имеет значение одежда, которую те пытаются продать. Вот и все, что ты есть: своего рода вешалка.
Так что я закрыл двери в мир актерства, но потом пришла целая куча предложений. Боже, если бы вы знали, что я отказался от «Зубастиков»[285], дешевой и отвратительной подделки «Гремлинов»[286]. Я был очень доволен – кризис предотвращен! Как я бы смог играть в таком фильме – сражаться с этими инопланетными меховыми шариками!
Было много других предложений, но, скажем так, актерская сторона меня истощилась. Я был настроен негативно и не видел потенциала в очень многих предложениях, которые мне поступали. Мне не следовало этого делать. Это была ошибка. За эти годы я совершил много подобных ошибок. Я представлял себя в главной романтической роли, возможно, что-нибудь в стиле Кэри Гранта. Вот что я говорил агентам, и… э-э-эх, дверь закрылась!
А теперь вот что – ура-ура – мой отъезд на съемки фильма вдохновил Кита выйти из депрессии. Он реально придумал несколько отличных идей для мелодий и песен для фильма. Одна из них, «The Order Of Death», в которой много работы Кита, оказалась настолько хороша, что была нами предложена в качестве вероятной темы для фильма.
Наконец-то мы доказали, что хотя теперь работаем в разных областях, это все равно PiL и все вернулось к единому центру. Мы снабдили продюсеров еще бо́льшим количеством музыки, но они очень опасались, что Джонни Роттен и его группа перетянут на себя фильм, если это зайдет слишком далеко, поэтому в итоге так и не воспользовались ни одним из наших материалов. Это был фильм с хорошо известным Харви Кейтелем, и они не хотели, чтобы такой выскочка, как я, играл ведущую роль в его создании. Вместо этого продюсеры пригласили сделать саундтрек Эннио Морриконе, который в то время не пользовался большим признанием. Люди думали, что он просто пишет какие-то трешовые шумы для итальянских ковбойских фильмов – над его музыкой смеялись, она вызывала ухмылку! – но вот прошло несколько десятилетий, и его считают кем-то вроде гения.
В любом случае – ура! – зверь проснулся. Кит снова вернулся к работе, и это был краткий всплеск действительно хорошей и интересной энергии. Им руководила ревность: он думал, что, отправившись сниматься в итальянском фильме, я стану слишком большим для истории с «зонтиком PiL», и поэтому чувствовал, что вроде как теряет контроль. Кто знает, возможно, он решил, будто я их просто кинул, что уж точно совершенно не в моем духе. Но мне знакома эта неуверенность, потому что я сам был в таком положении, когда меня бросила моя группа. Я могу понять, но все равно не понимаю. Я считал, что мы близкие друзья, и Киту следовало быть более открытым. Справедливости ради скажу, что этим все и ограничилось.
О, и тут прям обхохочешься: когда я снимался в Риме, туда вместе со своей подругой приехала потусоваться на пару дней Джаннет – они внезапно нарисовались на горизонте. Это было здорово, потому что она ловила на лету всю эту штуку с PiL. Представилась прекрасная возможность снять то, что происходит на съемочной площадке, но она забыла взять с собой камеру. Или, кто знает, возможно, Джаннет и правда брала ее, а мы забыли отсмотреть то, что она наснимала. Думаю, последнее ближе к истине.
Я хочу, чтобы люди поняли, что с Джаннет у нас всегда были только рабочие отношения. Я не сторонник случайных связей, это далеко не мой путь. Оглядываясь назад, я думаю, что мы с Джаннет очень хорошо работали вместе, и она всегда оказывалась где-то посредине, пытаясь спасти мою дружбу с Китом, однако все это было безнадежно. На самом деле я даже не могу вспомнить, чем закончились наши с ней отношения. Что-то связанное с ее ссорой с Китом. Между мной и Джаннет совершенно точно не было больших проблем; некоторое время после всего этого она даже приходила на концерты. А потом все просто как-то прекратилось.
Обиды Кита были так нелепо глубоки и так бессмысленны, что возникало впечатление, будто все и всегда тогда вращалось вокруг его проблемы с наркотиками. Как я уже говорил, возможно, в его крови скопилось слишком много химии. Если ему было плохо из-за того, что он не мог получить дозу, страдали мы все. Сколько это можно было выносить? Я готов терпеть все что угодно и от кого угодно, если это люди творческие, но, когда творчество иссякает, терпения не хватает. Для меня зависимость – это великая форма глупости. Отсутствие самодисциплины и контроля. Никогда не следует впадать в такое состояние.
Я не хочу, чтобы кто-нибудь подумал, будто я лицемерю. Я сам далеко не ангел, но никогда не был зависимым. Суть в том, что ты должен быть главным, иначе какой в этом смысл? Ты должен быть главным.
В ноябре 1982 г. Кит женился в Нью-Йорке – брак продлился всего две недели, а потом он приполз обратно в лофт, один. Это было безумно, странно, нелепо – ситуация, которую я никогда не понимал, хотя и был их шафером. Ее звали Лори Монтана, и она была басисткой в группе под названием Pulsallama. Там Кит ее и встретил. Она была прелестной маленькой девочкой, абсолютно невинной и непредубежденной. Этакая цыпочка-хиппи. Очень странно, для него. Типа: «О, она очистила меня, все будет замечательно!» Что же, все очень скоро прекратилось. Игра окончена.
Все это время, несмотря на весь абсурд ситуации, у меня в голове крутилась одна мысль: у этого парня есть нечто невероятное, с чем можно работать. Но, начиная с определенного момента, Кит отказался хоть как-то реализовывать свои возможности. Не знаю уж почему. Я думаю, он сомневался в себе, но я-то в нем ни разу не усомнился. Однако эта информация, казалось, никогда не проникала к нему в душу, он не понимал моей поддержки.
Когда же я попытался поговорить с Китом, у меня сложилось впечатление, что он считает меня паразитом, живущим за счет его гения. Это так и сквозило в его короткой резкой ухмылке. Какой-то абсурд: прятаться в своей комнате и в итоге тратить студийное время и наши деньги на его идеи, при том что его идеи исключали меня. В такие моменты, когда на тебя наконец-то снисходит озарение, бывает больно.
Я не собирался отказываться от PiL. Не собирался позволять таким, как Кит и/или любой участник группы, сбежать и объявить, будто это их собственность. Не хочу показаться смешным – но это как в случае с Тедом Тернером. Я понимаю, чем была «Си-эн-эн», когда он начинал, понимаю его гнев на то, чем она стала, и неистовую ярость, когда его выгнали из правления компании. Это большая трагедия – «Си-эн-эн» теперь превратилась в полный фарс. Я не мог допустить, чтобы такое случилось с PiL, «моим творением».
Однако я подумывал о том, чтобы сделать сольную пластинку. Благодаря своему другу, Роджеру Триллингу, я очень увлекся экспериментальной сценой, которая возникла вокруг лейбла ECM. Они выпускали большое количество сольных пластинок виолончелистов, типа: «Бом, дзынь, бзды-ы-ынь» – много протяжных, медленных, мелодичных мотивов, некоторые из которых были совершенно бессмысленны. Мне нравилось ставить эти вещи в лофте и позволять им звучать где-то на заднем плане, пока я занимался обычными повседневными делами. Я обнаружил, что гораздо удобнее использовать такие пластинки по назначению, а не садиться и слушать их с умным видом, чтобы в итоге понять: «Черт возьми, да этот парень просто елозит по полу на своей заднице».
Это навело меня на мысль, что мне нужно выпустить сольную вещь в подобном стиле. Авангард? О да! Но, само собой, немного иначе. Я был потрясен их наглостью – помню, как спорил с музыковедами на подобного рода концертах, они мне еще доказывали: «Нет, этот человек сорок лет учился в Королевской филармонии». И что он в итоге придумал: «Бом!» – а почему бы и нет? Я был поглощен тем, что эти люди находили самым захватывающим – например, они исследовали тональность абстрактного случайного щипка струны или пердежа в рожок. Они были настолько влюблены в звук, что музыкальность и структура стали бессмысленными. Удивительное погружение в работу человеческого разума. Моя коллекция пластинок, если вы придете ко мне домой, вся типа такая: «Хорошо, у меня есть парочка танцевальных вещей, а вот здесь серьезная хрень…» Я мог бы очистить комнату за считанные минуты.
Так или иначе, мой грандиозный план провалился – сольное предприятие так и не осуществилось. Слишком уж много было вокруг всякого разброда и шатания, так что у меня не получалось выделить время и сесть, чтобы записаться в одиночку.
А в это самое время Virgin пытались заставить меня написать хитовый сингл. «Ну же, Джонни, почему бы тебе не придумать для нас хорошую песню о любви, чтобы мы все могли заработать кучу денег?» Я такой: «После всего того, что я сделал, с кем или с чем, по-вашему, вы разговариваете?» Главное во мне заключается в том, что я пишу очень хорошие поп-песни, но я пишу их не потому, что меня об этом просят или требуют, они получаются у меня совершенно инстинктивно и естественно. Попытка вмешаться в этот процесс никогда не сработает, ни за что. Я делаю то, что хочу, и так уж случилось, что то, что я делаю, время от времени получается реально здорово. Я не хочу, чтобы это звучало заносчиво, но правда есть правда. Я не собираюсь пренебрегать своим даром и злоупотреблять им, сочиняя всякую пургу.
Так возникла идея «This Is Not A Love Song». Поначалу я растратил весь свой настрой, потому что у Кита хватило наглости заныкаться и сделать в студии что-то самостоятельно. Он решил, что я плохой певец, но не сказал мне этого в лицо. На тот момент было вообще невозможно заставить его говорить с тобой напрямую, ни о чем. Он чертовски хорошо знал, что я его раскусил. Заглядывая в его покрасневшие язвительные глазки, я задавал вопрос: «Что ты хочешь?» И потому он меня избегал.
До меня доходили через вторые руки его разговоры в студии, поэтому я отправился туда, однако Кита там не оказалось, и я спросил: «Ну, и где запись? Что он там сотворил?» Я послушал ее и подумал: «Хорошо, попытаемся что-нибудь с этим сделать». И поэтому я написал текст на его музыку – штука, которой я обычно не люблю заниматься. Мне нравится присутствовать при создании песни с самого начала, так я полностью вовлечен в ее эволюцию, но в данном случае все произошло иначе. У нас не было басиста, поэтому Мартин Аткинс привез из Лондона своего приятеля по имени Пит Джонс, который играл на басу. Он не был идеален, но помог, даже получилось сыграть несколько концертов.
Мы никогда не обсуждали что-нибудь типа «музыкального руководства». Любой, с кем я работал, скажет вам, что я никогда не прихожу с готовым решением. Тем не менее все пошло как-то очень негативно, потому что, работая с той музыкой, которую мы записывали вместе, Кит не уважал то, что делал сам, считая, что это мусор. Но это было не так. Он просто не мог оценить себя в музыкальном плане. Кит рассматривал свои гитарные партии как ненужные, хотя они таковыми не являлись. Нет, это были реально хорошо продуманные фрагменты. Он выпал из ситуации. В конце концов вся его желчь, злоба и обида перестали быть смешными. Кит и в самом деле так думал. Он был как крыжовниковое варенье без сахара.
Я не знаю, чего Кит хотел, но, так или иначе, он противился моему участию и решил, будто это его группа, поэтому мне пришлось перехватить бразды правления. Не было какого-то конкретного повода, который положил бы всему конец, всего лишь серия инцидентов, имевших место до мая или июня 1983 г. Самый острый вопрос в то время заключался в запланированных на июль концертах в Японии. У Кита были проблемы с получением визы, но он знал, что не сможет пережить путешествие на самолете. Да он не выдержал даже поездки на микроавтобусе из Нью-Йорка в Пенсильванию, а это всего три-четыре часа.
По сей день я не чувствую угрызений совести от разрыва с Китом. Это было как щелкнуть кнопкой выключателя в положение «вкл», потому что я освободился от бремени, которым стали некоторые из бывших членов группы. Я просто хотел вырваться и заполучить свои крылья, отработать собственные удары и самому бороться с напряжением и страхом, которые несут живые выступления, но в конечном счете именно они являются самой большой наградой за участие в группе.
Все, что мне было нужно, – это группа. Контракт с японской стороной уже был подписан, и вот-вот начинался тур. Я принялся рыскать повсюду в поисках любой возможности собрать команду и в конце концов остановился на группе парней, исполнявших каверы в отелях и барах Нью-Джерси, которых обнаружили Мартин Аткинс и наш продюсер Боб Миллер. Мне не удалось найти никого другого из музыкантов, которые бы были свободны и не стоили бы бешеных денег, и тут появляются эти парни в блестящих костюмах и с прическами маллет. Я подумал: «Вау! Может сработать!» Во всей этой идее заключались такие имиджевые риски, что она даже обрела свою привлекательность, да и сами эти парни по-человечески мне очень, очень понравились.
Я отправился посмотреть на них в Атлантик-Сити, и, вполне вероятно, это было в отеле «Холидей Инн», потому что именно так я и рассказывал всем в то время: «Послушайте, я пошел и купил себе группу из “Холидей Инн”». Я вовсе не проявлял неуважения; я просто решил, что это совершенно точно взорвет зрителей, тех скорых на суждения уебков, какими они иногда бывают. Я уверен, если что и плохо для моего имиджа – так это хреновое живое выступление. Я подумал: «Ну, мы не будем такими уж хреновыми», – и действительно, все отлично провели время.
Парни были в восторге, что попали в такое место, как Япония, особенно после того, как прозябали в своем Нью-Джерси. С точки зрения музыки они были на много миль впереди меня, но в то же время на столько же миль позади, потому что не вполне соображали, как песни могут быть такими неструктурированными и расслабленными, поэтому нам пришлось слегка перевоплотиться и изменить сет. И это было прекрасно, потому что в то время я полностью погрузился в создание мучительных поп-песенок – очень глубоко, – загнав себя в рамки классического хита с припевом, чтобы посмотреть, как можно превратить его во что-то захватывающее.
Мы даже начали исполнять «Anarchy In The U.K.» – с парнями с маллетами. Фантастика! На самом деле это дело принципа: «Люди действительно слушают песню или судят о нас по нашим прическам?» Парни из «Холидей Инн» боялись браться за «Анархию», но в то же время любили ее. Соло-гитарист, Джо Гуида – вот он в своих узких джинсах и белых кроссовках, ноги расставлены как можно шире, и маллет. Он выдает этот грубый гитарный рифф – просто охуительно! Знаете что? Если вы собираетесь написать песню типа «Анархии», то должны понимать, что она предназначена не только для модной элиты, но и для всех. Я типа великодушно поделился этим сообщением.
Virgin настояла, чтобы мы выпустили альбом с записью живого концерта в Японии[287], и я признателен, поскольку это каким-то образом пошло в уплату нашего перед ними долга. Это помогает бизнесу развиваться и поддерживает интерес звукозаписывающей компании. Я не виню Virgin во всем; я понимаю, что со мной очень трудно ладить. Да и я почти ежедневно бросал вызов их экономическому чутью.
Это также помогло нам окончательно заявить о PiL как о живой концертирующей команде, и мы погнали дальше в тур, что продолжалось всю вторую половину 1983 г. Мы и не подозревали, что движемся против течения, по которому в то время плыла музыка. Большие деньги шли именно на создание видеопродукции, и живые выступления стали как бы ни при чем в сравнении с этой яркой и модной оболочкой, прикидом дня. А едва вам пустили пыль в глаза, вы начинаете покупать только то, что соответствует модной картинке, и не знаете, какие возможности существуют у живых команд. Все эти шамболические нелепые световые шоу убедили вас в том, что именно это и есть музыка.
Мы начали работать с художником-постановщиком по имени Дэйв Джексон, который организовал для нас освещение, но наш способ сильно отличался от всех остальных. Он собрал наш «туалетный набор», в котором фоном служили белая плитка и писсуары. Абсолютно незамутненный подход! Да, и позор моему брату Джимми, потому что, когда мы в ноябре отыграли концерт в лондонском «Хаммерсмит-Пале», он забрел на сцену и помочился в один из писсуаров. Он предположил, что они подключены к канализации!
Так что к другим обвинениям, которых я удостаивался за свою долгую дурную жизнь, можно добавить фальшивые писсуары. Идея состояла в том, что из грязной среды общественных туалетов могут появиться великие идеи. Туалет – невероятно скучная штука, с которой приходится иметь дело, избавляясь от своих отходов, но дайте простор воображению, и вы увидите кучу возможностей. Это реально так. Ну или играйте со своим айподом. Я имею в виду, что у меня родилось много замечательных идей для песен, пока я сидел на толчке. Не буду их вам рассказывать, потому что это их испортит, – не хочу, чтобы кому-нибудь запал в голову вид большой какашки.
Примерно в то же время мы сыграли в прямом эфире на программе The Tube[288], выходившей на Четвертом канале. У меня была ужасная простуда. Всякий раз, когда случается окно для таких вот телевизионных выступлений, это обычно происходит ближе к концу действительно тяжелого, напряженного тура, и я полностью истощен и болею какой-нибудь простудой. Вместе с нами на шоу выступали Eurythmics, и их гитарист, Дэйв Стюарт, был немного задирист – самопровозглашенный гений. Все хорошо, что хорошо кончается, потому что Энни Леннокс прислала потом извинения за его грубость. Она прекрасный человек. Я ее очень уважаю – она крутая! Начиная с «Sweet Dreams»[289], я заглотил ее крючок, леску и грузило. Ура! Я полностью покорен и готов терпеть все твои извращенные «американские горки», детка!
Во время наших концертов мы узнали, что среди зрителей существует небольшая, не более одного процента, но очень темная группа людей, всеми силами готовых навредить – действительно серьезно навредить – нам или любому другому, кто встанет на их пути. Я не знаю, как лучше назвать их – сталкеры, фанатики, психи, – но исходят они из предположения, что ты не тот, кем, по их мнению, должен быть. Они могут причинить тебе вред.
Во время выступления на амстердамском «Парадизо» кто-то ворвался ко мне на сцену с отверткой и попытался воткнуть ее мне в спину. К счастью, он промазал, но оставил отметину. И, конечно же, немедля появились секьюрити из «Ангелов ада», которые полностью обосрались. Нет ничего уродливее, чем огромные болваны-переростки, бегающие по сцене, как Клампетты[290]. В результате воцарился настоящий хаос. На самом деле меня пырнули в спину, потому что один из охранников меня схватил. Этот дебил пытался меня защитить, но, поскольку удерживал мои руки опущенными, я не мог маневрировать, и он таким образом случайно сделал меня неподвижной мишенью для игры в дартс. Я был в ярости.
Вообще, все это довольно серьезно, если собрать воедино все нападения, которые пришлось пережить Public Image, – гораздо больше, чем у «Пистолз». Послушайте, я шел дальше, продвигал свою музыку, а эти люди хотели, чтобы я остался в прошлом. Это всегда было проблемой. Если вам не нравится то, что я делаю, прекрасно – оставьте меня в покое, двигайтесь дальше, не болтайтесь вокруг и не требуйте, чтобы я вернулся на десять шагов назад и успокоился в уютной безопасности прошлого. Этого просто не произойдет. Да, и еще следует иметь в виду, что все эти люди заплатили очень хорошие деньги, чтобы попасть в первые ряды. Я всегда настаиваю: если они реально не особо напирают, не выбрасывайте их, но чем более ты великодушен, тем более взрывными они становятся, и вскоре многие уже считают своим долгом вытворить что-нибудь этакое: «О да, пошли на концерт PiL – можно освистать солиста, забросать его всякой хренью и попытаться ударить, круто!»
Ух, в каком же мире живут эти люди? Ни один из парней, занимавшихся подобными штуками, не был тем, кого бы я назвал крутым. Это все одинокие ублюдки, снимающие по дешевке какую-нибудь дыру на двоих, которые оправдывают свою деятельность спасением мира от таких, как я, используя потрясающий повод, что я «продался», что бы это ни значило.
Концепция «продажности», кажется, выросла из The Who Sell Out, альбома The Who, – их славного стебалова над рекламой. Фотография на обложке первого альбома PiL была кивком в их сторону – наша версия Роджера Долтри, сидящего в ванне с печеными бобами Heinz! Очень продвинутая вещь для того, чтобы с ней немного поэкспериментировать – идея антирекламы. Правда, иногда некоторые из нас, людей творческих, становятся слишком продвинутыми для умственных способностей кого-то из зрителей. И да, как сказал бы Шекспир, вот в чем беда.
Ирония доставляет мне удовольствие. «This Is Not A Love Song»[291] стала для меня продолжением «Pretty Vacant». Наверное, помните – я не красавец и не пустой. «This is not» («это не») на самом деле «this is» («это»). Идея состояла в том, чтобы противостоять коммерциализации и жадности, и поэтому противопоставление в самой песне звучит так: «Счастлив иметь, не иметь – нет. / Большой бизнес очень мудрен, / Теперь у меня свой тоже заведен»[292], тогда как я относился ко всему этому с точностью до наоборот. Говоря одно, ты на самом деле подразумеваешь совсем другое. Так что «Это не песня о любви» – реально песня о любви.
Что меня действительно очень радует, так это то, что я никогда не пресмыкался перед корпоративными требованиями Брэнсона и Virgin. Я не писал песен, которые они хотели, чтобы я писал. Я не стал тем коммерческим засранцем, в которого было бы так легко превратиться под их присмотром. Сделай я так, я уже не был бы собой. Я бы поработал года два, за которые наварил бы столько денег, что мне больше не пришлось бы вообще ни с кем иметь дело. Но это неинтересно. Совсем. Я просто не могу так поступить; всему свое место.
«Love Song» не писалась специально, чтобы сбить людей с толку, но впоследствии я реально наслаждался широтой интерпретаций, а особенно интригой, которую всегда находят в таких вещах журналисты. Это меня будоражит, и я первым радостно подхвачу: «Конечно, да!» – хотя на самом деле это вовсе не «Конечно, да!». Это же песня, чего тут не понятного? Она и создана для того, чтобы провоцировать разные мысли. Я по-настоящему люблю свои попсовые песни, в них же есть слова – вслушайтесь в них, они расскажут вам всю историю. Они – словно человек, пытающийся объяснить свое место в мире и то, как он воспринимает свое непосредственное окружение. И в них всегда будет присутствовать ирония, потому что это величайшее достижение в английском языке, которого, к сожалению, не хватает в других культурах. Я точно знаю, что вы не сможете дословно перевести эти песни, например, на немецкий.
Музыка вдруг стала очень корпоративной. И примерно в это время Duran Duran выпустили сингл с видео, которое обошлось где-то в полмиллиона фунтов. Возможно, я ошибаюсь в цифрах, но что-то в этом роде. Они взяли это из ниоткуда и попали точно в цель. Видео и масштабные постановки стали теперь нормой. Из них вряд ли можно вынести что-нибудь полезное, но в то же время, должен признаться, я любил «Hungry Like The Wolf»[293]!
Много лет спустя я встретил Симона Ле Бона. Странная встреча: в 1995 г. в Лас-Вегасе открылось казино «Хард-рок»[294], и на открытие пригласили всех музыкантов. Я пошел туда, потому что у моего менеджера в то время были все эти бесплатные пропуска и право на свободный номер. Его звали Эрик Гарднер, и, насколько я знаю, единственное, ради чего он туда ходил, – это казино. Когда я приехал, оказалось, что попасть на мероприятие не так-то просто. Симон Ле Бон увидел, что у меня там проблемы, и поинтересовался у охранников: «Вы что, не знаете, кто он такой?» – что решило дело, и меня пропустили. Я подумал: «Черт возьми, понадобился “Дюран Дюран”, чтобы Джонни Роттена пустили в здание!» Симон нравился мне как человек, и мне до сих пор нравятся многие их песни. Например, «Girls On Film», и я не буду притворяться, будто это не так. Я не испытываю ненависти к иным музыкальным жанрам, я люблю и непредвзято отношусь к любым творениям любых музыкантов. Господи, да что мне еще остается делать: у меня есть два альбома Элвина Стардаста.
Как бы то ни было, мы сняли наше видео для «Love Song» на фоне делового центра в Лос-Анджелесе. Это было так: заполучить пару тысяч долларов, арендовать машину, купить дешевую камеру, отснять материал, повеселиться и потратить все оставшиеся довольно приличные деньги на вечеринку. И так всегда. Я люблю снимать видео, когда они стоят дешево – для меня они самые прикольные. Я вижу, как сотни тысяч долларов уходят на разные другие вещи, которые, как мне кажется, даже и близко не стоя́т по своей результативности.
«Love Song» стала восхитительной проблемой для Virgin, потому что они не хотели выпускать сингл. Они прямо так и заявили, что ему суждено стать коммерческим провалом, поэтому я нашел компанию в Японии, которая была заинтересована в его выпуске, хотя это могло поставить меня в опасную ситуацию с Virgin. Ну, раз на Virgin решили, будто у сингла нет шансов на успех в чартах, я обратился туда, где им могли доказать обратное. И, конечно, «Love Song» стала большим хитом в японских клубах. Поэтому я немедля заявился в Virgin: «Что бы вы там ни говорили, это не так. На самом деле это хит, и теперь вы должны его выпустить, или подавайте на меня в суд и доказывайте обратное, потому что коммерческий успех прямо перед вашим носом». Бинго! Сингл должным образом поднялся в британских чартах и оказался в первой пятерке. Он также получил большую популярность в Европе, войдя в первую десятку в Германии. Еще до того, как Virgin наконец выпустила «Love Song», наш японский релиз Live in Tokyo стал активно продаваться в Великобритании. О «Love Song» заговорили еще до того, как она вышла. Мы подали этот сингл Virgin прямо на блюдечке. Чего им еще желать?
Вот почему на протяжении уже многих лет я всегда возвращался к различным версиям и ремиксам «Love Song» – это напоминание о том, как облеченные властью уверяют нас, будто такие песни невозможны. Это орудие войны, и оно так же для меня важно, как и пистолзовская песня «EMI».
Еще больше замутила воду в наших отношениях с Virgin попытка Кита Левена тайком выпустить альбом с тем материалом, над которым мы работали до его ухода. Альбом назывался Commercial Zone[295], он неполон, некоторые записи представлены урывками, и слушать его, на мой взгляд, было реально больно.
Я подумал: «И что теперь Virgin будет с этим делать? Обратятся ли ко мне, типа: “Говорили же тебе, вот что ты получил, связавшись с этими психами?”» На самом деле, они помогли сорвать выпуск альбома, и совершенно справедливо. А когда дело дошло до того, чтобы заполучить обратно все бобины с оригиналами записей, оказалось, что там все напутано, так что мне пришлось переписать заново все треки для уже нового альбома, которым стал This Is What You Want… This Is What You Get. Я понимал, что должен заново сделать эти песни, чтобы вернуть их обратно и не дать им быть украденными. Однако не могу не признать, что нам не удалось достичь яркости и остроты оригинальных демо.
Я занимался всем этим с Мартином Аткинсом и некоторыми другими людьми, главным образом на студии Maison Rouge в январе-феврале 1984 г. Это место находилось практически под Южной трибуной «Стэмфорд Бриджа», домашнего стадиона «Челси». Я добирался туда пешком из моего дома на Гюнтер-Гроув, который тогда еще не продал. Иногда вечерами на стадионе проходили игры «Челси», и вот шагаешь ты и думаешь про себя: «О боже, вот мы идем здесь просто так по улице, груженные самыми разными инструментами, – в окружении толп футбольных фанатов…» А в те дни это всегда было: «О, Роттен! Ты ж “Арсенал”, да?» Я никогда не скрывал этого: ты – тот, кто ты есть.
Часть альбома была сделана на студии Пита Таунсенда Eel Pie. Это – самое близкое к тому, что мы когда-либо делали вместе. Конечно, он хотел с нами поработать. Студия находилась в Твикенхэме, прямо на Темзе, и пару раз ее чуть не затопило, потому что река вышла из берегов. Да, Таунсенд хотел принять участие в записи, но я вроде как уклонялся – это могло отвлечь меня и сбить на другой, вычурный путь. Когда наступает подобного рода момент, ловите его, если он действительно подходящий, в противном случае лучше отойти. Следуйте своим инстинктам.
Проблема заключалась в том, что мы с Мартином поняли, что именно нам доставляет наибольшее удовольствие. Мне нравилось работать с его лупами, но, «разрабатывая» наши записи, мы оставляли их почти ни с чем. Пустые места в той записи – своего рода сцена, на которой происходит основное действо. Правильное использование пустоты, доведенное до совершенства.
Я хотел уйти дальше в барабанно-вокальную вселенную, погрузиться в нее целиком. Я очень уважал игру Мартина на ударных – этот парень отличный барабанщик – он делал это просто, не уклоняясь от сути, и это оставляло много места для всего остального. Но он сомневался в себе как в барабанщике и больше не хотел этим заниматься. «Ну и на чем, черт возьми, ты собираешься играть? На флейте?» Он, как и я, не очень прилежен, когда дело доходит до понимания тонкостей игры на инструментах. Мы используем инструмент как снаряжение, а не как направляющую силу.
На альбоме были песни под названиями «Where Are You?»[296] и «Solitaire»[297]. Наверное, там, в глуши, очень одиноко. Название альбома «Это то, что вы хотите… Это то, что вы получаете», которое периодически скандируется в разных песнях, было моей решительной отповедью тому, что, как я видел, происходило в 1980-х. Людей насильно сажали на диету из пустой попсы, лишенной всякого смысла и содержания. Песни со смыслом невозможно было нигде услышать. Если в ваших текстах появлялось что-то острое и выразительное, MTV находило причину, чтобы не ставить их в эфир.
Это был мир удивительной изоляции. Отношения с Virgin сложились на тот момент такие, что нам было глубоко похуй друг на друга. Очень тяжелые времена. Привет, я Джонни – я сиделка по натуре, я забочусь о вашем будущем и никогда не говорил ни слова плохого, правда. Я предсказываю правильно и точно. И мне приходится хорошо постараться, чтобы мои батареи работали, чтобы PiL сохранял и поддерживал все то хорошее, что в нас было… Ибо мне противостоял мир: «Фу, да пошел ты. Вот последнее видео от…» – и вы смотрели Саймона Ле Бона на яхте. У меня нет никаких претензий к Саймону, он и правда отличный парень, но в то время вся игра вертелась вокруг финансирования видеопродукции, и чем больше денег тратилось на видео, тем больше было ему внимания. Таким образом, из окна вылетали причина, содержание или цель, и влезало: «Посмотри, во что я одет!»
Возможно, я зашел слишком далеко. Но знаете что? Сейчас меня понесет еще дальше. Я делаю это не ради места в чартах, а для того, чтобы мир стал лучше. Я достаточно самонадеян, чтобы верить, что все, чем я занимаюсь, на самом деле идет на пользу человечеству. И я не могу смотреть на мир иначе. Любое мое решение всегда основано на этих принципах и ценностях. Разве я анахронизм? Я начал совершенно четко понимать, что в середине 1980-х я со своим отношением к жизни – настоящий динозавр, потому что никто не хотел думать ни о ком, кроме себя. Какая жалость – видеть, как разваливается благодаря этому панк. А поп-музыка принимает любую старую болтовню до тех пор, пока к ней прилагается громкое имя продюсера.
То же самое случилось и с обложкой альбома: лейбл нанял известного фотографа по имени Норман Сифф, который жил в Лос-Анджелесе, чтобы он меня заснял, и я не понимаю, почему эти фото получились такими ужасными. «О, ты будешь отлично выглядеть, если этот парень тебя сфотографирует…» Потом я хожу на эти фотосессии, и они мне не нравятся, я вообще не нахожу контакта с этим парнем, что в итоге и видно по результату.
В Америке в то время у нас не было лейбла. У меня были близкие контакты с парой людей в Атлантике, и они показались мне очень забавными. Но одна из главных проблем заключалась в том, что они не питали особой симпатии к бедному старичку Мартину Аткинсу. И вот я опять столкнулся с компанией звукозаписи, которая не возражала против меня, но по какой-то причине на дух не переносила людей, с которыми я работал. Однако мы с Мартином пошли разными путями вовсе не поэтому – я никогда и никому не позволял диктовать мне условия. Я не бросаю людей, но, кажется, неплохо умею их терять. Какая-то бесконечная карусель.
К лету 1984 г. Нью-Йорк мне надоел. Я был там уже три года, пришло время двигаться дальше. Так почему же я не вернулся в Лондон? Это трудно объяснить, но это, скорее, отсутствие легкости на подъем. Желания что-то менять. Привычка и общее ленивое отношение: «Зачем беспокоиться? Мвааааа-а-а. Все равно по большому счету это ничего не изменит» – «Гр-р-р! Изменит!»
И напротив: «Э-э, почему ты вообще уехал? Почему ты не возвращаешься?» Мой ответ: «Что?! А сами-то вы что сделали, чтобы мне указывать?»
Я имел смелость пойти против системы – против меня выдвигали неоднократные обвинения, я подвергался преследованию за свое бунтарство, а на меня еще за это и обижались. За то, что я заставлял людей думать. Средства массовой информации меня совсем не защищали, а, наоборот, выставляли плохим мальчишкой, который просто достукался, а это очень опасная история. Честно говоря, я понимал, что, если не выберусь из Британии, меня ждет очень долгий тюремный срок. Бесконечные полицейские рейды на Гюнтер-Гроув были далеко не развлекательными мероприятиями. В этом нет ничего смешного. Они охотятся за тобой и рано или поздно доберутся. Возвращаясь к плакату Поли Стайрин: невозможно постоянно класть голову на плаху. У меня не было союзников, на которых я мог бы опереться. Я прекрасно понимал, что улики могут быть подтасованы или сфальсифицированы, – так что надо было валить, поскорей убираться оттуда.
Кроме того, во мне всегда было что-то цыганское. Типично цыганское отношение к жизни: подняться и куда-нибудь отправиться. Когда средства закончатся, найти новое место и перезарядить батареи.
Британцы обычно едут в Нью-Йорк, потому что он ближе всего, он почти как еще один Лондон. Впервые поселиться в Нью-Йорке очень увлекательно, однако через некоторое время это вас утомляет. Все вокруг взбудоражены, тебя постоянно окружает драма, разыгрываемая на смехотворно высоких скоростях. Я провел юность, спеша все успеть, и если бы я не был осторожен, точно бы пришел первым на собственные похороны. И, конечно, в те дни наркотики так и витали в воздухе. Ты, так сказать, фактически постоянно тыкался в них носом. Нью-Йорк – город, где обычно очень хмуро. К тому же в те дни, находясь в музыкальном мире, ты часто был чем-то возмущен или недоволен. И жил ради ночи. Ну, я же не вампир. Мне какое-то время нравился этот образ жизни, но не слишком, спасибо. В конечном счете это разрушало душу.
Боб Тулипан, помогавший нам в бизнесе и менеджменте, ушел за год до описываемых событий, и к этому времени мы наняли нового менеджера, Ларри Уайта, который сыграл важную роль в переезде группы в Лос-Анджелес. Ларри был просто душка. Он занимался делами многих серферов, которые, как я обнаружил, оказались очень мнительными. У Ларри в итоге возникла целая куча проблем с представлением их интересов, и они не понимали, какого черта он возится с такой скандальной задницей, как я. Однако благодаря Ларри вся наша дорожная команда вскоре стала серфингистами. Когда мы играли в Корнуоллском Колизее в Сент-Остелле в ноябре 1983 г., мы остановились в гостевом доме, из которого открывался панорамный вид на Корнуоллский залив – и волны там были около одного дюйма высотой. Насмешки, которыми осыпали нас эти ребята, были очень забавны.
По настоянию Ларри все вскоре сосредоточилось на организации для нас отличного офиса в Лос-Анджелесе. В июне 1984 г. мы сняли очень дешевый дом в горах, в двадцати минутах езды от Пасадены. Это был потрясающий маленький домик под названием «Ла Гранада» – деревянное строение с оштукатуренными стенами, пластиковыми окнами, алюминиевыми рамами, перегородками и крышей со свесом, чтобы дождь не смыл стены – всякий раз, когда в Лос-Анджелесе шел дождь. Дом располагался на очень опасном обрыве. А как и на многих других высоких местах в этом районе, каждый раз, когда идет дождь, почву вымывает из-под дома, и медленно, но верно бетонная конструкция разрушается, трескается, и ты уже летишь с горы.
Я жил в этом доме с Мартином Аткинсом те последние полгода, пока он был в PiL. У нас начали возникать проблемы друг с другом, а потом приехал мой брат Мартин и остался, и это вызвало еще больше проблем. Мартин Аткинс не любил Мартина. И это, кстати, было взаимно. У Мартина начала складываться своя позиция по отношению к моему окружению. Я хотел, чтобы мой младший брат узнал как можно больше о том, как у нас все устроено – ему нравится техническая сторона музыки, музыкальное оборудование и так далее, – но это вызвало трения. Я понимаю точку зрения Аткинса, но в то же время это мой младший брат – брось, он здесь не для того, чтобы тебя заменить.
В итоге вместо всего этого мой брат стал работать с известным шведским гитаристом Ингви Мальмстином[298]. Я прозвал его Манигви – шутка, которая давно позабылась. Это было очень хорошо и для Мартина, потому что он теперь прочно стоял на своих собственных ногах, и для меня, поскольку одной проблемой в доме частично стало меньше.
Одним из очень важных плюсов жизни в Пасадене была близость к «Кей-Рок» (KROQ), влиятельной англофильской радиостанции, которая располагалась неподалеку, и вследствие такого соседства им было трудно не ставить у себя записи PiL. Ур-р-ра! – это случилось впервые! В результате PiL влился в компанию лос-анджелесских инди-групп, и организованные по всему Лос-Анджелесу и различным окрестным округам концерты стали для нас большим делом. Совсем даже нехилая посещаемость, мы полностью заполняли залы.
Устройство и расположение Лос-Анджелеса необъяснимо для английской психики. Каждый, кто оказывается здесь впервые, просто не может понять этот город. Он гигантский, широкий и низкий, и он длится и длится, бесконечно. Люди описывают его не столько как город, сколько как разрозненное скопление деревень, разбросанных по округе на семьдесят миль, – и это совершенно справедливо. Что там за строчка в песне Дайон Уорвик[299]? «Лос-Анджелес – это огромное шоссе». Единственный способ добраться куда-либо – проехать несколько больших автострад, соединяющих разные районы города. Довольно безумно. Чтобы что-то сделать, требуется сорокапятиминутная поездка на машине.
На первый взгляд здесь вообще не может быть ничего годного. Лос-Анджелес казался самым далеким, самым невозможным, самым нелепым – полностью оправдывавшим репутацию места, откуда родом The Eagles. И вот я в Лос-Анджелесе, на пляже, по которому в дни своего рассвета Нил Янг бродил босиком с гитарой.
Достаточно быстро мое отношение изменилось на «Почему бы и нет?». Что в этом плохого? По крайней мере, эти люди, похоже, не хотели ненавидеть, убивать и презирать друг друга. Лос-анджелесский музыкальный мир менее воинственен. Возможно, немного мира и любви не помешает, особенно когда народ и в самом деле их имеет в виду. После Нью-Йорка это типа: «Постойте, к чему такая спешка?» Менталитет, который я лишь постепенно научился впитывать, хотя достаточно быстро понял, что существует великое множество забавных вещей, которые можно делать совершенно по-другому, в другой вселенной. Лос-Анджелес не самый большой город, в нем не так много ночных клубов. Все здесь вертелось вокруг путешествий, солнечного света и ранних подъемов – просто поиск иных способов постичь жизнь.
Такие люди, как Род Стюарт и Том Джонс, вероятно, перебрались сюда, чтобы затеряться, стать маленькой рыбкой в большом пруду, что я отчасти понимаю. Это определенно желание «начать все сначала», уйти от всего того лишнего, что – и ты это ощущаешь – каким-то образом тянуло тебя вниз в прошлом. Это поиск. Однако Родни поступил так, обладая огромной суммой денег. У меня их не было, и, конечно же, я абсолютно точно переехал сюда не для того, чтобы быть рядом с голливудской актерской тусовкой. Никак с ней не связан и даже не интересовался.
Хочу подчеркнуть, это был не уход от действительности – наоборот, желание рискнуть, расправить крылья и перебраться на новые пастбища, столкнуться с новыми вызовами. Поверьте мне, это радикальный вызов, взять и вырвать все корни, и это было сделано не ради комфорта.
В самом начале я такой: «Ненавижу солнце, бр-р!» Но вскоре я заметил, что уже не страдаю постоянно, как это было мне свойственно, от простуды, насморка и болей в позвоночнике, которые меня донимали еще с тех пор, как я переболел менингитом. Этот климат подходил мне гораздо больше, чем смог. Потребовалось время, чтобы приспособиться к новому образу жизни: в сущности, все дело заключалось в том, чтобы рано вставать и наслаждаться восходом и закатом, и это было гораздо более захватывающим, чем то, что могла предложить мне убогая дискотека в Шеффилде.
Пока мы отсиживались в Пасадене, Аткинс начал работу над созданием новой группы, поместив объявление в разделе «Разыскиваются музыканты» еженедельника «Лос-Анджелес Уикли». Там было написано что-то вроде: «Если ты любишь PiL и ненавидишь хэви-метал», что отчасти раскрывало наши планы, но являлось абсолютной ложью в лучшем смысле этого слова. В прошлом я действительно как-то сказал: «Я ненавижу хэви-метал», – но, как вы уже знаете, ради того, чтобы добиться определенного результата, иногда я говорю одно, а на самом деле подразумеваю нечто совершенно другое.
Я был поражен, когда на прослушивание в «Перкинс-Палас» пришел Фли[300], и он был потрясающим. Он обычно играл на басу в стиле «слэп-бас», что было далеко не здорово с точки зрения моих целей, но… «Да! Ты справишься!» Но потом он сказал: «Ну, я не могу…» Оказалось, что у Фли были проблемы с собственной командой, его товарищами по группе Red Hot Chili Peppers, которые в то время только начинали. Я думаю, он просто хотел напомнить им, что, так сказать, может и перейти на новые пастбища, но надо отдать должное этому парню, он остался с ними, и Chili Peppers все еще гастролируют. Я бы с удовольствием с ним поработал.
Именно благодаря этим прослушиваниям мы нашли Марка Шульца (гитара, 20 лет), Джебина Бруни (клавишные, 18 лет) и Брета Хелма (бас-гитара, немного постарше!), и уже к октябрю мы сыгрались и смогли гастролировать по Восточному и Западному побережью.
Однако мы с Аткинсом не могли найти общий язык. Мне очень нравится Мартин. Время от времени мы начинали орать друг на друга по телефону, и он всегда держал удар. Мартин мог быть плохим зайкой. И мне было сложно ему доверять, потому что за пятерку он маму продаст. Но я все равно старался поддерживать с ним приятельские отношения.
Наши пути разошлись, потому что он устроил нам проблему в ночь на новый 1985 г., накануне того, как мы отправились в тур по Австралии и Японии. За день до этого он затребовал себе больше денег, и я типа: «Это невозможно, Мартин. Ты уже взял на себя обязательства». Однако он не хотел играть на равных, он хотел большего, зная, что на столь поздней стадии подготовки гастролей у меня нет другого выбора. И когда доходит до таких ситуаций – а у меня уже это случалось с несколькими другими участниками группы, – эти люди отступаются от своих прежних обещаний и заявляют: «Ну, я никогда ничего не подписывал». Рисковое дело, когда пытаешься работать с кем-то вроде меня. Достаточно мне понять, что вся проблема в жадности, – прощай! Мы пытались помириться во время тура, но на тот момент между нами оборвались все связи. Я практически изолировал его от себя.
Другим камнем преткновения было непонимание Мартином идеи о PiL как «зонтичной компании», который занимается не только музыкой, но и другими вещами. Каждый человек, который когда-либо создавал проблемы в PiL, обычно утверждал, что хотел бы оставить музыку и заниматься чем-то еще, но все равно получать зарплату от PiL. И это «что-то еще» возникало только потому, что у них появлялись идеи создания собственной группы, что, я считаю, очень неуважительно. Таким был и Аткинс.
Я никогда больше не совершу той же ошибки, допустив в отношениях с людьми подобного рода открытость, потому что иначе им начинает казаться, будто тумбочка с деньгами находится в их личном распоряжении – налетай и грабь. Конечно, у меня должна быть возможность хранить достаточно денег в этой тумбочке на будущее, но я не дурак и не собираюсь толкать людей на то, что считаю предательством. Это черта, через которую нельзя переступать.
Перед тем как мы отправились в тур на Дальний Восток, в Лос-Анджелес приехала Нора. Почти случайно она заметила один прекрасный дом, выставленный на продажу в Венис-Бич. Оказалось, что дом принадлежит банку – вероятно, его предыдущие владельцы не выполнили свои кредитные обязательства или что-то в этом роде. Норе удалось урвать этот дом за смешные деньги. Мы даже не знали, как он выглядит, – просто сделали этот импульсивный шаг. Мы вошли в него, и нам очень понравилось. Он крошечный, но, послушайте, мы не из тех, кому нужно двадцать две комнаты. Мы не устраиваем званых обедов, мы не такие. Три разномастных тарелки и парочка ножей и вилок – и мы счастливы.
Мы с Норой переехали и оборвали все связи с Ларри Уайтом и Мартином Аткинсом. Начиная с этого момента жизнь здесь, в Лос-Анджелесе, стала настоящей фантастикой!
Мой младший брат Мартин – как флаг, под которым собираются люди. В молодости он был очень громким и – ой! – настоящим смутьяном. Повзрослев, Мартин стал открытым, общительным парнем; ему удается заводить друзей, где бы он ни оказался. Мартин умеет делать все то, с чем я никак не могу справиться. Он открыт в общении. Возможно, это из-за того положения, в котором я нахожусь. Я очень настороженно отношусь к попыткам людей поговорить со мной. Я не знаю, что им на самом деле нужно. Они смотрят на Джонни Роттена как персону шоу-бизнеса или на Джонни как на человека?
Мартин переехал жить к нам в Венис-Бич, потому что вместе с домом шел и небольшой флигель. Мартин стал нам кем-то типа соседа, деля этот флигель с нашим гитаристом Марком Шульцем, а время от времени еще и с Джебином Бруни, клавишником, и Бретом Хелмом, басистом, так что это стало лос-анджелесской штаб-квартирой группы. Каким-то странным образом это было реально очень похоже на сериал «Подрастающее поколение»[301]. Они и были теми самыми детками, живущими по соседству. Мне очень нравился Джебин, такой маленький персонаж. У него была огромная копна торчащих дыбом волос, черные колючие волосы – он напоминал мне ежа. Я видел в нем большой потенциал как в клавишнике – на самом деле он притащил аккордеон, потому что я по глупости сказал, что мой отец был аккордеонистом, и он предположил, будто я тоже умею на нем играть. Ошибочка!
Начиналось обычно так: «Давай спустимся в подвал», – потому что в нашем доме был подвал. Там мы складывали вместе разные фрагменты крошечной идейки для песни и отжигали. Нам приходилось только догадываться, как будут звучать барабаны, пока мы не раздобыли несколько драм-машин. Да и в этом случае, конечно, возможности драм-машины ограничены, потому что настоящего барабанщика заменить невозможно. Так что это были приблизительные версии песен. Потрясающие времена. Мы вроде как просто развлекались, но из этого веселья родились замечательные вещи – песни «Fishing», «Round» и «Ease»[302].
Это было началом Album. К тому времени Говард Томпсон подписал контракт с лейблом Elektra в США, и они на него вовсю давили, чтобы он быстрее предоставил мою первую пластинку, не говоря уже о том, что приходилось как-то утихомиривать Virgin в Англии. И тут мне позвонил Билл Ласвелл[303] и предложил себя в качестве продюсера.
Сперва я вышел на Ласвелла через того парня, Роджера Триллинга, который, как вы помните, познакомил меня с авангардным лейблом ECM. Я встретил Роджера в одном из нью-йоркских клубов. Он случайно услышал мои слова: «Ненавижу джаз! Никак не могу с ним свыкнуться!» И Роджер такой: «Ну, если бы вы пришли посмотреть мои записи…» А это очень заманчивая фраза для кого-то вроде меня. У него не было всякой волшебной пыли, он действительно имел в виду только музыку, и мне нравилось ходить по его квартире и просто слушать все эти разные тяжеловесные джазовые пластинки. В итоге у нас сложилась очень хорошая дружба, которая и вывела меня на Ласвелла – его менеджером, мне кажется, в то время был Роджер.
Оказалось, что Билл знаком с Африкой Бамбаатаа[304], который хотел сделать со мной запись еще год или два до того. В итоге наше знакомство привело к созданию песни «World Destruction»[305], которая вышла под нашим общим псевдонимом Time Zone. Это был 1984 г., начало рэпа. То, что Африка хотел от меня, мне напоминало ямайский тостинг[306], и я не был уверен, что вообще готов идти в этот мир. Но Time Zone в какой-то мере выкинул рэп во вселенную. Сингл пользовался огромным успехом в клубах, он буквально открыл людям глаза: «Ого, как это интересно, ново и необычно».
Африка, какая он прелесть! Его «нация»[307], идея всемирности – все это было славно и прекрасно. Должен признаться, все слова в песне принадлежали ему – это чертовски меня раздражало! – но я придумал припев: «Tiiiime zooone!» Я подумал, что в песне нужен какой-то поворотный момент. В глупом дешевом видео, которое мы сделали, я разгуливаю с немного выпученными глазами, но я пытался, правильно или не очень, подчеркнуть трепет и восторг от выпуска совместной записи.
Я многому научился, делая этот трек: там был бэк-вокалист, Бернард Фаулер из The Peach Boys[308], который научил меня вытягивать ноты – объяснил технически, как держать ноту, чтобы она не дребезжала и звук исходил с большей силой и выразительностью. Я также записал еще одну песню с Ласвеллом и группой под названием The Golden Palominos, однако это, скорее, их песня, и я чувствовал, что действовал немного поспешно. Но это была работа, и она заставила меня снова подумать о себе вне определенных рамок. То, чего я так жаждал.
Так вот оно что – бинго! Билл – именно тот парень, который нам нужен, чтобы работать над новым альбомом PiL. Elektra была более чем счастлива, поэтому я перезвонил Ласвеллу и сказал: «Да-а, прекрасно, ууу-у-ух как повеселимся!» Билл пользовался огромным уважением как в самой индустрии, так и со стороны других музыкантов, и он казался мне опасным представителем высшей лиги. Это были непростые отношения. Учитывая, что ему покровительствовал такой большой человек, как Роджер Триллинг, который продолжал за ним присматривать, я понимал, что эмоциональность Ласвелла может стать в дальнейшем спорным моментом.
Билл умел создать вокруг себя атмосферу: берет, борода и склонность к черным кожаным курткам. Я имею в виду не короткие, типа байкерских, а пиджаки, похожие на те, в которых щеголяли нью-йоркские гангстеры – в частности, ирландские, и всякая мафиозная шушера. Он был связан с той крутой студией, The Power Station, где мы начали работать в августе 1985-го. Я привез свою юную группу из Лос-Анджелеса – без барабанщика, конечно, – и это совсем не сработало. Мои маленькие сопляки не выдержали давления. Они не смогли справиться со стрессом, вызванным перелетом в Нью-Йорк, гостиничными номерами, репетиционными залами, входящими и выходящими в комнату другими группами, что постоянно происходит в Нью-Йорке – все участвуют в работе на репетиционных студиях, все ваши друзья, – и запаниковали.
К тому времени, когда дело дошло до работы с бэк-треками в студии, они просто не могли сделать это правильно. Им, например, было очень трудно воспринять «Rise». Я понял, что они не дотягивают до нужного уровня. Это сводило нас с Ласвеллом с ума, поэтому мы сказали себе: «Слушай, мы должны их заменить, это не сработает. Мы выбиваемся из лимита, потребуется слишком много времени на попытки выправить все это при сведе́нии». В этот момент я запаниковал, а Билл Ласвелл продолжил: «О боже, уже поздно, давай начнем обзванивать людей, посмотрим, согласятся ли они с тобой работать», – потому что никто из нас не думал, что кто-то захочет.
Затем перед нами встала дилемма: «О черт, нам нужно привлечь несколько человек, и, к сожалению, похоже, все они будут с именем». Мой ответ был мгновенен – и с этим согласились все участвующие в обсуждении, – что мы не будем называть имен, то есть писать на пластинке имена музыкантов, – и дело не в эго, это должно было пойти на пользу записи, чтобы о ней судили по ее собственным достоинствам. Отсюда и использованная в обложке пластинки концепция «общего бренда»[309].
Так наш «Альбом» стал солидным пятизвездочным каталогом музыкантов – среди которых Джинджер Бейкер из Cream и новый молодой американский хард-роковый гитарный гений Стив Вай[310]. Я был глубоко потрясен тем, что люди их положения меня уважают. Я вообще не думал, что меня уважают в мире музыки, поэтому для меня стало настоящим открытием, что им реально нравилось то, что я делал.
С этого момента все началось с нуля. Чего мы не хотели, так это джем-сейшена. У нас были песни, а эти парни пришли в студию, чтобы над ними работать. Единственным реальным ориентиром был вокальный трек у меня в голове, поскольку мне так и не удалось записать демо со своими юнцами и много работы было сделано а капелла – просто пение в одиночку. Так что Билл мог получить лишь смутное представление о песнях. Я раздобыл тогда бубен и наигрывал некий свободный вариант припева и стихов, на этом мы и основывали работу.
Боже, как я был счастлив заполучить этих виртуозов! Это было потрясающе! Опять же все, с кем я раньше записывался, были новичками. Я никогда не работал в студийной комнате с такими монстрами. Это было невероятное давление, и я понимал, что моя молодая группа с ним не справится, но я ни за что не собирался отступать. Мне было реально необходимо спеть эти песни. Вокруг никто не лажал и не суетился, обвиняя во всем фальшивую ноту, взятую соло-гитаристом! Я должен был сделать это правильно, и я сделал.
Никто не мог поверить, что я записываю с Джинджером Бейкером. За несколько лет до этого журнал «Нью Мьюзикал Экспресс» опубликовал новость о том, что мы работаем вместе, – но это была первоапрельская шутка! «Привет, мои недоброжелатели, осторожнее с желаниями, они могут исполниться!»
Джинджер, обожаю его. Ну и псих. Люди могли бы подумать, что две такие сильные личности, как мы, не поладим вместе, но я-то знаю, откуда он. Я знаю его подход к жизни – подход типичного представителя рабочего класса, я понимаю это инстинктивно. И вот тут-то мы и поладили, прямо в точку. Мы были бы первыми – если поместить нас вдвоем в одну комнату, – кто устроил бы большую свару, потому что это наша природа, потому что это то, чем мы занимаемся, – постоянно бросаем вызов друг другу, чтобы сделать лучше, а не почивать на лаврах. Мне не нравятся победители, потому что они склонны цепляться за свои достижения. Мне нравится сражаться, и как только ты добираешься до определенного уровня, тебя ждет следующее сражение, и так далее, и так далее. Вот что для меня самое увлекательное, и я вижу это в таких людях, как Джинджер.
Только посмотрите, что этот парень творит с барабанами! Тот самый, из разрушенной бомбежкой части Лондона, так? А в 1970-х он уехал в Африку, чтобы жить с Фелом Кути[311], еще до того, как кто-то вообще узнал, какие перспективы здесь таятся! Он отправился туда, потому что любил свои барабаны, потому что хотел продвинуться вперед и бросить вызов самому себе. Разве не ради того мы все это делаем?
Послушайте, может, он и говорит, что играет не очень быстро, но вы вряд ли сможете уследить за движениями и той инстинктивностью, которых он достиг в игре на инструменте. Перед моими глазами так и стоят визуальные впечатления от работы над «Альбомом». Наблюдать за тем, как он в этой студии рвет обшивку, как разваливаются бас-барабаны, как трескаются и проебываются тарелки… Только представьте себе, войти в комнату, когда Джинджер там упарывается, и типа: «Эй! А как там мой припев?» Вот как это было. У нас с ним совершенно разные подходы к музыке – он по-своему прилежен, а я по-своему. И эти две противоположности сработали, мы просто слились. Он монструозно-бушующе-сумасшедший псих, но он все схватывал и играл, записав именно те паттерны, в которых я так отчаянно нуждался. Жесткость и одновременно гибкость этих ритмов позволили мне поместить слова в надлежащую перспективу. И в то же самое время у меня были «открытые пространства» Стива Вая, который выдавал тысячу нот в секунду, но он создавал эти пустоты, словно затопляя все музыкальным потоком. Фантастическое сочетание событий.
Стив Вай опять же был полностью открыт. Работая с такими людьми, не столкнешься с музыкальным снобизмом; все, что можно услышать: «О, то, что ты делаешь, возможно, но есть и другой вариант». Они достаточно заинтересованы и непредвзяты, чтобы помочь тебе измениться в лучшую сторону, не перевоспитывая. Имя Стива в то время было немного ругательным – не правда ли, удивительно, что сотворил панк? Прямо противоположное тому, что я пытался объяснить вселенной!
В записи альбома участвовал еще один барабанщик – Тони Уильямс[312], который уже, к сожалению, скончался. Он был милым парнем. В 1960-е он играл с Майлзом Дэвисом. Опять же – ого! – я полагал, что он со-о-о-всем не моего уровня, гораздо выше меня с точки зрения опыта и качества, но чем дольше я живу, тем больше я учусь и тем лучше становлюсь. Это не возраст, это опыт и новые знания, которые получаешь из подобных совместных работ, и они определенно могут сделать тебя лучше.
Были и другие, кто отметился у нас в студии, например, как-то заглянул, чтобы побренчать на клавишах, Рюити Сакамото[313], однако я реально охуел, когда заявился этот новый парень, одетый с иголочки во все самое лучшее, как настоящий рабочий охламон в субботу вечером. В течение многих лет я рассказывал всем, что это был Майлз Дэвис, но недавно я услышал, что им мог быть Орнетт Коулман[314]. Трудно было уследить, люди постоянно приходили и уходили. Он записал один трек, но мы не смогли найти для него места. Единственными словами этого парня были: «Э-э-э-э-м, я исполняю на своем инструменте то же самое, что ты делаешь вокально». Мы с ним шли по одному и тому же пути, и это был невероятный комплимент.
Записывая «Rise», мы заставили Джинджера сходить с ума в одиночестве в комнате, разнося к чертовой матери барабаны – он все сломал! Я никогда не видел, чтобы барабанщик играл так жестко и сурово. Хотя на самом деле я не уверен, что именно он играл в финальной версии «Rise» – мне кажется, это мог быть и Тони. А после заходит Стив Вай, а потом ты получаешь немного басового грохота от этого парня Йонаса Хеллборга[315]. И тут вдруг: «Ого, знаете, нам нужно немного фолкового духа», и появляется индиец по имени Шанкар[316], он играет на индийской скрипке, и все очень красиво складывается. Он привнес зажигательный, качающий ритм и переливы, и песня приобрела почти то, что я бы назвал южноафриканским зулусским духом, – но в то же время осталась песней, которая отлично подошла бы для любого ирландского музыкального автомата.
Я горжусь этим синглом больше всего на свете. Он так поднял мою уверенность в себе на фоне всех тех ударов, которые на меня свалились. И как тут ругать такую запись? Давайте. Посмотрите на работу, которую мы проделали, посмотрите на результат. Это гимн свободе, и через всю песню проходит строка, которая является моим главным девизом: «Гнев – это энергия».
После того, как Марк, Джебин и Брет оказались не у дел, нам пришлось серьезно обсудить концепцию альбома. И мы решились на хардкор. У Билла был отличный опыт работы с такими группами, как Alcatrazz[317], с миром хэви-метала – на самом деле благодаря этому у нас появился Стив Вай, и мы получили возможность расширить границы. Это была захватывающая запись; каждая вещь, которую мы делали, должна была быть жесткой, жесткой, жесткой. Жесткость – вот что было для меня определяющим каждый раз, когда я подходил к микрофону. Я настроил себя на то, чтобы стать самым жестким хардкорным хэви-метал-вокалистом в мире, но без всяких стереотипов, которые заключала в себе эта вселенная.
Мы были мощными во всем, полными свирепости, и то, как я преподносил вокал, не вызывало сомнений, что это не будут нежные баллады. Мы все были на одной планете, в одной палитре. Вот как на самом деле работает запись, когда все участники устремлены к единой цели.
Я хотел донести до всех одну мысль: «Привет! Эпоха “Love Song” закончилась!» Я дал себе волю в мощном пении и учился контролировать ноты и преподносить их в особенно агрессивном стиле, который никоим образом не был имитацией того, что я делал в «Пистолз». Это совершенно иной подход, и я не знал, смогу ли я это сделать, пока не сделал. Какой замечательный эксперимент!
Песни были структурированы, но опять же совсем не по-пистолзовски. Прислушайтесь к усложнениям и тональным изменениям в «FFF» – моем прощании со всеми моими мимолетными коллегами прошлых лет! Эта песня скачет вверх-вниз и по кругу; она меняет форму и маневрирует вокруг ритмов и структур.
Поскольку мы не прописывали авторские права, мы решили использовать концепцию «общего подхода» в оформлении нашего продукта – альбома, кассеты, компакт-диска, чего угодно. Все это было вдохновлено «общими брендами», которые я увидел в супермаркетах, когда впервые приехал в Америку. Бобы – это просто «Бобы», и на жестянке больше ничего не должно быть написано. Мне очень понравилось. Я думал, что это отличный подход к работе с коммерцией. Не надо никаких брендов. Называйте вещи своими именами, всего-то.
Я также наскреб деньги из своего чертового кошелька, чтобы собрать подарок первым пятидесяти покупателям пластинки – банку от краски с надписью «Can» («Банка») и маленьким логотипом PiL в общих светло-голубых и темно-синих тонах, внутри которой лежали «Чашка», «Ручка» и так далее. Чудесная вещь. К сожалению, единственный сохранившийся у меня образец этой жестянки сгорел в пожаре много лет спустя – и я до сих пор об этом жалею.
«Альбом» во всех смыслах – это самая жесткая запись, которую я когда-либо делал, – жесткая, как пощечина. Поэтому довольно забавно, что, когда пластинка вышла, она получила восторженный отзыв этого эстетствующего сноба Мелвина Брэгга[318] в его шоу по британскому телеку. Кроме того, по-видимому, Стинг где-то написал о нем благоприятный отзыв! Бога ради, откуда у него взялось на это время?
В Англии нашлись какие-то дурачки, которые в своих обзорах объявили «Альбом» моей попыткой «приобщиться к американской культуре». Нет, боже милостивый, нет! Позвольте вам напомнить, мальчики и девочки, хэви-метал – это абсолютно английская штука – от Deep Purple до Led Zeppelin! Их музыка была самой тяжелой в этой вселенной и самой влиятельной, так что с какой стати мне «приобщаться» к американцам. Невозможно научить британского бульдога этим глупым трюкам. Я не вокалист хэви-метал-группы, но я использую этот жанр, переворачивая его с ног на голову, и демонстрирую, скажем так, развитие теории.
Это стало откровенным посылом на три буквы многих слушателей, у которых сложились по отношению ко мне определенные ожидания. Должен сказать, я наслаждаюсь подобными моментами. Я не собираюсь намеренно раздражать зрителей, или поступать назло им, или что-то в этом роде, но если они занимают позицию – «Это не то, что мы ожидали», тогда – ура-ура! – я буду упиваться этим, потому что вы вообще не должны сидеть сложа руки и чего-либо ожидать. Вы можете сделать выбор, нравится вам это или нет, но если вы собираетесь ненавидеть альбом, потому что он звучит не так, как предыдущий, вы – не последователь Джона Лайдона. Вы меня не понимаете. Я не следую за собой, так что, пожалуйста, не – следуйте – за – мной.
В Америке «Альбом» попал в чарты «Биллборд», и я думал, что Elektra будет на седьмом небе от счастья. Парня, с которым я имел там дело, звали Боб Красноу, тихий, замкнутый человечек, полный пренебрежительного высокомерия. Находясь в его офисе, я задавался вопросом: «Что это за безобразие в коридоре?» Он презрительно бросил: «Моя жена – коллекционер произведений искусства». Таким образом, современное искусство заполнило все офисы, и за глаза сотрудники говорили: «Я знаю, это так уродливо, но его жена…» Я полагаю, что на самом деле это были инвестиции, списание налогов.
Дом Боба Красноу в Нью-Йорке снаружи выглядел как кирпичный дом с обложки Physical Graffiti, альбома Led Zeppelin. Внутри все было устроено как-то безумно и неуютно. Он полностью снял внутренние перегородки, убрал перекрытия между несколькими этажами и поставил лифт, десятилетиями поднимающийся куда-то вверх, туда, где находились их спальни. Все было пространным и громадным, и вы чувствовали себя немного как в Гуггенхайме, художественном музее в Нью-Йорке, который я люблю из-за круговых проходов. Но нет, в его доме не было круговых проходов, просто повсюду царило холодное современное искусство. Какое бы в этих штуках ни заключалось послание, это секретный язык избранных, знание которого доступно только им одним. Вот в чем моя проблема с современным искусством: оно отсекает возможность понять его большинству из нас.
Поскольку мы не предоставили Elektra список имен музыкантов, понимая, что в случае, если мы это сделаем, они все равно напечатают их на обложке против нашего желания, на лейбле не имели понятия о том, кто участвовал в работе или насколько важна эта запись. В то время они были больше озабочены поддержкой своего нового детища, контракт с которым они недавно подписали – Metallica. Когда Album попал в чарты, Elektra расценила его не как долгожданный успех, что логично было бы предположить, а как угрозу Metallica, их долгосрочным перспективам, и поэтому они меня выдворили. Позже на студии с ужасом узнали, кого только что выбросили за борт – не только Джонни Роттена, но и Стива Вая, Джинджера Бейкера и других. Вы только что уволили настоящих героев музыки, идиоты!
Если бы Elektra нас не бросила, мы могли бы поехать в тур с группой, которая записала альбом. Но красная ковровая дорожка была из-под нас выдернута, и теперь это стало невозможным из-за финансовых соображений. Так что я отправился восвояси искать себе другой состав для PiL. Чтобы начать все сначала… снова.
Кто цензурирует цензоров? # 3
Не дай мне быть неправильно понятым[319]
Радио «Би-би-си» какое-то время доставало меня по поводу Live Aid Боба Гелдофа[320]. У меня возникла тогда парочка вопросов: «Какую армию он кормит? Кто-нибудь вообще знает, что в Эфиопии идет гражданская война? К чему все это на самом деле?» Не все ладно прошло с этой затеей. А спустя годы, наконец, были заданы правильные вопросы: «Почему грузовики с продовольствием задерживались на границе? Куда вообще делась еда? Были ли организован какой-нибудь образовательный проект, чтобы научить этих людей правильно вести хозяйство? Вместо того чтобы позволить их козам все съесть, а потом удивляться, почему ничего не осталось».
Я излагаю все очень простым языком, очевидно, что проблема больше, глубже и шире, однако мне кажется, что это стоящие вопросы. Спросите меня, и я именно так и отвечу. Меня не удалось втянуть во всю эту историю с Band Aid, потому что я хотел знать, насколько хорошо организована сама система. А Гелдоф – мой приятель! Сложилась ситуация, когда если ты не хочешь участвовать в Band Aid, значит, ты какой-то скряга. А это далеко не вся правда. Благотворительность ради благотворительности вовсе не является благотворительностью. Скорее, выпендреж поп-звезд, которые чувствуют таким образом свою значимость. Однако если бы они потрудились порыться в собственных карманах, то смогли бы собрать больше денег, чем все зрители в мире, вместе взятые.
Band Aid стал сплошным самодовольством, голыми амбициями и самоуверенным похлопыванием по спине. Это было невыносимо. Мероприятие, устроенное не ради решения каких-либо проблем, а для самовозвеличивания. С тех пор благотворительность сильно пострадала от звезд. Они опасны для любого реального дела.
Честно говоря, я и сам бы не отказался от такого Band Aid’a. Я выступил с заявлением, в котором заметил: «Я сам себе любимая благотворительная организация, и я единственный, кому, по моему мнению, стоит пожертвовать». И я, черт возьми, действительно сказал то, что думал. Пришлось побороться, но я не собираюсь выезжать на чужой шее только потому, что это событие устроено для того, чтобы все чувствовали себя хорошо. Я должен испытывать искренний отклик, это действительно должно что-то значить и иметь реальный эффект.
Я много чего делаю для сиротских приютов. Этих детей мне и правда жаль, здесь я реально могу помочь, и я стараюсь делать это, особо не афишируя. Я пожертвую им какие-то вещи, они соберут деньги на eBay, но мое имя напрямую с этим не связано, поэтому эго ни при чем. Всегда находятся люди, которые говорят мне: «Если вы позволите нам использовать ваше имя, мы заработаем намного больше». Со мной такое не пройдет. Я думаю, что тогда все это становится разрушительным и эгоистичным, и это опасность, которой я бы хотел избежать. Личность человека не должна значить больше, чем сам повод. Если вы не готовы помогать детям-сиротам, голодающим детям или больным детям, не прикрываясь именем поп-звезды, вы ужасный человек.
Использование имен знаменитостей – это чушь, и чушь опасная. Всякий раз, когда кто-то из селебов делает что-то не так, неделю спустя в прессе появляется реклама с упоминанием благотворительных организаций, с которыми они связаны, и это выставляется в качестве прикрытия. Поп-звездам очень выгодно эксплуатировать всевозможные благотворительные организации в своих собственных интересах, и я возмущен тем, что они это делают, потому что мы не должны так поступать.
Я говорю «мы», потому что чувствую себя столь же виновным, как и настоящие пособники преступления, поскольку я должен был бы высказываться больше, объяснить им, чтобы они этого не делали. Но чем больше я говорю, тем больше нарываюсь на гневную отповедь. Что и требовалось доказать… Это история моего эпического путешествия, в самой его красе, когда мне отрубили голову, потому что я оказался первым, кто ее высунул. Сам виноват, сам, блядь, напросился.
В наши дни, в современном мире гугла, письма, которые ты получаешь, как правило, являются просьбами о помощи от фейковых благотворительных организаций. Люди сообщают мне, что их мать умирает от рака. Все это просто слишком тяжело, чтобы взять на себя. Я не могу отстаивать дело каждого отдельного человека или реагировать на всякий резонансный повод. Это уже слишком. В этом отношении я руководствуюсь собственными мотивами. Я не могу позволить, чтобы за мои сердечные струны постоянно дергали. В последние годы произошло несколько подобных случаев, оказавшихся фальшивыми, что наложило на меня огромный отпечаток. Конечно, очень трогательно, что у кого-то нет иного выбора, кроме как обратиться ко мне, но это накладывает на меня огромную ответственность. Они что, серьезно?
И в то же самое время вокруг меня происходит много смертей – умирают члены моей группы, умирают мои друзья, умирают члены моей семьи. Некоторые из них из-за болезней, несчастных случаев или чего-то еще, другие кончают жизнь самоубийством. Я не святой, и я не хочу видеть себя загнанным в угол в роли сутенера, торгующего благими делами. Потому что я не такой, я не могу так поступать, у меня нет на это сил. Надеюсь, я оказываю хорошее влияние на умы людей, но я здесь не для того, чтобы набивать их кошельки или пополнять их казну, потому что, когда читаешь много подобного рода фанатских писем, понимаешь, что их намерения в чем-то эгоистичны. Они не сознают, что так нехорошо поступать с другим человеком, требовать, например, чтобы ты подписал поздравительную открытку для их мужа только потому, что он большой поклонник панка, и это было бы здорово. С одной стороны, смотришь на все это, вроде как мелочь, но чем оно заканчивается? И ты становишься более избирательным. Хочешь продолжать? В таком случае это уже занятие на полный рабочий день, за которое очень плохо платят, ну, или ты просто говоришь себе: «Нет, пора с этим завязывать, это отнимает слишком много энергии».
То же самое касается автографов на концертах. Я искренне люблю здороваться с фанатами. Это может быть очень весело – мы реально встречаем некоторых странных и прикольных персонажей. Мы ласково называем их «Леденцовая публика» в честь песни PiL «Леденцовая опера»[321]. Я буквально часами разговаривал с людьми после концерта, даже приводил их за кулисы, чтобы выпить и поболтать. Но спустя какое-то время ситуация выходит из-под контроля. Народ ожидает, что ты будешь вести себя подобным образом каждый вечер, а когда я этого не делаю, они возмущаются. Они не понимают, что в этом нет ничего личного – отнюдь нет: иногда мне просто нужно сесть в автобус после концерта, прежде чем я умру от простуды и в конечном счете сорву остальную часть тура. Где провести черту в общении с людьми?
Существует также и много профессиональных охотников за автографами, которые, и мне это прекрасно известно, немедля выложат их прямо на eBay. Они следуют за нами повсюду и портят отношения с остальными фанами; это вечная битва. И дело не только в профессионалах: мы на самом деле не раз наблюдали, как люди уходили с концертов пораньше, чтобы встать в очередь у выхода со сцены. Что, моя подпись для тебя важнее, чем выступление? А я-то считал тебя фанатом? Абсурд. Это лишает все происходящее удовольствия – лишняя трата времени и энергии.
Моя энергия уходит в песни – это мои обязательства. Это моя работа, мое влияние на планету Земля. Я не хочу начинать заниматься благотворительностью. Благотворительность – последствие славы или позора. Одна фраза, которую я и в самом деле внес в «Великое рок-н-ролльное надувательство», была: «Позор, у них у всех на меня зуб!» Это же Кеннет Уильямс! Я так люблю все его «Так держать»[322]. В детстве эти фильмы казались такими веселыми. Для молодого ума того времени они стали славной насмешкой над правилами и нормами современного общества. Так и получилось, что еще давно, когда Малкольм только начинал фильм, задолго до того, как тот превратился в «Великое рок-н-ролльное надувательство», мне удалось туда кое-что добавить.
У юмора можно многому научиться. Буду ли я учиться у «Войны и мира» или у Нормана Уиздома? Да подайте мне Нормана, когда угодно. Он ближе моему жизненному опыту и, следовательно, имеет большее отношение к делу. А глубинная тоска русской интеллектуальности бесконечно далека от всего того, что я испытал. Хотя, возможно, я еще и доберусь туда. Если вы умираете от неизлечимой болезни в больничной палате, вот где место Достоевскому. Там все так ужасно, что даже может повеселить.
Я действительно читал в детстве «Преступление и наказание». И я хорошо помню телесериал с английским актером Джоном Хертом в главной роли[323]. Немного похож на крысеныша, но какой же он замечательный актер. Он также сыграл знаменитого гомосексуалиста Квентина Криспа в фильме «Голый чиновник»[324]. Я встретил Херта много лет спустя, он мне и вправду понравился. Внешне напомнил мне Кита Левина – с такой же жирной кожей. Но у него не было мертвых глаз Кита. Я нашел его умным человеком и способным к реально интересной беседе. Он мне понравился. Умный зайка. Его жена или подруга умерла год назад, и он испытывал глубокую печаль. Ему было очень трудно находиться на публике. Я чувствовал его боль, так или иначе, та же боль присутствует и в моих песнях.
Скорбеть на публике очень трудно, и худшая сторона этого – когда совершенно незнакомые люди подходят и говорят, что они «сочувствуют вашему горю». Излишнее напоминание о том, о чем ты пытаешься не думать хотя бы несколько коротких мгновений. В конце концов ты понимаешь, что жизнь может быть настоящим дерьмом, и она становится только хуже, так что лучше бы тебе попытаться сделать ее более сносной. Тебе приходится с этим смириться. Я делаю все, что в моих силах. Внутренне, в своей голове, люди, которые продолжают к вам подходить с соболезнованиями, имеют в виду только хорошее, но они напоминают тебе о чем-то, что заставляет тебя чувствовать себя очень уязвимым и хрупким эмоционально, изолированным в окружении незнакомцев. Это ужасная вещь, которую приходится терпеть. Такое часто случается.
Однако давайте посмотрим правде в глаза, мой теперешний образ жизни лучше, чем любая из альтернатив, которые мне предоставлялись. А выбора было не так уж много. Антихрист – это то, кем я случайно стал, но это абсолютно не то, к чему я стремился. Мне всегда нравилась эта песня: «Don’t Let Me Be Misunderstood». У меня добрые намерения. В исполнении The Animals, правда? Эрик Бердон[325].
Версия Нины Симон мне тоже очень нравилась, и я любил Нину в музыкальном плане. Я встретил ее однажды на концерте Питера Тоша[326] в Лос-Анджелесе, но она повела себя по отношению ко мне как настоящая сука. «Кто этот белый мальчик?» – «Белый мальчик? Да мне за сорок – как ты думаешь, с кем ты разговариваешь?» Она абсолютно ясно дала мне понять: «Тебе не место здесь, с черными людьми». Я полагаю, у всех случаются не лучшие деньки, но следует быть осторожнее, чтобы ваш плохой день не стал таким же для других.
Как ни странно, вот он я, человек, который говорит открыто, от всего сердца, но даже я понимаю, что надо быть осторожным в ситуациях на публике. Она потрясающая, и я не позволю сказать ни слова против ее музыки; это было просто: «Только не обзывай меня белым! Мы все хотим жить в мире, где мы равны, а ты бросаешься таким мусором. Это неправильно!»
К чести Питера Тоша – а он был в первом составе The Wailers с Бобом Марли и все такое – никогда не имел в виду ничего подобного. Он попытался исправить ситуацию и сказал Нине пару слов. Да, у нас с Питером были разногласия – о, возможно, это даже связано с «Роллинг Стоунз»! Послушайте, мы все иногда можем перегнуть палку, главное, не слишком в этом усердствовать.
Питер работал с ними, и я высказал свое мнение по этому поводу. Однако я всегда знал, что Кит Ричардс любит регги. Он относился к регги очень серьезно. В музыкальном плане Кит далеко не безграмотный парень. Я никогда его не встречал. Мы, наверное, не поладили бы. Но тут, да, как и с Элтоном Джоном, – тоже человек, который может оценить работу других и не упускает ничего из происходящего в мире музыки. Это всегда меня впечатляет. Это хорошая оценка, показатель – и я вовсе не занимаюсь самовосхвалением! – значимости звезд, когда я узнаю, что они похожи на библиотекарей в своем подходе к музыке и хотят знать все о любом, кто работает в той же области. Так и должно быть. Так что спасибо Киту за то, что он любит регги. Я имею в виду, а почему бы и нет, в промежутках-то между ежегодными переливаниями крови?
Глава 10. Счастлив не разочароваться
«Я никогда не думала, что у него есть талант, всегда считала гением Сида». Печальное, жалкое, глупое обвинение, которое все еще доносится из лагеря Малкольма Макларена. Эти слова принадлежат Вивьен Вествуд и были сказаны ею еще в конце 1975 г., когда я отказался подчиниться ее модному диктату. Спасибо тебе, блядь, преогромное, сука, ты загоняешь втридорога мои гребаные идеи одежды, и у тебя хватает наглости так говорить.
Самое ужасное, что на эти слова отреагировали многие люди, которым захотелось им поверить, а я до сих пор изгнан из, назовем так, модного общества из-за распространившегося там ко мне отношения, подхваченного еще в те давние времена с легкой подачи Малкольма и Вивьен. Ну прям зашибись, детка. Только я все еще здесь.
Восемь долгих и беспокойных лет прошло с тех пор, как развалились «Пистолз». Я вроде как понимал, что за это время много достиг и доказал, но теперь, наконец, мое дело против Малкольма дошло до суда.
С самого начала мой адвокат Брайан Карр сказал мне, что у меня нет ни малейшего шанса на этой богом данной земле отсудить себе хоть что-нибудь, и я не должен продолжать разбирательство. Я настоял на том, чтобы поговорить с барристером, – штука, которую надо обязательно усвоить, если оказываешься в подобной ситуации в Англии. И он ответил: «О, это очень рискованно. Вы готовы?» И все завертелось. Слушания закончились за несколько дней до моего настоящего триумфа – выхода сингла «Rise»[327]. Эта песня изменила отношение ко мне людей в позитивную сторону. Мы сняли отличное видео, показывающее вывешенное на веревках белье в одном из самых истерзанных районов Лондона – волнующие образы тех мест, где я вырос, – благодаря которому мы залетели на MTV. Мы побывали и на Top of the Pops, и песня, похоже, зашла всем – даже критикам! Битва с Малкольмом казалась древней историей.
Сам «процесс», впрочем, длился три дня, и Малкольм благоразумно решил не участвовать в суде. Все это было похоже на дохлый номер, какой-то сплошной понос. Я не знал, чего хочу на самом деле. Мне не хотелось больше никаких тайных обид, и я не желал уходить, завладев всем. В каком-то смысле мне нужна была «доля», и в конечном счете мы получили то, что получили: мы, четверо выживших участников, должны были разделить между собой все, начиная с названия Sex Pistols и заканчивая тем, что осталось на банковском счете группы – бо́льшая часть денег с него пошла в уплату огромного непогашенного налогового вычета.
Тем не менее все чудесным образом устроилось: теперь нам не грозило вечное банкротство. Единственное, что нужно было сделать, – упорно работать, чтобы не сползать и дальше в этом направлении. Нам удалось спасти имя Sex Pistols от неумелого управления, и с тех пор не только я, но и люди, с которыми я связан, борются за сохранение целостного представления о том, чем на самом деле являлись «Пистолзы».
Люди должны понять: Малкольму никогда не нужны были деньги. Он жаждал дифирамбов. И что на самом деле решило исход процесса – понимание того факта, что не Малкольм сделал все, не он занимался творчеством.
В последний раз я видел его, когда The Clash играл ради получения американского вида на жительство в Bond’s в Нью-Йорке – мы тогда только переехали туда в мае 1981 г. Берни Роудс вновь занялся менеджментом The Clash, и он, зная, что Малкольм также находится в городе, устроил нам ужин на троих, чтобы попытаться уговорить меня и Малкольма заключить мир. Я действительно не мог воспринимать Малкольма всерьез. Самый бессмысленный вечер в моей жизни. И окончательное подтверждение того, откуда вообще взялся Малкольм. Он сказал: «Это глупо, Берни, мы никогда не полюбим друг друга, зачем ты это делаешь?» – и мы вместе встали и ушли. Выйдя на улицу, он повернулся ко мне и заметил: «Ну, по крайней мере, нам не пришлось за это платить». Мне было как-то наплевать на эти деньги, не самая большая победа в жизни, однако здесь во всей своей красе проявился паршивый подход Малкольма к людям. Он все время пытался их надуть, в этой своей убогой пронырливой манере.
Все люди, которые были рядом с нами с самого начала, все те, кто считался «друзьями Малкольма» – например малютка Хелен Веллингтон-Лойд[328], – стали в итоге «недругами Малкольма». Все начиналось с первых восторженных воплей: «О, Малкольм делает великое дело», – и заканчивалось пониманием, что никакого великого дела он не совершает. По правде говоря, Малкольм обладал очень разрушительным влиянием как на себя самого, так и на всех остальных, пытаясь манипулировать жизнями людей, не слишком хорошо справляясь с собственной. Что-то вроде катастрофы. Бедный мудачок.
У Малкольма была склонность к обладанию. Вся эта ситуация оказалась очень сложной для Пола и Стива, потому что их квартира на Белл-стрит в Марилебоне принадлежала Малкольму. Они прекрасно понимали, что, решись они перейти в ходе судебного разбирательства на другую сторону, это может поставить под угрозу их существование. В конце концов, едва только положение Малкольма пошатнулось, они поменяли позицию.
Я не рассматривал это как победу, скорее, как урегулирование ситуации со Стивом и Полом, потому что они в конце концов поняли, что мой подход правилен и точен. Малкольм спустил нас в унитаз по контракту. Был ли большой совместный праздник с хлопаньем пробок от шампанского и всеобщим братанием? О, я так не думаю! Нисколько. Они причинили мне кучу вреда своими высказываниями. Все это еще во мне. И по сей день я знаю, что здесь многое можно исправить. Но, в конце концов, если у меня нет ни обиды, ни ненависти к Малкольму, так с какой стати я должен испытывать это по отношению к ним?
В мае 1986 г. на концерте в Брикстонской академии собралась банда из 100–150 человек, которые заявились туда, чтобы уничтожать. Эти идиоты почему-то решили, что я – Враг. Они плевались и швыряли бутылки; мимо наших ушей со свистом проносилась всякая дрянь! Некоторые из них постоянно пытались пробраться на сцену или взобраться на колонки, стоявшие в левом ее углу. Вышибалы, похоже, не были должным образом организованы, или, возможно, их просто не хватало. Что-то пошло абсолютно не так. Вечер напоминал непрекращающееся сражение. Все, что я мог слышать, это «Ты – блядь!» и «Продался!», свист и вопли – что угодно. То дерьмо, которое они прочли в газетах, – что я продался, когда создал PiL, когда записал альбом с чертовыми снобскими музыкантами, что я больше не панк.
В здании и за его пределами царила мрачная, жуткая атмосфера. Я слышал, что перед шоу произошло несколько ограблений. «Брикстон» в те дни был опасным местечком. Местные считали обычного посетителя концерта легкой добычей. Внутри заведения неприятности казались срежиссированными. Все это было полной херней, злой и мерзкой, но это показывает, как легко СМИ могут манипулировать сознанием людей, рассказывая им всякую чушь. С тех пор как я закончил «Альбом», все складывалось совсем нелегко – мне пришлось очень быстро собрать группу для концертных выступлений, пока шел процесс с «Пистолз». Теперь жизнь становилась еще хуже из-за этих однопроцентных, назовем их так, которые бездумно проглотили подброшенные СМИ домыслы, добавив к ним свои собственные. Откровенно говоря, для меня между ними и правительственными ищейками нет вообще никакой разницы.
Было ужасно обидно, потому что мы предлагали толпе нечто замечательное, реально выводя PiL на новый уровень, и подавляющее большинство зрителей нас полностью поддержали, откликнувшись на позитивную энергию, которая исходила от «Rise» и «Альбома». Именно та однопроцентная клика – этакие скороспелые панки-сквоттеры – ополчилась против нас не на жизнь, а на смерть. Новое поколение, которое все неправильно поняло. Они и создали ту жуткую ситуацию. Вышибалы, дежурившие в тот вечер в «Брикстоне», были в основном из местных. Я как-то не слишком впечатлился их работой, но некоторые из них были, в общем, неплохие ребята. Один из них, с которым я случайно заговорил, потому что он был болельщиком «Арсенала», сказал мне: «Послушай, Джон, они тоже плюются и швыряются в нас вещами, что ты хочешь, чтобы мы сделали?» Мой ответ был: «Только не проломите никому голову!»
С этим очень трудно справиться. А ведь я должен был еще и заниматься своим делом. В таких ситуациях ты легко можешь оказаться ответственным за начало беспорядков. Но, право же, – какая ненависть! Их цель не вызывала сомнений: «Порвем Джонни Роттена! Кем он себя возомнил?» На что я отвечал: «Вы делаете работу правительства, уебки! Тем лучше, меня этим не остановишь!» Но когда дело дошло до того, что моя группа реально обеспокоилась перспективой получения серьезных травм, признаю, в этом отношении я был с ними согласен. Что ж, пойдем другим путем.
На площадке царил полный хаос, никто ничего не слушал. Единственным возможным ответом было остановить выступление. Группа удалилась, и я сказал: «Мы не вернемся, пока это не прекратится. Вам хорошо известно, кто вы есть на самом деле, – просто перестаньте! И если вы знаете, кто они, укажите на них, и мы их остановим». Последовала большая драка, и несколько человек было выброшено из зала.
PiL на тот момент были далеко впереди этих людей. Какая жалость. И все же мы были хороши! Очень неприятно, поскольку мы реально очень долго настраивались на концерт и реально стоили тех денег, которые за нас заплатили, плюс мы старались держать цены на билеты как можно ниже. Поступив так, мы допустили на концерт всяких шавок, ревнивых, абсолютно бездарных, с низменными вкусами. Это как «ведро с крабами» – хорошее старое выражение, которое сюда очень подходит. Они тянут вас вниз, на свой уровень, потому что у них нет ответа. Никакого сочувствия. Сугубо британское отношение к успеху – ненависть к любому из собственных достижений.
Конечно, в этой ситуации моей новой группе оказалось нелегко – так себе панковская «ответочка». И ничто из произошедшего не шло на пользу главной теме, стоявшей на повестке дня, – начать все сначала. И в самом деле, скажу я вам, очень непросто было собрать новый состав. На сей раз нам было не обойтись объявлением в газете – я думал о новой группе в контексте звучания, поиска родственных душ, людей, которые реально смогли бы между собой поладить. Людей, которых ты встречаешь за кулисами, ребят из других групп, тех, с кем ты общаешься, тех, с кем ты ладишь, – они остаются в твоем сознании.
Итак, после выпуска «Альбома» я вернулся в Лондон и нашел там Джона Макгиоха[329]. Он был гитаристом в Magazine, и я являлся его большим поклонником. Разве поспоришь, что он великолепно выступал в Siouxsie and the Banshees? Так что мы самым замечательным образом нашли друг друга; да и к тому времени были уже очень хорошими друзьями. К сожалению, Джон скончался в 2004 г., но общаться с ним всегда было весело. Его настрой был таков: «Где бар?» Он начинал с двойного мартини, и ему было все равно, взболтать его или смешивать, и так далее, и так далее. Джон мог быть трудным человеком – настоящий шотландец, – и у него случалось много внутренних эмоциональных срывов, но я не возражаю работать с трудными людьми, если у них есть талант.
Джон всегда будет значить для меня неописуемо много – просто превосходные навыки игры на гитаре, и совершенно в ином стиле, отличающемся от того, с чем я обычно сталкивался. Я привык к ритмичным стилям и способам исполнения. У Джона же была более мелодичная манера, с периодически вплетавшимися джазовыми аккордами. И работать с ним оказалось потрясающе приятно.
Брюса Смита[330] я знал почти всю жизнь, реально. Я впервые встретился с ним на концерте, где он выступал вместе со своей первой группой, The Pop Group[331], и по какой-то странной причине мы, «Пистолзы», решили, будто они нам угрожают. Они же думали, что им угрожаем мы, и пребывали в ужасе – но их-то там около семнадцати человек! Позднее Брюс играл на барабане в The Slits. Он прошел подготовку регги-барабанщика, участвовал в записях соул, играл джаз – с ним много чего происходило. Беззаботный, дружелюбный парень, но вскоре я обнаружил у него искру гениальности в том, что касалось репетиций. Он очень ритмичен и обладает самобытной личностью, благодаря которой все эти противоположные силы сходятся в единое целое – качество, которого мне, откровенно говоря, время от времени не хватает.
Брюс пригласил играть на басу Аллана Диаса[332], поскольку у них был кое-какой опыт совместной сессионной работы, и я доверял уверенности Брюса в его силах. В итоге Аллан стал одним из самых «долгоиграющих» участников PiL – в жизни не обязательно все складывается со знаком минус. С Алланом оказалось легко ладить, он был очень веселым и, без сомнения, любителем женщин. Он обладал такой уверенностью, что девушки просто вешались ему на шею. Сексуальный маньяк. Вот так-то, это PiL, и мы обслуживаем все и всех.
Лу Эдмондс[333], клавишник и гитарист, появился у нас после еще одной странной встречи в Лондоне. Я совершенно забыл, что он был в The Damned, и вообще не узнал его – и не держал на него зла. Вот так он и оказался в PiL – в своей рыбацкой кепке, курил маленькие самокрутки и выглядел, скорее, как профессиональный социальный работник. Он – один из самых покладистых, замечательных людей, с которыми я только имел дело. Это так странно, его мозг и тело разъединены. Его движения раскоординированы и неритмичны, и все же он способен на самое потрясающее исполнение, которое я когда-либо слышал от любого человеческого существа. Он любит атмосферу, звучные ритмы, переломы, тональности, хаос.
Собранные вместе, эти четверо представляли собой разномастную группу людей, невероятно отличавшихся друг от друга, но я подумал: «Наконец-то это может сработать». Никто из нас не диктовал свою энергетику, не определял атмосферу или настрой песни. Это был реальный обмен талантами, очень щедрый, никакой диктатуры. Что стало для меня настоящим глотком свежего воздуха, потому что, оглядываясь назад, я понимаю, что мой предыдущий опыт действовал на меня удушающе.
То, с чем столкнулись эти ребята во время нашего первого тура по Великобритании в мае 1986 г., было просто ужасно – им пришлось очень, чрезвычайно трудно, и это не только концерт в «Брикстоне». На премьере в Хэнли какой-то идиот бросил в меня бильярдный шар. В Эдинбурге меня ударили по голове дамской туфлей на высоком каблуке-шпильке. Ух ты, это реально выбило пару искр из моей черепушки. Справедливости ради стоит отметить, что Ричард Джобсон из The Skids[334] подошел ко мне после концерта и сказал, что поговорил с девушкой, которая это сделала, и она очень сожалеет. Девушка всего лишь хотела сказать что-то типа: «Эгей, вот моя туфля!» – и не имела в виду ничего дурного, в общем, не намеревалась выколоть мне глаз.
В Вене Макгиох получил по голове двухлитровой бутылкой вина. В итоге ему наложили около сорока швов. У нас были проблемы и на другом фестивале, в Голландии. Уговор был, что, если дело опять дойдет до швыряния предметов, нам придется уйти. Группа стоит на сцене, пытаясь играть, и у них нет свободных рук, чтобы ловить вещи. Сам-то я очень хорошо справлялся с этой задачей и ловил все, что в меня летело, не пропуская ни одного удара. Но это не игра. Так можно довольно серьезно пораниться. На некоторых больших фестивалях, где сцена низкая, это могло быть очень, очень опасным.
Оказалось, что в Вене бутылку в Макгиоха запустили идиоты из группы, выступавшей у нас на разогреве. Они зашли за стойку бара и стащили пустые бутылки, которыми потом в нас швырялись. Встал вопрос, как это остановить? Я бросил в зал: «Побудьте полицией сами. Кто это сделал?» Вообще говоря, толпа на них указала, и они спрятались. Ты всегда должен пытаться что-то сделать самостоятельно, занять твердую позицию.
В то время у меня не было возможности объяснить это в средствах массовой информации. Они реально не были готовы слушать и пускали в печать в основном негатив. Я стал для них легкой добычей, и, кроме того, я совсем не ощущал за собой должной поддержки звукозаписывающей компании, что позволяло журналистам попросту на мне отрываться. И в то же время на негативные отзывы, скажем, о Мадонне, когда она начинала свою карьеру, лейбл отреагировал очень быстро, пригрозив, например, снять из соответствующих изданий рекламу. У меня такая поддержка отсутствовала, и поэтому я был, так сказать, цыпленком на свободном выгуле, да-да, детка! И все потому, что мое имя взлетело высоко и было прекрасно известно, вау, какая отличная цель. Да еще и никто особо не ценит его заслуги. Или музыку.
Во время тура мы открывали сет песней Led Zeppelin «Kashmir». Я люблю эту песню, правда, она мне очень нравится. И я вовсе не имею в виду версию Пафф Дэдди, вышедшую некоторое время спустя. Мне очень хотелось ее спеть, но у меня так и не нашлось на это возможности на репетициях. Однако я настоял, чтобы группа отрепетировала песню, а также чтобы мы начинали с «Kashmir» концерт, но каждый раз они ждали, что я присоединюсь, а я стоял в стороне и так никогда этого не сделал. Я обосрался. Никак не мог взять себя в руки – та самая штука, которую я придумал и так хотел исполнить, – настоящее посмешище.
Но все равно это была отличная вступительная песня, очень красивая музыка, и мне понравилась идея позволить людям услышать ее просто так, не приукрашенную Вашим Покорным Слугой. «Привет, это не шоу Джонни Роттена, посмотрите на эту группу!»
В глубине души мне хотелось петь, как Роберт Плант. Я люблю Планта, замечательный он парень. Встречался с ним пару раз и могу сказать о нем только хорошее. Он относится к тебе без этого предвзятого противопоставления «мы – они». Очень открытый человек, лучшее, что есть в музыке. Он мне очень, очень нравится. Ну, то есть мне не нравится его прическа, но что с того?
Слушайте, да он пришел в «Рокси» в первые дни панка, когда мы еще толком вообще ничего не понимали. «Рокси» тогда был глубокой темной панковской дырой, настоящим логовом зла, но у него хватило духа туда явиться – мне кажется, он заходил туда с Лемми из Motörhead – и это было потрясающе! Я направился прямо к ним и сказал: «Привет, рад вас видеть!» Потому что это действительно было так. Он просто похлопал нас по спине. Конечно, там были придурки, которые гундели типа: «Фу, и че ты с этим треплешься? Ему здесь не место». – «Нет, ну только не надо мне рассказывать, кто здесь быть должен и кто не должен. В панке нет предубеждений! Абсо-блядь-лютно!»
После всего случившегося во время тура насилия мы, PiL, чувствовали, что попали в ловушку с этой идиотской частью аудитории, которая стала его причиной. Тем не менее успех «Альбома» в Британии означал, что мы снова оказались на радаре у Virgin, углядевших в нас коммерческую перспективу. Поп-мейнстрим в то время был ужасным местом, и мы реально не чувствовали связи ни с кем из своих коллег. Как и само общество, весь этот период в музыке был завязан на материальных благах. Мне приходилось постоянно продираться сквозь это, и меня ненавидели за все, что я когда-либо делал.
Я пытался писать о человеческих эмоциях и политических проблемах в эпоху рейганомики и яппи. Больше, чем когда-либо прежде, суть всей поп-индустрии заключалась во фразочках типа: «Ура-ура, давайте срубим на этом бабла». Многие из моих так называемых собратьев по музыке из различных групп постоянно лезли в мои дела, говоря: «Почему бы тебе просто не написать хит?» – все та же старая чушь, которую я слышал с того самого дня, как попал на свою первую репетицию. Нет! Ты пишешь то, что пишешь, в соответствии со своим опытом, своей человеческой природой и своим пониманием мира, и если ты попытаешься выйти за эти пределы, ну да, ты срубишь бабло, но так и останешься одиноким глупым пидорасом.
Мне казалось очень странным, как мало в чартах было музыки, имеющей хоть какой-то смысл или политическое значение. И такой человек, как Бой Джордж, стал, на мой взгляд, редким исключением. Люди, которые мне нравятся в музыке, – это те, кто сделал что-то абсолютно оригинальное, с отзвуком гениальности, и я ставлю Бой Джорджа в этот ряд. Он придумал нечто действительно великое и сложное. В то время, когда панк стал степенным и скучным, появляется Culture Club[335]. Фантастика. Джордж носил индийскую мужскую одежду в очень женственном стиле. Парнишка умеет петь, и у нас с ним одно происхождение – тот же жесткий мусор рабочих окраин. Он из тех, кто может постоять за себя, во что бы он ни ввязался, он умный, поэтому мне и нравится. Больше уважения, больше власти. Джордж был из тех парней, которых нам реально не хватало, чтобы сделать 1980-е более сносными.
Мир, в котором я хотел бы жить, – возвращение в ранние клубы, типа Louise, где абсолютно разные люди могли бы вращаться в одном и том же общем окружении и не создавать друг другу проблем, не осуждать друг друга и иметь разные сексуальные предпочтения.
Поэтому 1980-е гг. оказались для меня в этом отношении очень негативными, на самом деле это было жестокое соревнование из серии «кто сделает самое дорогое видео и покруче в нем выпендрится». Какая жалость, какой позор. Потому что, как я уже говорил, я люблю Duran Duran. Я обожаю «Hungry Like The Wolf», но разве так необходимо было снимать промовидео стоимостью в сотни тысяч фунтов? Они сотворили настоящего нового монстра – видеорежиссеров, и это стало реальной задницей. Требования, исходившие от этих людей, были смехотворными. Песня не имеет значения, работа в студии, твой образ жизни, твоя группа – ничто. Мы слышали только: «У меня есть идея. Все, что от тебя требуется, – за нее заплатить!» Видео становилось важнее музыки.
Самая смешная штука в то время – маллет. И опять-таки подразумевалось типа: «Нам прикольно!» О’кей, мне все равно, какую стрижку ты выберешь. Но как же все это было бессмысленно. Впрочем, я и сам тогда часто менял прически – хотя вряд ли они соответствовали моде! Только подумать, скольких причесок Бекхэма я был предшественником?
Я начал приклеивать кусочки меха на макушку суперклеем. Я использовал плавкую проволоку, чтобы эти пушистые шарики стояли прямо. Это были не дреды, а, скорее, такие кроличьи хвостики. У меня в голове болталось столько металла, что, клянусь Иисусом, только попробуй пройти контроль в аэропорте. Эта просвечивающая машина, которая издает писк, когда вы сквозь нее проходите, каждый раз просто заходилась: «Пиу-пиу-пиу!» Строчка «на голове моей замкнули провод» из «Rise» была еще и намеком на мою прическу, помимо пронзительной отсылки к южноафриканским пыткам электрошоком.
Я априори считаю то, что я делал, музыкой протеста. Тут уж ничего не попишешь. Это было необходимо сделать. Кто-то должен говорить правду. А время это было действительно лживое. Поразительно.
В моем творчестве всегда присутствовала политика. Ничего не могу с собой поделать. Я ощущаю естественную потребность помогать обездоленным и всегда буду ощущать. Я знаю, что это за эмоции. Я никогда не забуду полученной в детстве закалки и потому испытываю сострадание к людям, которым в жизни не повезло. Быть изгнанным из общества, которое не прощает ошибок, – совсем не просто. Так что – вот он я. Я изменю общество – я уже изменил его, и всегда буду пытаться это сделать, пусть даже сам буду тем, кто из-за этого пострадает. Все в порядке, я не против принять первую пулю, потому что в одном только музыкальном мире достаточно людей, которые это понимают. Это создает прекрасную стартовую площадку на будущее. Мой долг – встать и рассказать все как есть.
Когда дело дошло до записи нашего следующего альбома, Happy?, вышедшего в 1987 г., я испытывал злость на весь мир и страдал излишним многословием. Вместо того чтобы быть мелодичным, я подумал: «Запихну-ка я сюда столько слов, сколько смогу», – и мне это понравилось.
После совместных гастролей, где мы все так хорошо поладили, репетиции, на которых мы вместе писали песни для альбома, прошли удивительно гладко. Это реально вернуло меня к тому, почему я вообще начал писать песни. Вот поэтому мы и назвали этот альбом Happy? – даже трудно поверить, насколько «правильно»! – что реально удивило людей, поскольку стало уверенным шагом совершенно в ином направлении.
Нас объединяло потрясающее чувство совместной деятельности и любви к работе. Мне надоело прозябать в Нью-Йорке, ожидая, когда появятся люди. А здесь у нас было полно ярких идей, направленных к своеобразной поп-эмоциональности.
В «Seattle» звучит исключительная мелодия, в том смысле, что группа записала ее без меня. Обычно такого не бывает, но случилось так, что я застрял в Нью-Йорке с болезненным шумом в ушах, а это означало, что я не мог лететь. Группа отправилась в пункт нашего назначения, Сиэтл, и в течение недели им нечего было делать, поэтому мы договорились, что они пойдут и запишут что-нибудь, типа базовый бэк-трек. Когда я с ними связался, они сказали: «О, да это так, штука, с которой мы тут возились», – а я возразил: «Что? Это чертовски увлекательно!» Я до сих пор храню демокассету, которую они мне тогда дали. Она просто звенела, эта песня.
В ней где-то проскальзывала этакая напевность, почти как в ирландской народной песне, так что – бац, и я загорелся, вплетая туда чувствительность. Моя любимая часть песни – там, где «дворцы, баррикады, угрозы – и обещания»[336], – посвящена беспорядкам, происходившим по всему миру в середине 1980-х, от Броадвотер-Фарм в Лондоне до Индии.
Часть, которая гласит: «Персонаж потерян и найден / На незнакомом поле»[337], очень прямолинейна, но в целом она подразумевает великое множество парадидлов[338] мыслительных процессов. Парадидл – это такие упражнения для барабанщиков. Каждый барабанщик, которого я знаю, всегда сидит в углу и говорит: «Парадидл, парадидл, парадидл», – постукивая себя по коленям. Так же работает и интеллектуализм.
И хотя мы знаем, что интеллектуализм – это большое мошенничество, а одни из самых больших обманщиков человечества – интеллектуалы, но это все равно отличное место в песне. Подумайте! А потом, когда вам покажется, будто вам это удалось, подумайте еще!
Вот о чем в ней говорится.
Мне кажется, что все песни на этом альбоме были и вправду хороши и наполнены смыслом. «Angry»[339] – это «посмотри на себя, прежде чем судить других». «Rules And Regulations»[340] была на тему «не учите меня жить» – ну знаете, если вдруг позабыли, Роттен все еще здесь. «Hard times»[341], со ссылкой на Чарльза Диккенса, – тревожная песня о том, как национальная идентичность искажается до состояния этакого осадного менталитета с резким противопоставлением «мы» и «они». Я заявляю здесь: мы – это они. Все мы вместе – это они. И мы – это «мы». Все мы. И vive la différence![342]
Песня «The Body»[343] является практически прямой отсылкой к телеспектаклю Кена Лоуча «Кэти, вернись домой»[344]. Я посмотрел его, когда был еще совсем маленьким, и он очень сильно на меня повлиял. Речь шла и о нежелательной беременности, и об испытываемом незамужней матерью ощущении себя почти преступницей, и о том, что ей приходится пережить, – одиночество, отсутствие поддержки семьи и изоляцию. Ужасные, ужасные вещи. Я был мальчишкой, но чувствовал их очень остро. Много лет спустя, когда я уже жил на Гюнтер-Гроув, я обнаружил, что у кого-то есть бобина с этим фильмом. Я снова его посмотрел и просто сломался, опять плакал как в детстве. Мне было так грустно из-за Кэти, что захотелось обнять ее, обхватить своими руками, как крыльями. Да, я таков, и я не собираюсь приносить никаких за это извинений. Это мое отношение к жизни.
Последний трек, «Fat Chance Hotel»[345], был основан на реальной истории из моей жизни. Вскоре после распада Sex Pistols в 1978 г. я застрял в Лос-Анджелесе и познакомился с менеджером Гвен Дикки из соул-диско-группы Rose Royce. Менеджер оказалась англичанкой с ребенком, но мужа с ней рядом не было, а Гвен сидела абсолютно без дела, так что мы втроем с малышкой арендовали фургон и поехали в Мексику – я при полном панковском прикиде, в клетчатом бандажном костюме, в сопровождении, так сказать, чернокожей госпел-певицы и английской леди с дочерью-метиской. На нас определенно оглядывались.
К сожалению, меня настигли некоторые проблемы с пищеварением из-за местной кухни – ох, эти дешевые, некачественные тако. И еще я бы посоветовал всем, кто туда собирается: не пейте местную воду. Итак, я застрял на несколько дней в унылом захудалом отеле, и в песне есть довольно пронзительные слова о том, что у меня мозги пухнут от скуки, мне абсолютно нечего делать – за исключением проблем с моей «дрищущей задницей». Найти способ написать песню о том, что ничего не происходит, кроме диареи, не так-то просто, так что я был более чем доволен, когда услышал последний вариант записи. Все это, конечно, не должно отвратить вас от хорошего отдыха. Это интригует, но будьте осторожны. Есть в песне и любовь к пустыне. Что-то такое скрывается в тишине пустыни, которая вовсе не безмолвна, это самая громкая тишина, которую вы когда-либо слышали. Так что «Fat Chance Hotel» очень приятная песня; вы закрываете глаза и дрейфуете в ее пространстве.
Для меня альбом стал мощным опытом совместной продюсерской работы с Гэри Лэнганом из The Art of Noise[346], и в итоге все получилось довольно сбалансированно. Гэри был чокнутым, немного гениальным, но со смешком и улыбкой, и он всегда поступал, исходя из правильных побуждений.
В то время Лу был одержим технологиями и хотел каким-то образом воссоздать звучание инструментов гамелана[347] на современном синтезаторе с помощью компьютеров. Он потратил на это годы и годы, пока не пришел к выводу: «Да не нужно оно – просто играй на этой штуке!» Возможно, мы несколько чересчур углубились в набор тембров клавишных: я помню, в то время мы все были, так сказать, очень созвучны.
Для меня это серьезная проблема, все эти технологии. Люди, которые использовали их лучше всего, были Depeche Mode. «Your own personal Jesus!» Черт бы меня побрал, у них это получилось! Они использовали эффект «Касиотона»[348] и построили песню вокруг него, но не позволили ему стать определяющим. Это еще одна мелодия, которую я обожаю, – я был так впечатлен храбростью попытки поиграть с такими вещами.
Обложка Happy? – кивок в сторону немецкого художника Фриденсрайха Хундертвассера, чьи работы произвели на меня сильное впечатление. Я ничего о нем не знаю и знать не хочу. Но каждый раз, когда этот человек что-нибудь создает, я весь внимание. Он также занимался архитектурой – Хундертвассер придумывал разбить сады на этажных перекрытиях небоскребов или полностью изменить форму здания, делая его интересным глазу стороннего наблюдателя – как на нашей обложке.
Мое знакомство с Хундертвассером связано с работой в «Хилз» на Тоттенхэм-Корт-роуд, куда меня устроил Сид, когда нам пришлось убирать вегетарианский ресторан. Часто нам бывало скучно, особенно когда выдавался свободный часик-другой – нам необходимо было там находиться в течение определенного времени, но мы убирали это место за минуту, – так что мы просто бродили по магазину. Я заметил книги Хундертвассера в библиотечном отделе и, скажем так, приобрел парочку.
Его искусство для меня – это искусство, всегда создающее творческую и дружественную среду, в которой могут жить люди. Его картины – радостные городские сценки, где все ярко раскрашено. Абсолютно вдохновляюще.
Когда мы отправились в тур в поддержку альбома, мы использовали в оформлении сцены идею многоцветного здания, с игровыми площадками и дорожками, все в очень ярких, живых, смелых цветах: зеленых, желтых, красных, оранжевых. Мы были в этом пространстве на сцене, бегая в нем, как счастливые дети.
В марте 1988 г. у нас начался тур по США, куда мы отправились в качестве поддерживающей группы у INXS[349]. Как ни странно, я очень хорошо воспринял их первый альбом – честно! Мне понравилась своеобразная пустота, получившаяся при сведе́нии и обработке записи. Я и не догадывался, что у них есть басист, пока они не стали играть вживую. Однако в австралийской музыке всегда есть что-то захватывающее. Австралия – действительно интересное местечко на карте. Они находятся по другую сторону всего, и поэтому их подход отличается.
Этот тур стал соревновательным. Мы выступали на аренах, рассчитанных на 20 000 мест, но когда играли мы, там собиралось только около 5 000 зрителей. Это было очень странно. Возможно, виной тому привитая MTV апатия. В моей юности зрители приходили в зал к самому началу концерта и хотели услышать каждую группу, чтобы оправдать заплаченные за билеты деньги, но мир видео MTV создавал иное окружение, и зрительный зал был пуст до тех пор, пока не появлялась основная группа.
Все пошло наперекосяк в Новом Орлеане, когда Майкл Хатченс пригласил меня после концерта в свои «апартаменты» в том же отеле. Какой у него был великолепный номер! Вау, как мне это понравилось. Там были верхний и нижний этаж и звуковая система. Оказалось, что мистер Хатченс всего лишь хотел поставить мне «умопомрачительный бит», который он написал. У меня не было на это времени. Потому что, алло, мне нравится мое умопомрачение, но я не люблю, когда его анализируют, интерпретируют и копируют, а именно так, на мой взгляд, все прозвучало. И мне пришлось ему это сказать. «О, а я так делаю», – послышалось в ответ, и мы поссорились. После этого мы больше не разговаривали. А потом он пошел и удушился… Спустя какое-то время, могу добавить, я тут ни при чем!
Когда люди приглашают вас в гости и хотят, чтобы вы послушали их последнюю запись, оно никогда хорошим не кончается. Это создает уродливую, неудобную обстановку, а я никогда не буду тем парнем, который примется петь лживые дифирамбы. Мое отношение таково: «Ты заставил меня чувствовать себя неловко. Возможно, мне бы это и понравилось в другом пространственно-временно́м континууме, но это неправильный ход!» В то же время я понимаю, что люди пытаются поделиться своими достижениями. Да, это то, что на самом деле происходит, но в данный момент это не то, что ты чувствуешь. Ты только что ушел со сцены, отработал свое выступление, и тебе не хочется впечатляться.
Одно хорошо в мистере Хатченсе: он понимал, что мой голос немного хриплый, потому что я переработал, – а они гастролировали со своим собственным доктором! Я получил несколько чертовски хороших советов и всякой медицинской хуеты, которые время от времени оказываются нужными. А именно укол витамина В12. Есть много врачей, которые скажут, что это так же бесполезно, как плацебо, но я так не считаю. Я нахожу, что B12 дает мне энергию, которая мне нужна там, на сцене. Все это очень утомляет; тебе колют этот витамин рано утром в твою пукалку. В итоге у тебя болит зад, затем ты часов на четыре-пять засыпаешь. Поднявшись, чувствуешь себя очень усталым, вообще не ощущаешь никакого прилива энергии, но едва берешь в руки микрофон – бамс! Оно срабатывает! Спасибо за это, мистер Хатченс.
Тем летом мы играли на многолюдном бесплатном фестивале в Таллине в Эстонии. Я понял тогда, что собравшаяся толпа начитывала около 175 000 человек, но позже меня уверяли, что их было, скорее, около 125 000. Здесь я доверяю двум вещам: подсчетам других людей, ха-ха, и своим эмоциям. Я знаю, что сказали мне мои эмоции, когда я вышел на сцену. Я потерял голос от колоссальной необъятности и простора. Море лиц было бесконечным, бесконечным и просто уходящим за горизонт в туманную даль. И по обе стороны от сцены стояли танки, с башнями, направленными, спасибо большое, не на мятежных зрителей, которые вовсе не были мятежными, а на нас.
Надо иметь в виду, что это происходило как раз перед тем, как пал железный занавес, когда Эстония еще являлась частью Советского Союза, поэтому это был очень напряженный период в ее истории – да, я полагаю, и в мировой истории тоже. И передо мной простиралась такая огромная аудитория. Это был бесплатный концерт, так что у каждого имелась отличная причина там побывать, и они проехали многие километры, чтобы посетить это событие. Однако мы знали, что жестокость советского режима может в любой момент навлечь на всех нас ужасы. К счастью, этого не случилось; вместо этого концерт превратился в нечто невероятно особенное – и в конце концов дело дошло и до независимости Эстонии.
Это было удивительно, потрясающе, но очень странно. Когда мы захотели прогуляться по городу, то не смогли сделать это без официального сопровождения и видели, как по углам площади людей уводили от нас подальше. Нам не разрешали подойти к ним поближе и поговорить, с кем бы то ни было. Тайная полиция действовала далеко не тайно.
Однако нам все-таки удалось познакомиться с некоторыми людьми, как раз перед тем как сесть на паром. Вот где Лу оказал нам огромную пользу. Он способен был прорваться через любой полицейский кордон, просто потому, мне кажется, что они думали, будто он один из бродивших повсюду местных. Чтобы добраться сюда, эти люди проделали не просто десятки километров, а сотни, из всех соседних стран. Когда мы уезжали, мне подарили, должно быть, штук двести чертовых виниловых пластинок. Я люблю и ценю каждую из них – не столько за музыку, сколько за саму мысль и энергию, вложенные в то, чтобы дать мне что-то темное и незаконное, по мнению властей того времени. Это согревающее сердце вещество – топливо для моих костров.
Причина, по которой я заработал себе шум в ушах в Нью-Йорке в то время, когда писался «Seattle», заключалась в том, что Джон Макгиох хотел, чтобы его усилители работали на сцене на полную мощность. Он был очень увлечен своими хеви-метальскими штуковинами. И это создало реальные проблемы для всех нас, подействовав слишком подавляюще. Но я бы не стал винить во всем Джона, виноваты мы сами. Надо было на него наорать. С тех пор мы выучили урок – Брюс и Лу постоянно говорят на сцене: «Убавь звук». Это дает гораздо больше свободы в песне, но мы все родом из того периода, и хэви-метал всегда будет там, в нашей сформировавшейся тогда психике: предубеждение, будто чем громче, тем лучше. Это не так. Лу Эдмондсу досталось очень, очень сильно. Я пришел в себя, а Лу – нет.
Лу был вовлечен в написание нашего следующего альбома, 9[350], но ему самым буквальным образом пришлось на некоторое время отказаться от громкой музыки. Он полностью перешел на акустику и отправился путешествовать по отдаленным районам мусульманских и бывших советских территорий – таким, как Курдистан. Он покинул нас на долгие годы, и это была горькая потеря.
Оглядываясь назад, понимаешь, что мы постепенно скатывались в порочный круг «альбом – тур – альбом – тур». Первоначально мы начали записывать 9 в Нью-Йорке с Биллом Ласвеллом. Решение это не было навязано звукозаписывающей компанией, хотя им, несомненно, в то время понравился бы Album-2. Скорее, это Билл предложил нам свои услуги. Спустя пару дней работы в студии он заявил, что группа не умеет играть и он ненавидит все наши песни. Билл сказал, что уже придумал, как должны звучать песни, а я должен распустить группу и использовать его людей, тогда в итоге у нас получится что-нибудь типа U2. Я послал его на хуй, мы собрали чемоданы и уехали. Я был абсолютно предан группе.
Чем больше я об этом думаю, тем больше мне вспоминается бедняга Билл и то, что ему пришлось со мной пережить. В его голове я был солистом, которым, как он всегда знал, я мог бы быть, но я бы этого никогда не сделал, потому что у меня свой собственный путь, своя кривая обучения. Есть моменты, когда я могу принять чужое влияние, но не могу принять попыток меня научить. В конечном счете все уходит корнями в школу. Не говорите мне, что делать, скажите, как сделать. Так это работает со мной.
У меня всегда были какие-то личные спорные ситуации с Биллом, но моя единственная серьезная с ним проблема заключалась в том, что всякий раз, когда я приходил к нему домой, он пытался показать мне свои пистолеты. Я нахожу это слишком уродливым. Тогда я только начинал знакомиться с американской культурой и поэтому не знал, что, когда люди демонстрируют вам оружие, они вовсе не угрожают, а типа показывают свою коллекцию произведений искусства. В тот же момент я воспринял его действия как нечто очень вызывающее.
Теперь, мне кажется, я очень хорошо понимаю Америку и ценю тот факт, что да, ты должен иметь право владеть оружием. Да! На мой взгляд, эти люди могли бы быть гораздо более серьезной бандой убийц, пропорционально тому количеству огнестрельного оружия, которым они владеют. Я думаю, что во многих отношениях американцы проявляют огромную сдержанность, и, конечно же, никто не вторгается в Америку; слишком они хорошо для этого вооружены. А какое это удовольствие, как я узнал много лет спустя, – сходить в горы и пострелять. Речь сейчас идет не о желании убивать людей или животных, а просто об элементе контроля. Это дает тебе огромное чувство удовлетворения – быть способным попасть в дыню почти с 45 метров, сознавать у себя силу и выдержку, чтобы правильно прицелиться. Это мастерство, и мне это нравится.
Люди могут немного испугаться, услышав о мистере Роттене с расчехленной винтовкой, но Джон не убийца. Как я постоянно твержу миру, я пацифист, пока вы не переступите черту и не попытаетесь причинить боль или как-либо навредить любому из тех, кого я люблю. Тогда у вас будут проблемы. Со мной вы можете валять дурака хоть весь день напролет. Да без вопросов.
Так что с Биллом у нас ничего не вышло, и в итоге мы записались со Стивеном Хейгом, который работал с New Order[351].
Был еще один парень, также занимавшийся продюсированием, по имени Эрик «И Ти» Торнгрен. Скажем так, в то время он не казался лучшей составляющей процесса. Это всегда сводится к личности. С Эриком все в порядке, но мне нравился Стив Хейг, его спокойный, легкий характер и его техническая точность. У него был совершенно иной подход, и это то, что на самом деле могут создавать продюсеры. Они – люди, на которых ты должен уметь обращать внимание и знать все их слабости. Стив был мягким парнем, и его легкое прикосновение к нашему буйному кипишу дало превосходные результаты.
Возможно, мы слишком глубоко погрузились в новую компьютерную технологию MIDI. Ее проблема в том, что она отнимает у аналога ощущение живого звука. Но опять-таки мне кажется, что песни были очень сильными и эмоциональными. «Happy», песня, которая действительно является ответом на вопрос, который задан в названии предыдущего альбома – Happy? У меня было ощущение, что все это время мы словно черпали из какого-то глубокого колодца целостности. «Happy» – это рефлексия, это взгляд назад, это самоанализ – итог, да, я счастлив – боже, это возможно!
Одна из моих любимых песен – «Disappointed»[352]. Это захватывающая, драматичная и очень прощающая песня. Если можно назвать песню другом, «Disappointed» – один из них. Как говорится в тексте, это действительно «то, для чего нужны друзья». Это я говорю сам с собой на уроке эм-па-ти-и. Одна из тех песен, которые каким-то образом проникают в душу слушателей PiL, и, ничего себе, их пробирает. Порой это ошеломляет – слезы, улыбки и объятия. Есть много причин плакать – обычно, я надеюсь, радость, но в стихах есть и печаль, и предательство, которые ведут к прощению. И по лицам людей видно, что они и в самом деле понимают, о чем ты говоришь, потому что они прошли через подобное. Ты берешь на себя все плохое, анализируешь это и приходишь к лучшему решению.
Между тем «Warrior»[353] – песня о том, как встать на защиту, когда ты должен защищать. Я люблю искусство коренных американцев. Мне реально очень нравилось исследовать пустыню Аризоны и рассматривать изображения, оставленные американскими индейцами, – они и вправду серьезно затронули какие-то струны внутри меня. Очень трудно объяснить, но в конце концов я нашел способ выразить это чувство в «Воине». Если ты говоришь о коренном американце в себе, ты говоришь о конфликте, говоришь о предательстве – знаете, типа: «Вот индейка, а теперь возьми мою землю и убей меня». Это то, что делали первые поселенцы – геноцид, истребление, – и приходит время, когда ты должен подняться на защиту. Я пацифист, но вижу, что перед лицом геноцида и уничтожения, несмотря на все ценности, в которые я верю, я должен был бы предотвратить эту судьбу.
Искусство коренных американцев отражает все это. Это символ идентичности, индивидуальности. Я в полной мере понимаю удивительную фразу вождя Сидящего Быка: «Это хороший день, чтобы умереть» – это мощно. Ни один человек не может быть домашним животным другого человека. Так что в этом отношении «Я – человек-воин». И наша песня – это анализ сопротивления. Это применимо ко всем подобным ситуациям.
В «Воине» есть такие строки: «Я не приму пощады, это моя земля, я никогда не сдамся»[354]. Речь идет о том, чтобы защитить себя и то, во что ты реально веришь, а не размахивать левацким флагом. Я не поддерживаю ни одну политическую партию, и на то есть веские причины. Я никогда не положу все яйца в одну корзину политика, потому что этот ублюдок их раздавит. Все не просто, детка, но так уж устроен мир. Некоторые из ремиксов «Воина», которые мы сделали, стали большими танцевальными хитами в клубах. Когда мы бываем на гастролях в любой точке мира, будь то Тимбукту или Япония, можно часто услышать, как он играет на фоне в магазинах и различных музыкальных заведениях.
«USLS1»[355] – это смертельный укус пиловского «острия копья» – копьеголовой змеи. В ней рассказывается о президентском самолете, «борте номер один», о бомбе террориста на борту и о напрасности убийства над прекрасным пустынным пейзажем, при полной луне. Бессмысленность всего этого и печаль. Вслушайтесь и вы почувствуете, что ваш ум исследует, а не просто воспринимает на слух. Закройте глаза и проникните в суть вещей. Я думал, что, возможно, песня слишком глубока, чтобы играть ее вживую, но она и в самом деле мотивирует людей. Я смотрю на их лица, когда мы
