Читать онлайн Урок анатомии. Пражская оргия бесплатно
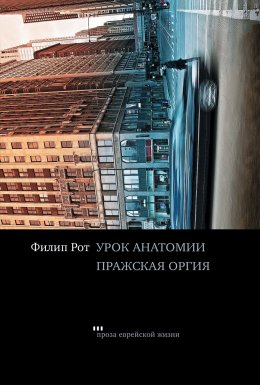
Philip Roth / Anatomy Lesson Copyright
© 1983 Philip Roth
Philip Roth / The Prague Orgy
Copyright © 1985 Philip Roth All rights reserved
© ИД “Книжники”, 2019
© В. Пророкова, перевод, 2019
© О. Качанова, перевод, 2018
© А. Бондаренко, оформление, 2019
Урок анатомии
Посвящается Ричарду Стерну
При болевых ощущениях правильный диагноз поставить трудно прежде всего потому, что симптом часто проявляется совсем не там, где располагается источник боли.
Учебник по ортопедии. Джеймс Сириакс, доктор медицины
1
Воротник
Когда человек болеет, ему нужна мать. Если ее нет рядом, приходится довольствоваться другими женщинами. Цукерман довольствовался четырьмя другими. Никогда прежде у него не было столько женщин одновременно или столько врачей, никогда он не пил так много водки и не работал так мало, никогда так бурно не отчаивался. Впрочем, болезнь его, похоже, была не из тех, что окружающие воспринимают всерьез. Только боль – в шее, руках, плечах, боль, из-за которой он мог пройти по городу всего несколько кварталов и стоять на месте долго не мог. Выйдет на десять минут за продуктами и тут же спешит домой – прилечь. И зараз он мог принести только один нетяжелый пакет, да и то должен был тащить его, прижав к груди, – как какой-нибудь восьмидесятилетний старец. А если нести пакет в руке, боль только усиливалась. Было больно наклоняться и застилать кровать. Было больно с одной лишь лопаточкой в руке стоять у плиты, ожидая, пока поджарится яичница. Он не мог открыть окно – если надо было прилагать хоть какое-то усилие. Поэтому окна ему открывали женщины – открывали его окна, жарили ему яичницу, застилали ему постель, покупали ему продукты и без усилий, мужественно таскали домой его вещи. Одна женщина могла бы справиться со всем за пару часов в день, но у Цукермана больше не было одной женщины. Поэтому пришлось держать четырех.
Читать, сидя в кресле, он мог только в ортопедическом воротнике, пористой штуковине в белом чехле с жесткими ребрами, крепившейся на шее, чтобы поддерживать позвоночник и чтобы, когда поворачиваешь голову, было на что опереться. Предполагалось, что, если ограничить движение и дать голове опору, резкая боль, терзавшая его от правого уха до шеи, а потом разветвлявшаяся вниз – как менора, перевернутая вверх ногами, – уменьшится. Иногда воротник помогал, иногда нет, но сводил его с ума – не хуже, чем боль. Надев его, он только на воротнике и мог сосредоточиться.
В руке он держал книгу, знакомую еще с университетских времен, “Оксфордский сборник поэзии XVII века”. На первой странице, над его фамилией и датой синими чернилами была запись карандашом, его почерком того, 1949 года, вывод, сделанный первокурсником: “Поэты-метафизики легко переходят от банального к возвышенному”. Впервые за двадцать четыре года он вернулся к стихам Джорджа Герберта[1], взял книгу, чтобы прочитать “Воротник” – вдруг там найдется то, что поможет ему привыкнуть к собственному воротнику. Считается, что назначение великой литературы – облегчать страдания, описывая наш общий удел. Цукерман уже понял, что боль, если не противостоять ей постоянными, упорными дозами философских размышлений, обрекает тебя мыслить чудовищно примитивно. Может, Герберт ему что подскажет.
- Доколь терпеть мне этот гнет?
- Иль весь мой урожай – колючки терна,
- И кровь моя горит на нем?
- Когда ж в душе моей созреет плод?
- В ней пенилось вино,
- Да высохло от скорби. Зрели зерна —
- Пришлось их плачем поливать…
- Иль жизнь свою провел я в лени,
- И лавра нет меня короновать?
- Или венки поблекли и увяли,
- Цветы пропали?..
- …Но, сам с собою спор ведя
- Все беспощадней, злей и строже,
- Я слышу вдруг: “Мое дитя!”
- И я в ответ: “Мой Боже!..”[2]
Как удалось пронизанной болью рукой, он швырнул книгу в дальний угол комнаты. Вот уж нет! Он отказывается делать из своего воротника или из мытарств, что тот должен облегчить, метафору чего-то грандиозного. Поэты-метафизики, может, и легко переходят от банального к возвышенному, но по опыту последних полутора лет Цукерману казалось, что если он и продвигается, то в противоположном направлении.
Написать последнюю страницу книги – ничего возвышеннее он не испытывал, но и этого с ним не случалось уже четыре года. Он не мог вспомнить, когда написал хоть страницу чего-то читабельного. Даже когда он надевал воротник, из-за спазма верхней части трапециевидной мышцы и саднящей боли по обе стороны позвоночника ему даже адрес на конверте трудно было напечатать. Когда ортопед из больницы Маунт-Синай объяснил все его невзгоды двадцатью годами за портативной машинкой, он пошел и купил себе “Ай-би-эм Селектрик II”, но когда дома попытался поработать, оказалось, что печатать на новой, незнакомой клавиатуре “Ай-би-эм” так же больно, как на последней из его маленьких “Оливетти”. Всего один взгляд на припрятанную в глубине шкафа “Оливетти” в потрепанном чехле, и накатила депрессия – так, наверное, смотрел на свои старые балетные туфли Боджанглс Робинсон. Как легко было, когда он еще не болел, отодвинуть ее и освободить на столе место для ланча, или для блокнота, для книги, для писем. Как ему нравилось помыкать ими – своими молчаливыми и терпеливыми спарринг-партнерами, сколько он по ним колошматил с двадцати лет! Они были всегда при нем – и когда он выписывал чек за алименты, и когда отвечал поклонникам, и когда красота или ужас только что сочиненного так потрясали его, что он приклонял голову на стол, и когда писал каждую страницу каждого варианта четырех опубликованных романов и трех похороненных заживо: если бы “Оливетти” могли говорить, писатель предстал бы перед всеми как есть. А от “Ай-би-эм”, прописанной первым ортопедом, не получаешь ничего – только чопорный, пуританский, деловитый гул, рассказывающий о ней и всех ее достоинствах: я – корректирующая “Селектрик II”, я никогда не ошибаюсь. А что он за человек, я понятия не имею. И, судя по всему, он тоже. Писать от руки было не легче. Даже в старые добрые времена, с трудом водя левой рукой по бумаге, он выглядел смельчаком, осваивающим протез. К тому же расшифровывать получившееся было непросто. Он румбу танцевал лучше, чем писал от руки. Он слишком крепко сжимал ручку. Он стискивал зубы и корчил страдальческие гримасы. Он выставлял локоть в сторону, словно собирался плыть брассом, потом скрючивал и изгибал руку в запястье, словно собирался выводить буквы сверху, а не снизу – такой акробатической техникой овладели в эпоху чернильниц многие дети-левши, чтобы не смазывать слова, продвигаясь по строчке слева направо. Остеопат с отличными рекомендациями даже пришел к выводу, что корень проблем Цукермана в том, что старательный школьник-левша, стараясь не размазывать свежие чернила, понемногу искривлял позвоночник писателя, пока не завинтил его до самого крестца. Грудная клетка у него стала вся сикось-накось. Ключицы перекрутились. Левая лопатка снизу оттопырилась, как крыло у курицы. Даже плечевая кость слишком туго входила в сустав и сидела в нем как-то криво. На первый взгляд он выглядел более или менее симметричным, вполне пропорциональным, но на самом деле был весь перекорежен, как Ричард III. Остеопат считал, что скрючивать его начало с семи лет. Началось это, когда он стал делать домашние задания. Когда впервые стал описывать жизнь в Нью-Джерси. “В 1666 году губернатор Картерет предоставил Роберту Триту переводчика, а также проводника, сопровождавшего его к верховьям реки Хакенсак, где он должен был встретиться с представителем Оратона, престарелого вождя хакенсаков. Роберт Трит хотел, чтобы Оратон знал: белые поселенцы ищут лишь мира”. Началось в десять лет с Роберта Трита и Ньюарка, с благозвучных слов “хакенсак” и “Оратон”, а закончилось Ньюарком Гилберта Карновского и суровыми односложными “х**” и “*б”. Вот по такой Хакенсак греб вверх писатель, но догреб до пристани боли.
Когда сидеть за машинкой стало слишком больно, он пытался работать в кресле, пытался выжать что можно из своего корявого почерка. Шею ему поддерживал воротник, позвоночник опирался на жесткую, без подушки, спинку кресла, вырезанный по данным им размерам кусок фанеры на подлокотниках служил столом для его рабочих тетрадей. В квартире у него было достаточно тихо, можно сосредоточиться. В огромном окне кабинета двойные стекла, чтобы никакие звуки телевизора или проигрывателя из дома, выходившего в его двор, не доносились, потолок тоже сделали звукоизолирующий, чтобы его не отвлекало цоканье коготков двух пекинесов у соседа сверху. В кабинете на полу лежал шерстяной ковер густого красно-коричневого цвета, на окнах – кремовые бархатные шторы до полу. Уютная, тихая комната вся в стеллажах с книгами. Он полжизни провел в таких комнатах. На шкафчике, где он держал бутылку водки и стопку, стояли любимые старые фото в плексигласовых рамках: его только что поженившиеся родители во дворе дома его дедушки и бабушки, пышущие здоровьем бывшие жены на Нантакете, его отдалившийся брат в 1957 году на выпускном в Корнелле – magna cum laude[3] (и tabula rasa[4]) в конфедератке и мантии. За день если он с кем и говорил, то только перекидывался парой слов с этими фотографиями, а так – тишины было столько, что и Пруст был бы доволен. Тишина, комфорт, время, деньги – все это у него имелось, но когда он писал от руки, начиналась дергающая боль в плече, тут же становившаяся нестерпимой. Правой рукой он растирал мышцу, продолжая писать левой. Старался об этом не думать. Притворялся, что это не у него плечо болит, а у кого-то еще. Пытался перехитрить боль, делая перерывы. Долгие перерывы облегчали боль, но мешали писать; к десятому перерыву ему уже и писать было нечего, а раз нечего писать, какой смысл жить? Когда он сорвал воротник и рухнул на пол, липучка на застежке скрежетала так, словно это у него внутренности заскрежетали. Боль стала самостью, подчинившей себе все мысли и чувства. В магазине детской мебели на Пятьдесят седьмой он купил мягкий напольный коврик в чехле из красного пластика и положил его между столом и креслом. Когда сидеть становилось совсем невыносимо, он вытягивался на коврике, подложив под голову “Тезаурус” Роже. И приучился дневными делами заниматься по большей части на коврике. На нем не нужно было удерживать вертикально верхнюю часть туловища и голову пятнадцати фунтов весом, и так он звонил по телефону, принимал посетителей, следил по телевизору за новостями про Уотергейт. Вместо обычных очков надевал призматические – в них был лучше угол обзора. Их разработала для лежачих больных одна оптическая фирма в даунтауне – его туда направил физиотерапевт. В призматических очках он наблюдал за тем, как выкручивается президент – как деревянно движется, как адски потеет, как абсурдно и ошеломительно лжет. Он почти ему сочувствовал – это был единственный американец, который изо дня в день мучился примерно так же, как он сам. Растянувшись на полу, Цукерман мог смотреть и на ту из своих женщин, что сидела рядом на диване. А навещавшая его дама видела выпиравшие прямоугольные части линз и Цукермана, вещавшего потолку о Никсоне.
Он пробовал с коврика диктовать секретарше, но получалось не очень-то бегло, и иногда ему по часу было нечего сказать. Он не мог писать, не видя написанного; он мог представлять то, что описывала фраза, но не мог представлять сами фразы – ему нужно было видеть, как они разворачиваются и соединяются одна с другой. Секретарше было всего двадцать, и первые несколько недель она слишком включалась в его страдания. Эти занятия были мучительны для обоих и часто заканчивались тем, что секретарша укладывалась на коврик. Половой акт, минет и куннилингус Цукерман переносил почти без боли – если лежал на спине, подложив под голову тезаурус. Тезаурус был нужной толщины – с ним голова не опускалась ниже плеч и шея не болела. Внутри была надпись: “От папы. Верю в тебя всецело”, и дата – “24 июня 1946 года”. Книга для того, чтобы обогатить его словарный запас по окончании начальной школы.
Четыре женщины приходили лежать с ним на коврике. Они были единственным, что осталось у него от живой жизни – секретарша-наперсница-кухарка-домработница-компаньонка – и, не считая страданий Никсона, единственным развлечением. Распластанный на спине, он чувствовал себя шлюхой, платящей сексом тем, кто приносит молоко и газеты. Они рассказывали ему о своих невзгодах, они прислоняли к нему свои отверстия, которые Цукерман заполнял. Требующего всего его целиком дела он был лишен, диагноз не обнадеживал, и он отдался на их волю; чем очевиднее была его беспомощность, тем неприкрытее становилось их желание. А потом они бежали. Мыли посуду, допивали кофе, присаживались на корточки поцеловать на прощанье и убегали в настоящую жизнь. Оставляли Цукермана на спине – для той, чей звонок прозвонит следующим.
Когда он был здоров и много работал, у него никогда не хватало времени для подобных связей, даже если его искушали. Слишком много жен за слишком мало лет, тут уж не до сонма любовниц. Брак был бастионом, укрывавшим его от бесконечных соблазнов. Женился он ради порядка, доверительности, взаимозависимого товарищества, ради размеренности и регулярности моногамного существования; он женился, чтобы не тратить себя на очередную связь, чтобы не сходить с ума от скуки в очередных гостях, чтобы не спать одиноко в гостиной после одинокого дня в кабинете. Сидеть каждый вечер в одиночестве и читать, чтобы сосредоточиться для следующего дня уединенного писания, было слишком даже для упертого Цукермана, поэтому он включал в орбиту своего любострастного аскетизма женщину, всякий раз – одну, тихую, задумчивую, грамотную, самодостаточную женщину, которая не требовала, чтобы ее куда-то выводили, а довольствовалась тем, что после ужина сидела и молча читала напротив него с его книгой.
После каждого развода он заново открывал для себя, что неженатый мужчина должен женщин куда-то водить – в рестораны, на прогулки в парк, в музеи, в оперу, в кино – и не только водить в кино, но потом еще и обсуждать просмотренное. Если они становились любовниками, было непросто уйти утром, пока голова еще свежая и готова к работе. Некоторые женщины хотели, чтобы он с ними завтракал, даже разговаривал с ними за завтраком, как все прочие люди. Иногда они хотели снова в постель. Он хотел снова в постель. В постели конечно же куда увлекательнее, чем за пишущей машинкой с новой книгой. И разочарований меньше. Можно на самом деле закончить то, что задумал, без десяти фальстартов и шестнадцати вариантов, и по комнате в тоске расхаживать не придется. Так что он терял бдительность, и утро было убито.
С женами таких искушений не было – пока все продолжалось.
Но боль все изменила. Ту, которая оставалась на ночь, не только приглашали позавтракать, но и просили остаться на ланч, если у нее было время (и если до ужина не должна была появиться никакая другая). Он засовывал под махровый халат мокрую салфетку и бугристый пакет со льдом, и пока лед анестезировал его трапециевидную мышцу (а ортопедический воротник поддерживал шею), он откидывался на спинку красного бархатного кресла и слушал. В те времена, когда он думал только о работе до износа, он питал роковую слабость к высокоумным партнершам; обездвиженность оказалась прекрасной возможностью получше узнать не столь предсказуемо правильных женщин, как три его бывшие жены. Может, он чему-то научится, а может, и нет, но во всяком случае они помогут ему отвлечься, а согласно ревматологу из Нью-Йоркского университета, если пациент с должным упорством отвлекается, это помогает ослабить до приемлемого уровня и худшую боль.
Психоаналитик, к которому он ходил, занял противоположную позицию: он вслух интересовался, не для того ли Цукерман перестал бороться с болезнью, чтобы сохранить (практически не угрызаясь совестью) свой “гарем из нескольких Флоренс Найтингейл”. Эта шутка настолько возмутила Цукермана, что он чуть не ушел с сеанса. Перестал бороться? То, что он еще мог сделать, он уже сделал, что именно он еще не пробовал? Боли начались всерьез полтора года назад, и он отсиживал очереди у трех ортопедов, двух невропатологов, физиотерапевта, ревматолога, рентгенолога, остеопата, специалиста по витаминотерапии, иглоукалывателя, а теперь и к психоаналитику пошел.
Иглоукалыватель пятнадцать раз вкалывал ему по двенадцать иголок, всего сто восемьдесят, и ни одна ему нисколько не помогла. Цукерман сидел в одной из восьми кабинок голый по пояс, увешанный иголками, и читал “Нью-Йорк таймс” – покорно сидел по пятнадцать минут, платил свои двадцать пять долларов и ехал обратно на север Манхэттена, корчась от боли всякий раз, когда такси попадало в выбоину на дороге. Специалист по витаминотерапии провел серию из пяти уколов В12. Остеопат выворачивал его грудную клетку, выкручивал руку и резко дергал шею вбок. Физиотерапевт лечил горячим обертыванием, ультразвуком и массажем. Один из ортопедов делал уколы в болевую зону и велел выкинуть “Оливетти” и купить “Ай-би-эм”; второй, сообщив Цукерману, что он тоже писатель, пусть пока и не автор “бестселлеров”, осмотрел его в лежачем, стоячем и согнутом положении, а когда Цукерман оделся, вывел его из кабинета и заявил регистраторше, что на этой неделе у него больше нет времени на ипохондриков. Третий ортопед прописал ему каждое утро принимать в течение двадцати минут горячую ванну, после чего Цукерману следовало делать комплекс упражнений на растяжку. Ванну принимать было довольно приятно – Цукерман оставлял дверь открытой и слушал Малера, но упражнения, хоть и простые, так усугубили боль, что через неделю он помчался к первому ортопеду, и тот провел вторую серию уколов в болевые зоны, не принесших никакой пользы. Рентгенолог сделал снимки грудной клетки, спины, шеи, черепа, плеч и рук. Первый невропатолог, посмотрев снимки, сказал, что хотел бы иметь такой отличный позвоночник, второй отправил в больницу – две недели на вытяжке шеи, чтобы уменьшить давление на шейные диски, и это был, может, и не самый мучительный опыт в жизни Цукермана, но уж точно самый унизительный. Ему не хотелось о нем даже думать, а обычно с ним не происходило ничего такого, пусть и плохого, о чем он не хотел думать. Он был ошеломлен собственной трусостью. Даже обезболивание не только не помогало, а бессилие с ним еще больше пугало и подавляло. Как только прицепили грузы к системе, фиксировавшей ему голову, он понял, что рано или поздно осатанеет. На восьмое утро, хотя в палате никого не было и его не могли услышать, он, пришпиленный к кровати, стал орать: “Освободите! Выпустите меня!”, и через пятнадцать минут, уже одетый, платил сидевшему в своей клетке кассиру по счету. Только оказавшись в безопасности, на улице, он, ловя такси, подумал: “Ну и? А если бы у тебя было что-то действительно серьезное? Тогда что?”
Дженни приехала из деревни помочь ему выдержать эту двухнедельную растяжку. По утрам она бегала по галереям и музеям, а после ланча приходила в больницу и два часа читала ему “Волшебную гору”. Этот здоровенный томище вроде бы подходил к случаю, но недвижимого, привязанного к кровати Цукермана день ото дня все больше раздражали Ганс Касторп и перспективы духовного роста, предоставленные ему туберкулезом. Да и жизнь в палате 611-й нью-йоркской больницы никак не могла сравниться с великолепием швейцарского санатория перед Первой мировой войной, даже за 1500 долларов в неделю. “По-моему, – сказал он Дженни, – это нечто среднее между «Зальцбургскими семинарами»[5] и величественной старушкой «Куин Мэри». Пять великолепных трапез в день, а потом занудные лекции европейских интеллектуалов, расцвеченные шутками для эрудитов. Столько философии. И столько снега. Напоминает Университет Чикаго”.
С Дженни он познакомился, когда приехал к друзьям, обосновавшимся в деревне под названием Беарсвилль в верховьях Гудзона, на склоне лесистых гор. Дочь местного учителя, она сначала уехала в художественную школу колледжа Купер-Юнион, потом три года одна путешествовала с рюкзаком по Европе, а теперь, вернувшись туда, где начинала, жила в бревенчатом домике с кошкой, красками и чугунной печкой. Двадцати восьми лет, крепкая, одинокая, прямолинейная, румяная, с полным набором крупных белых зубов, пушистой морковной шевелюрой и впечатляющими бицепсами. Нет, не длинные пальцы соблазнительницы, как у его секретарши Дайаны, у нее были руки так руки. “Когда-нибудь, если захочешь, – сказала она Цукерману, – я расскажу тебе о своих работах – «Откуда у меня такие мускулы»”. Перед возвращением на Манхэттен он без приглашения заглянул к ней в хижину, якобы посмотреть ее пейзажи. Небеса, деревья, холмы и дороги – все было таким же прямолинейным, как она сама. Ван Гог без вибрирующего солнца. За мольберт были заткнуты цитаты из писем Ван Гога брату, а у кушетки среди книг по искусству лежал потрепанный томик с теми же письмами на французском – его она таскала по Европе в своем рюкзаке. На стенах, обитых оргалитом, карандашные рисунки: коровы, лошади, свиньи, гнезда, фрукты, овощи – все исполненные тем же лобовым очарованием: “Вот она я, и я – настоящая”.
Они прошлись по неухоженному садику за хижиной, попробовали кривоватых плодов. Дженни спросила:
– А почему ты все время втягиваешь руку в плечо?
Цукерман прежде и не осознавал этого: боль в тот момент заполонила примерно четверть его существования, а он все еще воспринимал ее как пятно на пальто, которое просто нужно отчистить. Однако, сколько он его ни отчищал, ничего не менялось.
– Видно, перетрудил, – ответил он.
– Вступал с критиками в рукопашную? – спросила она.
– Да нет, скорее с самим собой. Каково тебе жить здесь одной?
– Много рисую, много занимаюсь садом, много мастурбирую. Наверное, приятно иметь деньги и покупать что захочешь. Из всего, что ты делал, что было самым экстравагантным?
Самым экстравагантным, самым глупым, самым жестоким, самым возбуждающим – об этом он рассказал ей, а она ему. Часы вопросов и ответов, но дальше этого пока что не пошло. “Наше глубокое соитие без секса”, – так она это называла, когда они по ночам бесконечно беседовали по телефону.
– Может, мне и не повезло, но я не хочу быть одной из твоих девушек. Мне проще молотком орудовать, новые полы настилать.
– Как ты научилась полы настилать?
– Это просто.
Как-то за полночь она позвонила сказать, что только что при лунном свете собирала в саду овощи. – Местные говорят, через несколько часов заморозки ударят. Я собираюсь в Лемнос, смотреть, как ты зализываешь раны.
– В Лемнос? А что такое Лемнос? Я не помню.
– Туда греки отправили Филоктета[6] с его больной ногой.
На Лемносе она провела три дня. Она растирала ему шею анестезирующим хлорэтилом, сидела голая верхом на его скрюченной спине и массировала ему спину между лопатками, готовила им ужин, кок-о-вэн и кассуле – оба блюда были с сильным привкусом бекона, – с овощами, которые она собрала до морозов, рассказывала ему о Франции и своих тамошних приключениях с мужчинами и женщинами. Перед сном, выйдя из ванной, он застал ее у письменного стола – она читала его ежедневник.
– Читать тайком? – сказал он. – От такого открытого человека я этого не ожидал.
Она только рассмеялась и сказала:
– Ты не мог бы писать, если бы не занимался чем похуже. Кто это “Д”? А кто “Г”? И сколько нас всего?
– Почему ты спрашиваешь? Хочешь с кем-нибудь из них познакомиться?
– Нет, спасибо. Я, пожалуй, не хочу в это лезть. К такому выводу я пришла, когда у себя на горе решила, что в такие игры играть не буду.
В последнее утро ее первого приезда ему захотелось что-нибудь ей подарить – не книгу, а что-то другое. Он всю жизнь одаривал женщин книгами (и сопутствующими им лекциями). Дженни он дал десять стодолларовых банкнот.
– Это еще зачем? – сказала она.
– Ты же говоришь, что тебе противно приезжать сюда деревня деревней. И тебя занимает экстравагантность. У Ван Гога был брат, у тебя есть я. Бери!
Она вернулась через три часа в алом кашемировом пальто, бордовых сапогах и с большим флаконом Bal à Versailles.
– Я пошла в “Бергдорф”, – сказала она несколько смущенно, но и горделиво. – Вот сдача. – И она протянула ему два четвертака, десятицентовик и три цента.
Она сняла с себя всю свою деревенскую одежду, надела только пальто и сапоги.
– Знаешь что? – сказала она, глядя в зеркало. – Я чувствую себя очень хорошенькой.
– Ты действительно очень хорошенькая.
Она открыла бутылку и понюхала пробку. Провела ею по кончику языка. И снова вернулась к зеркалу. Пристально на себя посмотрела:
– Чувствую себя высокой.
Каковой она не была и быть не могла.
Вечером она позвонила из деревни рассказать, как отреагировала ее мать, когда она зашла к родителям в пальто, пахнущая Bal à Versailles, и сообщила, что все это ей подарил мужчина.
– Она сказала: “Что скажет бабушка, увидев тебя в таком пальто!”
Гарем так гарем, подумал Цукерман.
– Узнай бабушкин размер, я ей такое же подарю. Две недели на растяжке в больнице начинались с того, что днем Дженни читала ему “Волшебную гору”, а вечером в его квартире рисовала у себя в альбоме его стол, кресло, книжные полки, одежду – эти картинки она развесила по стенам его комнаты, когда приехала в следующий раз. Каждый день она зарисовывала какую-нибудь старинную американскую вышивку с вдохновляющим девизом посередине, их она тоже развесила по стенам – пусть они будут у него перед глазами.
– Это чтобы ты расширял свой кругозор, – сказала она.
Против душевных страданий существует лишь одно эффективное противоядие – физическая боль.
Карл Маркс
Мы не меньше ведь любим места, где нам случилось страдать[7].
Джейн Остин
Если человек достаточно силен, чтобы противостоять определенным невзгодам, преодолевать более или менее тяжелые физические недуги, то от сорока лет до пятидесяти он оказывается в новом, относительно нормальном русле.
Винсент Ван Гог
Она составила таблицу, где отмечала прогресс в его лечении на основании его поведения. К концу седьмого дня таблица выглядела так:
На восьмой день, когда она со своим альбомом пришла в палату 611, Цукермана там не было; она обнаружила его дома, на коврике, полупьяного.
– Когда всё внутрь смотришь, разучаешься смотреть вовне, – сообщил он ей. – А всесторонность как же? Не выдержал изоляции. Сбежал.
– А! – весело ответила она. – Это разве побег? Я бы и часа не продержалась.
– Жизнь все мельчает и мельчает. Просыпаюсь и думаю о шее. Засыпаю и думаю о шее. Думаю лишь о том, к каким врачам бежать, когда шее ничего не помогает. Лег туда, чтобы стало получше, но понял, что так только хуже. Ганс Касторп справлялся с этим лучше, чем я, Дженнифер. В кровати никого, кроме меня. Только шея и мысли о шее. Ни Сеттембрини, ни Нафты[8], ни снега. Ни изысканного интеллектуального путешествия. Пытаюсь выбраться, но увязаю все глубже. Побежден. Пристыжен.
Он был так зол, хоть криком кричи.
– Нет, все дело во мне. – Она налила ему еще выпить. – Я плохо тебя развлекала. Ну почему я такая дубина? Ладно, забыли. Мы попробовали – не сработало.
Он сидел за столом на кухне, тер шею и допивал водку, а она готовила свою тушеную баранину с беконом. Он хотел, чтобы она была рядом. Дженни, уравновешенная моя, давай построим все на домовитости – ты живи со мной, будь моей милой дубиной. Он был почти готов позвать ее жить с ним.
– Лежа в койке, я сказал себе: “Будь что будет, но, когда я отсюда выберусь, я снова окунусь в работу. Болит – так пусть болит, и хрен с ним. Включи мозги и просто это преодолей”.
– И?
– Слишком простая задачка для мозгов. Мозги до этого не снисходят. Вот нервничать, прикидывать, бороться, лечить, пытаться не замечать, пытаться вычислить, что же это такое: при моей обычной замкнутости это – как Новый год на Таймс-сквер. Когда тебе больно, думаешь только об одном: как сделать, чтобы было не больно. Думаешь и думаешь, и от навязчивой мысли не отвязаться. Зря я попросил тебя приехать. Надо было пройти это одному. Но даже тут я оказался слаб. А ты стала свидетелем.
– Свидетелем чего? Да ладно тебе, на мой взгляд, все было прекрасно. Ты даже не представляешь, как мне нравилось носиться туда-сюда в юбке. Я столько времени жила как привыкла – истово и порывисто. А для тебя я могу быть мягче, нежнее, спокойнее – ты дал мне возможность вести себя по-женски. Так что нам обоим не из-за чего огорчаться. Для нас, Натан, это пора жизни без раскаяния. Я тебе полезна, ты мне полезен, и давай не будем беспокоиться о последствиях. Пусть о них моя бабушка беспокоится.
Выбрать Дженни? Соблазнительно – если она согласится. Пышет энергией, здоровая, независимая, с цитатами из Ван Гога, с непоколебимой волей – все это способно угомонить паникующего инвалида. Но что будет, когда он поправится? Выбрать Дженни за то, чем она приближается к миссис Цукерман Первой, Второй и Третьей? Это лучший довод, чтобы ее не выбрать. Выбрать ее, как больной выбирает сиделку? Жена в качестве примочки? При таком раскладе вариант только один – не выбирать ее. Просто выжидать, и будь как будет.
Суровая депрессия, вызванная восьмью днями заключения на растяжке и решением выжидать – будь как будет – погнала его к психоаналитику. Но у них совсем не заладилось. Психоаналитик рассказывал о притягательности недуга, об отдаче, которую получаешь от болезни, говорил Цукерману о том, как болезнь подпитывает психику пациента. Цукерман допускал возможность выгоды в аналогичных загадочных случаях, но сам терпеть не мог болеть: никакая отдача не могла компенсировать физическую боль, лишающую его дееспособности. “Вторичный выигрыш”, обещанный психоаналитиком, и близко не возмещал основных потерь. Быть может, предположил психоаналитик, тот Цукерман, которому отдача выгодна, это не та личность, какой он себя воспринимает, а неисправимое дитя, терзающийся грешник, мучающийся совестью пария, быть может, он – раскаивающийся сын своих покойных родителей, автор “Карновского”.
У психоаналитика на то, чтобы высказать это вслух, ушло три недели. А на то, чтобы сообщить об истерическом конверсионном симптоме могло бы уйти еще несколько месяцев.
– Искупление через страдание? – сказал Цукерман. – Болью я сужу себя за свою книгу?
– Разве не так? – спросил психоаналитик.
– Нет, – ответил Цукерман, встал и вышел из кабинета: трех недель терапии хватило с лихвой.
Один из врачей прописал ему рацион из двенадцати таблеток аспирина в день, другой прописал бутазолидин, следующий – робаксин, следующий – перкодан, следующий – валиум, следующий – преднизон, следующий велел спустить все таблетки в унитаз, первым делом – ядовитый преднизон, и “учиться с этим жить”. Неподдающаяся лечению боль неизвестного происхождения – одна из превратностей жизни, и как бы она ни омрачала каждое движение, такая боль считалась полностью совместимой с отличным состоянием здоровья. Цукерман был просто здоровым человеком, страдающим от боли.
– Я взял за правило, – продолжал здравомыслящий врач, – тех, кто не болен, не лечить. А еще, когда вы отсюда выйдете, – посоветовал он, – держитесь подальше от психосоматологов. Они вам больше ни к чему.
– Кто такие психосоматологи?
– Это вконец запутавшиеся терапевты. Они используют самое примитивное, если не считать лечения пиявками, орудие – фрейдистскую персонализацию каждой муки и боли. Будь боль лишь выражением чего-то еще, все бы было тип-топ. Но жизнь, к несчастью, устроена не так логично. Боль идет в дополнение ко всему остальному. Конечно, некоторые истерики могут сымитировать любую болезнь, но подобные хамелеоны – создания куда более экзотичные, чем это пытаются представить доверчивым страдальцам психосоматологи. И вы не из числа этих рептилий. Дело закрыто.
Всего через несколько дней после того, как психоаналитик впервые обвинил его в том, что он отказался от борьбы, Дайана, подрабатывавшая у него секретаршей, отвезла Цукермана – он тогда еще мог вести машину вперед, но уже не мог повернуть голову, когда надо было сдавать назад, – на арендованной машине в лабораторию на Лонг-Айленде, где только что разработали электронный глушитель боли. Он прочитал заметку в разделе “Бизнес” воскресного выпуска “Таймс” – в ней сообщалось, что лаборатория получила патент на устройство, и на следующий день в девять утра позвонил и записался на прием. На парковке его и Дайану встречали директор и главный инженер: они были в восторге от того, что первым пациентом на аппарате по заглушению боли будет Натан Цукерман, и сделали полароидный снимок – он у входа. Главный инженер объяснил, что он стал разрабатывать устройство, чтобы помочь жене директора, страдавшей синусовой головной болью. Пока что все на стадии эксперимента, техника, которая позволит облегчить самые неподатливые боли, все еще совершенствуется. Он попросил Цукермана снять рубашку и показал, как пользоваться аппаратом. После демосеанса Цукерману не стало ни лучше, ни хуже, но директор уверил, что его жена стала другим человеком, и настоял, чтобы Цукерман взял подавитель боли домой и держал у себя сколько понадобится.
Ишервуд – камера с открытым затвором[9], я – эксперимент по хронической боли.
Машинка была размером с будильник. Он ставил таймер, клал две влажные электродные подушечки над и под больным участком и шесть раз в день по пять минут лежал под током низкого напряжения. И шесть раз в день ждал, что боль уйдет – на самом деле он этого ждал сто раз в день. Подождав достаточно времени, он принимал валиум, или аспирин, или бутазолидин, или робаксин; в пять вечера он посылал все к чертям и начинал принимать водку. А это, как уже сотни лет известно десяткам миллионов русских, лучший подавитель боли.
К декабрю 1973 года он потерял надежду найти лечение, или лекарство, или врача, или исцеление и убедился в том, что и настоящую болезнь не отыскать. Он жил с этим, но не потому, что понял, как с этим жить. Понял он только то, что с ним случилось нечто необратимое и по некоей загадочной причине он и его существование уже были не теми, что с 1933 по 1971 год. Об уединенном заточении он знал, поскольку лет с двадцати буквально каждый день писал один в комнате, это наказание он отбывал почти двадцать лет – послушно, при образцовом поведении. Но теперь он был заточен и не писал, и переносил он заточение немногим лучше, чем восемь дней на растяжке в палате 611. Собственно, он постоянно одергивал себя вопросом, преследовавшим его с тех пор, как он сбежал из больницы: а что, если бы с тобой случилось нечто действительно ужасное?
И все же, хотя по шкале вселенских несчастий это и не было ужасным, он воспринимал все как ужасное. Он ощущал свою бесцельность, бессодержательность, бессмысленность, был потрясен тем, что это кажется таким ужасным и полностью выбило его из колеи, озадачен поражением на фронте, где он и не подозревал, что воюет. Еще в молодые годы он избавился от сентиментальных надежд на традиционную – заботливую и поддерживающую – семью, прошел университеты обманчивой непорочности, высвободился из пут бесстрастных браков с тремя исключительными женщинами и от благопристойности своих собственных ранних книг, положил немало сил на то, чтобы занять место среди писателей – с двадцати добивался признания, с тридцати, став знаменитостью, стремился к умиротворенности, а в сорок был сломлен беспричинной, безымянной непобедимой фантомной болезнью. Это была не лейкемия, не волчанка, не диабет, не рассеянный склероз, не мышечная дистрофия, даже не ревматоидный артрит – ничто, вот что это было. Однако из-за этого “ничто” он терял уверенность, здравомыслие и самоуважение.
Еще он терял волосы. То ли из-за переживаний, то ли из-за лекарств. Он видел волосы на тезаурусе, когда поднимался с коврика. Готовясь к очередному пустому дню, он, стоя у зеркала в ванной, вычесывал целые пряди волос. В душе кучки волос у него в ладонях увеличивались всякий раз, когда он смывал шампунь: он рассчитывал, что станет получше, но смывал снова – и становилось только хуже.
В “Желтых страницах” он нашел “Трихологическую клинику Энтона и партнеров” – наименее экстравагантное название во всем разделе “Уход за волосами” – и отправился в цокольный этаж отеля “Коммодор” проверить, смогут ли они выполнить свое обещание “взять под контроль все подконтрольные проблемы с волосами”. У него было свободное время, были проблемы с волосами, и путешествие раз в неделю с коврика в мидтаун выглядело приключением. Лечение уж наверняка не могло быть менее эффективным, чем то, что он получал в лучших клиниках Манхэттена для шеи, рук и плеч. Во времена посчастливее он бы посокрушался из-за удручающих перемен во внешности, но теперь, когда он столького лишался, решил: “Все, хватит”, – да, он не в силах писать, чувствует себя инвалидом, занимается бессмысленным сексом, интеллектуально вял, душевно угнетен, но еще и облысеть за ночь – это уж чересчур.
Первая консультация проходила в белоснежном кабинете с дипломами по стенам. Взглянув на Эн-тона – не только специалиста по волосам, но вдобавок вегетарианца и йога, Цукерман почувствовал себя столетним стариком, которому повезло, что хоть зубы целы. Энтон, маленький, подвижный мужчина за шестьдесят, выглядел лет на сорок – его волосы, блестевшие как черный лакированный шлем, закрывали лоб и доходили почти до скул. Он сообщил Цукерману, что мальчиком, в Будапеште, он был чемпионом по гимнастике и с тех пор всячески поддерживает физическую форму – спорт, диета, высокая нравственность. Особенно огорчил его рассказ Цукермана тем, что тот много пьет. Он спросил, не тяготит ли что-то Цукермана: стресс – основная причина преждевременного выпадения волос. “Стрессом для меня, – ответил Цукерман, – стало преждевременное выпадение волос”. Он не стал говорить о боли, не мог поведать об этой загадке очередному увешанному дипломами специалисту. И пожалел, что не остался дома. Волосы – для него главный вопрос в жизни – это ж надо! Залысины, а не то, что он не может писать! Энтон навел на череп Цукермана лампу, легонько расчесал редеющие пряди. Затем вытащил из зубьев расчески волосы, выпавшие во время осмотра, и аккуратно сложил их в салфетку – чтобы сделать в лаборатории анализ.
Когда Цукермана вели по узкому белому коридору в клинику – дюжину задернутых шторами отсеков с раковинами, каждый мог вместить лишь лаборанта-трихолога и лысеющего мужчину, – он чувствовал себя столь же ничтожным, как лысина у него на макушке. Цукермана представили хрупкой девушке в белом халате чуть ниже колен и белой бандане, придававшей ей вид суровой монашки, послушницы монашеского ордена. Яга была из Польши, ее имя, объяснил Энтон, произносится с “й”, но пишется с “Я”. Мистер Цукерман, объяснил он Яге, – “знаменитый американский писатель”, страдает преждевременным выпадением волос.
Цукерман сидел перед зеркалом и созерцал свои выпадающие волосы, а Энтон тем временем описывал лечение – белая ментоловая мазь для укрепления фолликулов, темная дегтярная мазь для очистки и дезинфекции, паровые процедуры, чтобы стимулировать циркуляцию, затем легкий массаж пальцами, после него – шведский электромассаж и две минуты ультрафиолетового облучения. А напоследок – лосьон № 7 и пятнадцать капель специального гормонального раствора – по пять на линию роста волос над каждым из висков, и пять – на плешь на темени. Капли Цукерман должен был втирать дома, по утрам – капли, чтобы ускорить рост, а розовая эмульсия – чтобы не секлись кончики еще оставшихся волос. Яга кивнула, Энтон с собранными образцами устремился в лабораторию, в отсеке началось лечение, и Цукерман вспомнил другого героя Манна, с которым он чувствовал сомнительную близость, – герра фон Ашенбаха[10], подкрашивавшего волосы и румянившего щеки в венецианской парикмахерской.
Под конец часового сеанса Энтон вернулся, чтобы увести Цукермана обратно в кабинет. Они сидели друг напротив друга, через стол, и обсуждали результаты анализов.
– Я исследовал под микроскопом ваши волосы, чешуйки и кожу черепа. Есть заболевание, которое мы называем folliculitis simplex, это засорение фолликулов. Через некоторое время оно приводит к потере волос. Также, поскольку с головы вымывается кожное сало, волосы становятся сухими, вследствие чего ломаются и секутся, что также может привести к выпадению волос. Боюсь, – Энтон никоим образом не намеревался смягчить удар, – у вас довольно много фолликулов, где волосы больше не растут. Я надеюсь, что хотя бы в некоторых из них волосяные сосочки лишь повреждены, но не уничтожены. В таком случае в некоторых областях рост волос может возобновиться. Но ответ на этот вопрос даст только время. Однако, за исключением фолликулов, я предполагаю, что в целом в вашем случае прогноз хороший и при условии регулярного лечения и вашего участия ваши волосы и кожа головы отреагируют положительно и оздоровятся. Мы сможем купировать воспалительный процесс, восстановить нормальное выделение кожного сала и вернуть волосам прежнюю эластичность, тогда они снова станут сильными и шевелюра станет выглядеть гуще. Самое важное – остановить дальнейшее выпадение волос.
Более длинного, серьезного, обстоятельного и вдумчивого диагноза Цукерман не получал за всю свою жизнь, чем бы он ни страдал. И уж точно наиболее оптимистичного из всех, услышанных им за последние полтора года. Он не мог вспомнить ни одного рецензента, который бы так внимательно, точно и тщательно изучил его роман, как изучил Энтон его скальп.
– Благодарю вас, Энтон, – сказал Цукерман.
– Но…
– Да?
– Есть одно “но”, – мрачно сообщил Энтон.
– Какое же?
– То, что вы делаете дома, так же важно, как лечение, которое мы проводим здесь. Во-первых, вам нельзя употреблять слишком много алкоголя. Это следует прекратить немедленно. Во-вторых, вы должны разобраться с тем, что вызывает у вас чрезмерный стресс. А то, что вы испытываете чрезмерный стресс, мне понятно и без микроскопа – достаточно на вас посмотреть. Что бы это ни было, вы должны исключить это из своей жизни, и побыстрее. В противном случае, мистер Цукерман, буду с вами честен, битва, которую мы с вами ведем, будет проиграна.
В начале каждого дня он видел в зеркале во всю длину двери в ванной тощего старика с пижамой Натана в руках: просвечивающий сквозь волосы череп, полноватые бедра, костлявое тело, обвислый животик. Полтора года без привычной утренней зарядки и долгих дневных прогулок, и тело состарилось на двадцать лет. Просыпаясь, как всегда, ровно в восемь, он теперь старался – с той же упрямой решимостью, с какой мог утро напролет биться над одной неподдающейся страницей – снова заснуть до полудня. Непоколебимый, настойчивый, упертый Цукерман – обычно не проходило и получаса без того, чтобы сделать запись в блокноте или подчеркнуть что-то в книге, – теперь лежал, укрывшись с головой, и коротал время до вечера, когда можно было приложиться к бутылке. Сам себя регулирующий Цукерман доканчивал очередную литровую бутылку, сам себя контролирующий Цукерман докуривал очередной косяк, самодостаточный Цукерман беспомощно цеплялся за свой гарем (теперь в него входила и лаборантка из трихологической клиники). Что угодно, лишь бы взбодриться и завестись.
Его утешительницы говорили, что он просто перенапрягся и надо учиться расслабляться. Дело в одиночестве, все пройдет, как только он снова начнет читать после ужина, сидя напротив очередной достойной жены. Они полагали, что он всегда ищет новые способы быть несчастным и сам себе не нравится, если не страдает. Они разделяли взгляд психоаналитика: боль он вызвал сам, это было покаяние за популярность “Карновского”, возмездие за финансовое процветание – завидная и удобная американская история успеха, искореженная взъярившимися клетками. Цукерман отсылал боль – pain – к ее корню, к poena, что на латыни значит “наказание”: poena за изображение семьи, которую вся страна сочла его семьей, за безвкусицу, возмутившую миллионы, за бесстыдство, оскорбившее его племя. И то, что его туловище до пояса сковало болью, очевидно, было наказанием, вызванным его преступлением: увечье как примитивное правосудие. Если пишущая рука искушает тебя, вырви ее и отбрось. Под панцирем человека ироничного и толерантного он был из них всех самым непрощающим Яхве. Кто еще мог так кощунственно написать о еврейской удушающей морали, как не Натан, еврей, удушающий сам себя. Да, твой недуг тебе необходим, в этом-то вся соль, и выздороветь ты сам себе препятствуешь, быть неизлечимым – твой выбор, ты подавляешь врожденное стремление быть здоровым. Цукерман подсознательно боялся всего – этого мнения придерживались все диагносты: боялся успеха и боялся провала, боялся быть знаменитым и быть забытым, боялся быть странным и быть обыкновенным, боялся восхищения и боялся презрения, боялся быть один и быть среди людей, боялся – после “Карновского” – себя и своих инстинктов, боялся бояться. Он трусливо предавал сущность своего языка, подыгрывая врагам своей непристойной речи. Он подсознательно подавлял свой талант, боялся, что еще сотворит.
Но Цукерман на это не велся. Его подсознание было не настолько подсознательным. Не настолько шаблонным. Его подсознательное, жившее с публикующимся с 1953 года писателем, понимало, что влечет за собой это ремесло. Он очень верил в свое подсознательное – без него он бы так далеко не продвинулся. И уж во всяком случае оно было упорнее и сообразительнее его, возможно, оно и защищало его от зависти соперников, или от презрения элиты, или от гнева евреев, или от обвинения, выдвинутого братом Генри, что до фатального инфаркта 1969 года отца довел его исполненный ненависти, издевательский бестселлер. Если морзянку души действительно транслировали каналы физической боли, послание должно было бы быть пооригинальнее, чем “больше такого никогда не пиши”.
Конечно же, такого рода трудности всегда можно расценить как проверку характера. Но что такое двадцать лет заниматься сочинительством? Ему не нужно было проверять характер. Упорства ему хватит до конца жизни. Творческие принципы? Да он в них по горло. Если целью было заставить его с еще большей мрачной решимостью нести бремя писательского труда, то его боль, увы, дезинформировали. С этим он мог справиться и сам. Был обречен на это одним лишь течением времени. Непоколебимое терпение, ему присущее, и так делало его жизнь год от года все мучительнее. Еще двадцать лет таких же, как предыдущие, и никакому разочарованию его будет не сломить.
Нет, если боль намеревалась сделать что-нибудь действительно стоящее, следовало не укреплять его твердость, а ослаблять его хватку. Допустим, от погребенного Натана по кончикам его нервов бежит послание: “Пусть книги пишут другие”. Оставь судьбу литературы в их надежных руках и откажись от жизни в одиночестве в своем кабинете. Это не жизнь, и это не ты. Это десять пальцев, что барабанят по тридцати трем буквам. Вот живет некое животное в зоопарке, и ты думаешь: какой ужас! “Ну хоть бы покрышку повесили, чтобы ему было на чем качаться, или подселили ему дружка, чтобы было с кем кувыркаться по полу”. А если бы ты увидел, как настоящий сумасшедший стенает за столом в своей комнатушке, увидел бы, как он пытается выбить что-то осмысленное из йцукенгшщзх, фывапролджэ и ячсмитьбю, увидел бы, как он сосредоточенно пытается этими тремя бессмысленными словами исключить все остальное, ты бы ужаснулся, схватил бы его охранника за руку и спросил: “Неужели ничего нельзя сделать? Неужели нет никакого антигаллюциногена? А хирургическое вмешательство?” Но прежде чем охранник успеет ответить: “Ничего нет – все бесполезно”, псих вскочил бы и в полном безумии заорал бы тебе через прутья решетки: “Остановись, не вмешивайся, черт возьми! Прекрати орать мне в ухо! Как же мне завершить мой великий труд, если все только ходят, глазеют и галдят?”
Допустим, боль пришла не чтобы подогнать его под нужный размер, как в “Господе” Герберта * или обучить его приличным манерам, как делала тетушка Полли в “Томе Сойере”, не для того, чтобы сделать его таким евреем, как Иов, а чтобы избавить Цукермана от ложного призвания. Что, если боль предложила Цукерману самую выгодную в его жизни сделку, выход, до которого он никогда бы не добрался? Право быть глупым. Право быть ленивым. Право быть никем и ничем. Вместо одиночества – компания, вместо тишины – голоса, вместо планов – эскапады, вместо еще двадцати, тридцати, сорока лет неослабной, пронизанной сомнениями сосредоточенности – будущее, полное разнообразия, безделья, забвенья. Оставить то, что дано, без изменений. Сдаться на волю йцукенгшщзх, фывапролджэ и ячсмитьбю – пусть эти три слова скажут все.
Боль – чтобы доставить Натану бесцельное удовольствие. Может, нужна была добрая порция агонии, чтобы его растормошить. Алкоголь? Наркота? Интеллектуальный грех легкой забавы, самопричиненного бесчувствия? Ну, если так он должен… А столько женщин? Женщины, прибывающие и убывающие посменно, одна – почти ребе* “Господь” – стихотворение Джорджа Герберта.
нок, другая – жена его финансового консультанта? Обычно бухгалтер обманывает клиента, а не наоборот. Но что он мог поделать, раз боль этого требовала? Его самого отстранили от командования, освободили от всех нравственных принципов по причине беспомощного состояния. Цукерману следовало заткнуться и делать что велят – прекратить укладываться в строго отведенное время, прекратить подавлять порывы и контролировать каждую связь и себя в ней, а отныне и далее – плыть по течению, просто плыть на волнах того, что дает облегчение, залечь на дно и глядеть, как сверху приходит утешение. Безвольно сдаться, давно пора.
А если это действительно запрет души, то к чему? Ни к чему? К концу концов? Чтобы избежать тесных объятий самооправдания? Научиться вести никчемную, ничем не оправданную жизнь? Если так, подумал Цукерман, если боль уготовила мне такое будущее, тогда эта проверка характера их всех доконает.
2
Ушедшее
Цукерман потерял свою тему. Здоровье, волосы и тему. Да еще не мог найти позу, в которой удобно писать. То, из чего он создавал свою прозу, ушло – место, где он родился, стало выжженным полем расовой войны, и люди, что были для него гигантами, умерли. Великая еврейская битва велась с арабскими странами, здесь она закончилась – нью-джерсийский берег Гудзона, его Западный берег теперь оккупировало чужое племя. И никакой новый Ньюарк не восстанет против Цукермана не то что тот, первый: нет уже таких отцов, как те отцы-первопроходцы, еврейские отцы, накладывавшие табу за табу, нет и таких сыновей, как у них, пылающих искушениями, нет ни преданности клану, ни амбиций, ни восстаний, ни капитуляций, и не будет больше таких истовых стычек. Никогда больше не испытать таких нежных чувств и такого желания сбежать. Без отца, без матери, без родины он больше не писатель. Больше не сын, больше не сочинитель. Все, что побуждало его, истреблено, не осталось ничего уж точно его и ничьего больше, нечего было присваивать, исследовать, укрупнять и воссоздавать.
Такие депрессивные мысли посещали его, когда он лежал, безработный, на коврике.
Обвинение брата – в том, что “Карновский” стал причиной отцовского рокового инфаркта, – забыть было трудно. Воспоминания о последних годах отца, об их напряженных отношениях, о горечи, о непонятости и об ошарашивающей отчужденности терзали его так же, как сомнительные претензии Генри; терзало и проклятие отца, прозвучавшее с последним вдохом, и мысль о том, что он написал то, что написал, просто по мерзости своей, и его сочинение – это всего-навсего упрямый вызов почтенному мозольному оператору. После того укора со смертного одра он и страницы достойной не написал и почти уверился, что без отца с его нервозностью, жесткими принципами и узостью взглядов он вообще не стал бы писателем. Отца, американца в первом поколении, терзали еврейские демоны, а сыном, американцем во втором поколении, владело желание их изгнать, вот и весь сюжет.
Мать Цукермана, женщина тихая, простая, обязательная и безобидная, тем не менее всегда казалась ему в душе чуть более раскованной и свободной. Выяснение накопившихся за долгую историю обид, устранение нестерпимых несправедливостей, изменение трагического хода еврейской истории – все это она с радостью поручала решать мужу за ужином. Он поднимал шум и имел взгляды, она готовила им еду, кормила детей и тем удовлетворялась, наслаждалась – пока та длилась – гармонией семейной жизни. Через год после его смерти у нее обнаружили опухоль мозга. Несколько месяцев она жаловалась на приступы головокружения, головную боль, небольшие провалы в памяти. Первый раз в больнице врачи диагностировали микроинсульт – ничего такого, что могло сильно ухудшить ее состояние, а четыре месяца спустя, когда она снова к ним поступила, невропатолога, когда он пришел в палату, она узнала, но когда он попросил ее написать на листочке свое имя, она, взяв у него ручку, вместо “Сельма” без единой ошибки написала “Холокост”. В Майами-Бич в 1970 году такое слово вывела на бумаге женщина, которая писала разве что рецепты на каталожных карточках, тысячи благодарственных записок и кипу инструкций по вязанию. Цукерман был вполне уверен, что до того утра она этого слова вслух не произносила. Ее задачей было не размышлять об ужасах, а сидеть вечерами и вязать, планируя хозяйственные дела на завтра. Но в голове у нее была опухоль размером с лимон, и она, похоже, вытеснила все, кроме одного слова. Его она не потеснила. Должно быть, оно было там все время, а они и не догадывались.
В этом месяце будет три года. 21 декабря. В 1970 году это был понедельник. Невропатолог сказал ему по телефону, что опухоль мозга убьет ее за две-четыре недели, но когда Цукерман примчался из аэропорта и вошел в палату, кровать уже была пуста. Его брат, прилетевший отдельно, за час до него, сидел в кресле у окна: губы сжаты, лицо белое – выглядел он, при всей своей стати и силе, так, словно слеплен из гипса. Пихни – и он рассыплется на кусочки.
– Мама ушла, – сказал он.
Из всех слов, которые Цукерман когда-нибудь читал, писал, произносил или слышал, он не мог подобрать двух других, сравнимых по убедительности высказывания с этими двумя. Она не идет, не пойдет, она ушла.
В синагоге Цукерман не бывал с начала шестидесятых – тогда он ездил туда каждый месяц отстаивать “Высшее образование” циклом лекций для общины. Он, неверующий, тем не менее обдумывал, не следует ли похоронить мать по ортодоксальному обряду – обмыть, завернуть в саван, положить в простой деревянный ящик. Еще до того, как ее начали беспокоить первые тревожные признаки смертельной болезни, после четырех лет ухода за мужем-инвалидом она уже стала копией своей покойной матери в старости, и именно в морге больницы, уставившись на доставшийся от предков выступающий нос, притороченный к маленькому, почти детскому фамильному черепу – изогнутый серп, за которым резко катился вниз каркас измученного заботами лица, – он и подумал об ортодоксальных похоронах. Но Генри хотел, чтобы она была в сером платье из мягкого крепа – в нем она так чудесно выглядела, когда они с Кэрол повели ее в Линкольн-центр послушать Теодора Бикеля[11], и Цукерман не видел смысла спорить. Он пытался найти этому трупу соответствующее место, соединить то, что случилось с его матерью, с тем, что случилось с ее матерью, на похоронах которой он ребенком присутствовал. Он пытался вычислить, где в жизни было их место. А что до облачения, в котором она будет гнить, пусть Генри делает что хочет. Главным было выполнить это последнее задание как можно безболезненнее: тогда ему и Генри никогда больше не надо будет ни о чем договариваться или друг с другом общаться. Они поддерживали связь только ради ее благополучия, и у ее пустой кровати они встретились впервые за год, прошедший после похорон отца во Флориде.
Теперь она целиком принадлежала Генри. Организационные вопросы он взял на себя, но занимался ими так сердито и истово, что всем было совершенно ясно – вопросы касательно похорон следует адресовать младшему сыну. Когда в квартиру матери пришел обсудить службу раввин – все тот же молодой раввин с шелковистой бородкой, который совершал обряд у могилы отца, – Натан сидел в сторонке и молчал, а Генри, только что вернувшийся из похоронного бюро, расспрашивал раввина о процедуре.
– Я думал немного почитать стихи, – сказал ему раввин. – Что-нибудь о том, как все растет. Я знаю, как она любила растения.
Все взглянули на комнатные цветы так, как будто это были осиротевшие дети миссис Цукерман. Слишком мало времени прошло, чтобы четко видеть и цветы на подоконнике, и кастрюлю с лапшой в холодильнике, и квитанцию из химчистки у нее в сумке.
– Потом я прочту несколько псалмов, – сказал раввин. – А в заключение, если вы не против, я бы поделился личными наблюдениями. Ваших родителей я знал по синагоге. Знал их хорошо. Знаю, как славно им было вместе, быть мужем и женой. Знаю, как они любили свою семью.
– Хорошо, – сказал Генри.
– А вы, мистер Цукерман? – спросил раввин Натана. – Хотите ли вы поделиться какими-нибудь воспоминаниями? Я буду рад включить их в свою речь.
Он достал из кармана блокнот и карандаш – записать то, что скажет писатель, но Натан только покачал головой.
– Воспоминания, – сказал Цукерман, – приходят со временем.
– Ребе, – сказал Генри, – надгробную речь скажу я.
Раньше он говорил, что не сможет произнести речь – не справится с чувствами.
– Если вы, несмотря на свое горе, сможете, – ответил раввин, – что ж, прекрасно.
– А если я заплачу, – сказал Генри, – беды не будет. Лучше нее мамы в мире не было.
Итак, наконец история будет изложена правдиво. Генри сотрет из памяти флоридских друзей ее клеветнический образ в “Карновском”. Жизнь и искусство совсем не схожи, подумал Цукерман, неужели это неясно? Однако это различие трудноуловимо. Всех озадачивает и бесит то, что сочинительство – это игра воображения.
Вечерним самолетом прилетела Кэрол с двумя их старшими детьми, и Генри поселил их с собой – в отеле на Коллинз-авеню. Цукерман ночевал в квартире мамы один. Он не стал перестилать постель, лег на кровать, где она спала всего две ночи назад, зарылся лицом в ее подушку.
– Мама, где ты?
Он знал, где она – в похоронном бюро, одетая в серое креповое платье, – и все же продолжал спрашивать. Его маленькая, метр шестьдесят ростом, мама исчезла в бескрайних пространствах смерти. В места больше, чем универмаг “Л. Бамберг” на Маркет-стрит в Ньюарке, при жизни она никогда не попадала.
До той ночи Цукерман не понимал, кто такие мертвые и насколько они далеко. В его сне она что-то шептала, но как он ни силился расслышать, разобрать ничего не мог. Их разделяла пара сантиметров, их ничто не разделяло, они были нераздельны, однако никакое послание не доходило. Ему словно снилось, что он оглох. Во сне он подумал: “Ушла так, что не достичь”, и проснулся в темноте, весь в слюне, от которой намокла ее подушка. “Бедная детка”, – сказал он: ему казалось, что она и есть детка, его детка, как будто она умерла в десять лет, а не в шестьдесят шесть. Голова у него заболела – и боль была размером с лимон. Это была ее опухоль.
Утром, открыв глаза, силясь высвободиться из последнего сна о близком на пугающем расстоянии, он стал готовить себя к тому, что она окажется с ним рядом. Он не должен пугаться. Она ни за что не вернулась бы, чтобы напугать Натана. Но, когда он открыл глаза, увидел дневной свет и повернулся на бок, на другой половине кровати никакой мертвой женщины не было. И ему никогда уже было не увидеть ее рядом с собой.
Он встал, почистил зубы, вернулся в спальню и, все еще в пижаме, зашел в гардеробную с ее одеждой. Он сунул руку в карман поплинового плаща, на вид совсем не ношенного, и нашел недавно открытую пачку “Клинекса”. Одна из салфеток лежала сложенная в углу кармана. Он поднес ее к носу, но пахла она только самой собой.
Из квадратного пластикового чехла в глубине кармана он достал прозрачную шапочку от дождя. Размером не больше пластыря, сложена была толщиной меньше сантиметра, но то, что она оказалась так аккуратно упакована, вовсе не значило, что она никогда ею не пользовалась. Чехол был голубой, с надписью “подарок от «моды для модниц от сильвии», бока-ратон”. “С” в “Сильвии” было оплетено розой – ей бы такое понравилось. Благодарственные записки она всегда писала на листочках, обрамленных цветами. Иногда его жены получали цветочные благодарственные записки за такую малость, как заботливый междугородный звонок.
В другом кармане лежало что-то мягкое и воздушное. Пока он не извлек это, ему было немного не по себе – не могла же мама таскать, как какая-нибудь пьянчужка, в кармане нижнее белье. Неужели опухоль подействовала на ее рассудок и в таких, неизвестных им мелочах? Но это был не лифчик, не трусики, а всего лишь телесного цвета шелковистая сетка, какую надевают, когда идут из салона красоты. Только что уложенные волосы, ее волосы – так ему хотелось думать, когда он поднес сеточку к носу, пытаясь уловить знакомый запах. Резкие запахи, громкие звуки, американские идеалы, сионистский пыл, еврейское негодование, то, что в детстве казалось таким живым и вдохновляющим, почти сверхчеловеческим, все это было отцовское, а мама, занимавшая огромное место в первые десять лет его жизни, была в воспоминаниях прозрачной, как эта сетка для волос. Грудь, потом колени, потом далекий голос, кричащий вслед: “Береги себя!” Потом долгий пропуск – когда о ней ничего не вспоминается, – просто кто-то невидимый стремился угодить, сообщал по телефону о погоде в Нью-Джерси. Потом переезд во Флориду после ухода отца на пенсию и светлые волосы. Аккуратно одетая по тропической погоде – розовые хлопковые брючки и белая блузка с монограммой (с жемчужной булавкой, которую он купил много лет назад в аэропорту Орли и привез ей после своего первого лета во Франции) – маленькая загорелая блондинка, ждущая в конце коридора, когда он выйдет с сумкой из лифта: расплывается в улыбке, заботливо смотрит карими глазами, прижимается к нему с грустью, тут же сменяющейся благодарностью. И какой благодарностью! Будто президент Соединенных Штатов приехал к ним в кондоминиум навестить счастливчиков-сограждан, чьи имена и адреса определили наугад.
Последним, что он нашел в кармане, оказалась заметка, вырезанная из “Нью-Йорк таймс”. Должно быть, кто-то из домашних ей послал. Она вынула ее из конверта прямо у почтового ящика, потом сунула в карман по дороге в салон красоты или к Сильвии в Бока-Ратон. Правильный диагноз касательно головных болей и головокружений еще не поставили, и одним дождливым днем она поехала с подругой присмотреть платье. В четыре часа пополудни две дамы решили зайти в ресторан на ранний ужин. Читая меню, она, наверное, подумала: “Это заказал бы Виктор. Это – Натан. Это – Генри”. И только потом выбрала что-то себе. “Мой муж, – сказала бы она официантке, – обожал морские гребешки. Если они свежие, такие красивые, крупные. Будьте добры, мне – морские гребешки”.
Один абзац из заметки в “Таймс” был жирно обведен красным карандашом. Не ею. Все ее рамки были сделаны свежезаточенным грифелем. Абзац был из статьи в разделе “Нью-Джерси” от воскресенья 6 декабря 1970 года. Она умерла пятнадцать дней спустя.
В Ньюарке тоже родилось немало знаменитостей, начиная от писателя Натана Цукермана, кончая комиком Джерри Льюисом. Самые знаменитые выходцы из Элизабета – военные: генерал Уинфред Скотт, живший в XIX веке, и адмирал Уильям Бык Холси, герой Второй мировой войны.
В кухонном шкафчике он нашел желтую пластмассовую лейку в белых маргаритках и налил в нее воды из крана. Пошел в гостиную полить ее увядающие цветы. Всю последнюю неделю она была так больна, потеряна и забывчива, что даже за цветами не ухаживала. Цукерман включил какое-то FM-радио, на которое у нее был настроен приемник, послушал ее любимую музыку – мелодии из знаменитых мюзиклов с душещипательными струнными – и пошел с лейкой вдоль подоконника. Ему казалось, что он узнает цветы из Нью-Джерси, из своих школьных лет. Возможно ли такое? Столько лет они были ее спутниками? Он поднял жалюзи. За новым кондоминиумом, выросшим напротив, он увидел широкий кусок залива. Пока был жив ее муж, они традиционно выходили каждый вечер, после ужина и теленовостей на балкон спальни и любовались заливом. “Ой, Натан, видел бы ты, какой вчера был закат – ни у кого, кроме тебя, не нашлось бы слов его описать”. Но после смерти доктора Цукермана смотреть на всю эту несказанную красоту одна она не могла и просто смотрела дальше телевизор – неважно, что показывали.
В заливе лодок еще не наблюдалось. Еще и семи не было. Но двумя этажами ниже, на парковке между двумя зданиями совершал моцион очень старый человек в ярко-зеленых штанах, ярко-зеленой кепке и канареечном свитере: он ходил, пошатываясь, туда-сюда между рядами сверкающих машин. Остановился, оперся о капот двуцветного “кадиллака”, возможно, его собственного, и посмотрел наверх, туда, где Цукерман стоял в пижаме у панорамного окна. Он помахал рукой, Цукерман помахал в ответ и почему-то показал ему лейку. Старик что-то крикнул, но из-за радио не было слышно. На ее FM-станции играли попурри из “Радуги Финиана”. Как дела в Глокка-Мора в этот чудный день? Он содрогнулся: в этот чудный день в Глокка-Мора где оказалась она? Затем заиграли “Все, что ты для меня”, и это его совершенно доконало. Под эту мелодию она учила его танцевать вальс – для вечеринки в честь его бар мицвы. Он делал уроки, а потом они репетировали на кусочке пола между устланными коврами столовой и гостиной, а Генри, держа в руках воображаемый кларнет, изображал Арти Шоу. Когда пела Хелен Форрест, Генри повторял за ней слова: главное было изображать что-нибудь, даже полусонному, в пижаме и шлепанцах. На вечеринке в зале на Берген-стрит – кейтеринг там был на несколько порядков хуже, чем у “Шери Мэнор” – все родственники аплодировали (а все его юные приятели насмешливо улюлюкали), когда Натан и миссис Цукерман вышли под радужные прожектора и стали танцевать фокстрот. А когда юноша – руководитель оркестра опустил свой сакс и проникновенно замурлыкал “Ты – поцелуй грядущей весны”, она гордо заглянула в глаза своего тринадцатилетнего партнера – рука его была в нескольких сантиметрах от места, где, как он предполагал, находилась лямка ее бюстгальтера, которой он мог нечаянно коснуться, – и тихо шепнула ему на ухо: “Так и есть, мальчик мой!”
Квартиру, купленную десять лет назад его отцом, помогала обставлять невестка, Кэрол. На самой длинной стене висели две репродукции в блеклых серо-зеленых рамках, белая парижская улица Утрилло и сиреневые холмы гогеновского острова. Для подушек бамбукового гарнитура в гостиной женщины выбрали яркую материю с ветками лимонов и лаймов. Тропический Эдем – такова была задумка, однако инсульты все равно свели ее мужа в могилу. Она сделала все, что могла, но органический мир победил, а она проиграла.
Ее грусти нечем было помочь. А если когда-то и было можно, возможность упустили.
Он еще наблюдал за тем, как старик на парковке трусит от одного ряда машин к другому, когда в замке повернулся ключ. Залив недвусмысленно блестел – там плясал свет, в котором торжествуют живые, утверждая: “Жизнь на солнце о смерти ничего не знает!” – однако ожидание того, что она вернется, вдруг оказалось столь же сильно, как когда он лежал в кровати, еще не отойдя от снов на ее подушке. Может, и встав, он еще от них не отошел.
Ее призрака нечего было бояться. Она вернулась просто на него поглядеть, проверить, не похудел ли он за три месяца с последнего приезда, вернулась посидеть с ним за столом, послушать его рассказы. Он вспомнил, как впервые приехал из университета, это был вечер среды, первый его студенческий День благодарения, и он вдруг с пылом стал рассказывать ей о книгах, которые проглотил за время учебы. Они уже помыли посуду после ужина, брат ушел еще до десерта на баскетбольный матч в “Y”[12], отец ушел к себе в кабинет закончить какую-то писанину. Цукерман вспомнил ее фартук, ее домашнее платье, темные седеющие волосы, вспомнил старый диван в Ньюарке – в тот год, когда он уехал в Чикаго, сменили обивку – на скромную, практичную, немаркую “шотландскую клетку”. Она улеглась на диване в гостиной и, ласково улыбаясь, слушала его объяснения, а потом незаметно уснула. Он убаюкал ее рассказами о Гоббсе и общественном договоре. Но как же ей нравилось, что он все это знает! Это было ее успокоительное, самое сильное из всех, что она решалась принимать – до тех пор, пока после смерти ее мужа ее не посадили на фенобарбитал.
Эти нахлынувшие чувства… Ему подумалось, а если это всего лишь попытка расплатиться за удар, который, считалось, он нанес ей образом матери в “Карновском”, что, если из этого проистекали нежные воспоминания, ожившие, когда он поливал ее цветы. А может, поливка цветов была сама по себе волевым, надуманным действием, успокаивающим сердце поступком в бродвейском духе, столь же наигранным, как и слезы от ее любимой китчевой мелодии. Вот к чему приводит сочинительство? Годы осознанного самокопания – и я теперь не могу позволить себе искренне переживать смерть собственной матери? Даже когда плачу, я не знаю точно о чем.
Увидев, кто пришел, он улыбнулся: нет, это был не призрак матери, вернувшейся с ключами из мертвых, чтобы послушать его рассуждения о Локке и Руссо, а маленькая, располневшая книзу и вполне земная незнакомка шоколадного цвета. На ней были широкие бирюзовые штаны и парик в глянцевых черных кудряшках. Наверное, Оливия, уборщица восьмидесяти трех лет. А что это за мужчина в пижаме, напевающий под радио миссис Цукерман и поливающий ее цветы ее лейкой с маргаритками, она никак не могла сообразить.
– Вы кто такой? – крикнула она и топнула ногой, чтобы его прогнать.
– Вы, должно быть, Оливия. Не волнуйтесь, Оливия. Я сын миссис Цукерман. Я Натан. Из Нью-Йорка. Я тут ночевал. Закрывайте дверь, проходите. – Он протянул ей руку: – Я – Натан Цукерман.
– Боженьки, вы меня до смерти напугали. Сердце так и колотится. Говорите, вы Натан?
– Да.
– Вы чем занимаетесь?
– Я писатель.
Она подошла к нему и пожала руку:
– Какой вы видный мужчина.
– А вы – видная женщина. Рад познакомиться.
– А где ваша мама?
Он рассказал, и она рухнула на диван.
– Моя миз Цукерман? Моя миз Цукерман? Моя прекрасная миз Цукерман? Быть не может! Я видала ее в четверг. Принарядилась – на выход. В этом ее белом пальто с большим воротником. Я ей: “Ох, миз Цукерман, до чего ж вы хороша!” Да как же это – умерла, моя-то миз Цукерман!
Он сел рядом с ней на диван, гладил ее по руке, пока она наконец не пришла в себя.
– Мне как, все равно убирать? – спросила Оливия.
– Если у вас есть силы.
– Может, вам яичницу сделать?
– Нет, спасибо, мне ничего не надо. Вы всегда так рано приходите?
– По большей части ровно в шесть тридцать. Мы с миз Цукерман ранние пташки. Ох, поверить не могу, что она померла. Люди всё умирают, но к этому не привыкнуть. Лучше нее в мире не было!
– Она ушла быстро, Оливия. Не мучилась.
– Я миз Цукерман говорю: “Миз Цукерман, у вас все так убрано, мне и убирать-то нечего!”
– Понимаю.
– Я ей всегда говорю: “Вы на меня зря деньги тратите. Здесь все так сияет, я уж тру, чтоб побольше сияло, да некуда”. Я как приду, мы уж обязательно обнимаемся-целуемся. Эта женщина, она ко всем добрая. Эти, другие леди, они сюда приходят, а она сидит в кресле, вон в том, и они с ней советуются, спасу от них нет. Мужчины вдовые то же самое. Она с ними вниз ходит, стоит, показывает, как из сушки белье вынимать да складывать. Они чуть не на следующий день, как папа ваш помер, к ней насчет женитьбы подкатывались. Мужчина сверху, тот ее в круиз-раскруиз звал, а другие, там, в холле, так они как мальчишки в очередь выстраивались, чтобы в воскресенье днем ее в кино сводить. Но она папу вашего уж так любила, ей на эти глупости начхать было. Не из таковских. Она в такие игры не играет. Как доктор Цукерман преставился, она мне всегда говорила: “Я всю жизнь, Оливия, счастливая была. С тремя лучшими в мире мужчинами”. Она мне все порассказала, с тех времен, как вы и зубной врач мальчишками были. А книжки-то вы про что пишете?
– Хороший вопрос, – сказал он.
– Ну ладно, вы идите своими делами занимайтесь. А я тут разберусь.
И она – будто заскочила на минутку посудачить – встала, отправилась со своей хозяйственной сумкой в ванную. Вышла оттуда в хлопковом красном берете и длинном красном фартуке поверх штанов.
– Хотите, я в обувном шкафу спреем побрызгаю?
– Делайте то, что обычно.
– Обычно я брызгаю. Обуви на пользу.
– Тогда брызгайте.
Надгробная речь Генри длилась почти час. Натан считал, когда Генри перекладывал страницу за страницей. Всего семнадцать – тысяч пять слов. Он бы пять тысяч слов писал неделю, а Генри управился за ночь – в гостиничном номере с тремя малолетними детьми и женой. Цукерман не мог писать, даже если в комнате была кошка. Это было еще одно различие между ними.
В поминальном зале собралось человек сто скорбящих, в основном вдовые еврейки за шестьдесят и за семьдесят – прожили всю жизнь в Нью-Йорке и Нью-Джерси, и их переправили на Юг. К тому времени, когда Генри закончил, все они жалели, что нет у них такого сына, и не только потому, что он высокий, статный, видный и с успешной практикой – такого любящего сына редко встретишь. Цукерман подумал: “Будь все сыновья такими, и я бы себе сына завел”. И не то чтобы Генри что-то присочинил, портрет вовсе не был нелепо идеализирован, но все эти добродетели у нее имелись. Однако это были те добродетели, которые делают счастливой жизнь мальчика. Чехов, опираясь примерно на то, о чем говорил Генри, написал рассказ раза в три короче, “Душечку”. Впрочем, Чехову не нужно было компенсировать урон, нанесенный “Карновским”.
С кладбища они отправились в квартиру их родственницы Эсси – на том же этаже, напротив квартиры мамы – принимать и кормить скорбящих. Некоторые женщины попросили у Генри текст его надгробной речи. Он пообещал, что как только вернется к себе в клинику, попросит секретаршу сделать ксероксы и всем разошлет. “Он дантист, – услышал Цукерман слова одной из вдов, – а пишет лучше того писателя”. От нескольких маминых друзей Цукерман услышал, как его мать учила вдовцов складывать белье после сушки. Энергичного вида мужчина с венчиком седых волос и загорелым лицом подошел пожать ему руку.
– Моя фамилия Мальц. Примите мои соболезнования.
– Благодарю вас.
– Вы давно из Нью-Йорка?
– Вчера утром прилетел.
– Как там погода? Очень холодно?
– Да нет, терпимо.
– Не стоило мне сюда ехать, – сказал Мальц. – Останусь, пока аренда не кончится. Еще два года. Если доживу, мне будет восемьдесят пять. А тогда вернусь домой. У меня четырнадцать внуков на севере Джерси. Кто-нибудь меня да приютит.
Пока они с Мальцем разговаривали, рядом стояла женщина в темных очках и слушала. Цукерман гадал, не слепая ли она, хотя была она без сопровождающих.
– Я Натан, – сказал он. – Добрый день.
– Да уж я знаю, кто вы. Ваша мама только о вас и рассказывала.
– Да?
– Я ей: “Сельма, когда он в следующий раз приедет, приведи его ко мне – у меня для него масса историй”. У моего брата в Лейквуде, в Нью-Джерси, дом престарелых, он там такого навидался – на целую книгу хватит. Если кто ее напишет, миру это пойдет на пользу.
– И чего он там навидался? – спросил Цукерман.
– Да всякого! Одна старушка, она весь день сидит у входа, у самой двери. Он ее спрашивает, что она делает, а она: “Я сына жду”. Когда сын приехал, мой брат ему говорит: “Ваша мать каждый день сидит у двери, ждет вас. Может, вы будете приезжать почаще?” Знаете, что он ответил? Да вы и сами понимаете, что он ответил. Он ответил: “А вы знаете, какие пробки по дороге из Бруклина в Джерси?”
Они сидели и сидели. Разговаривали с ним, с Генри, друг с другом, и хотя выпить никто не попросил, съели почти все, и Цукерман подумал: наверное, этим людям нелегко, когда кто-то в доме умирает – каждый думает, уж не он ли будет следующим. И кто-то действительно оказывается следующим.
Генри с детьми улетел в Нью-Джерси к своим пациентам, оставив Кэрол с Натаном разбираться в квартире и решать, что отдавать в еврейские благотворительные центры, Кэрол – чтобы без ссор. Она никогда ни с кем не ссорилась – “милее характера в мире не найти”, по мнению родственников. Живая, по-девичьи хорошенькая женщина, она выглядела моложе своих тридцати четырех лет, коротко стриглась и носила шерстяные гольфы – кроме этого Цукерману почти нечего было о ней сказать, хотя она была замужем за его братом почти пятнадцать лет. В его присутствии она всегда делала вид, что ничего не знает, ничего не читала, не имеет мнения ни о чем; если находилась в одной с ним комнате, даже анекдот рассказать не осмеливалась, хотя Цукерман часто слышал от матери, какой “совершенно очаровательной” она бывает, когда они с Генри принимают родственников. Но сама Кэрол, чтобы не проявить ничего, что он мог бы покритиковать или высмеять, при нем вообще никак себя не проявляла. Наверняка он знал про Кэрол только одно: она не хотела попасть в книгу.
Они опорожнили два верхних ящичка маминого туалетного столика и разложили коробочки на обеденном столе. Открывали их одну за другой. Кэрол предложила Натану взять кольцо, помеченное как “Обручальное кольцо бабушки Шехнер”. Он помнил, как его в детстве сразил рассказ о том, что она сняла кольцо с пальца своей матери – тут же, когда та умерла: его мама потрогала труп, а потом вернулась домой и приготовила им ужин.
– Ты его возьми, – сказал Натан, – драгоценности когда-нибудь отойдут твоим девочкам. Или жене Лесли.
Кэрол улыбнулась – ее сыну Лесли было десять.
– Но надо же, чтобы ты взял что-то из ее вещей, – сказала она. – Будет неправильно, если все заберем мы.
Она не знала, что у него уже есть – белый листок бумаги с надписью “Холокост”. “Не хотел его выкидывать, – сказал ему невропатолог, – пока вы не увидите”. Натан его поблагодарил и убрал листок в бумажник – теперь он не мог его выкинуть.
В одной из коробочек Кэрол обнаружила круглый золотой значок, который мама получила, потому что была президентом родительского комитета, когда они с Генри учились в начальной школе. На лицевой стороне были выгравированы название школы и дерево в цвету, на обратной – надпись “Сельма Цукерман, 1944–1945”. Уж лучше бы, подумал он, я его носил в бумажнике. Но сказал Кэрол, чтобы она взяла его для Генри. В надгробной речи Генри почти страницу посвятил тому, как мама была президентом родительского комитета и как он в детстве этим гордился.
В черепаховой шкатулке Цукерман нашел пачку инструкций по вязанию. Почерк был ее, точность и практичность – тоже ее. “1-й ряд ст. без накида, туго, чтобы плоско… перед так же, как зад до проймы… рукав 46 петель 2 лиц 2 изн 2 ½ / кажд. 5 рядов добавлять по 1 петле с обеих сторон…” Каждый листок с инструкцией был сложен пополам, снаружи – имя внука племянницы, племянника, невестки, которым она готовила подарок. Он нашел написанные маминым почерком имена всех своих жен: “Жилетка для Бетси”. “Кардиган с регланом – Вирджиния”. “Дорин синий свитер”.
– Пожалуй, я возьму это, – сказал Цукерман.
Он перевязал стопку бело-розовой шерстяной ниткой в десять сантиметров, которую нашел на дне черепаховой шкатулки – наверное, подумал он, образец, по нему надо было подобрать в магазине пряжу для очередного изделия, которое она задумала лишь позавчера. На дне шкатулки было еще его фото. Лицо суровое, без улыбки, темная челка до бровей, чистая тенниска, бермуды цвета хаки, белые спортивные носки, умеренно замызганные белые полукеды, в руке зажат том из “Современной библиотеки”. Тощая высокая фигура выглядела так, будто он напряженно и нетерпеливо вглядывается в бескрайнее неизвестное будущее. На обороте фото мама написала: “Н., День труда, 1949. Перед отъездом в колледж”. Снимал отец – на лужайке позади их дома в Ньюарке. Он вспомнил новехонький фотоаппарат “Брауни” и то, что отец был совершенно уверен: солнце должно светить в объектив. И том из “Современной библиотеки” он помнил – “Das Kapital”[13].
Он ждал, что Кэрол скажет: “И эту женщину, женщину, которая тебя обожала, мир запомнит как миссис Карновскую”. Но, увидев, как его мать подписала фото, она не стала его ни в чем обвинять. Только прикрыла глаза рукой, словно залив стал сверкать слишком уж ослепительно. Натан догадался, что она тоже не спала всю ночь – помогала Генри написать его семнадцать страниц. Может быть, она их и написала. Она вроде бы писала удивительно пространные письма своим свекру и свекрови, перечисляя все, что они с Генри увидели и съели во время отпуска. Она и читала запоем, причем вовсе не те книги, что можно было предположить, судя по маске безобидной милоты, которую она неизменно ему демонстрировала. Однажды, в Саут-Ориндже, Цукерман, поднявшись наверх, чтобы поговорить по телефону, увидел на столике у ее кровати стопку книг – исписанный заметками блокнот поверх второго тома истории Крестовых походов, густо исчирканного Хёйзингу в бумажной обложке, о Средних веках, и по меньшей мере книг шесть о Карле Великом, взятых из библиотеки университета Сетон-Холл, исторические труды на французском. В 1964 году, когда Генри приехал на Манхэттен и всю ночь провел в квартире Натана, решая, имеет ли он право оставить Кэрол и детей ради пациентки, с которой у него случился роман, он с уважением рассуждал о ее “блестящем уме”, называл ее во внезапном лирическом порыве “моим мозгом, моими глазами, моим разумом”. Когда в отпуск Генри они путешествовали за границей, благодаря свободному французскому Кэрол они могли все увидеть, всюду попасть и прекрасно проводили время; когда он впервые стал вкладывать куда-то деньги, Кэрол прочитала все об акциях и облигациях и давала ему куда более дельные советы, чем брокер из “Меррил Линч”; ее двор позади дома утопал в цветах и был настолько хорош, что в местном еженедельнике вышла статья с фотографиями, а сад она разбила, лишь делая всю зиму чертежи на листах в клетку и изучая книги по садоводству. Генри с большим чувством рассказывал, как она поддерживала родителей, когда ее брат-близнец на втором курсе юридического умер от менингита. “Если бы только она взялась за докторскую диссертацию”. Эту фразу он с грустью повторял десятки раз. “Она создана для академической карьеры” – как будто, если бы жена, так же, как и муж (если бы жена вместо мужа), продолжила после их студенческой женитьбы трехлетнюю учебу в аспирантуре, Генри каким-то образом чувствовал бы себя вправе отринуть требования верности, привычки, обязательств, совести – равно как свой страх общественного порицания и вечного проклятия – и сбежать с любовницей, которая блистала главным образом в сексуальном плане.
Цукерман ждал, что Кэрол взглянет на него и скажет: “Этой женщине, этой трогательной, безобидной женщине, которая сохранила в шкатулке фото, которая написала «Н. перед отъездом в колледж», – вот что стало ей наградой”. Но Кэрол, которая после стольких лет так и не заговорила с Натаном, по-английски или по-французски, о трагической смерти своего брата, или об угасании Средневековья, или об акциях и облигациях, или о садоводстве, не собиралась раскрывать душу и обсуждать его недостатки в качестве сына – тем более с писателем, всегда готовым из обороны перейти в нападение. Впрочем, Кэрол, как было всем известно, вообще ни с кем не ссорилась, поэтому-то Генри и оставил ее решать столь деликатный вопрос, кто что возьмет из маминого туалетного столика. Быть может, Генри оставил ее и по причине еще более деликатной – из-за своей любовницы, либо новой, или все еще той же, с которой ему было проще встретиться, если жена задержится во Флориде еще на несколько дней. Надгробная речь получилась образцовая, заслуживающая всех полученных похвал, да Цукерман и не думал ставить под сомнение искренность горя брата, тем не менее Генри был всего лишь человеком, как бы героически он ни старался этого не показывать. Более того, сын, так исполненный сыновьей преданности, как Генри, мог бы найти в столь пустом времяпрепровождении после столь внезапной утраты потребность в головокружительном, заставляющем забыть обо всем экстазе, какого не может дать ни одна жена, с докторской степенью или без.
Через два часа Цукерман вышел из квартиры с чемоданчиком и инструкциями по вязанию. В свободной руке он нес книгу в картонном переплете – размером со школьную тетрадь – в таких он обычно делал записи. Кэрол нашла ее на дне ящика с нижним бельем, под коробками с зимними перчатками еще в магазинной упаковке. На обложке была репродукция рисунка пастелью в розовых тонах – спящее, ангельски светловолосое дитя в непременных кудрях, круглощекое, с густыми ресницами; рядом с волнами покрывальца – пустая бутылочка, приоткрытый кулачок у вишневых изогнутых губ. Книга называлась “Уход за младенцем”. В самом низу обложки было напечатано название больницы, где он родился. “Уход за младенцем” ей, видимо, преподнесли после родов. От частого чтения обложка расползалась, и она склеила обе части книги прозрачным скотчем. Две полоски скотча пожелтели от старости и треснули на изгибе, когда Цукерман раскрыл книгу и на форзаце увидел отпечаток своей ноги в первую неделю его жизни. На первой странице мама своим четким почерком записала подробности его рождения – день, час, имена родителей и принимавшего роды врача; на следующей странице под заголовком “Записи о развитии ребенка” шли еженедельные записи его веса за первый год, день, когда он научился держать голову, день, когда сел, пополз, научился стоять самостоятельно, произнес первое слово, пошел, когда у него прорезались первый и второй зубы. Потом шло содержание – сотня страниц “правил” – как растить ребенка, как за ним ухаживать. “Уход за ребенком – это целая наука, – сообщалось молодой матери, – … эти правила основаны на многолетнем опыте педиатров…” Цукерман поставил чемоданчик на пол лифта и стал листать страницы. “Пусть ребенок все утро спит на солнце… Чтобы взвесить младенца, полностью разденьте его… После купания аккуратно вытрите его мягким теплым полотенцем, легонько промакивая кожу… Лучше всего младенцу подойдут хлопчатобумажные носки… Круп бывает двух видов… Утро – лучшее время для игры…”
Лифт остановился, двери открылись, но внимание Цукермана было сосредоточено на маленьком бесцветном пятне посреди страницы “Кормление”. “Необходимо полностью опорожнять грудь каждые 24 часа, чтобы приток молока не уменьшался. Чтобы опорожнить грудь вручную…”
На страницу капнуло мамино молоко. У него не было прямых доказательств, но он и не археолог, выступающий с докладом, он – сын, учившийся жить у нее на теле, а это тело теперь лежало в ящике под землей, и точные доказательства ему были ни к чему. Если он, сказавший первое слово в ее присутствии 3 марта 1934 года, а последнее слово ей по телефону в прошлое воскресенье, решил, что капля ее молока упала именно там, пока она изучала абзац о том, как молодой матери опорожнять грудь, кто мог ему воспрепятствовать? Закрыв глаза, он коснулся языком страницы, а открыв их, увидел, что за ним из вестибюля наблюдает тощая старуха, обессиленно опирающаяся на алюминиевые ходунки. Ну, если она поняла, что именно сейчас увидела, она может сообщить всем жителям этого дома, что видела всё.
В вестибюле висел плакат, приглашавший в отель “Бал Харбор” на митинг по покупке израильских бон, а рядом объявление карандашом, уже устаревшее, о праздновании там же, в вестибюле, Хануки на средства общественного комитета. Он прошел мимо ряда почтовых ящиков, вернулся, нашел ее ящик. “цукерман с. / 414”. Он поставил чемодан, положил рядом книжку и дотронулся кончиками пальцев до выпуклых букв на табличке. Когда началась Первая мировая, ей было десять. Когда закончилась – четырнадцать. Когда случился обвал на бирже, ей было двадцать пять. Двадцать девять, когда родился я, и тридцать семь 7 декабря 1941 года. Когда Эйзенхауэр вторгся в Европу, ей было как мне сейчас… Но все это не дает ответа на детский вопрос: куда ушла мама.
Днем раньше Генри оставил распоряжение на почте, чтобы ее корреспонденцию отправляли в Саут-Ориндж. Но один простой белый конверт в ящике лежал – наверное, сосед положил утром записку с соболезнованиями. В кармане куртки у Натана был запасной комплект ключей от квартиры – на нем все еще висела одна из ее бирочек, с надписью “Запасной комплект ключей от дома”. Самым крохотным ключом он открыл ящик. Адреса на конверте не было. Внутри лежала светло-зеленая каталожная карточка, на которой кто-то, кто предпочел остаться неизвестным, написал чернилами, печатными буквами:
- ПУСТЬ ТВОЯ МАТЬ
- СОСЕТ Х** В АДУ —
- А ТЫ СКОРЕЕ
- К НЕЙ ОТПРАВЛЯЙСЯ
- ПОДЕЛОМ ТЕБЕ
- ОДИН ИЗ ТВОИХ
- МНОГИХ ВРАГОВ
В самом аду, значит. Да она, тупой ублюдок, и на земле-то такого никогда не делала. Кто ему такое написал? Самый быстрый способ это выяснить – подняться наверх и спросить Эстер. Она знала все про всех. И дать отпор не гнушалась – на этом зиждился ее успех в жизни. Они могли бы вместе просмотреть список жильцов, и Эсси вычислила бы, кто это, из какой квартиры, а потом он бы пошел в отель Мейера Лански и узнал у старшего коридорного, кого можно нанять для небольшого дельца. Может, этим и заняться для разнообразия, а не лететь назад в Нью-Йорк для того, чтобы отправить зеленую карточку в каталог под рубрику “Смерть мамы”? Нельзя же вечно оставаться никчемным писателем, даже при самых сильных чувствах ничего не делать – разве что превращать их в персонажей очередной книги. Пары тыщ не жалко на то, чтобы десять пальцев, написавшие эти два десятка слов, оказались под сапогом какого-нибудь подонка. Не исключено, что здесь за такое можно и карточкой “Дайнерз клаб” расплатиться.
А вот чьи это окажутся пальцы? Каким на сей раз получится фарс – будет ли это один из вдовцов, которых она учила складывать белье после стирки, или старик, бродивший по парковке, – старик, который помахал Цукерману, когда тот поливал мамины цветы?
Человек никчемный, он полетел домой, к своему каталогу. Мерзкий, никчемный, мстительный исподтишка, скрытно злобный – тот, кто, прикрывшись маской писателя, безо всякой причины наказал свою мать. Так или не так? На школьной дискуссии он бы сумел убедительно обосновать оба положения.
Он потерял мать, отца, брата, родной дом, тему, здоровье, волосы – по мнению критика Милтона Аппеля, талант он тоже потерял. По мнению Аппеля, терять особенно было нечего. В “Инквайери”, еврейском ежемесячнике о культуре, напечатавшем пятнадцать лет назад первые рассказы Цукермана, Милтон Аппель развернул такую атаку на карьеру Цукермана, по сравнению с которой нападение Макдуфа на Макбета – детская игра в войнушку. Цукерману повезло бы, если бы ему снесли голову. Но Аппелю головы было мало: он рвал его на части. Цукерман Аппеля почти не знал. Они встречались всего дважды – как-то в августе в Спрингз на Лонг-Айленде столкнулись на прогулке по пляжу Барнс-Хоул, потом мельком на фестивале искусств в одном крупном университете, где заседали в разных комитетах. Встречи эти случились через несколько лет после того, как рецензия Аппеля на первую книгу Цукермана вышла в воскресном номере “Таймс”. Рецензия его воодушевила. В “Таймс” в 1959 году Аппель счел писателя двадцати шести лет вундеркиндом, а рассказы из сборника “Высшее образование” – “свежие, убедительные, точные” – Аппелю показались слишком критическими по отношению к американским евреям, рвущимся в гнусный гойский рай: поскольку Цукерману еще не хватало воображения, чтобы преображать знакомый молодому писателю мир, книга, несмотря на всю ее свежесть, в конце концов показалась Аппелю скорее социальной зарисовкой, чем произведением искусства.
Четырнадцать лет спустя, после успеха “Карновского”, Аппель пересмотрел “случай” – как он это называл – Цукермана: теперь евреи, представленные в “Высшем образовании”, были искажены до неузнаваемости намеренно пошлым воображением, равнодушным к социальной точности и устоям реалистической прозы. За исключением одного читабельного рассказа, первая книга была сборником, полным тенденциозного мусора – побочным продуктом извращенной, рассредоточенной враждебности. В трех последующих книгах вовсе не было ничего, что могло оправдать их существование – убогие, унылые, высокомерные романчики, презрительно избегающие сложности и глубины. Евреев, подобных цукермановским, изображали разве что в карикатурах; эти книги – не та литература, что способна заинтересовать взрослого человека, они были замыслены как образчики недолитературы для получившего “новые свободы” среднего класса, для “публики”, а не для серьезных читателей. Цукерман, возможно, и не ярый антисемит, но уж точно не друг евреев – пронизанный гадливой неприязнью “Карновский” тому доказательство.
Поскольку Цукерман большую часть из этого читал и раньше – обычно в “Инквайери”, редколлегия которого давно перестала им восхищаться, он целых пятнадцать минут пытался сохранять рассудительность. Он не находит меня смешным. Что ж, нет смысла объяснять ему, что стоит попробовать посмеяться. Он считает, что я так изображаю жизнь евреев, чтобы их унизить. Считает, что я понижаю стиль на потребу толпы. Ему это кажется пошлым глумлением. Низкопробные шутки – непотребством. Он считает, что я “высокомерен” и “мерзок”, и только. Так он и не обязан думать иначе. Я никогда не изображал из себя Эли Визеля.
Рассудительные четверть часа давно прошли, а он все еще был потрясен, возмущен, обижен – не столько тем, что Аппель пересмотрел свое мнение, сколько полемическим перехлестом, пространной выволочкой, так и побуждавшей ввязаться в драку. Это все Цукермана бесило. Било по больному. Самым обидным было то, что Милтон Аппель считался главным вундеркиндом предыдущего поколения, при Раве[14] был пишущим редактором в “Партизан ревью”, стипендиатом в Литературный школе Рэнсома[15] в Индиане: когда Цукерман, еще старшеклассник, перенимал мятежный дух Филипа Уайли[16] и его Финнли Рена, Аппель уже публиковал статьи о европейском модернизме и занимался анализом бурно развивавшейся американской масскультуры. В начале пятидесятых, отбывая двухлетнюю воинскую повинность в Форт-Диксе, Цукерман сочинил “Письмо из армии” аж на пятнадцать страниц, где описал острую классовую неприязнь между чернокожими военнослужащими, только что вернувшимися из Кореи, белыми офицерами командного состава, вновь призванными на службу, и молодыми, только что из университетов, новобранцами вроде него. В “Партизане” его печатать не стали, однако рукопись вернули с запиской, которая воодушевила его немногим меньше, чем согласие на публикацию: “Внимательно изучите Оруэлла и пришлите нам еще что-нибудь. М. А.”.
Одно из ранних эссе самого Аппеля в “Партизане”, написанное, когда он только что вернулся со Второй мировой, в начале пятидесятых с благоговением читали друзья Цукермана по Чикагскому университету. Они не знали никого, кто так жестко описывал бы пропасть между неотесанными еврейскими отцами из американской иммигрантской среды, ценности которых ковались в битве за выживание, и их книжными, нервическими американскими сыновьями. Аппель, раскрывая тему, отошел от обычного морализаторства и поднялся до детерминистской драмы. Ни с той, ни с другой стороны иначе и быть не могло – речь шла о конфликте цельных характеров. Каждый раз, когда Цукерман, истомившись после каникул в Нью-Джерси, возвращался в университет, он вынимал из папки (“Аппель, Милтон, 1918–”) свой экземпляр статьи и, дабы обрести после очередных распрей с родственниками почву под ногами, снова его перечитывал. Он не одинок… Он принадлежит к определенному социальному типу… Его ссора с отцом была трагической необходимостью.
По правде говоря, Цукерману казалось, что интеллектуальным еврейским юношам, которых описывал Аппель и чьи борения иллюстрировал болезненными случаями из собственной молодости, пришлось еще хуже, чем ему. Может, потому, что эти юноши были интеллектуалами куда более глубокими и исключительными, может, потому, что отцы у них были совсем отсталые. Так или иначе, но Аппель не умалял страданий. Отвергаемые, лишенные корней, томящиеся, растерянные, угрюмые, замученные, бессильные – он мог бы описывать терзания заключенного, бредущего по Миссисипи со скованными с ним одной цепью, а не переживания сынка, боготворившего книги, на которые его малограмотному отцу по его невежеству было плевать и в которых он ничего не понимал. Разумеется, в двадцать лет Цукерман не чувствовал себя замученным плюс бессильным плюс томящимся: он хотел одного – чтобы отец от него отстал. Несмотря на утешение, что Цукерман получал от этого эссе, Цукерман задумывался, не носит ли конфликт, описанный Аппелем, более комический характер.
И опять же, юность у Аппеля могла быть куда тягостнее, чем у Цукермана, а сам юный Аппель – типичным, как он же это обозначал, “случаем”. Аппель вспоминал, что больше всего он – подросток стыдился, что его отец – а он зарабатывал на жизнь на козлах конной повозки – свободно с ним разговаривал только на идише. Когда сыну было уже за двадцать и он решил уйти из бедного иммигрантского дома и снять комнату для себя и своих книг, отец никак не мог понять, куда он уезжает и почему. Они орали, вопили, рыдали, стучали по столу, хлопали дверьми, и только после этого молодой Милтон покинул отчий дом. А отец Цукермана разговаривал по-английски, работал мозольным оператором – его кабинет находился в офисном здании в деловом центре Ньюарка, оттуда видны были платаны в Вашингтон-парке, его отец читал “Берлинский дневник” Уильяма Ширера[17] и “Мир один” Уэнделла Уиллки[18] и гордился тем, что всегда в курсе событий; с гражданской позицией, осведомленный, занимавшийся пусть и не самой существенной отраслью медицины, однако профессионал, первый в своей семье. Четверо старших братьев были лавочниками и торговцами; доктор Цукерман первым из всех учился не только в начальной школе. Проблема Цукермана была в том, что его отец понимал, но не вполне. Они орали и вопили, но еще сидели вместе и увещевали друг друга, а этому уже не было конца. И это вам не настоящие мучения? Сыну зарезать отца мясницким ножом, перешагнуть через тело с вывороченными кишками и уйти прочь – возможно, это куда милосерднее, чем сидеть и добросовестно увещевать, хотя увещевать-то и не в чем.
Составленная Аппелем антология идишской литературы в его же переводах вышла, когда Цукерман служил в Форт-Диксе. Чего после обиды и пафоса того эссе, где автор со всем пылом отчуждался от еврейского прошлого, Цукерман никак не ожидал. Были и другие критические статьи, благодаря которым Аппель заработал репутацию в серьезных ежеквартальных журналах, что позволило ему, не имея степени, получить сначала место лектора в “Новой школе”, а затем стать преподавателем в Барде, в долине Гудзона. Он писал о Камю и Кестлере, о Верга и Горьком, о Мелвилле, Уитмене и Драйзере, о духовных глубинах, открывшихся во время пресс-конференции Эйзенхауэра, и об умонастроениях Элджера Хисса[19] – практически обо всем, кроме языка, на котором кричал с козел повозки его отец, скупая старье. Но это вряд ли потому, что он скрывал свое еврейство. Упорство спорщика, агрессивная чувствительность маргинала, отрицание общинных связей, привычка изучать социальное явление так, словно сон или произведение искусства, – для Цукермана это была мета евреев-интеллектуалов лет тридцати – сорока, с них он брал пример, вырабатывая собственное мировоззрение. И, читая в ежеквартальных журналах статьи и прозу Аппеля и его сверстников – евреев из иммигрантских семей, родившихся на десять – пятнадцать – двадцать лет позже его отца, – он утверждался в мысли, которая впервые пришла ему в студенческие годы: если ты – сын еврея-иммигранта, вырос в Америке, считай, тебе выдали пропуск из гетто в бескрайний мир мысли. Без связи со старой родиной, без религиозных устоев, душивших итальянцев, ирландцев или поляков, без поколений американских предков, привязывавших тебя к американскому образу жизни или приучавших к слепой преданности стране со всеми ее уродствами, ты мог читать что хочешь, писать как хочешь и что хочешь. Отчужденный? Так это же синоним слову “освобожденный”! Еврей, освобожденный даже от евреев – и тем не менее постоянно осознающий себя евреем. Такой вот упоительно парадоксальный выкрутас.
Хотя, скорее всего, Аппель взялся за составление идишской антологии прежде всего потому, что с восторгом открывал для себя язык, о возможностях которого, слушая лишь грубую речь отца, он и не догадывался, намерения у него были провокационные. Он вовсе не хотел продемонстрировать нечто столь успокаивающее и неискреннее, как возвращение блудного сына в родное лоно, наоборот, это выглядело как выпад против: для Цукермана – пусть даже ни для кого больше – это был выпад против потаенного стыда ассимиляции, против искажений ностальгирующих евреев, против скучной, анемичной сути новых процветающих пригородов, и, самое главное – это был громогласный выпад против снобской снисходительности тех знаменитых кафедр английской литературы, из чьих безукоризненно христианских рядов образованный еврей с его пестрящей чужеродными словами речью и завывающими интонациями буквально вплоть до вчерашнего дня был исключен. Юный, мятущийся, еще не оперившийся поклонник Аппеля воспринимал эту попытку воскресить идишских писателей как бунтарский акт, бунт особо значимый, поскольку низводил юношеские бунты самого составителя антологии. Еврей освобожденный, зверь, столь раздираемый и оживленный проснувшимся в нем голодом, что он изворачивается и кусает себя за хвост, наслаждается завораживающим вкусом самого себя, продолжая при этом проклинать мучения, причиненные его же зубами.
Прочитав идишскую антологию Аппеля в следующую увольнительную, Цукерман отправился в Нью-Йорк и в Нижнем Манхэттене, в букинистическом ряду на Четвертой авеню, где он обычно закупал подержанные книжки “Современной библиотеки” по четвертаку штука, обшарил не одну лавку, пока не нашел грамматику идиша и англо-идишский словарь. Он купил их в Форт-Диксе и после ужина в общей столовой удалился в тихий кабинет, где днем писал пресс-релизы для начальника отдела общественной информации. И там, усевшись за стол, он углубился в изучение идиша. Одно занятие каждый вечер, и к концу службы он сможет читать своих литературных предков на их родном языке. Хватило его на полтора месяца.
У Цукермана с середины шестидесятых остались весьма смутные воспоминания о том, как Аппель выглядит. Круглолицый, в очках, довольно высокий, лысеющий – вот и все. Наверное, внешность забывается быстрее, чем высказывания. А вот его милейшую жену он помнил весьма живо. Все ли еще он женат на той хорошенькой и изящной темноволосой женщине, что гуляла с ним под руку по пляжу в Барнс-Хоул? Цукерман припомнил слухи о страстном адюльтере. И кто она – отвергнутая или вожделенная? Судя по биографической справке в “Инквайери”, Милтон Аппель год преподавал в Гарварде, оставив на время Университет Нью-Йорка, где имел статус заслуженного профессора. Цукерман замечал, что, когда литературный Манхэттен говорил об Аппеле, имя “Милтон” произносилось с особой теплотой и уважением. Он не мог отыскать никого, кто затаил неприязнь к этому подонку. Искал-искал, но не нашел ничего. На Манхэттене! Невероятно. Поговаривали, впрочем, о дочери, ударившейся в контркультуру, бросившей Суотмор-колледж и подсевшей на наркотики. Отлично. Да, это удар так удар. Еще ходил слух, что Милтон лежал в Бостоне в больнице – камни в почках. Цукерман с удовольствием понаблюдал бы, как они выходят. Кто-то рассказал, что видели, как он гуляет по Кеймбриджу с палочкой. Из-за камней в почках? Ура! Это немного утолило неприязнь. Неприязнь? Да он был в ярости, особенно когда узнал, что, прежде чем опубликовать “Случай Натана Цукермана”, Аппель опробовал его на гастролях, когда ездил по колледжам с лекциями и рассказывал студентам и преподавателям, какой он отвратительный писатель. А потом Цукерман узнал, что в “Инквайери” пришло одно-единственное письмо в его защиту. Оказалось, что письмо, на которое Аппель ответил отповедью в одну строчку, написала молодая женщина, с которой Цукерман переспал, когда летом работал в школе Бред-Лоаф. Да, он тогда отлично провел время, но где же остальные его приверженцы, все его влиятельные поклонники? Писателям не следует – и об этом не только они сами себе говорят, но и все неписатели время от времени им напоминают, – писателям, разумеется, не следует принимать это близко к сердцу, но иногда они так и поступают. Наезд Аппеля – нет, сам Аппель, и возмутителен сам факт его существования – только об этом он и мог думать (ну, еще о боли и о своем гареме).
Сколько удовольствия он доставил этим олухам! Этим евреям – ксенофобам, слюнтяям, шовинистам, обывателям, обретшим в высококультурном вердикте неоспоримого Аппеля оправдание всем своим претензиям к Цукерману, евреям, чьих политических дискуссий, культурных предпочтений, жизненного уклада да и просто бесед за ужином заслуженный профессор и десяти секунд не потерпел бы. Еврейский китч раздражал Аппеля до тошноты, их излюбленные еврейские развлечения были предметом коротких язвительных заметок, которые он неукоснительно публиковал на последних страницах интеллектуальных журналов. Да и они не смогли бы долго Аппеля выносить. Он так жестко препарировал их незатейливые привычки на досуге, что, делись он своими соображениями за карточным столом в Еврейском центре, а не в журналах, о которых они слыхом не слыхивали, они бы решили, что он выжил из ума. И презрение, с которым он относился к их любимым популярным шоу, они наверняка сочли бы за антисемитизм. О, он не давал спуску всем преуспевающим евреям за их пристрастие к дешевой старомодной белиберде. Рядом с Милтоном Аппелем Цукерман в глазах этих людей выглядел бы паинькой. Вот так комедия! Цукерман вырос в среде, где эту белиберду любили, знал этих людей всю жизнь – они были его родственниками и друзьями родственников, он ходил к ним в гости, сидел за одним столом, шутил с ними, часами выслушивал их рассуждения, в то время когда Аппель спорил в своем редакторском кабинете с Филипом Равом или интеллигентно общался с Джоном Кроу Рэнсомом. Цукерман продолжал с ними общаться. А еще он знал, что нигде, даже в своих резко сатирических юношеских писаниях он не выказывал ничего подобного презрению, с каким Аппель разглядывал публику, удостоверявшую свое “еврейство” на Бродвее. Откуда Цукерман это знал? О том, кого вынужден ненавидеть, всегда это знаешь: он обвиняет в своих преступлениях тебя и бичует себя в тебе. Отвращение Аппеля к миллионам счастливых людей, которые приходят на поклонение в храмы гастрономов и восхищаются “Скрипачом на крыше”, намного превосходило все самое злое из написанного Цукерманом. Почему Цукерман был так уверен? Он ненавидел Аппеля, вот почему. Он ненавидел Аппеля и никогда не забудет и не простит его наезда.
Рано или поздно на каждого писателя вываливаются потоки брани на две, три, пять тысяч слов, и это не укус, который мучает тебя три дня, это терзает всю жизнь. Теперь и Цукерману пришла очередь до самой смерти хранить в базе цитат о себе самую злобную рецензию, впечатавшуюся в память, как “Абу Бен Адхем” или “Аннабель Ли” – первые два стихотворения, которые пришлось выучить наизусть к урокам английского в средней школе, и настолько же бесполезную.
Статья Аппеля была опубликована в “Инквайери” в мае 1973 года, и тогда же в Цукермане вспыхнула ненависть. В октябре пять тысяч египетских и сирийских танков днем в Йом Кипур атаковали Израиль. Застигнутым врасплох израильтянам в тот раз понадобилось три недели, чтобы разгромить арабские армии и подойти к Дамаску и Каиру. Но после броска к победе израильтян ждало поражение: Совет Безопасности, европейская пресса, даже Конгресс США – все обвиняли Израиль в агрессии. И в отчаянных поисках союзников Милтон Аппель обратился к худшему из еврейских писателей с просьбой написать статью в поддержку еврейского государства.
Обратился не напрямую, а через общего знакомого, Айвана Фелта, некогда работавшего ассистентом Аппеля в Университете Нью-Йорка. Цукерман – он знал Фелта по колонии деятелей искусств в Квосее – за год до этого познакомил его со своим издателем, и на обложке первого романа Фелта, готовившегося к выходу, были слова благодарности Цукерману. Фелт писал о высокомерной и разрушительной злобе, которой были окрашены шестидесятые, о безудержной анархии и радостном распутстве, перевернувших жизнь многих американцев, от которых этого нельзя было ожидать, в то время когда Джонсон уничтожал Вьетнам на потребу СМИ. Книга получилась незрелая, как сам Фелт, и без присущего Фелту напора; Цукерман предполагал, что, если бы Айван Фелт дал в прозе волю своему нутру, забыл о половинчатой объективности и своем неожиданном почтении к высоким нравственным идеалам, он мог бы стать настоящим писателем, демоническим, язвительным, в духе Селина. Если не проза, так уж точно его письма, писал Цукерман Фелту, навеки войдут в анналы параноидальных текстов. Что касается его нахальной и безапелляционной самоуверенности и показного эгоизма, предстоит еще посмотреть, насколько они защитят его от грядущих – и сколько их еще предстоит – скандалов: Фелту было двадцать семь, его литературная карьера только начиналась.
Сиракьюс, 1 декабря 1973 г.
Натан!
Посылаю ксерокопию отрывка из переписки между М. Аппелем и мной касательно НЦ. (Остальное – о вакансии в БУ, о которой я спрашивал его, а теперь и вас.) Десять дней назад, будучи в Бостоне, я зашел к нему на кафедру. Не получал от него ни слова несколько недель, с тех пор как послал ему гранки. Он сообщил мне, что прочитал одну главу, но “не действует” на него “подобный сорт юмора”. Что я только пытаюсь лишить “престижа” все, чего я боюсь. Я спросил, что в этом плохого, но его это не интересует, моя книга его не впечатлила, художественная литература его не занимает. Равно как и враги Израиля. “Они с радостью всех нас поубивают”, – сказал он. Я ответил, что так я смотрю на все. Когда я сказал об Израиле: “Это всех беспокоит”, он решил, что я выбрал себе выигрышную роль – принял все за лицедейство. Так что я выжал тираду о вас. Он сказал, мне стоило написать в журнал, если я хотел поспорить. У него нет ни сил, ни желания – “Меня сейчас другое заботит”. Уходя, я добавил, что единственный еврей, которого беспокоит Израиль, это вы. Отрывок письма касается этой финальной ремарки. Цивилизованный мир понимает, как знаменитые параноики кинутся на это отвечать. Жажду узнать, какой отклик приглашение очистить свою совесть найдет в такой любящей душе, как ваша.
Ваш общественный туалет,
А. Ф.
“Подавленный гнев сам себя питает”, – в этом, считал молодой доктор Фелт, корень несчастий Цукермана. Когда год назад он узнал, что Цукерман неделю пролежал в больнице, он звонил из Сиракьюса узнать, что стряслось, и в следующий приезд в Нью-Йорк зашел его проведать. В коридоре, не сняв ветровки с капюшоном, он взял товарища за руки – за руки, слабевшие день ото дня, и полушутя вынес свой вердикт.
Фелт был сложен как грузчик, ходил как цирковой силач, надевал множество одежек, одну на другую – как крестьянин, а лицо у него было простое, неприметное, как у удачливого преступника. Короткая шея, мощная спина, устойчивые ноги – сверни его и стреляй им из пушки. На английской кафедре в Сиракьюсе выстроилась очередь из желающих поднести порох и спички. Айван на это плевал. Он уже решил, как Айвану Фелту следует относиться к своим собратьям. Как и Цукерман, тот в двадцать семь лет тоже выбрал: держись особняком. Как Свифт, как Достоевский, как Джойс и Флобер. Отстаивай независимость. Ничему не повинуйся. Выбирай полную опасностей свободу. И пошли всех и вся к чертям!
На Восемьдесят первой улице они встречались впервые. Фелт, едва войдя в гостиную, стал разоблачаться: cнял куртку, шапку, несколько старых свитеров – он носил их под ветровкой, футболку – и одновременно оценивал вслух интерьер:
– Бархатные шторы. Персидский ковер. Старинный камин. Над головой лепнина, под ногами – сверкающий паркет. Все – ах, но в то же время в нужной степени аскетично. Ни намека на гедонизм, но почему-то – уютно. Очень элегантно недообставлено, Натан. Келья хорошо обеспеченного монаха.
Сардоническая оценка декора интересовала Цукермана куда меньше, чем новый диагноз. Диагнозы валились на него один за другим. У каждого была версия. Болезнь с тысячью смыслов. Боль все читали как его пятую книгу.
– Подавленный гнев? – сказал Цукерман. – Откуда вы это взяли?
– Из “Карновского”. Бесподобный механизм для выражения того, что ненавидишь, но не можешь этого признать. Ненависть переполняет и как паводок льется наружу, и ненависти столько, что телу ее не вместить. Однако за пределами своих книг вы ведете себя так, будто вас здесь нет. Сама умеренность. И вообще, в ваших книгах куда больше ощущения реальности, чем в вас. Когда я увидел вас впервые, в тот вечер вы, Блистательный Гость Месяца, впервые появились в столовой Квосея, я сказал малышке Джине, поэтессе-лесбиянке: “Держу пари, он никогда не выходит из себя за пределами своих бестселлеров”. Или вы выходите из себя? Умеете?
– Айван, вы куда крепче меня.
– Это вежливый способ сказать, что я отвратительнее вас.
– А когда вы злитесь помимо того, что пишете?
– Я злюсь, когда хочу от кого-нибудь избавиться. От тех, кто мешает. Гнев – мое оружие. Навожу на цель и стреляю, стреляю, пока они не исчезнут. Я и вне текстов, и в текстах такой, какой вы в текстах. Вы держите рот на замке. Я могу сказать что угодно.
Теперь, когда все слои одежек Фелта были разбросаны по комнате, келья хорошо обеспеченного монаха выглядела как после ограбления.
– А вы верите, – спросил Цукерман, – в то, что говорите, когда говорите?
Фелт – он сидел на диване – взглянул на Цукермана как на слабоумного.
– Не имеет значения, верю я или нет. Вы такой хороший солдат, что даже не понимаете, о чем речь. Главное – заставить их в это поверить. А вы хороший солдат. Вы на самом деле придерживаетесь другой точки зрения. Вы все это делаете правильно. Иначе не можете. Вас всегда изумляет, насколько вы провоцируете людей, вываливая на них тайны своей порочной внутренней жизни. Вас это ошарашивает. Огорчает. Вас удивляет, что вы такая скандальная фигура. Меня же удивляет, что вас это заботит. И вот послевкусие: приходишь в уныние. И вам нужно уважение мужчин и нежные ласки женщин. Чтобы папочка одобрял и мамочка любила. Вам, Натану Цукерману! Да кто в это поверит?
– А вам ничего не нужно? И вы в это верите?
– Я, в отличие от вас, хороших солдат, уж точно не допускаю, чтобы вина проникла повсюду. Это все ерунда, вина – это самолюбование. Меня презирают? Обзывают? Не одобряют? Тем лучше. На прошлой неделе одна девушка пыталась у меня дома покончить с собой. Зашла ко мне со своими таблетками за стаканом воды. Наглоталась, пока я был на дневных занятиях со своими придурками. Как же я разозлился, когда ее обнаружил. Вызвал по телефону скорую, но хрен бы я с ней поехал. А умри она? Ну, мне все равно. Пусть умирает, раз ей так этого хочется. Я ни у кого на пути не встаю, и у меня пусть не встают. Я говорю: “Нет, мне такого не нужно – это не для меня”. И начинаю стрелять, пока все не исчезнет. От остальных нужны только деньги, о прочем человек сам может позаботиться. – Благодарю за науку.
– Не благодарите, – сказал Фелт. – Я усвоил это в школе, когда читал вас. Гнев. Наводишь пистолет и стреляешь, пока не исчезнут. Глазом моргнуть не успеете, как снова станете здоровым писателем.
Отрывок из письма Аппеля, ксерокопию которого Фелт послал Цукерману в Нью-Йорк:
Честно говоря, я не думаю, что мы можем что-нибудь сделать: сначала евреев уничтожали газом, теперь – нефтью. Слишком многие в Нью-Йорке этого стыдятся – будто обрезание им делали по другим причинам. Те, кто рвал и метал по поводу Вьетнама, мало что говорят об Израиле (за исключением нескольких человек). Однако, если считать, что мнение общественности на что-то влияет или что мы можем повлиять хотя бы на малую часть общества, позвольте выступить с предложением, которое, возможно, вас возмутит, но я все-таки его выскажу. Почему бы вам не попросить вашего друга Цукермана написать что-нибудь насчет Израиля в авторской колонке “Таймс”? Его там наверняка напечатают. Если я там выступлю в поддержку Израиля, это ожидаемо, ничего нового. Но если Цукерман сделает заявление, это станет своего рода новостью, поскольку он имеет вес среди публики, которой на нас остальных плевать. Возможно, он уже говорил об этом, но мне ничего такого не попадалось. Или он по-прежнему считает, что, как говорит его Карновский, евреи могут засунуть историю своих страданий себе в жопу? (И да, я знаю, что есть разница между персонажем и автором, но я также знаю, что взрослым людям ни к чему притворяться, что это именно та разница, о которой они рассказывают студентам.) В общем, отринув тот факт, что к его позиции по таким вопросам – но это к делу не относится – я настроен враждебно, я искренне уверен, что, если он выступит публично, это вызовет интерес. Я полагаю, что сейчас весь мир готов проклинать евреев. Есть моменты, когда даже самые независимые личности могут счесть, что стоит высказаться.
Теперь он злился уже не в текстах. Умеренность? Не слыхивал о таком. Он взял с полки “Карновского”. Неужели на этих страницах евреям действительно предлагается “засунуть свои страдания”, конец цитаты? Столь едкое высказывание, вот так, впроброс? Он стал искать, где же место, оттолкнувшее Аппеля, и нашел, не дойдя до середины: предпоследняя строчка из двух тысяч слов полуистерического возмущения по поводу того, что и у семьи пунктик: она переживает унизительную принадлежность к меньшинству – четырнадцатилетний Карновский, охраняемый стенами собственной спальни, провозглашает собственную декларацию независимости старшей сестре.
Итак: Аппель приписал автору – его не обманула та лапша, что вешают студентам на уши, – бунтарский выплеск четырнадцатилетнего мальчика-клаустрофоба. И это профессиональный литературный критик? Нет, нет – это занятый по горло полемист, защищающий исчезающий вид – евреев. Такое письмо мог написать отец из “Карновского”. Или его собственный отец. Будь оно на идише, оно могло бы исходить от Аппеля, от того полуграмотного мусорщика, который если не сделал из юного Милтона еще большего психа, чем Карновский, то уж точно разбил ему сердце.
Он тщательно, как профессиональный стряпчий, изучал отрывок, наливаясь яростью от того, что уязвляло больше всего. А потом позвонил Дайане в колледж. Нужно срочно кое-что напечатать. Немедленно. Гнев – это оружие, и он был готов открыть огонь.
Дайана Резерфорд училась в Финче – находившемся по соседству колледже для богатых девочек, куда Никсоны посылали свою Тришию. Как-то раз Цукерман вышел отправить письмо, тут они и познакомились. На ней был стандартный ковбойский прикид – джинсы и куртка, как следует обтрепанные на залитых солнцем камнях Рио-Гранде, а потом отправленные на север, в универмаг “Бонвит”. – Мистер Цукерман, – сказала она, постучав ему по плечу, когда он опускал конверт в ящик, – можно взять у вас интервью для нашей студенческой газеты?
В нескольких метрах поодаль корчились от смеха и восхищались ее наглостью две ее подружки. Явно эта девица в своем колледже личность известная.
– Вы пишете для студенческой газеты? – спросил он.
– Нет.
Признание сопровождалось бесхитростной улыбкой. Такой ли уж бесхитростной? Двадцать лет – самая пора для хитростей.
– Проводите меня до дома, – сказал он. – По дороге поговорим.
– Отлично! – ответила личность из колледжа.
– А что столь сообразительная личность делает в таком месте, как Финч?
– Родители решили, что мне нужно научиться прилично сидеть в юбке.
Но когда они подошли к его двери, до которой было метров двадцать, и он спросил, не хочет ли она подняться к нему, ее наглость как ветром сдуло, и она ретировалась к подружкам.
На следующий день раздался звонок домофона. Он спросил, кто там.
– Девушка, которая не пишет для студенческой газеты.
Она вошла, руки у нее тряслись. Закурила, сняла пальто и, не дожидаясь приглашения, стала рассматривать книги и картины. Осмотрела все, комнату за комнатой. Цукерман следовал за ней.
В кабинете она спросила:
– У вас тут нет ничего лишнего?
– Только вы.
– Слушайте, бросьте язвить, вас в этом не превзойти. – Голос у нее дрожал, но она решила высказаться. – Такому человеку, как вы, нечего бояться такой, как я.
Они вернулись в гостиную, он взял с дивана ее пальто и, прежде чем повесить его в шкаф, посмотрел на ярлык. Куплено в Милане. Кому-то пришлось заплатить за него много сотен тысяч лир.
– Вы всегда такая безрассудная? – спросил он.
– Я пишу о вас работу. – Присев на краешек дивана, она закурила очередную сигарету. – Я вру. Это не так.
– Пришли сюда на спор?
– Я решила, что вы тот человек, с которым я могу поговорить.
– О чем?
– О мужчинах. Они меня достали.
Он сварил им кофе, и она начала со своего бойфренда, студента-юриста. Он совсем ее забросил, и она не понимала, в чем дело. Звонил в слезах посреди ночи и говорил, что не хочет ее видеть, но и потерять не хочет. В конце концов она написала ему, спросила, что происходит.
– Я молодая, – сказала она Цукерману, – я хочу трахаться. А когда он не хочет, я чувствую себя уродиной.
Дайана была высокая, узкая, с крохотным задом, маленькими коническими грудями, остриженными под мальчика черными кудрями. Подбородок у нее был по-детски круглый, как и темные индейские глаза. Она была и прямая, и округлая, мягкая и резкая, и уж точно не уродина, разве что всякий раз, когда жаловалась, надувала губки и становилась похожа на подростков из “Тупика”[20]. И одевалась она по-детски: коротенькая замшевая юбка, черные колготки и утащенные из маминого гардероба, чтобы покрасоваться перед другими девчонками, черные туфли на каблуке, с открытым носком и перемычкой в пайетках. Лицо у нее тоже было детское – пока она не улыбалась, широко и пленительно. Когда она смеялась, то выглядела как женщина, навидавшаяся всего и вышедшая из передряг без единой царапины – дама лет пятидесяти, которой повезло.
А навидалась она, ухитрившись выжить, мужчин. С десяти лет она была объектом их преследований.
– Половину жизни, – сказал он. – И чему вы научились?
– Всему. Им нравится кончать тебе в волосы, нравится шлепать по заднице, нравится звонить тебе с работы и заставлять мастурбировать, когда ты делаешь уроки. У меня нет никаких иллюзий, мистер Цукерман. Когда я была в седьмом классе, друг моего отца стал звонить мне каждый день и звонит до сих пор. С женой и детьми он мил и заботлив, но звонит мне с моих двенадцати лет. Он пытается менять голос, но каждый раз спрашивает одно и то же: “Хочешь оседлать мой х**?”
– И что вы с этим делаете?
– Поначалу я не знала, что делать, поэтому просто слушала. Я была напугана. Я купила свисток. Чтобы свистеть в трубку. Чтобы у него барабанная перепонка лопнула. Но когда я наконец свистнула, он просто рассмеялся. Это его только больше завело. Все это длится восемь лет. Он раз в месяц звонит в колледж. “Хочешь оседлать мой х**?” Я говорю: “И это все? Ничего больше?” Он не отвечает. Незачем. Потому что ему достаточно. Он не хочет ничего делать. Только это говорить. Мне.
– Каждый месяц на протяжении восьми лет, и вы ничего не предприняли, только купили свисток? – А что я могу сделать? В полицию позвонить?
– А что произошло, когда вам было десять?
– Шофер, который возил меня в школу, мне платил за то, чтобы со мной побаловаться.
– Правда?
– Автор “Карновского” спрашивает, правда ли это?
– Ну, может, вы все это выдумали, чтобы выглядеть поинтереснее. Так иногда делают.
– Уверяю вас, выдумывают писатели, а не девушки.
Через час ему казалось, что фолкнеровская Темпл Дрейк приехала из Мемфиса обсудить с Натаниэлем Готорном морячка Попая. Он был потрясен. Немного трудно было поверить во все, что, по ее словам, она повидала – во все, что она рассказывала.
– А ваши родители? – спросил он. – Что они говорят по поводу ваших леденящих кровь приключений со всеми этими жуткими мужчинами?
– Родители?
Она вмиг вскочила, словно одно это слово выкинуло ее из гнездышка, которое она обустроила из диванных подушек. Длинные ноги в колготках, быстрые и резкие движения тонких пальцев, нахальный, дерзкий выпад перед тем, как высказаться, – да это будущая женщина-матадор, решил Цукерман. В костюме для корриды будет выглядеть сногсшибательно. Поначалу, возможно, будет безумно бояться, но он легко мог представить, как она выходит на арену. Приди и возьми меня. Она освобождается и набирается смелости – или, искушая судьбу, старается этому научиться. Да, она и жаждет эротического внимания, и зовет к нему – и в то же время злится и смущается; но в общем и целом тут нечто более интригующее, чем просто подростковая страсть к риску. Есть какая-то упрямая независимость, за которой прячется очень интересная, на нервном пределе девушка (и женщина, и подросток, и ребенок). Он вспомнил, каково это – говорить “Приди и возьми меня”. Это, само собой, было до того, как его взяли. Оно его взяло. Как это ни называй, но что-то его взяло.
– Вы что, не слушали? – сказала она. – Нет больше никаких родителей. С родителями покончено. Слушайте, я пыталась встречаться со студентом-юристом. Думала, он поможет мне сосредоточиться на этой идиотской учебе. Он учится, занимается бегом, дурью не злоупотребляет, и ему всего двадцать три – для меня это юный. Я столько сил на него – чтоб ему – потратила, на него и на его заморочки, а теперь его вообще в постель не затащишь. Я не понимаю, что такое с этим мальчиком. Стоит мне посмотреть на него искоса, и он – дитя-дитем. Наверное, от страха. Нормальные скучны до смерти, а те, кто тебя завораживает, оказываются психами. Знаете, до чего меня довели? К чему я почти готова? Выйти замуж. Выйти замуж, забеременеть и говорить прорабу: “Бассейн будет вот тут”.
Через двадцать минут после звонка Цукермана Дайана сидела в кабинете: надо было перепечатать и послать Аппелю несколько страниц. Прежде чем перебраться из кресла на коврик, он исписал четыре больших желтых листа. Лежа на спине, он массировал руку, пытался унять дергающую боль. Шея сзади тоже разрывалась от боли – такова была плата за самый длинный текст из всех, что он написал за год в сидячем положении. Но в магазине еще оставались патроны. А если, проведя подробный анализ ранних статей, я продемонстрирую, что Аппель так нападает на Цукермана потому, что не разрешил до конца конфликт с собственным отцом, – покажу, что не только исламская угроза побудила его пересмотреть мое “дело”, но и конфликт в Оушн-Хилле и Бронксвилле[21], антисемитизм чернокожих, осуждение Израиля в Совете Безопасности, даже забастовка нью-йоркских учителей; что это – любимый медийный конек громогласных евреев-йиппи[22], с ребяческими целями которых он нелепым образом увязывал и меня. Теперь касательно того, почему я стал оценивать его иначе. Аппель вовсе не думает, что в 1959 году он ошибался насчет Цукермана. Или в 1946 году насчет неукорененности. Он был прав и тогда, и, переменив свое мнение, теперь снова прав. “Точка зрения” может измениться или якобы измениться, но страсть инквизитора выносить обвинительные приговоры никуда не девается. Под вызывающей восхищение гибкостью и резонной переоценкой все та же взрывоустойчивая железобетонная теоретическая основа – никому из нас не сравниться в серьезности с Аппелем. “Непреложные перемены мнения Милтона Аппеля”. “Прав и тверд каждое десятилетие”. “Полемические спазмы выносящего смертные приговоры”. Он придумал десятки таких названий.
– Со мной никто так не разговаривает по телефону, как ты, – сказала Дайана.
Она была в секретарском облачении: предполагалось, что бесформенный комбинезон и огромный свитер не мешают ему диктовать. Когда она являлась в юбочке школьницы, диктовать ему практически не удавалось.
– Ты сам посмотри, – сказала она. – Призматические очки, перекошенное лицо. Ты посмотри, как ты выглядишь. Впускаешь в себя все такое, оно растет и ширится, вот и теряешь голову. И волосы тоже. Именно поэтому ты и лысеешь. Поэтому у тебя все болит. Посмотри
