Читать онлайн От него к ней и от нее к нему. Веселые рассказы бесплатно
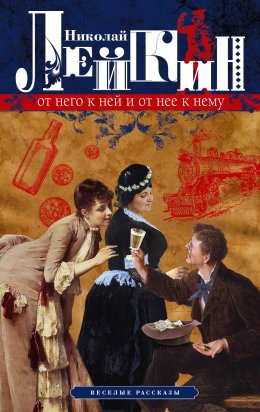
© «Центрполиграф», 2023
© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2023
* * *
По-современному
Рассказ
Было зимнее воскресное утро. Молодой купчик Семен Мироныч Калинкин сбирался к обедне и повязывал себе в зале перед зеркалом галстук. В спальной шуршала юбками его молоденькая жена.
– Шубку мне к обедне-то надеть или черно-бурый салоп? – спрашивала она мужа.
– Зачем шубку? В шубке прошлое воскресенье были. Салоп надень, а то наши рыночники могут подумать, что мы его заложили.
– Стало быть, и браслетку бриллиантовую надеть?
– Вали и браслетку! Мужу кредиту больше. Оно, конечно, сегодня холодно, но все-таки раза два-три руку-то выставить будет можно.
– А бриллиантовые серьги?..
Но в это время раздался звонок. Разряженная Калинкина выбежала из спальной в залу и начала заглядывать в прихожую. В залу вошел молодой человек с закрученными усиками. Он был в синем суконном кафтане нараспашку, в красной рубахе, плисовых шароварах и высоких сапогах. Бросив на стул шапку, он начал раскланиваться.
– Николай Иваныч! Какими судьбами?.. Сколько лет, сколько зим! С самой нашей свадьбы не бывали, а уж этому полгода будет! – воскликнула Калинкина.
– Да, невозможно было-с! – отвечал он. – Сначала по покойнику тятеньке шесть недель справляли; потом, дорвавшись до гулянки, по клубам начал чертить, а теперь свою собственную жизнь по-современному устраиваю. Ведь у нас при тятеньке какая была жизнь? Целый день на фабрике либо в конторе, а в десять часов ужин и на боковую. А теперь не то, теперь у меня все по-современному.
– Слышал, слышал, что ты чудишь. Зачем это в таком костюме-то? – спросил Калинкин.
– Это я славянофилам подражаю. У меня теперь все по-современному! Вот теперь Рождественский пост, а для меня дома скоромное стряпают. Будет, достаточно тятенька над нашим братом потиранствовали! У меня теперь на квартире при фабрике и библиотека своя, и физика, и химия. Вчера на чердаке обсерваторию устроил и телескоп поставил. Литератора при себе держу. Это по-теперешнему мой первый друг. Мы с ним и букашек рассматриваем, и луну… Птиц морим и потом оживляем и все эдакое… Заливалов фамилия. Помнишь, мальчишки на Невском книжку «Волчий зуб» продавали, – так вот это его сочинение. Умнейший человек! Теперича поутру он как встанет, чаю – ни-ни, а вот эдакой стакан водки… Мы думаем с ним даже газету издавать…
– Отлично. Ну, садись!
– Ни боже мой! Я на минутку. Я приехал, чтоб пригласить тебя в Николин день ко мне на именины. Будет литературный, физический и химический вечер. Четыре бутылки одного киршвассеру для жженки купил. Приедешь?
Калинкин взглянул на жену. Гость продолжал:
– Вас, Анна Андревна, я не приглашаю, потому у меня холостой пир. Конечно, ежели бы вы были дама современная, то вам это наплевать… По-современному, даже и девицы к холостым ездят. Впрочем, милости просим, можете с моей маменькой посидеть, только не советовал бы, потому тоска… Маменька у нас теперь в таком сюжете, что у них после пятого слова сейчас покойник тятенька пойдет, и уж как затянут этот карамболь, так шабаш! – до второго пришествия… Так приедешь, Семен Мироныч?
Калинкин замялся.
– Да не знаю, право… Слова не даю. Ты сам знаешь, я теперь человек женатый.
– Неловко ему одному… – докончила жена. – Всего полгода женаты, и вдруг без жены… Он и не пьет нынче… К тому же к вам на фабрику и далеко, оттуда ночью и извозчиков не найдешь. Еще ограбят, пожалуй!
– Насчет этого не сомневайтесь, – прервал гость. – Я пришлю за ним свою лошадь и на ней же обратно доставлю. Мой кучер Михайло – самая верная Личарда. Он у меня теперь все: кучер, лакей, при химии и физике состоит и во всех переделах со мной бывал. Согласны?
– Да неловко, Николай Иваныч! Ну, сами посудите, что я без него целый вечер делать буду?
– А вы тем временем поспите. Чудесно! Анна Андревна, на коленях вас умоляю!
Гость встал на одно колено.
– Ах, срам какой! Что вы! Встаньте! – взвизгнула Калинкина и бросилась поднимать его.
– До тех пор не встану, пока не дадите согласие!
– Согласна, согласна, только как он… Он и сам не хочет.
Гость вскочил с колен. Калинкин взглянул на жену.
– Разве уж для того только, чтоб литератора посмотреть, – сказал он ей. – Помнишь, Аня, мы читали его книжку «Волчий зуб»?
– Это что тараканов-то в земле нашли? – спросила она.
– Нет, «Волчий зуб», красненькая книжка? Еще Петр Семеныч в пьяном виде читал?
– Ах, помню, помню! Насчет того, как цыгане девочку украли?
– Совсем не в ту центру! – отозвался гость. – Ну, да наплевать! Прощенья просим! Пора! Прощай, Сеня! В семь часов я пришлю за тобой лошадь. Рад, что ты, по крайности, посмотришь, как люди по-современному живут.
– Главное, к вину его не приневоливайте и к двенадцати часам домой доставьте… – упрашивала Калинкина.
– Как редкий бриллиант, доставим! Прощай! Прощайте!
Гость раскланялся и исчез.
Про купеческого сына Николая Иваныча Переносова все его родные и знакомые в одно слово говорили, что он пустой человек. И в самом деле, оставшись после смерти отца, человека сурового и строгого, не дозволявшего сыну ни малейших развлечений, Переносов совсем перестал заниматься делом. Фабрикой управлял приказчик, а он только и дела делал, что разъезжал по трактирам, по театрам и клубам. В одном из трактиров он познакомился с неким Заливаловым, в сущности, праздношатающимся человеком, но который, однако, рекомендовался ему как литератор и адвокат. В трактире Заливалов был «завсегдатаем», держал себя очень развязно, присосеживался к угощению загулявших купцов, показывал им разные фокусы с серебряными монетами и, напившись пьян, кричал «всех пропечатаю», вследствие чего приводил купцов в немалый трепет, и они тотчас же старались или дать ему взаймы рубля два-три, или проиграть их ему в орлянку. Между трактирной прислугой про него ходила молва, что «он у мировых такой сведущий человек, что даже и виноватого может сделать правым». Знакомство Переносова с Заливаловым началось с того, что тот его обыграл на бильярде на пять рублей и подарил ему свою книжку «Волчий зуб». Переносов тотчас же потребовал бутылку «шипучки в белом клобуке» и сообщил, что давно уже ищет случая познакомиться с умными людьми, а в особенности с литераторами. При следующей встрече Заливалов говорил уже Переносову «ты», прямо требовал от него угощения и повез его наблюдать воровские нравы в трактир «Малинник», после чего они попали в Екатерингоф, а наутро Переносов и сам не знает, как литератор Заливалов очутился у него спящим в его кабинете. С этого дня он не покидал уже более Переносова и поселился у него. Каждый день придумывал он какую-нибудь новую закуску или настой для водки, причем при выпитии первой рюмки стрелял из пистолета холостым зарядом, научил Переносова варить жженку, жарить бифштекс на прованском масле и разгрызать рюмку без видимого ущерба для рта. Переносов был от него в восторге.
– Я тебя и в литераторы выведу, только тебе надо жить иначе, – говорил ему Заливалов. – И в самом деле, человек ты богатый, а живешь свинья свиньей. Разве так живут современные люди?
– А то как же? Сделай милость, научи! Я завсегда готов, – отвечал Переносов.
– Прежде всего, разве может быть кабинет без книг? Книг купить надо!
– Так только разве за этим дело? Сейчас же поедем и купим. Книжку почитать на ночь – прелюбезное дело! Это я люблю.
Приятели отправились за книгами и, кстати, купили и электрическую машину с приборами. По приезде домой Заливалов начал Переносову показывать разные опыты с электрической машиной и лейденской банкой и привел его в восторг.
– Это вот физика называется, – сказал он ему, – а там химию заведем. Будем добывать газ. Одним газом будем морить птиц, а другим – оживлять их.
– Друг, заведи ради Христа! Едем сейчас покупать эту самую химию!
Через две недели кабинет Переносова совсем преобразился.
Тут были шкапы с книгами в сафьянных переплетах, столы с физическими инструментами, колбы, реторты, химические препараты в банках, тигли, «анатомический человек» из папье-маше, жабы и змеи в спирте, чучела летучих мышей, а в углах поместились два человечьих скелета на подставках.
Переносов жил не один в доме. С ним вместе жила его мать-старуха, которой отец Переносова отказал после своей смерти все состояние; следовательно, сын в денежном отношении был в полной зависимости от нее. Появление в их доме литератора сильно ее опечалило.
– Споит он его, споит, мерзавец! – плакалась она о сыне своим приживалкам, но в деньгах сыну на его затеи все-таки не отказывала, хотя и давала их ему после сильного спора; когда же, в один прекрасный день, сын явился домой вкупе с литератором пьяный и привез скелеты и летучих мышей, то она окончательно возмутилась.
– Вон! Все вон! Да и ты, господин литератор, проваливай! – кричала она. – Где же это видано, чтоб в христианском доме и вдруг эдакую пакость?.. Ведь здесь, чай, образа есть!..
Литератор скрестил на груди руки и крикнул Переносову:
– Николай, что тебе дороже: мать родная или образование?
– Разумеется, образование! – отвечал Переносов. – Маменька, неужто я из-за ваших глупостей и предрассудков должен всей современности лишиться? У нас в доме есть еще верхний этаж, переезжайте туда да и живите себе спокойно. Вы хотите серым образом жить, а я этого не желаю.
– Знать ничего не хочу! Тащи вон шкилеты! А нет, я позову фабричных, и те все вон вышвырнут!
Литератор крякнул, погладил бороду и сверкнул глазами.
– А по силе двадцать две тысячи восемьсот тридцать шестой статьи знаете, за эти вещи-то что бывает? – с расстановкой и строго произнес он.
– Маменька, не дразните его! – воскликнул Переносов. – Он адвокат, у всех мировых свой человек и все законы как свои пять пальцев знает. Он вас в Сибирь может упечь за ваши действия.
Мать испугалась, заплакала и, опершись на плечи приживалок, поплелась в свою комнату. На другой день она перебралась в мезонин, а сын остался жить в нижнем этаже.
Литератор Заливалов был при Переносове безотлучен. Каждый день он придумывал новые забавы: то морил в азоте птиц и оживлял их в кислороде, то делал взрыв какого-нибудь газа, то созывал фабричных и, составив из них цепь, разряжал в них лейденскую банку. Фабричные, получив от электрической искры толчок, приседали и вскрикивали, после чего им давалось по рюмке водки и они отпускались на фабрику. Не забывали себя разной хмельной дрянью и хозяин с товарищем и уже к вечеру никогда не были трезвы.
Видя все это, мать сильно огорчалась.
– Да вам бы женить его, Пелагея Дмитриевна! – говорили ей про сына знакомые.
– Пробовала, голубчики мои, да ничего с ним не поделаешь, – отвечала она. – Хорошую девушку и богатую ему предлагала, да разве он путный?.. Твердит одно: уж коли женюсь на ком, так женюсь по-современному, на актрисе. И осрамит меня: женится на актрисе, я это знаю! Как бы вот литератора от него этого спровадить? Да нельзя никак! Я уж и отступного ему пятьдесят рублей давала. Что ж вы думаете? Деньги взял, а уходить не уходит, да еще теперь кланяться перестал.
Чтобы как-нибудь обуздать сына, мать несколько раз решалась было не давать ему денег, но и тут у него находились уловки и угрозы, и ее решимость оставалась ни при чем. За деньгами он начал являться к матери не иначе как в сообществе своего любимца, кучера Михайлы.
– Мне, маменька, двести рублей денег надо, – говорил он. – Хочу на чердаке трубу поставить и звезды небесные рассматривать.
– Откуда у меня деньги, Николенька? – отвечала она. – Ведь ты сам знаешь, какие теперь платежи по фабрике!
– Полноте хныкать-то – словно Кощей Бессмертный! Фабрика фабрикой, а сын сыном. Не по миру же мне идти, в самом деле! Так не дадите?
– Нету денег!
– А коли не дадите, так мы сейчас… Эй, Михайло! – приказывал он кучеру. – Тащи сюда из кабинета скелеты!
– А летучих мышей не прикажете захватить? – отзывался кучер.
– Тащи и летучих мышей, и жаб, и всяких гадов!
Кучер бежал вниз. Мать плакала, крестилась и, боясь опоганить свое жилище «нечистью», в конце концов, выдавала требуемые деньги.
За два дня до своих именин Переносов явился к матери и сказал:
– Ну, маменька, пожалуйте триста целковых. В день ангела у меня будет пир горой. Будет такой современный вечер, о котором вы, по своему необразованию, и понятия не имеете. И кроме того, будет сюрприз гостям: две французинки отменной красоты. Они споют и станцуют.
– Николенька!.. – начала было мать.
– Михайло, тащи сюда змею! – крикнул он кучеру.
Мать только всплеснула руками и дала деньги.
6 декабря, часу в восьмом вечера, именинник Николай Иваныч Переносов и его «неизменное копье», литератор Заливалов, расхаживали в своей квартире по зале и ожидали приезда гостей. Посреди комнаты помещался большой стол, покрытый зеленым сукном, на котором стояли электрическая машина с приборами, резервуары с заранее приготовленными газами и две клетки: одна с воробьями, другая с кроликом. Такой же стол, со всевозможными выпивками и закусками, стоял у стены. Над столом на стене была надпись: «предварительная выпивка».
– Французинки-то, Алимпий Семеныч, настоящие будут? – спрашивал у Заливалова Переносов.
– А то как же? Самые настоящие, из Орфеума. Я их пригласил попозже. Мы их, знаешь, на закуску гостям пустим.
– Ты уж с ними, пожалуйста, по-французски, потому иначе кто же? Правда, у меня будет купец Русов, он и в Париже был, только по-французски навряд понимает, потому сам рассказывал, что двенадцать дней там прожил и все в пьяном виде обретался. Эх, далеко мне еще до настоящей современности! – вздохнул Переносов. – Ведь вот ужо устрицы подавать будут, а я их и в рот взять не могу. Не стали бы гости-то смеяться? Давеча пробовал: закатал ее, знаете, в хлеб, обмазал горчицей, – жевать жую, а проглотить не могу.
– Ничего! Бывают и современные люди, а устриц не едят, – успокаивал Заливалов.
– Литераторы-то, твои знакомые, в котором часу хотели приехать?
– Ровно в восемь.
В девятом часу гости начали съезжаться. Первым пришел капитан Замолов, живущий недалеко от фабрики и познакомившийся с Переносовым за несколько дней перед тем в фабричном трактире. Он был в отставном мундире и принес с собой шпагу, на которой должен был быть прикреплен сахар при варении жженки. Закурив трубку, он сказал:
– При питье жженки предупредите гостей об ее крепости. Она сладка, и ежели человек неопытный, то может до смерти опиться. У нас во время Крымской кампании был такой случай. Один юнкер Белобородовского гусарского полка пил, пил, упал и более не вставал. Как сейчас помню, полком командовал тогда полковник Урываев. А вторая шпага у вас есть? Нужно крест-накрест…
– Нет, – отвечал Заливалов, – но мы возьмем железный аршин. Это еще лучше. Будет соединение атрибутов двух сословий – дворянского и купеческого.
После Замолова приехал толстый купец Русов, известный кутила, и, познакомившись с капитаном, тотчас же сообщил ему про себя, что он холост и живет с «беззаконницей». Вслед за Русовым прибыла четырехместная карета, нагруженная пятью гостинодворскими приказчиками, приятелями Переносова по Приказчицкому клубу; притащился выходной актер Перепелов и тотчас же взял у хозяина сорок копеек, чтоб отдать извозчику; пришел фабричный трактирщик и мелочной лавочник Иванов в сапогах со скрипом; и наконец, прибыл Семен Мироныч Калинкин во фраке и белом гастуке. Каждого гостя Переносов подводил к закуске и просил выпить. Калинкина он познакомил с Заливаловым и также потащил к закуске. Тот упирался.
– Не приневоливай меня сегодня к питью – не буду пить, – говорил он. – Разве одну только и ни капельки больше. Я приехал, собственно, чтоб посмотреть… Сам знаешь, я теперь человек женатый… молодая жена… насилу урвался. К тому же и тесть еще не все приданые деньги отдал. Я у него в руках, а не он у меня.
К столу подошел Заливалов и чокнулся с Калинкиным.
– Какой торговлей занимаетесь? – спросил он.
– В Александровском рынке красным товаром торгуем, – отвечал тот.
– Зайду, беспременно зайду. Мне кой-что потребуется! – покровительственно проговорил Заливалов. – По второй, чтоб не хромать, можете?
– С душевным бы удовольствием всех превеликих чувств, но сегодня нельзя. Я, собственно, на самое малое время приехал, потому завтра дело…
– Ну, для меня. Со мной чокнись! – упрашивал Переносов.
Калинкин выпил вторую рюмку. Переносов взял его под руку и повел показывать свой кабинет. Показав ему библиотеку, скелеты и прочие предметы, он отвел его в угол и чуть не со слезами на глазах сказал:
– Сеня, ты видишь, что у меня все по-современному. Будучи другом, скажи по совести: можно заметить, что я из серого купечества?
– Никоим образом нельзя заметить! – отвечал приятель.
Вскоре приехали два литератора. Один из них был в высоких охотничьих сапогах и говорил сиплым голосом, другой – в желтом пиджаке и с подбитым глазом. Заливалов тотчас рекомендовал их хозяину и сказал, что теперь можно начинать вечер.
– Я думаю, не выпить ли прежде всем по рюмке, а потом и начинать? – заметил Переносов.
– И то дело! – отвечал Заливалов. – Господа, перед началом музыкально-литературно-химическо-физического вечера хозяин предлагает выпить по рюмке вина или водки! – торжественно произнес он.
Гости двинулись к столу с закуской.
– Ты там как хочешь, а я не буду пить, – говорил Переносову Калинкин. – Сам знаешь, жена сидит дома одна… Ну, что ей за радость, – вдруг я пьяный приеду? К тому же я ей и слово дал не пить.
– Господи, неужто с трех-то рюмок?.. Ну, для меня!..
Калинкин упирался, однако выпил. Все сели по местам.
– Отдел литературный! – возгласил Заливалов. – Петр Иваныч, – обратился он к литератору в охотничьих сапогах, – садись за стол и прочти нам что-нибудь. Прочти свой рассказ «Антошка юродивый».
– Как же я прочту, коли у меня нет рукописи. И кроме того, это историческое сочинение. Пускай, вон, Викентий стихи читает! – кивнул он на желтый пиджак.
– Коли нужно заменить номер, то я могу пропеть комические куплеты под фортепиано, – предложил свои услуги Перепелов.
– Сделайте одолжение, батюшка! – воскликнули в один голос хозяин и его друг.
Первым вышел желтый пиджак, тряхнул волосами, облокотился на стул и начал читать какое-то стихотворение о «ней», о «звездах» и о «луне». Окончив его, он принялся за второе в том же духе. Гости начали позевывать. Капитан и купец Русов поднялись с мест и направились к закуске. Наконец желтый пиджак умолк и поклонился. Ему аплодировал только один хозяин. Мелочной лавочник, успевший уже изрядно выпить, икнул и крикнул:
– Вот это чудесно!
После желтого пиджака начал петь куплеты актер Перепелов, но тотчас же сбился, встал из-за фортепиано и подошел к закуске.
– Господа, по рюмочке! – крикнул Переносов и потащил Калинкина к столу.
– Ни за что на свете! – упирался тот.
– А у нас в полку было так принято, – произнес капитан, – что ежели кто не пьет в общей пирушке, то тому выливают на голову.
Калинкин попятился.
– Стаканчик красненького винца, пожалуй, можно! – сказал он.
Между тем начались физические и химические опыты. Заливалов, засучив рукава своего кафтана, стал у электрической машины. Около него поместились Переносов и кучер Михайло.
– Алимпий Семеныч, у нас давеча банка с водородом лопнула, – сказал Михайло.
Заливалов схватился за волосы.
– Ну, не мерзавец ли ты после этого? Ведь ты меня зарезал! Есть ли по крайности серный эфир?
– Эфир в порядке. Николай Иваныч только самую малость кошке на голову вылили.
– Господа, не угодно ли кому-нибудь встать на эту стеклянную скамейку? – предложил Заливалов. – Я наэлектризую, и тогда все увидят, что волосы субъекта встанут дыбом. Кроме того, прикасающиеся к нему почувствуют, что от него исходят искры.
Гости переглянулись между собою. Никто не решался встать на скамейку.
– Что за радость без покаяния погибнуть! – произнес купец Русов.
– Я бы встал, да у меня волосы коротки, – добавил капитан.
– Михайло, становись ты! – крикнул кучеру Переносов.
– В момент-с! Только дозвольте, Николай Иваныч, прежде мне выпить?
– Пей.
– Коли так, так и нам следует по рюмочке, – послышалось у гостей, и они потянулись к закуске.
Калинкин уже беспрекословно отправился за гостями.
Опыт не удавался. Искры от Михайлы, правда, исходили, но волосы дыбом не становились.
– Ты, шельмин сын, верно, опять волосы помадой намазал? – крикнул на него Переносов.
– Помилуйте, Николай Иваныч, да нешто я смею? – отозвался Михайло.
Из всех химических и физических опытов всего больше понравилось гостям обмирание и оживление птиц. Все зааплодировали. У Переносова от самодовольства и восторга даже показались слезы. Заливалов раскланивался. К нему подошел совсем уже пьяный мелочной лавочник.
– Дозвольте мне, ваше благородие, этого самого спирту, – сказал он. – У меня жена – баба ретивая. Для нее прошу. Как зашумит она, я ее сейчас и обморю на время.
После опытов началось рассматривание «анатомического человека». Переносов разбирал его по частям и говорил:
– Вот это сердце, вот это селезенка, а вот ежели эта самая жила лопнет, то человеку капут.
– А дозвольте вас спросить, где в человеке пьяная жаба сидит, что винища просит? – спрашивал кто-то.
– Господа, теперь пожалуйте наверх, на обсерваторию! Там у меня телескоп, и мы будем звезды рассматривать, – предложил Переносов. – Михайло, бери две бутылки хересу и тащи за нами!
На «обсерватории» никто ничего не видал; но херес пили все и так громко кричали «ура!», что со стоящей рядом голубятни с шумом вылетели все голуби. Вдруг наверх вбежал лакей и доложил, что приехали дамы.
– Ах, это французинки! – воскликнул Переносов. – Алимпий Семеныч, бога ради!.. – И опрометью бросился вниз.
Гости последовали за ним.
В зале стояли «французинки». С ними приехал какой-то долгогривый мужчина в бархатном пиджаке. Заливалов отрекомендовал хозяина гостям. «Французинки» оказались говорящими по-русски как русские и даже с вологодским акцентом.
– Еще бы им по-русски не говорить, коли с малых лет в Петербурге! – оправдывался перед Переносовым Заливалов.
Сначала гости как-то церемонились и даже забыли подходить к закуске. Только один капитан глотал рюмку за рюмкой. Но потом, когда одна из «французинок» спела куплеты «Я стираю, тру да тру», общество начало аплодировать и оживилось. Купец Русов подошел к «французинкам».
– А что, барышни, ведь мы где-то встречались? – сказал он. – Облик-то ваш что-то очень знаком.
– Верно, у Макарья на ярмарке, мы там у Барбатенки в трактире пели, – отвечали они.
Калинкин был уже изрядно выпивши. Он подошел и Переносову и обнял его.
– Чудесно, чудесно! – бормотал он. – Только прощай. Пить я больше не могу. Ты сам знаешь, теперь я человек женатый и все эдакое… Ах, Коля, ежели бы ты знал, что у меня за жена! Ангел! Прощай!
– Погоди, сейчас жженку варить начнем… Да и лошадь не заложена.
– Ни за что на свете! Ни за что на свете! – замахал руками Калинкин, но вдруг очутился у закуски.
Часу в двенадцатом начали варить жженку. Делом этим заведовали капитан и Заливалов. Гости пели разные песни, кто во что горазд.
После жженки все гости окончательно опьянели. Все говорили, все кричали, и никто никого не слушал. В одном углу пели «Возопих всем сердцем моим», в другом затягивали «Девки в лесе». Калинкин, совсем уже пьяный, полулежал на диване, икал и говорил:
– Ни одной рюмки! Шабаш!.. Я тоже человек женатый… Аминь. Барышни, спляшите казачка!
К нему подошел Переносов.
– Ну, Семен Мироныч, коли хочешь ехать домой, то лошадь готова, – сказал он ему.
– Хочу, потому у меня молодая жена… Только прежде вот что: давай этого варева выпьем…
– Вали! – И Переносов подал ему рюмку жженки.
– Что рюмку! Давай стакан. Я не рюмкин сын.
После жженки Калинкин окончательно опьянел. Его повели под руки. На пороге в прихожую он упал.
– Не советовал бы тебе его домой отсылать, – говорил Заливалов. – Пусть здесь ночует, а то, чего доброго, еще в часть попадет. Кучер Михайло и сам пьян-пьянешенек.
– Пойми ты, что у него дома жена молодая и я дал ей слово в целости его доставить! – отвечал Переносов.
Калинкина увезли, но пир продолжался. Некоторые из гостей отправились в кабинет и уснули там на диванах. Капитан пил пунш и хрипел октавой, показывая гостям голос. Купец Русов, покачиваясь, ходил по зале и кричал «караул!». Мелочной лавочник сбирался плясать вприсядку, вставал со стула и падал. Официанты накрывали ужин. «Французинки» взяли хозяина под руки, отвели в угол и спросили «бутылочку холодненького».
– Ах, я дурак! Сейчас! Виноват, мамзели! Совсем забыл предложить! – воскликнул он и ринулся в другую комнату, но в дверях его остановил кучер Михайло. Он покачивался.
– Купца Калинкина, Николай Иваныч, обратно привез. Невозможно везти… Шесть раз с саней падал. Того и гляди, что потеряешь. Теперь пласт пластом в прихожей лежат.
Переносов всплеснул руками:
– Ну, что мне теперь делать? А я обещался жене домой его доставить. Делать нечего! Тащите его в угловую холодную комнату и положите там на диван. Пусть до утра проспится. Да вот что: туда официанты ходят, так запри эту комнату и принеси мне ключ.
Переносов хорошо помнит, что он пил с «французинками» холодненькое, помнит, что которую-то даже поцеловал, помнит, что сидел за ужином, но как кончился ужин, как разъехались, как он лег спать – решительно ничего не помнит. Вино и его сразило.
* * *
На другой день поутру, проснувшись часу в одиннадцатом, Переносов не без удивления увидел, что у него ночевали литераторы, капитан и купец Русов. Они в дезабилье ходили по зале и опохмелялись. На столе кипел самовар и стояла бутылка коньяку. Заливалов приготовлял какую-то закуску и обильно лил в нее уксус.
– Хвати рюмочку-то, сейчас поправишься! – предложил он Переносову.
– Не могу, – отвечал тот.
– А ты с солью… оно отшибает.
– Нет, я лучше чаю с коньяком…
Вдруг раздался пронзительный звонок, и в комнату влетела жена Калинкина. Она была в слезах.
– Не стыдно вам, Николай Иваныч? Не стыдно? Куда вы дели моего мужа? Где он? – кричала она.
Переносова как варом обдало. Он только сейчас вспомнил, что в угловой комнате заперт Калинкин.
– Анна Андревна, успокойтесь! Он у меня, – уговаривал он жену Калинкина. – Его и хотели везти вчера к вам, но он был так пьян, что падал с саней, и кучер привез его с половины дороги обратно.
– А еще обещались не поить его! Слово дали…
– Анна Андревна, видит Бог, это не я, а он сам…
– Где же он? Покажите мне его, по крайности…
– Вот в этой угловой комнате. Пожалуйте! Вот вам и ключ.
Переносов отворил дверь и впустил туда Калинкину.
– Будет буря!.. – прохрипел капитан.
Вдруг в угловой комнате раздался пронзительный визг, и на пороге в залу появилась Калинкина.
– Мало того что вы оскорбили женщину, вы еще и насмехаетесь над ней! Где мой муж? Где он? – кричала она.
– Он там-с!
– Что вы врете, там какой-то чужой мужчина!..
– Как? Что? Не может быть! – И компания ринулась в угловую комнату.
Посредине комнаты, действительно, стоял какой-то незнакомый мужчина и протирал глаза.
– Милостивый государь, отвечайте, как вы сюда попали? – прохрипел капитан.
– Извините, я и сам не знаю как… – отвечал он. – Скажите мне, где я? Я вчера был в гостях у одного моего сослуживца и, признаться сказать, выпил… Но как я попал сюда?..
– Это все Михайло-мерзавец, это все он! – кричал Переносов. – Позвать сюда Михайлу! Анна Андреевна, успокойтесь! Мой кучер сейчас расскажет, в чем дело. Тут какое-то недоразумение.
С Калинкиной сделалось дурно. Заливалов хлопотал около нее. В залу вошел кучер Михайло.
– Кого ты мне, каналья, привез вчера вместо Семена Мироныча? Кого?
– Господина Калинкина… – отвечал кучер.
– Посмотри, скотина, нешто это он!
Кучер взглянул в комнату.
– Нет, не он-с.
– Так где же он?
– Виноват, Николай Иваныч, тут, надо статься, грех случился. Признаться сказать, вчера я был выпивши. Едем мы это по Обводному каналу, а я и вздремнул слегка. Проснулся, глядь назад, а седока-то нет. Господи, думаю, потерял! Я назад. Ехал, ехал, вижу: лежит на дороге енотовая шуба. Стой, думаю, наш! Поднял и привез сюда. Здесь мы его не рассматривали, шубу с него не снимали, а как был он, так и положили на диван. Теперича, стало быть, выходит – я вместо господина Калинкина кого-нибудь чужого привез. Вчера ведь был Николин день, и пьяных на улице гибель что валялось. Главная штука – енотовая шуба меня поднадула: как две капли воды, что у господина Калинкина.
В это время лакей манил Переносова в прихожую. Переносов отправился. В прихожей стоял Калинкин. Он был бледен, как полотно.
– Здесь жена? – спросил он.
– Здесь. Иди скорей, успокой ее.
– О господи, господи! Знаешь, ведь я в части ночевал. Переносов, друг, научи, что мне ей отвечать, как мне перед ней вывернуться?
– Тут и вывертываться не надо, а скажи просто, что ночевал у приятеля. Люди, которые ежели по-современному живут, так те и по нескольку ночей дома не ночуют.
Калинкин перекрестился и вошел в залу.
С этого дня Калинкин ни разу уже не был у Переносова.
Забавы взрослого
Пьяная идиллия
Ровно три месяца и два дня крепился купец Семен Семеныч Турков и капли не брал в рот хмельного, но 1 сентября, в день своего ангела Симеона Столпника, сделав у себя вечеринку, проиграл гостям в карты сорок три рубля, выругался и с горя проглотил рюмку водки. За первой рюмкой следовала вторая, за второй – третья и так далее. Результатом всего этого было то, что Семен Семеныч напился пьян, по уходе гостей, придя в спальную, сел на кровать, сбирался бить жену и хотел снять сапоги, но по причине сильно пьяного состояния, не могши сделать ни того ни другого, упал поперек кровати и в таком виде проспал до утра. Наутро, проснувшись, Семен Семеныч потребовал графин водки и запил вплотную, как выражались домашние. Первые три дня пьянство происходило по трактирам, но на четвертый день он свалился где-то с лестницы и расшиб себе лицо, вследствие чего засел дома, и пьянство продолжалось уже на квартире. Домашние Туркова были очень рады этому обстоятельству.
– Слава богу, что хоть рыло-то свое поганое он перешиб, – говорила супруга Семена Семеныча, Платонида Сергеевна. – По крайности, хоть дома через это самое сидит; а то что за радость по трактирам-то срамиться? Ведь кабы он смирный был, так пущай бы его… А ведь он норовит каждого человека обругать, а нет, так и пустит в него чем ни на есть!..
– Что говорить, что говорить! Хуже коня необъезженного… – вторила Платониде Сергеевне некая купеческая вдова Анна Спиридоновна, оставленная мужем без гроша и уже лет пятнадцать питающаяся от крох, падающих с трапезы богатого купечества.
– Ты сама посуди: ведь нынче страсть какие строгости пошли! – продолжала Платонида Сергеевна. – Не токмо что ежели избить человека, а чуть до лица маленько коснешься, так и то беда! Сейчас к мировому. Прошлый раз, вон, он на Крещеньев день запил, и всего-то его безобразия было только то, что какому-то чиновнику рюмку в лицо выплеснул, а чего стоило, чтоб потушить? Страсть!
– Так-то это так, милая вы моя, но все-таки бы вам полечить его… Нынче, говорят, лечат, и как рукой снимает…
– Лечили, два раза лечили, да никакого толку!.. Еще хуже… К Истомину его водила – и тот не помог. Только что вышел от него на улицу, увидал напротив погребок, – шасть туда да там и застрял. Уж чем-чем я его оттуда ни вызывала – не вышел!
– Домашними бы средствами, что ли… али подмешать к вину чего…
– Не поможет, Анна Спиридоновна… Я уж это доподлинно знаю… Чего хотите подмешивайте – еще пуще яриться будет. Буры подмешивали, и то не берет. У него уж препорция – два ведра… И пока этих двух ведер он не выпьет, ничего с ним не поделаете…
– Ай-ай-ай! – со вздохом прошептала вдова.
Платонида Сергеевна продолжала:
– Теперь, главное, его одного оставлять не нужно, а то ему в одиночестве сейчас мелькание начнется: либо жуки, либо мыши… Нужно вот за Христофором Романычем послать. Пусть его попьет с ним недельку. Чиновник тут у нас такой поблизости есть, – добавила она в пояснение, – из отставных, из прогорелых. Уж очень он для пьяного-то человека хорош: от безобразия удержать, укротить, позабавить – на все мастер. Он и пить будет, а ума никогда не пропьет. У него завсегда благоразумие в голове, потому вино это самое в него все равно что в прорву…
– Так пошлите, родная, а то что же Семену Семенычу одному томиться!
– Беспременно пошлю. Пусть у нас погостит недельку. Он не корыстен. Ему ежели красненькую прожертвовать, так с него и довольно… Я бы и сейчас послала, да он днем-то синиц на Волковом поле ловит.
Вечером кухарка Турковых была послана за Христофором Романычем. Христофор Романыч тотчас же явился и вступил в должность сиделки и собутыльника при Семене Семеныче.
– Уж измысли, голубчик, что-нибудь новенькое, позабавь его… – упрашивала чиновника Платонида Сергеевна.
– Ах, господи! Будьте покойны… Мы запойных-то как свои пять пальцев знаем! Неужто нам в первый раз? – говорил тот и измышлял забавы…
Забавы эти заключались в следующем: то Христофор Романыч ловил в кухне тараканов и, наклеив им на спину вырезанных из бумаги солдатиков, выбрасывал их за окошко, то рисовал на бумаге какую-то харю, надписывал над ней «дурак» и, запечатав в конверт с пятью печатями, выбрасывал также за окошко на улицу и тому подобное. Вся суть забавы заключалась в том, что около еле ползущих от бремени тараканов останавливался дивующийся народ, а конверт схватывал какой-нибудь прохожий, быстро его распечатывал и, сделав кислую мину, бросал от себя. Семен Семеныч в это время стоял, притаившись у окна, и хохотал. После каждой забавы следовала выпивка. Пили простую очищенную водку, но называли ее настойкой по имени того предмета, который был опущен в графин. В выборе предмета, то есть настоя, не стеснялись. В графин с водкой опускалась то ружейная пуля, то гвоздь, то медный грош, то пуговица от брюк, и тогда водка называлась «нулевкою», «гвоздевкою», «грошевкою» и т. п.
– А ну-ка, выпьем пуговичной-то, – говорил Христофор Романыч. – Пуговичная хороша: она желудок застегивает.
Посуду, из которой пилось, также разнообразили. То пили из крышки от самовара, то из помадной банки, то хлебали с ложки.
– А ну-ка, звезданем теперь из лампадки! – восклицал Христофор Романыч.
И Семену Семенычу было весело.
Так веселился он два дня, но на третий забавы эти надоели ему, и он опять загрустил.
– Господи, – говорил он, обливаясь пьяными слезами, – мы теперь здесь пьянствуем, а бедный мой старший молодец, Амфилох Степанов, сидит в лавке и, может, не пивши, не евши!
– Ну, ублаготворишь его после чем-нибудь! – утешал Христофор Романыч. – Неужели уж за хозяина какую ни на есть недельку и поработать трудно? Подари ему ужо свой старый сюртук – вот он и будет доволен… Стой! – воскликнул он. – Мы ужо вечером поднесем ему этот сюртук при грамоте, торжественно и в присутствии всех молодцов. Давай писать грамоту!
– Вали! – отвечал Семен Семеныч, отер слезы, встал с места и покачнулся. – Пиши уж, кстати, что я жертвую ему и плисовую жилетку с травками.
Забава была найдена; начали писать грамоту. Турков сидел около Христофора Романыча и следил за каждым движением его пера, хотя, в сущности, ничего не видел. Наконец Христофор Романыч кончил и прочел вслух:
– «Амфилох Степанов! Тяжкие труды твои на пользу нашу и лавки нашей во время запития нашего побуждают нас письменно благодарить тебя сею грамотою. Но, не довольствуясь одною благодарностью, движимые чувством признательности, жертвуем тебе черный сюртук с плеча нашего, а также и плисовую жилетку с травками, кои при сем препровождаем и повелеваем носить по праздникам. Семен Семенов Турков».
– Друг! – воскликнул Турков и от полноты чувств обнял Христофора Романыча.
Следовала выпивка. На сей раз пили из чайной чашки.
Вечером, когда молодцы пришли из лавки, их позвали в гостиную. Недоумевая зачем, они вошли и встали у стены.
– Господа сотрудники, – обратился к ним Христофор Романыч, – хозяин ваш призвал вас сюда затем, чтобы в присутствии вас выразить свою истинную признательность за труды старшему из вас, Амфилоху Степанову! Признательность сия изображена на бумаге и скреплена его собственною подписью с приложением лавочной печати. Амфилох Степанов, выходи!
Из шеренги молодцов выдвинулся Амфилох Степанов. Христофор Романыч начал читать грамоту. Около него со слезами на глазах стоял Турков. В руках его были сюртук и жилетка с травками. Когда чтение было кончено и бумага вручена Амфилоху Степанову, Турков окончательно зарыдал и упал ему в ноги.
– Прими, прими, голубчик! – шептал он.
Старший приказчик бросился подымать его.
– Много вам благодарны, Семен Семеныч, – говорил он, – но зачем же унижение? Унижение паче гордости.
– Не встану, пока не облечешься в дарованные тебе ризы! – кричал Турков и валялся по полу.
– Облекусь, встаньте только.
Амфилох Степанов сбросил с себя халат и надел жилет и сюртук. Турков поднялся с пола. В это время один из стоящих у стены молодцов, не могши удержаться от смеха, фыркнул. Туркову показалось это оскорбительным.
– Ты чего смеешься, свиное рыло? – закричал он и ринулся на молодца с кулаками.
Христофор Романыч схватил его поперек тела.
– Семен Семеныч, опомнись! При таком параде, можно сказать, торжестве и вдруг драться! – сказал он. – Ай-ай-ай! Где же это видано?
– Пусти, пусти! – рвался от него Турков. – Нешто он смеет над своим хозяином, над своим начальством смеяться? Какую он имеет праву?
– Стой, стой, голубчик! – удерживал его Христофор Романыч. – Мы лучше его миром… Это первая вина… Сделаем ему строгое внушение. Напишем первое предостережение. Хочешь, напишем?
Турков остановился.
– Какое предостережение? – спросил он.
– А вот, что газетам пишут. Принимая во внимание, что в поведении вашем заключается явное неуважение к хозяину, объявляем… ну, и так далее. Хочешь предостережение?
– Не хочу я предостережения! Вот ему предостережение! – Турков поднял кулак.
– Ну так вот что… Счастливая мысль! – воскликнул Христофор Романыч. – По крайности и позабавимся. Завтра вечером позовем мы опять всех молодцов и будем его судить судом с присяжными заседателями. Молодцы будут присяжные, ты прокурор, а я – защитник.
Турков осклабился:
– Важная штука! Только зачем же завтра? Валяй сейчас!
– А предварительное-то следствие? Я ему ужо предварительное следствие закачу. Да к тому же теперь и поздно. Ежели завтра присяжные найдут его виновным, то ты приговоришь его к тюремному заключению и лишишь права три дня пить за ужином водку. Тогда мы его возьмем и посадим часа на два в чулан под лестницу. Ну, так до завтра, а теперь выпьем. Да нужно и им поднести? – Христофор Романыч кивнул на молодцов.
– Валяй! Только из чего же пить будем? Нужно бы как-нибудь позабавнее. Из рюмки не пьется.
Христофор Романыч задумался.
– Вот из чего, – проговорил он, помолчав, – так как это будет круговая, то принесем сковороду, нальем на нее водки и будем пить со сковороды, передавая друг другу.
Принесли сковороду, и компания начала пить круговую со сковороды.
Задуманному на завтра Христофором Романычем суду не пришлось состояться. Ночью с Турковым сделалась белая горячка. Появились мыши, птицы, по комнате летали жуки, ползали раки, а на носу у Туркова целый сонм чертей начал плясать вприсядку.
– Уж это девятая горячка с ним, как я замужем, – рассказывала Платонида Сергеевна своей наперснице Анне Спиридоновне и плакала.
– Смотрите, матушка, что девятый вал, что девятая горячка – страх, как опасны!.. – отвечала та.
Но натура Туркова была крепка, и «девятая» не свалила его. Пять дней он прохворал, а на шестой стал приходить в себя; на седьмой отправился в баню, на восьмой отслужил на дому молебен, а после молебна, когда сели обедать и жена поставила перед ним графин водки, он оттолкнул его от себя и сказал:
– Убери эту мерзость! Что на глаза ставишь!
Запутались
Рассказ
Купец Пров Семеныч Книжкин пришел из лавки домой обедать, помолился на образа и обругал жену – «зачем новое божие милосердие мухи засидели»; снял с себя сюртук, жилетку, прошелся по комнатам, помурлыкал себе под нос «Возопих всем сердцем моим» и опять обругал ее за то, что канарейка на полу насорила. Сев обедать, он три раза придирался к ней из-за кушанья и опять три раза принимался ругаться, но наконец, наевшись, успокоился.
– Кофейку сейчас сварить или после? – спросила жена, радуясь, что муж угомонился.
– Кофейку, кофейку! – передразнил он ее, но уже ласковым голосом. – Только и на уме, что кофеек, а чтоб об деле подумать. На это вас не хватает.
– Кажется, я завсегда думаю…
– В том-то и дело, что не всегда. Петрушка, вон, на возрасте, а нешто ты ему невесту подыскала? Это дело тебе следовает. Какая же ты мать после этого? Все я да я…
– Да ведь где ж подыскивать-то? Хорошие невесты по улицам не валяются… – оправдывалась супруга. – По зиме, вон, сваха Лукерья ходила к нам, так сам же ты ее отучил, сам же посулился ей ребра обломать.
Последовало несколько секунд молчания. Пров Семеныч опрокинулся на спинку стула, самодовольно улыбаясь, поколотил себя по животу и произнес:
– Нашел я ему невесту. Стряпчий Александр Захарыч сватает. Девушка, говорит, отменная… Рыбные тони у них. Богатые купцы. Две дочери: одна – невеста, другая – подросток… Также и лес сплавляют… Одного, говорит, лесу в Новгородской губернии десятин четыреста. Два брата их… Маховы по фамилии…
– Слышала, слышала… Богатейшие купцы… – поддакнула жена. – Только отдадут ли за нашего Петрушку-то? К ним, вон, по зиме овощенник Ключилкин сватался, так тому карету подали. Мне бабка в банях сказывала.
– Посмотреть надо, попытаться… Александр Захарыч – человек обстоятельный, зря болтать не станет. – Пров Семеныч встал с места. – Ну-с, Аграфена Астафьевна, вот вам наш сказ, – обратился он к жене, – теперь я спать лягу, а ужо, как Петрушка из лавки придет, разбуди меня, потому мы сегодня и невесту смотреть поедем. Я уж велел ему приготовиться.
– Ах, господи! – всплеснула руками Аграфена Астафьевна. – Да как же так вдруг?.. У меня и платье грограновое распороно…
– Ну так что ж, что распороно? Пущай его!.. Я один с Петрушкой поеду. Возьмем карету и отправимся, потому они там на самых тонях и живут.
– Что ж это за смотрины такие, коли ежели без матери! – проговорила она.
– Дура и больше ничего! Нешто это настоящие смотрины? Настоящие впереди. Тогда предупредить следует, чтоб, значит, ждали, а сегодня мы съездим так, больше для прокламации. Приедем на тони и начнем торговаться на лососей или на сигов. Будто впрок солить хотим… Ну а тем временем и невесту посмотрим.
Сказав это, Пров Семеныч отправился спать.
– У нас все не по-людски! – пробормотала ему вслед Аграфена Астафьевна и с сердцем бросила на стол ложку.
Муж обернулся и подбоченился.
– Нет, как посмотрю я на тебя, так с вашей сестрой ласково говорить нельзя, – произнес он. – Ей-богу! Как ласка – так вы сейчас зазнаваться и на дыбы…
Аграфена Астафьевна не возражала.
* * *
Часов в шесть вечера Аграфена Астафьевна будила мужа. Около постели стоял и сын Петрушка. Он был одет в новый сюртук и цветной галстук с большим бантом. Пров Семеныч проснулся, сел на кровать и начал почесываться.
– Все исправил-с, как следует, – отрапортовал сын. – Карету нанял двухместную за три рубля и самую что ни на есть лучшую выбрал. Сам и на извозчичьем дворе был.
– Ну, коли так, так веди себя хорошенько! – ласково произнес отец и встал с кровати. – Что ж вихры-то не подвил? – сказал он. – Волосы словно плети висят.
– Не смел-с. Думал, что вы растреплете.
– Вздор! Беги сейчас в цирюльню и подвей бараном, а я тем временем одеваться буду. Невеста хорошая и богатая, нужно, чтоб все было в порядке и по моде.
Сын отправился в парикмахерскую, а отец начал одеваться. Вообще, он был в духе, пел «Божественное» и даже шутил с женой. Через четверть часа сын явился завитой и напомаженный. От него так и несло духами. Отец осмотрел его и сказал:
– Ну, Петрушка, ежели это дело уладится, так уж я и не знаю, каким ты угодникам молился. Невеста такая, что хоть сыну купца Елисеева, так и то не стыдно жениться. Истинно благословение божие тебе посылается. Ну, теперь в путь! Господи, благослови! – Пров Семеныч помолился на образа, однако с места не трогался, а переминался с ноги на ногу. – Надо полагать, это тебе за молитвы матери твоей, – продолжал он, – потому она у тебя женщина благочестивая и богомольная.
– Уж кажется, я завсегда денно и нощно… – вставила свое слово Аграфена Астафьевна.
– Ну вот! Про это я и говорю… Где ж ему за его молитвы?.. Конечно, за твои… – Пров Семеныч, видимо, к чему-то подговаривался и вдруг произнес: – Достанька, Аграфена Астафьевна, водочки. Выпить на дорожку малость следует.
– Ну, полно, что за водка без благовремения.
– Знаю, что без благовремения, да живот что-то щемит, а ты сама знаешь, нынче время холерное. То и дело народ валит.
Она с неудовольствием вынесла графин водки и кусок хлеба. Пров Семеныч выпил рюмку и повторил.
– Ну, вот теперь как будто полегче и повеселее, – сказал он и вышел в прихожую.
Мать дернула сына за рукав и шепнула:
– Коли ежели по дороге отец в трактиры заезжать будет, так ты останови. Нехорошо, мол, тятенька…
– Будьте покойны, как за своей персоной следить буду, – отвечал сын.
Отец и сын вышли на двор и стали садиться в карету. Аграфена Астафьевна смотрела на них из окошка и говорила:
– А все-таки нехорошо! Невесту смотреть – и вдруг без матери!
Пров Семеныч ничего не отвечал и крикнул извозчику:
– Трогай!
* * *
Несколько времени отец и сын ехали молча. Отец отирал платком со лба обильный пот; сын перебирал часовую цепочку. Наконец отец прервал молчание и начал читать сыну наставления.
– Как приедем туда, так держи себя скромнее, – говорил он. – В разговоры сам не суйся, а отвечай, что спросят.
– Помилуйте, тятенька, да когда же я? – отвечал сын.
– Ежели вином угощать будут, так не пей.
– Будьте покойны, тятенька. Все будет, как следует.
– То есть одну-то рюмку можешь выпить, потому одна никогда не вредит.
– Зачем же и одну? Бог с ней! Можно перетерпеть. Лучше в другое время выпить.
Они ехали по Обводному каналу и выбирались на Петергофскую дорогу. По дороге попадались трактиры. Отец глядел в окошко и читал вслух трактирные вывески. То и дело слышалось:
– Трактир «Город Амстердам», «Венеция», «Свидание друзей», «Ренсковой погреб иностранных вин». – Прочитав с десяток вывесок, отец кивнул на какой-то трактир с пунцовыми занавесками в окнах и сказал: – В этом трактире орган чудесный. Селиверст Потапыч сказывал.
– Нынче, тятенька, везде органы прекрасные, потому в этом вся выгода, – отвечал сын.
Отец умолк, но, подъезжая к следующему трактиру, опять заговорил:
– А ведь брюхо-то у меня все еще щемит, ей-богу! Даве выпил водки, так думал, что уймется, ан нет, не унялось. Думаю, не хватить ли еще рюмочку с бальзамцем?
– Ну, полноте, тятенька! Что так зря пить! – увещевал сын. – На месте выпьете. Ведь уж там наверняка угощать будут.
Отца покоробило.
– Эх, дурья голова! Да нешто я подумал бы об водке, кабы не холерное время? Холера теперь – вот в чем дело. Ну что за радость, как ноги протянешь?
– Не протянете, Бог милостив.
– Нет, уж ты там как хочешь, а я выпью, потому что что-то даже в бок стрелять начало. – Пров Семеныч высунулся в окошко и закричал извозчику: – Стой! Стой!
Сын начал его уговаривать:
– Тятенька, бросьте! Ну что за радость хмельным приехать?
– С одной-то рюмки? Да что ты, белены объелся, что ли? Наконец, какой ты имеешь резон меня останавливать? Нешто ты не чувствуешь, что я тебе отец? Хочу выпить и выпью.
– Воля ваша, как хотите, а только маменька, знаючи ваш нрав, просила вас не допущать.
– Дура мать-то твоя да и ты-то дурак! Благодари Бога, что я в духе, а то бы не миновать тебе трепки. Подожди меня в карте, а я сейчас выйду.
Карета остановилась. Отец вышел из кареты и отправился в трактир, а сын остался в ней дожидаться его.
Прошло минут с десять, а отец все еще не показывался.
«Ну, застрял тятенька! Пойти полюбопытствовать на него да посмотреть, нельзя ли как-нибудь его выманить», – подумал сын и хотел уже отправиться в трактир, как вдруг к окну кареты подбежал трактирный служитель с салфеткой на плече.
– Вас в заведение требуют. Пожалуйтесь… – проговорил он, ради вящей учтивости проглатывая слова, и отворил дверцы кареты.
Сын отправился в трактир и вошел в буфетную комнату. Около буфета стоял Пров Семеныч. По лицу его было видно, что он уже успел хватить не одну с бальзамчиком, а несколько. Он размахивал руками и вел прежаркий разговор с буфетчиком. Завидя входящего сына, он крикнул:
– Что, чай, заждался меня в карете-то? Посиди здесь, отдохни, а я сейчас. Что на солнце-то жариться? Здесь прохладнее. Я вот земляка нашел; тридцать верст всего от моей родины, так толкуем. – Он кивнул на буфетчика и тотчас рекомендовал ему сына: – Сын мой. Вишь, какого оболтуса вырастил!
– Доброе дело-с. На радость вам возрастает, – ответил буфетчик.
– Бог знает, на радость ли еще! Пока особенной радости не видим, – вздохнул Пров Семеныч и прибавил: – Налей-ка еще рюмочку с бальзамчиком… Петя, выпей бутылочку лимонадцу? Так-то скучно сидеть, а я еще минут с пять здесь пробуду, – обратился он к сыну.
– Нет уж, тятенька, покорнейше благодарим! – отвечал сын. – Бог с ним! Ни радости, ни корысти в этом самом лимонаде.
– Ну, хереску рюмочку? Оно тоже прохлаждает.
Сын почесал в затылке.
– Хереску, пожалуй… Только уж что ж рюмку-то? Велите стаканчик…
– А не захмелеешь?
– Эво! С одного-то стакана!
– Прикажете стаканчик? – спросил буфетчик.
– Нацеживай, нацеживай! Нечего с ним делать! – сказал Пров Семеныч и, видя, как сын залпом выпил стакан, воскликнул: – Эка собака! Как пьет-то! Весь в отца! И где это ты, шельмец, научился?
– Этому ремеслу, тятенька, очень нетрудно научиться. Оно само собой приходит.
Прошло с полчаса времени, а Пров Семеныч еще и не думал уходить из трактира. Разговор с земляком-буфетчиком так и лился, и то и дело требовалось «рюмка с бальзамчиком». Сын раза два напоминал отцу, что «пора ехать», но тот только махал руками и говорил: «Успеем». Язык его начал уже заметно коснеть и с каждой рюмкой заплетался все более и более. Сын потерял уже всякую надежду видеть сегодня невесту, вышел в другую комнату, потребовал «с горя» столовый стакан хересу и залпом опорожнил его, но уже не на тятенькин счет, а на свой собственный.
Прошло еще четверть часа, а Пров Семеныч все еще стоял у буфета.
– А что, есть у вас орган? – спрашивал он у буфетчика. – Чайку любопытно бы теперь выпить.
– Не токмо что орган, а даже и арфянки имеются. И поют, и играют. Потрудитесь только в сад спуститься, – отвечал буфетчик.
– И арфянки есть? Знатно! Веди, коли так, в сад.
Служитель повел Прова Семеныча в сад. Сын следовал сзади. От выпитого вина в голове его также шумело, но он шел твердо и, когда спускались с лестницы, предостерегал отца, говоря:
– Тише, тятенька! Тут ступенька… Осторожнее… Не извольте споткнуться.
В саду было довольно много посетителей. У забора стояла маленькая эстрада. На эстраде сидели четыре арфянки в красных юбках и черных корсажах и пели под аккомпанемент арфы. Пров Семеныч поместился за столиком, как раз против эстрады.
– Садись, Петька, здесь первое место, – сказал он сыну и начал звать служителя, стуча по столу кулаком.
– Тятенька, не безобразьте! На то, вон, колокол повешен, чтоб прислугу звать, – увещевал сын.
– Колокол! Чудесно! Трезвонь с раскатом! Жарь! Оборвешь, так за веревку плачу!
Сын начал звонить. Явился служитель.
– На двоих чаю и рюмку сливок от бешеной коровы! – скомандовал Пров Семеныч.
– Тятенька! Уж коли гулять, так гулять. Требуйте графинчик. А то что ж я за обсевок в поле? – сказал сын.
– А ты нешто пьешь коньяк?
– Потребляем по малости…
– Эка собака! Экой пес! Ну уж, коли так, вали графинчик! – сказал он служителю и шутя сбил с сына шляпу.
– Не безобразьте-с, – проговорил тот, подымая шляпу и обтирая ее рукавом. – Циммерман совсем новый…
– Дурак! Нешто не видишь, с кем гуляешь? Захочу, так пяток тебе новых куплю. Главное дело – только матери про гулянку ни гугу. Понимаешь? Ни полслова! – Пров Семеныч погрозил пальцем.
– Что вы, тятенька, помилуйте! Ведь я не махонький… Мы уж эти порядки-то знаем.
– То-то… Поди к арфянкам, снеси им целковый рубль и закажи, чтоб спели что ни на есть веселую! К невесте сегодня не поедем! Ну ее! А матери ни слова!
Арфянки запели веселую. На столе появились чай и графин коньяку. Отец и сын набросились на коньяк, вмиг уничтожили весь графин и потребовали второй. Отец начал подпевать арфянкам. Сын сначала останавливал отца, но потом и сам принялся за то же и даже бил в такт ложкой по стакану. Окончив пение, арфянки начали просить у публики деньги на ноты и подошли к их столу. Пров Семеныч дал целковый, скосил на арфянку глаза и обнял ее за талию.
– Кралечка, садись с нами. Чайком с подливочкой угостим, – шепнул он ей.
Она лукаво улыбнулась, вильнула хвостом и убежала от стола.
– Эх, брат Петрушка, плохи мы с тобой! Не хотят с нами и компании разделить! – сказал отец.
– Кто? Мы плохи? – воскликнул сын. – Нет, тятенька, не плохи мы, а вы не тот сюжет под них подводите! Нешто так барышень можно приглашать? Ни в жизнь! Хотите, сейчас всех четырех приведу?
– Ой?! Будто и четырех?
– С тем возьмите, год носите и починка даром! Охулки на руку не положим. Только другой манер нужен. Ставьте пару бутылок хересу!
– Вали!
Сын отправился к арфянкам и через несколько времени воротился.
– Готово-с… Пожалуйте вон в эту беседку и заказывайте бутылки, а они сейчас придут! – воскликнул он и ухарски надел шляпу набекрень.
– Ах ты, собака! Ах ты, анафема! – твердил отец и, шатаясь, направился в беседку. – Я думал, он еще несмышленок, а он на-поди!
– Не таков Питер, тятенька, чтоб в нем несмышленки водились! – отвечал сын и последовал за отцом.
Через четверть часа отец и сын сидели в беседке. Около них помещались арфянки. Стол был весь установлен яствиями и питием.
– Это сын мой, сын мой единоутробный!.. – пьяным голосом рассказывал отец арфянкам про Петрушку. – Вот, кралечки: сын мой, а я им не гнушаюсь и компанию вожу. Где такие отцы бывают? А?.. Нет, спрашивается, бывают такие отцы? Днем с фонарем поискать, вот что… И всю ночь с ним прокутим. Ей-богу! Видишь бумажник с деньгами?.. Все пропьем… Только на карету оставим. Бери, Петрушка, пять рублев на карету, а остальное пропьем! – Он вынул из бумажника пять рублей и дал сыну. – Петрушка! Чувствуешь ты мое милосердие к тебе? А? Говори: чувствуешь?
– Эх, тятенька! Да могу ли я не чувствовать? Ведь у меня натура-то ваша. Меня теперь так и подмывает беседку разнесть либо стол опрокинуть.
– Стол опрокинуть? Бей! За все плачу! – крикнул Пров Семеныч и первый подал пример.
Вмиг был опрокинут стол, переломаны стулья, сорваны занавески. Отец и сын стояли на развалинах и добивали остатки посуды и бутылок. Арфянки в ужасе разбежались. Прибежавшая прислуга и посетители начали унимать бунтующих.
– Счет! За все платим! – во все горло неистовствовали отец и сын и торжественно вышли из беседки.
За побитое и за поломанное было уплачено. Они вышли из трактира и начали садиться в карету.
– Петрушка! Едем, шельмин сын, на Крестовский! – кричал отец.
– С вами, тятенька, хоть на край света!
– Коли так – жги!
Они сели в карету. Отец наклонился к сыну и прошептал:
– Главное дело: матери ни слова! Ни гугу!.. Понял?
– Тятенька, за кого вы меня принимаете? – чуть не со слезами на глазах спросил сын. – Гроб! Могила!
Он ударил себя в грудь и от полноты чувств бросился отцу на шею.
Долго еще отец и сын путались по трактирам, напоили извозчика, угощали разный встречный люд, разбили несколько стекол, и только один Бог ведает, как не попали в часть.
На другой день, поутру, часу в седьмом, Аграфена Астафьевна, вся в слезах, стояла над спящим на постели сыном и толкала его в бока.
Он отмахивался от нее кулаками, но не просыпался.
– Петрунька! Очнись же!.. Господи, что же это такое! Куда ты дел отца?
Она схватила его за голову и подняла над постелью. Сын вскочил на ноги, постоял несколько времени, как полоумный, и снова рухнулся на постель.
– Утрись мокреньким полотенчиком да ответь, голубчик!
Она обмочила полотенце и начала ему тереть лицо. Сын сел на кровати и мало-помалу начал приходить в себя.
– Куда ты отца-то дел, безобразник? Где отец-то? – приставала она к нему.
– Какой отец?
– Твой отец, пьяная рожа, твой! Где он?
– Как где? Дома.
– Где же дома, коли я всю ночь прождала, и он не являлся. Говори, мерзавец! В полицию он попал, что ли? Коли в полицию, так ведь выручать надо! Ах, пьяницы! Ах, бездельники!
– Как? Разве тятеньки нет дома? – спросил сын.
– Господи! И он еще спрашивает! Где наугощались? Говори! Где? Неужто у невесты?!
– У невесты не были.
– Так где же были-то?
– Запутались, – отвечал сын, покачиваясь, ходил по комнате и что-то соображал. – Странное дело, – проговорил он. – Кажись, на обратном пути вместе с ним ехали. Куда это он мог деваться? И ума не приложу.
– Боже милостивый, до чего человек допиться может! Отца родного – и вдруг неизвестно где потерять! – всплеснула руками Аграфена Астафьевна, заплакала и упала в кресло.
– Маменька, успокойтесь! Тятенька – не булавка: найдутся. Дайте только сообразить, – уговаривал ее сын.
– Не успокоюсь я, покуда не узнаю, где он! – продолжала она. – Где он? Где?
– Надо полагать, они в карете остались.
– Как в карете?
– Очень просто: на обратном пути ехали мы оба пьяные, и они это, значит, спали. Я вышел из кареты, а про них-то и забыл. Их извозчик, должно быть, и отвез на каретный двор, потому тятенька и извозчика споили. Успокойтесь, они теперича всенепременно в карете на каретном дворе. Я их сейчас приведу.
Сын схватил шляпу и побежал на извозчичий двор, с которого была нанята карета.
Петрушка не ошибся: отец был, действительно, на дворе. Он уже проснулся, вылез из кареты и переругивался с извозчиками. Те стояли вокруг него и хохотали во все горло. Слышались слова:
– Ай да купец! Нечего сказать, хорош себе ночлег выбрал!
Сын робко подошел к нему.
– Я за вами, тятенька. Домой пожалуйте… – сказал он.
Увидев сына, отец сжал кулаки и прошептал:
– Что ты со мной сделал, шут ты эдакой? Зачем не разбудил?
– Виноват, тятенька! Ведь я с вами же запутался. Хмелен был.
– Мать знает?
– Они-то меня и послали вас искать.
– Смотри, Петрушка, об арфянках ни слова!
– Тятенька, да нешто я не чувствую?
Отец и сын стали уходить с извозчичьего двора.
– Купец, а купец! За ночлег с вашей милости следует! – кричали им вслед извозчики.
Пров Семеныч не отругивался и шел, понуря голову.
– Ах вы, безобразники пьяные! – встретила их Аграфена Астафьевна. – Посмотрите-ка вы на свои рожи-то!.. Ведь словно овес молотили на них. Мать Пресвятая! И с кем же пьянствовал? С кем запутался? С сыном родным. Где это видано? Где это слыхано? Вот те и смотрины! Вот те и богатейшая невеста! Хороши батюшка с сынком! Ну, не говорила ли я, что смотрины без матери не могут быть? Чувствовало мое сердце, чувствовало!
– Ну, полно, брось! – проговорил вместо ответа Пров Семеныч. – Поди-ка лучше в кухню, очисть селедку да достань водочки на похмелье, а то голова смерть болит.
Аграфена Астафьевна махнула рукой и отправилась в кухню.
Визит доктора
Современный эскиз
Семейство Назара Ивановича Коромыслова, содержателя извозчичьих карет и постоялого двора в Ямской, питало, обыкновенно, крайнее недоверие к докторам и было убеждено, что «они морят». Все члены семейства Коромыслова отличались крепким телосложением и такою физическою силой, которой бы позавидовал иной акробат. Так, старший женатый сын без особенного усилия крестился двухпудовою гирею; сам глава семейства, Назар Иванович, легко переставлял карету с места на место, взявшись руками за ее задние колеса; а младшие ребятишки во время игры высоко-высоко запускали в воздух черепки и камни. Желудки их также способны были переваривать долото, не говоря уже о двух фунтах красной смородины, съеденной на ночь. Болезней Коромысловы не знали, и ежели случалось кому слегка занемогать «нутром», ломотой или ознобом, то лечились баней, водкой с солью и перцем, салом и богоявленской водой. Правда, мать семейства, Аграфена Степановна, считавшаяся «сырой женщиной», частенько хворала какой-то особенной болезнью – «притягиванием к земле», но болезнь эта после двенадцатичасового сна и полдюжины чашек настоя бузины или малины тотчас же проходила. Слухи о холере и количество покойников, ежедневно десятками провозимых мимо их дома на близлежащее Волковское кладбище, не смущали их жизни. «Пришла смерть – и помер», – рассуждали они обыкновенно. Но когда, в один прекрасный день, их собственного работника Селифонта на их глазах и без видимой причины скрючило в течение каких-нибудь пяти часов, а другой работник, отправленный по распоряжению полиции в больницу, умер на дороге, – семейство призадумалось. Чаще и чаще стали повторяться слова «а ведь холера-то валит», «щиплет», «накаливает» и т. п. На окошке появилась четвертная бутыль водки со стручковым перцем, в сенях расставились горшки с дегтем и развесились луковицы чесноку; число покойников, провозимых мимо дома на кладбище, тщательно считалось и было известно каждому члену семейства, и наконец, в доме появилась полицейская газета, специально выписанная для узнавания числа заболевших холерою. То и дело слышалось в доме: «К седьмому числу больных холерою состояло… выздоровело… умерло… затем осталось…» – а после этого следовал возглас вроде: «Господи, какую силу народу валит!» или: «Однако крючит!» и т. п.
В один из этих дней Назар Иваныч Коромыслов возвратился с извозчичьей биржи домой обедать, крайне сосредоточенный сам в себе. Выпив рюмку водки и тыкая вилкой в соленый огурец, он произнес:
– Главное дело, теперь насчет пищи соблюдать себя следует! Чтоб пища эта самая завсегда в свежести… Сегодня, вон, Николая Данилыча скрючило и свояченицу сводить начинает. Я на берегу овес покупал, так сказывают, что в пищу эту самую что-то подсыпают, так надо отворотное зелье от этой самой подсыпки иметь.
– Скажи на милость, вот ироды-то! – воскликнула Аграфена Степановна.
– Тоже и насчет вони, потому вонь пущают; а от вони-то она и родится.
– Безбожники!
– Так вонь эту задушать следует, чтоб не пахло.
– Как же ее, тятенька, задушить? Уж вонь – все вонь… – спросил старший сын.
– Опять-таки снадобье есть… – отвечал отец. – У докторов спросить надо! – Он съел щи, икнул, отер пальцы рук о голову и, обратясь к жене, продолжал: – Даве, после закупки овса, были мы в трактире, там с нами был доктор – Федора Ивановича Бубырева знакомый…
– О господи! – всплеснула руками Аграфена Степановна.
– Чего «о господи!»? – передразнил ее муж. – Хороший человек… Мы с ним и чайку, и водочки выпили. «Я, – говорит, – больше простыми средствами…» Из простых он фельдшеров, а свое дело туго знает, потому час целый нам о разных болезнях и о том, что у человека внутри есть, рассказывал.
– Ах, страсти какие! Ну?
– Ну, вот его-то я и позвал к себе. Сегодня вечером приедет к нам, осмотрит нас, лекарства на всякий случай даст. Что за радость без помощи-то погибать? Ведь не собаки… Народу вон то и дело на кладбище подваливает.
Семейство приуныло. Два сына почесали в затылках, а супруга поникла головой, но тотчас же оправилась и спросила:
– Значит, поросенка жарить к вечеру?
– Поросенок поросенком, да еще чего-нибудь надо, потому человека угостить следует, – отвечал Назар Иваныч.
– Молодой он, папенька, этот самый доктор, или старый? – задала отцу вопрос восемнадцатилетняя дочь Груша.
– Дура! – произнес отец вместо ответа и умолк. Вставая из-за стола, он обратился к старшему сыну и сказал: – На бирже долго не проклажайся, а к семи часам приходи домой. Пусть и тебя доктор посмотрит. Да по дороге зайди в погреб и купи бутылку рому.
В семь часов вечера все семейство Коромыслова было в сборе и ждало доктора. Сам глава дома, Назар Иваныч, в новом длиннополом сюртуке и сапогах со скрипом, ходил по чистой комнате, напевал «Отверзи уста моя» и по временам подходил к стоящему в углу столу с закуской, предназначенной для угощения доктора, и поправлял на нем бутылки и рюмки. Старший женатый сын, наклонясь к уху своей разряженной миловидной жены, шептал:
– Слышь, Даша, коли доктор заставить тебя выставить язык, не упрямься и выстави. Также, ежели и мять какое место начнет – вытерпи.
– Мне стыдно, Николай Назарыч… – отвечала жена.
– Мало ли что стыдно! На то он доктор. Смотри, не сконфузь меня.
Дочь Коромыслова сидела у окна и гадала на картах: «Какой это из себя доктор: брюнет или блондин», а второй сын был на дворе и загонял с работником в сарай собаку, из предосторожности, чтобы она не укусила доктора. На окнах лежали младшие ребятишки и, в ожидании доктора, глядели на улицу. Аграфена Степановна возилась в кухне со стряпухой около печи и сажала туда начиненного кашей поросенка.
Четверть восьмого на улице задребезжали дрожки и остановились у ворот дома.
– Доктор приехал! Доктор! – закричали лежавшие на подоконниках ребятишки.
Все семейство встрепенулось и начало оправлять на себе платье. Старший сын бросился встречать доктора и наконец ввел его в комнаты.
Это был довольно мрачного вида госпитальный фельдшер, лет сорока, гладко бритый, с черными щетинистыми усами и бакенбардами и с нависшими бровями. Одет он был в щеголеватый форменный сюртук, брюки со штрипками и белые офицерские перчатки. В одной руке он держал кепи, в другой – ящик с набором хирургических инструментов.
– Извините, что опоздал немного, – проговорил он, раскланиваясь, входя в комнату и поставив на стол ящик с инструментами. – Все ли вы здоровы, Назар Иваныч? – приветствовал он хозяина и протянул ему руку.
– Ничего, скрипим, пока Бог грехи терпит, – отвечал хозяин и пригласил фельдшера садиться.
Тот сел и начал снимать перчатки.
– Сейчас с главным доктором на ампутации были. Ногу одному больному отпилили. Из пятого этажа выпал и переломил, – сказал он и бросил взгляд на присутствующих.
Хозяин покачал головой.
– Неужто уж без отпилки нельзя было?.. – спросил он.
– Нельзя, потому в двадцати трех местах перелом. Завтра и руку отпилим.
Присутствующие переглянулись.
– Водочки, с дорожки-то? – предложил хозяин.
– Потом-с. Мы без благовремения не употребляем. Сначала нужно дело сделать.
– А вот я сейчас жену позову, так уж всех вместе и осмотрите.
За Аграфеной Степановной был послан в кухню маленький сынишка. Пробегая по комнате, он тронул рукой стоящий на столе ящик.
– Тише, тише! Пожалуйста, тише с инструментами! – крикнул фельдшер.
– А что, нешто заряжено? – спросил Назар Иваныч.
– Не заряжено, но хрупки очень. Инструменты это… – пояснил фельдшер и, в удостоверение сказанного, а также и для пущей важности, открыл ящик и начал вынимать из него и раскладывать по столу пилы, ножи, зонды и прочие инструменты. Члены семейства поднялись с мест и издали робко начали рассматривать их.
Вскоре в комнату вошла Аграфена Степановна, кутаясь в ковровый платок.
– Здравствуйте, господин доктор! Пожалуйста, уж вы нас простыми средствами… – заговорила она, покосилась на инструменты и, глубоко вздохнув, села поодаль.
– Ну-с, кто же из вашего семейства болен? – обратился фельдшер к хозяину.
– Да пока все, слава богу, здоровы, а мы вас хотели попросить, не дадите ли какого снадобья против холеры, потому валит уж очень повсеместно. Тоже говорят, что вот и в пищу подсыпают, так нельзя ли и против подсыпки? Все под Богом ходим… В случае, ежели что… чего Боже избави, так чтобы под руками было…
Фельдшер сделал серьезное лицо, нахмурил брови и оттянул нижнюю губу. В таком виде он соображал несколько секунд и, наконец, спросил:
– Водку какой посудой покупаете?
– Четвертями, всегда четвертями, – отвечал хозяин.
– Ну, так теперь купите ведро, настойте его стручковым перцем и мятой и пейте, все без изъятия, по рюмке.
– А младенцев тоже поить? – задала вопрос Аграфена Степановна.
– Младенцам отпущайте по столовой ложке. Это ежедневное употребление, а на случай, ежели у кого заболит брюхо, я дам капли. Десяти рублей не пожалеете, так можно дать получше?
– Не пожалеем, не пожалеем, – заговорил хозяин.
– Ну, так завтра принесу вам целую бутылку, а теперь мне нужно будет всех вас исследовать и общупать, чтобы узнать ваше телосложение.
Женщины невольно попятились от него.
– Нельзя ли уж так как-нибудь, без щупки? – послышалось несколько голосов.
– Нельзя, нельзя! Иначе как же я узнаю, по скольку капель вам принимать следует? Почтеннейший Назар Иваныч, потрудитесь снять сюртук и жилет и лечь на диван на спину.
Отец семейства жалобно посмотрел на домашних и исполнил требуемое.
– Насчет ножей-то, батюшка, с ним поосторожнее. Не пырните как невзначай, – упрашивала фельдшера чуть не со слезами Аграфена Степановна.
– Будьте покойны, мы к этому привычны, да к тому же ножей и не потребуется, – отвечал фельдшер. – Прежде всего, позвольте ведро воды, умывальную чашку и полотенце, – обратился он к присутствующим.
Ведро, чашка и полотенце были принесены. Фельдшер засучил рукава сюртука, вымыл руки и, отерев их полотенцем, начал мять брюхо Назара Иваныча, поминутно спрашивая: «Больно? Не больно?» и т. д. Назар Иваныч кряхтел и изредка давал ответы вроде «Как будто что-то щемит» или «Словно вот что подтягивает». Окончив ощупывание, фельдшер вынул из ящика перкуторный молоток и принялся им стучать по груди пациента, по животу и даже по лбу. Истязание длилось минут десять. Присутствующее хранили гробовое молчание и ожидали себе той же участи. На сцену эту в полуотворенные двери смотрели работники и кухарка.
– Готово, – произнес, наконец, фельдшер и опять принялся мыть руки.
За отцом семейства на диван ложились старшие сыновья и, наконец, младшие ребятишки. Во время исследования ребятишки ревели, и их начали держать.
– Главное дело, соблюдайте, чтоб у них носы были мокрые… – сделал он наставление.
– А ежели высыхать будут?
– Тогда примачивать теплой водой.
Женщины окончательно воспротивились ощупыванию, и фельдшер удовольствовался осмотром их языков и носов, а также для чего-то смерил ниткой их шеи.
Наконец исследование кончилось, и пациенты начали ждать приговора. Фельдшер последний раз умыл руки и, немного подумав, произнес:
– Все ваше семейство телосложения здорового, а потому ежели у кого заболит брюхо или покажется тошнота, то принимайте эти капли через каждые два часа в рюмке воды и по стольку капель, кому сколько лет. Теперь насчет питья. Что вы обыкновенно пьете?
– Воду и квас.
– Так опустите в бочонок или кадку лошадиную подкову.
– А насчет еды?
– Все можно есть, кроме тухлятины. Я насчет еды не строг.
– А насчет бани?
– Чем чаще ходить будете, тем лучше.
– Говорят, дугой лошадиной натираться хорошо?
– Пустяки!..
Фельдшер начал убирать инструменты в ящик.
– А много этими инструментами я испотрошил народу! – сказал он. – А сколько рук и ног отпилил, так и счету нет!
– И вам не страшно было? – спросила хозяйская дочь.
– Мы уж привыкли. Нашему брату это все равно что стакан воды выпить. Вот в прошлом году нам с главным доктором досталась операция, так та была страшная. Змею у одного мастерового из живота вынимали. Вскрыли живот, а она на нас так и зашипела. Ну, мы ее сейчас обухом…
– Ай, страсти какие. Как же она туда залезла? – послышалось со всех сторон.
– Надо полагать, что мастеровой этот яйцо змеиное проглотил.
Хозяин пригласил фельдшера к закуске. Подали заливную рыбу и жареного поросенка. Вдруг фельдшер ударил себя по лбу.
– Куда вы воду дели, что я руки мыл? – спросил он.
– Вылили в помойну яму.
– То-то. Чтобы не попала лошадям, а то сейчас сдохнут. А полотенце, которым я руки вытирал, возьмите и сожгите.
– Водочки? – предложил хозяин.
Фельдшер не отказался. Выпив рюмок шесть, он окончательно заврался и стал рассказывать, что такое холера.
– Холера – это невидимые мухи. Они летают в воздухе и залетают в человека через все его поры. Залезши туда, они начинают мучить и производят рвоту. Мухи эти зеленого цвета с красными головками и на вкус отзываются медью.
– А говорят, подсыпают в пищу? – возразил хозяин.
– Пустяки. Подсыпка эта была в первую и во вторую холеру, а теперь не в моде. Теперь муха. И так эта муха живуща, что ежели ее в кипятке варить, то и то жива останется.
Закусив и выпив вволю, фельдшер начал прощаться. Хозяин вручил ему три рубля, но он потребовал еще пять на материал для капель.
– Ну, теперь на Васильевский остров к одному генералу поеду, – говорил он, покачиваясь, – зуб ему вырвать надо и живот поправить, так как он упал с лошади и стряхнул его.
Женская половина семейства Коромыслова высунулась из окон и смотрела, как фельдшер садился на извозчика. Он посмотрел вверх, сделал им ручкой и крикнул:
– Главное дело, наблюдайте, чтоб носы у ребят были мокрые.
– Будем, будем, – отвечали из окон.
Извозчик тронул лошадь.
Тяжкий грех
Рассказ
Мрачный, как туча, пришел часу во втором дня в свою лавку купец Логин Савельич Оглотков.
«Зверь зверем! Сейчас нас ругать будет!» – подумали про него приказчики, так как в этот день торговали плохо и в лавке, как на беду, не было в это время ни одного покупателя. Но хозяин молчал, сверх чаяния даже и в лавочную книгу не взглянул, а прямо направился в верхнюю лавку. «Или пьян, или какую-нибудь каверзу задумал сделать», – решили они про него и с недоумением прислушивались к его тяжеловесным шагам и глубоким вздохам, раздававшимся в верхней лавке.
Через четверть часа хозяин заглянул вниз и, обращаясь к «молодцам», сказал:
– Дошлите парнишку к соседу Степану Потапычу. Пусть сейчас ко мне придет. По очень-де нужному делу…
Приказчики ревностно встрепенулись и чуть не взашей погнали за соседом лавочного мальчика. Степан Потапыч не заставил себя долго ждать и через несколько минут уже подымался по лестнице в верхнюю лавку. Оглотков встретил его со скрещенными на груди руками и с поникшей головой.
– Степан Потапыч, друг ты мне или нет? – спросил он.
– Еще спрашивать! Что случилось? В чем дело? Только ежели насчет денег, так денег у меня нет, потому сейчас только по векселю три с половиной екатерины уплатил.
– Что деньги! Не в деньгах дело! Садись.
Купцы сели.
– С измалетства, еще, можно сказать, мальчишками, мы с тобой вместе росли, – начал Оглотков, – каверз друг другу не делали, издевки не творили… Так ведь?..
– Так! Это точно…
– Помнишь, когда ты банкрутиться задумал, так я и товар твой от кредиторов припрятал, а потом, когда дело на сделку пошло, все в целости возвратил и ни единой капли не стяжал. Помнишь?
– Помню и завсегда благодарю… Это точно, в несчастье помог. В чем же дело-то?
Оглотков развел руками и со вздохом произнес:
– А теперь, друг любезный, я сам впал в несчастие!..
– Это ничего. Коли с умом дело повести, так может и счастие выйти. Сколько должен…
– Друг, ты все насчет банкротства, но не в этом дело. У меня совсем другое несчастие. Помоги советом… Как тут быть? Ум хорошо, а два лучше… Ужасное несчастие! И не думал, и не гадал…
– Говори, говори!
– Так нельзя. Побожись прежде всего, что никому не скажешь… Потому тут позор. Узнают соседи – задразнят, и тогда проходу по рынку не будет.
– Ей-богу, никому не скажу…
– Перекрестись!
Степан Потапыч перекрестился и приготовился слушать.
– Приезжали тут как-то ко мне городовые покупатели… – начал было рассказ Оглотков, но тотчас же схватился за голову и воскликнул: – Нет, не могу, не могу! Взгляни на образ и скажи: «Будь я анафема, проклят, коли ежели скажу!..»
– Да, может быть, ты человека убил?
– Что ты! Что ты! Заверяю тебя, что, кроме моего позора, ни о чем не услышишь.
– Коли так, изволь: «Будь я анафема, проклят!» – пробормотал Степан Потапыч и взглянул на образ.
Оглотков обнял его и поцеловал.
– Теперь вижу, что ты мне друг, – сказал он. – Пойдем в трактир, там я тебе и расскажу, потому здесь нельзя: услышат молодцы, и тогда все пропало!
Приятели отправились в трактир. По дороге Степан Потапыч несколько раз приставал к Оглоткову насчет несчастия, но тот упорно молчал. Когда же они пришли и, засев в отдельную каморку, спросили себе чаю, Оглотков наклонился к самому уху Степана Потапыча и слезливо произнес:
– Сегодня мировой судья приговорил меня к семидневному содержанию при полиции.
– Врешь? За что? – воскликнул Степан Потапыч.
– За избиение и искровенение немца!
– Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Поздравляю! Ручку! Литки с тебя! Ставь графинчик!
– Степан Потапыч, да разве я за этим пригласил тебя? Клялся, божился, а теперь издеваться!
– Молчу, молчу! Говори…
Оглотков глубоко вздохнул.
– И ведь немец-то какой! – сказал он. – Самый что ни на есть ледящий и даже внимания не стоящий!
– Ледящий там или не ледящий, а говори по порядку, как дело-то было… – торопил его Степан Потапыч.
Оглотков махнул рукой.
– Да что, и говорить-то нечего! Пошел с городовыми покупателями в трактир запивать магарычи, а после очутились в Орфеуме. Сидим в беседке да попиваем… Ну, известно, выпивши… Вдруг откуда ни возьмись немец: подошел к нашему столу, по-немецки болтает и ну на нас смеяться. Мы ему ферфлюхтера послали, а он ругаться… Взорвало меня, знаешь, вскочил я с места да как звездану ему в ухо да в подмикитки, подмикитки! Товарищи, вместо того чтобы меня удерживать, фору кричать начали, а я рассвирепел да и искровенил его. Ну, известное дело, сейчас полиция, протокол… Пятьдесят рублей немецкой образине давали, чтоб дело покончить, – не взял! И вот сегодня – на семь дней при полиции… – закончил Оглотков и поник головой.
– Дело скверное, – произнес Степан Потапыч. – Так как же, садиться надо? Апелляцию в сторону? – спросил он.
– Какая тут апелляция! Дровокат говорит, что за этот приговор с руками ухватиться следует. Еще милость божия, что у мирового никого из моих знакомых не было, а то бы прошла молва, и тогда просто хоть в гроб ложись!
– Погоди, может быть, еще в газетах пропечатают.
Оглотков всплеснул руками.
– О боже мой! боже мой! За что такое несчастие! – воскликнул он. – Степан Потапыч! Друг! Я пригласил тебя для того, чтобы ты утешил меня, а ты дразнишь! Да и что тут интересного? Экая важность, что человек искровенил немца! А ты вот лучше измысли, как мне быть, чтобы об этом деле не узнали ни домашние, ни знакомые: потому завтра мне садиться следует. Узнает жена, молодцы, пойдет молва, и тогда по рынку проходу не будет… задразнят. Друг, посоветуй, что делать?
– Дело обширное. Коли так, требуй графинчик! Выпьем и тогда сообразим.
Через четверть часа купцы допивали графинчик и закусывали осетриной.
– Скажи домашним, что в Москву по делам едешь, а сам в часть садись. Это самое лучшее будет, – наставлял Степан Потапыч.
Оглотков развел руками.
– Нельзя, – проговорил он. – Во-первых, только три недели тому назад был в этой самой Москве, а во-вторых, там у меня женины родственники. Быть в Москве и не зайти к ним невозможно, а как я из части-то?..
– Ну, куда-нибудь в другой город…
– Тоже нельзя: приказчики догадаются, потому очень хорошо знают, что у меня по городам никаких дел нет. Да к тому же они и повестку от мирового видели, где явственно сказано: «По делу об оскорблении действием…» О господи, господи! Сказать разве, что у меня начинается оспа и отправиться будто бы в больницу…
– А навещать придут?
– Запретить. Объявить, что у меня самая злющая черная оспа. Или не сказать ли лучше, что у меня чума?..
– Посылки со съедобным посылать начнут. Да и что за радость болезнь на себя накликать? Чума! Разве ты лошадь?
– Что же делать-то? Что же делать-то? Степан Потапыч, решай! Ведь завтра садиться надо! – воскликнул Оглотков и чуть не плакал.
Степан Потапыч щипал бороду, чесал затылок и соображал. Вдруг лицо его просияло.
– Нашел! – проговорил он, ударяя себя рукой по лбу. – Нынче у нас Великий пост – прекрасно! Ты не говел еще?
– Нет. На Страстной неделе хотел…
– А коли не говел, так скажи всем, что едешь говеть в Новгород, в монастырь, и тогда преспокойно садись в часть.
– Вот так голова с мозгами! Друг, ты меня воскресил из мертвых! – воскликнул Оглотков и бросился на шею Степану Потапычу.
* * *
В тот же день вечером Логин Савельич Оглотков сидел в кругу своего семейства за чайным столом. Он был в халате, в туфлях, по-прежнему мрачен и тяжело вздыхал. Жена заваривала чай.
– Будешь перед чаем водку-то пить? – спросила она.
– С сегодняшнего дня ни водки, ни рыбы, ни даже и елея не вкушаю, – отвечал он. – Баста! Пора и о душе подумать. С завтрого по всей строгости говеть начинаю…
– С завтра? – удивилась жена. – Так что ж, тогда уж и нам говеть – по крайности все вкупе, за один скрип… Только я не знаю, как мы с Варенькиным платьем успеем, потому новое шить надо?..
– Это уж как хотите, это уж ваше дело, – говорил Логин Савельич. – Сходите завтра в лавку и выберите там, а приказчики отрежут. С завтрашнего дня я ни до чего житейского не касаюсь и еду в Новгород, в монастырь. Там и отговею…
– Как в Новгород? А мы-то как же?
– Вы здесь сподобитесь.
– Ну вот! Что на тебя за монастыри! – с неудовольствием сказала жена. – Будто не все равно, где не говеть, да говеть. Да и что за радость духовников своих менять? Духовников менять – все одно, что по разным верам толкаться…
Логин Савельич пристально посмотрел на нее и дрожащим голосом заговорил:
– Аграфена Гавриловна, ты ли это говоришь? От тебя ли это я слышу? Ты всегда была женщина богобоязненная и вдруг теперь кощунствуешь. Знаешь ли, что через эти самые слова ты сбираешь горящие уголья на свою голову? Разве можно так о святых обителях относиться?
– Да я что же?.. Я ничего… – начала было жена, но муж перебил ее и продолжал:
– Нет, постой, погоди. В монастыре ли говеть или в мире? Здесь соблазн, от слова лихого не убережешься, а там… там другое дело… там благодать! Там схимонах за каждый грех тебя отдельно отчитывает… по требнику… Видишь перед собой постный и согбенный лик и умиляешься, возносишься горе… О господи, господи! Муж за собой чувствует тяжкий грех, хочет замолить его, покаяться, – так и тут ему жена помехой!.. Правда есть сказано: неженивые да не женитеся.
– Логин Савельич, да когда же я?.. – слезливо воскликнула жена.
– Бог с тобой, Аграфена Гавриловна, бог с тобой! Муж тяжкий грех на душе чувствует, хочет покаяться, а она – на-поди! Да разве можно здесь тяжкий грех замолить? Я тебя спрашиваю: можно? К примеру, хочешь просвирку за свое здравие съесть, так тут перемешают ее, и ешь ты за чье-нибудь чужое спасенье, а не за свое… А там, по крайности, на нижней корке на просвире прописано и твое имя, и твоих чадов и домочадцев… Там до небес сердцем-то возносишься, горячей пищи не вкушаешь, плоть свою умерщвляешь, а здесь у тебя трактир под рукой… Господи боже мой! – и это жена, жена богобоязненная! – закончил Логин Савельич и умолк.
Аграфена Гавриловна окончательно расчувствовалась от слов своего мужа и даже прослезилась. Видя все это, маленький сынишка Оглоткова фыркнул и уткнулся носом в рукав своей рубахи.
– Вон, постреленок! Ты чего смеешься? – ни с того ни с сего крикнул на него Логин Савельич, но тотчас же спохватился и в прежнем тоне продолжал: – Ты там, как хочешь, думай, а я должен замолить свой тяжкий грех и потому поеду в Новгород. Мне уж и так в нощи видение было…
– Да поезжай, голубчик, Логин Савельич! Поезжай! Кто же тебя удерживает? – всхлипывала жена.
– Явился старец, сединами убеленный, и изрек: «Логин, возьми одр твой…»
– Не рассказывай, голубчик, не терзай моего сердца… – упрашивала его жена, но муж продолжал:
– Наутро я и свечи ставил, и молебен служил, но тяжкий грех все-таки гнетет.
– С Богом, голубчик, с Богом! Варенька вот пелену вышивать кончила, так и ее свези. Пусть в обители хранится… Хорошая гарусная пелена… – бормотала Аграфена Гавриловна и набожно крестилась.
Через десять минут семейство успокоилось и мирно пило чай. Аграфена Гавриловна лизала с ложечки мед и припоминала знакомых, кого помянуть за здравие, кого за упокой.
– Я полагаю, все это можно оставить и втуне… – говорил Логин Савельич. – Потому где мне обо всех упомнить? Мне впору только о своем грехе думать… потому там ведь не так, как здесь. Там утреннее бдение, часы, литургия, вечернее бдение, всенощное, да еще правила разные… Ну-ка, учти!..
– Все-таки Федора-то Леонтьича с семейством следовало бы помянуть… Отец ведь крестный Ванечкин…
– Ну его к богу! Шестой месяц семьдесят рублей должен и не отдает, а на три дня брал.
– А сестру Софью Савельевну?
– Эту бы и можно, да женщина-то она неосновательная! Неделю с ней в мире, а неделю в ссоре, – так что за радость?..
Спустя четверть часа семейство Оглотковых перебралось из столовой в спальную. На столе лежала пелена и бисерный колпачок под паникадило. Аграфена Гавриловна сбирала мужа в дорогу и доставала из комода белье.
– К причастному-то дню я положу тебе сорочку с вышитой грудью… – говорила она.
– Зачем? Ничего лишнего не надо! – крикнул Логин Савельич. – Коли человек кается, так должен быть в смирении, а не о наряде думать. Положи пару белья, полотенце, платки, а новый сюртук я на себя надену.
– Пирожков с грибками не испечь ли, пока кухарка-то спать не легла?
– Говорят тебе, что не токмо что масла, а и горячей пищи вкушать не буду!
Часу в двенадцатом Оглотков тяжело вздохнул и отправился в молодцовую. Молодцы повскакали с мест и начали запахивать халаты.
– Завтра я в лавку не приду, – сказал он им. – Я еду на неделю в новгородский монастырь и там говеть буду. Кузьма Федоров над вами старший остается. Слушаться его, не пьянствовать, со двора не ходить и по трактирам не шляться… Поняли?
– Поняли-с… – отвечали молодцы.
– А теперь простите меня, Христа ради, в чем согрешил перед вами или обидел вас…
Логин Савельич поклонился до земли.
– И нас простите… – заговорили молодцы и также поклонились.
Спустя еще полчаса Логин Савельич хотел уже ложиться спать, как вдруг за дверями спальной послышался чей-то кашель.
– Кто там? Войди! – крикнул он.
– Это я-с… – отвечал старший приказчик Кузьма Федоров и вошел в спальную. – Я к вам, Логин Савельич, можно сказать, с почтительною просьбою. У меня вот тут письмо к дяденьке и пять рублев, так как они, значит, в Новгороде проживают по своей старости, так ежели вам не в труд… Сделайте милость… свезите…
Оглоткова даже в жар кинуло.
– Да что я вам, почтальон достался или рассыльный? – крикнул он во все горло.
Приказчик юркнул за дверь.
– Ну, чего ты сердишься? Ложись спать и спи спокойно! – утешала его жена. – Завтра пораньше встать да послать за каретой… Мы тебя на железную-то дорогу всем семейством проводим…
– Господи! Только этого недоставало! – всплеснул руками Оглотков. – Да что я, на три года в Китай еду, что ли? Карету! Да что у нас, деньги-то бешеные? Это наказание!
– Молчу, молчу, не сердись только!
– Да нельзя не сердиться, матушка! Ты ведь сама знаешь, что дальние проводы – лишние слезы, а между тем провожать хочешь. Что же это и за говение для меня будет, коли ежели без лишений? Ведь я толком тебе говорил, что у меня тяжкий грех на душе и его как следует замолить надо.
– Замаливай, Господь с тобой! Я за твое здоровие калачиков по тюрьмам разнесу… Пусть молятся за тебя заключенные-то…
Жена не посмела его больше тревожить, укрылась халатом и умолкла.
* * *
Прошло уже несколько дней, как купец Оглотков сидел в части. Однажды поутру он вышел из арестантской комнаты и шел по коридору в сопровождении солдата, как вдруг сзади себя услышал следующий женский голос:
– Служивый, погоди маленько! Дай заключенному калачика подать!
Оглотков обернулся и остолбенел. Перед ним стояла жена и держала в руках калач. Сзади нее виднелся старший приказчик Кузьма Федоров с корзинкою, наполненною пирогами и сайками.
– Вы зачем здесь? – крикнул Оглотков после некоторого молчания и ринулся на них с кулаками.
Приказчик в недоумении попятился, а Аграфена Гавриловна уронила из рук калач и, как сноп, опустилась на близстоящую скамейку.
– Пожалуйте, господин купец, здесь драться не приказано. Идите, куда вам следовает, – проговорил солдат и схватил Оглоткова за рукав.
Говельщик
С натуры
Великий пост. Первый час дня. В трактир входит пожилой купец и садится за стол около буфета.
– Давненько у нас бывать не изволили, Родивон Захарыч… – приветствует его из-за стойки буфетчик.
– По нынешним дням нашему брату и совсем бы по трактирам-то баловать не следовало, – отвечал купец. – Собери-ка чайку поскромнее.
– Уж не говеть ли задумали?
– Говею. Грешим, грешим, так тоже надо и о душе подумать.
– Это точно-с.
Купец вздыхает. Служитель подает чай.
– Это что же такое? – спрашивает купец, указывая на блюдечко с сахаром.
– Сахар-с… – отвечает служитель и пятится.
– То-то сахар! Ты меня за кого считаешь? За татарина, что ли? Убери блюдечко и принеси медку или изюмцу…
– А ведь это, Родивон Захарыч, я полагаю, одна прокламация только, что вот, говорят, будто этот самый сахар бычачьей кровью очищается. Потому учтите, сколько бы этой крови потребовалось, – замечает буфетчик.
– Прокламация там или не прокламация, а только коли мы истинные христиане, так себя оберегать должны, – отвечает купец и начинает пить чай.
Молчание. В комнату входит тощий купец.
– Родивону Захарычу почтение! – выкрикивает он тонкой фистулой, подает руку и садится против толстого купца. – Чайком балуешься?
– Да… Говею я, был у обедни в Казанской, а вот теперь и зашел. «Да исправится молитва моя» пели… То есть, господи, кажется, целый день стоял бы да слушал! Просто на небеса возносишься…
– А я так летом говел. Признаться сказать, тогда, перед Успенским постом, сделал с кредиторами сделку по двугривенному за рубль, захватил жену и отправился на Коневец. Монашки там маленькие. Прелесть! Даже в слезы введут. В те поры мы не токмо что масла, а даже горячей пищи не вкушали… Да, хорошо, коли кто сподобится! – со вздохом заканчивает тощий купец, умолкает, барабанит по столу пальцами и спрашивает: – А что, не толкнуть ли нам по рюмочке?
Толстый купец плюет.
– Никанор Семеныч, да ты в уме? – спрашивает он. – Человек говеет, а он – водку!.. Пей сам, коли хочешь.
– Я-то выпью…
Тощий купец подходит к буфету, пьет и, возвратясь на свое место, говорит:
– Водка… То есть, ежели сообразить: что в ней скоромного? Гонится она из нашего русского хлеба, монашествующим дозволяется… Пустяки! Чай-то, пожалуй, хуже, потому из китайской земли идет, а китаец его всякой скоромью опрыскивать может… Дай-ка графинчик! – обращается он к буфетчику.
На столе появляется графинчик. Толстый купец вертит его в разные стороны, рассматривает грань и, наконец, вынимает из него пробку.
– Что, или выпить хочешь?
– Нет, что ты! Дивлюсь я, как это нынче пробки эти самые гранят! Чудо! А что, кстати, почем нынче судачина мороженая?
– В воскресенье я по тринадцати покупал.
– Так. О господи, господи! – вздыхает толстый купец, лижет мед, пьет чай с блюдечка и через несколько времени говорит: – А ведь и водка, коли ежели по немощи, болящему, значит, так она во всякое время разрешается, потому лекарствие.
– Всякое былие на потребу, всякое былие Бог сотворил, – отвечает тощий, глотает вторую рюмку и тыкает вилкой в груздь.
Молчание. Толстый купец вздыхает и потирает живот.
– С утра вот сегодня нутро пучит, – говорит он. – Даве в церкви так и режет, пришел в трактир – поотлегло, а теперь вот опять…
– Простуда… Сходи в баню да водкой с солью… да внутрь стаканчик с перечком… Бог простит.
– То-то, думаю… Баней-то мы, признаться, вчера очистились, а вот внутрь разве?.. На духу покаюсь. Ах! Как сегодня отец Петр возглашал: «Господи Владыко живота моего»… Умиление!.. Пришли-ка графинчик с бальзамчиком!
– А на закуску семушки?.. – откликается буфетчик.
– Чудак! Человек говеет, а он рыбой потчует! Пришли сухариков…
На столе стоит графинчик с «бальзамчиком».
Толстый купец выпил и говорит:
– Рюмки-то малы. С одной не разогреть.
– А ты садани вторую… Даже и в монастырском уставе говорится: стаканчик. Мне монах с Афонской горы сказывал… ей-богу!
– Зачем стаканчик, мы лучше рюмками наверстаем… Закусить вот разве? Андроныч, – обращается толстый купец к буфетчику, – закажи-ка два пирожка с грибами да отмахни на двоих капустки кисленькой! И масла-то, по-настоящему, вкушать не следовало бы… – со вздохом заканчивает он.
– С благополучным говением! Желаю сподобиться до конца! – возглашает тощий купец и протягивает рюмку.
– О господи, что-то нам на том свете будет!.. – чокается толстый.
Через час купцы с раскрасневшимися лицами сидят уже в отдельной комнате. На столе стоят тарелки с объедками пирогов, осетрины и четыре опорожненных графинчика. На полу валяются рачьи головы.
– С утра обозлили, а то нешто бы я стал пить? – говорит толстый купец. – В эдакие дни и то обозлили. Приказчик в деревню едет – деньги подай, жена платье к причастью… дочке шляпку… Тьфу ты! Даже выругался! Смирение нужно, а тут ругаешься.
– В мире жить – мирское творить! – утешает его тощий. – Что жмешься? Или все еще пучит? – спрашивает он.
– Пучит не пучит, а словно вот что вертит тут…
– Сем-ка мы сейчас бутылочку лафитцу потребуем. Красное вино хорошо; оно сейчас свяжет.
– А и то дело! Вали!
Бутылка лафиту опорожнена. Толстый купец встает с места и слегка заплетающимся языком говорит:
– Пора! Сначала в лавку зайду, а там и к вечерне…
– Полно, посиди! – удерживает тощий. – Для чего в лавку идти? Услышат приказчики, что от тебя водкой пахнет, и сейчас осудят. И себе нехорошо, и их в соблазн введешь. Садись! А мы лучше вторую сулеечку выпьем. Красное вино – вино церковное. Его сколько хочешь пей – греха нет!
– Ах ты, дьявол, искуситель! – восклицает толстый и, покачнувшись, плюхается на стул.
Часы показывают пять. Тощий купец сбирается уходить; толстый, в свою очередь, удерживает его.
– Нельзя, – отвечает тощий. – В Екатерингоф на лесной двор ехать надо. У меня и конь у подъезда. Нужно к завтрему триста штук тесу да шестьдесят двухдюймовых досок.
– Успеешь! Досидим до всенощного бдения. Отсюда я прямо ко всенощной, потому сказано: «Иже и в шестой час»…
– Нельзя. Гуляй, девушка, гуляй, а дела не забывай! Молодец! Сколько с нас?
– Верно! Коли так, возьми и меня с собой! По крайности, я хоть проветрюсь маленько.
– Аминь! Едем!
Через час купцы едут по Фонтанке по направлению к Екатерингофу. На воздухе их уже значительно развезло.
– Мишка! Дуй белку в хвост и в гриву! – кричит кучеру тощий купец.
– Боже, очисти мя грешного! – вздыхает толстый.
– Что? Аль опять нутро подводит?
– Щемит!
– Мишка! Держи налево около винной аптеки!
Семь часов. Стемнело. Купцы выходят из погребка, покачиваясь.
– Не токмо что ко всенощной, а теперь и к запору лавки опоздал, – говорит толстый купец, садясь в сани. – А все ты со своим соблазном…
– Мишка! К Евдокиму Ильичу на лесной двор! – командует тощий купец.
– Да уж теперь заперто, Никанор Семеныч!
– Коли так, жарь к вокзалу!
Через десять минут купцы входят в вокзал.
– Ах ты, господи! – вздыхает толстый купец. – И не думал, и не гадал, что на эдакое торжище попаду! Тут и тридцатью поклонами не отмолишь. Ну, Никанор Семеныч, ты там как хочешь, а в зало, где это самое пение происходит, я ни за что не пойду.
– Нам и в отдельной комнате споют.
– Боже мой! Боже мой!
Часа через два купцы, как мухи, наевшиеся мухомору, бродят по буфетной комнате.
– Принимаешь на себя весь мой грех? – спрашивает толстый у тощего.
– Все до капельки принимаю.
– Врешь?!
– С места не сойти!
– Коли так, значит, друг!
Купцы целуются. Мимо них проходят две девушки.
– Охота это кавалеру с кавалером целоваться! – говорит одна из них и лукаво улыбается.
Толстый купец скашивает глаза.
– Какую ты имеешь праву кавалерами нас обзывать? – огрызается он.
– Ну, господа купцы, коли так…
– То-то. Почет, брат, нам с тобой, Никаноша! – восклицает он.
– Хоть бы холодненьким угостили за почет-то…
– Вчера бы пришла. Нешто по эдаким дням пьют шипучку? Тут дни покаяния, а она на-поди!
– Верно, на ярмарке прогорели, так оттого и каетесь?
– Что? – восклицает толстый купец и вытаскивает из кармана бумажник. – А это видели, чем набито? Ну, теперь садись и требуй три бутылки белоголовки!
– В отдельную комнату пожалуйте, ваше степенство. Там будет много сподручнее! – предлагает лакей.
– Веди! Да захвати с собой и вазу с апельсинами для барышень!
– Загуляла ты, ежова голова! – вскрикивает тощий купец и следует за товарищем.
Второй час ночи. Толстого купца лакей сводит с лестницы. Тощий кой-как следует сзади. У подъезда стоит кучер.
– Ах, грехи! Хоть бы к заутрени-то сподобиться поспеть, – коснейшим языком бормочет толстый купец и лезет в сани. – Никаша, поспеем? – спрашиваете он товарища.
В ответ на это тот только икает.
– Вези да оглядывайся! – говорит кучеру лакей. – Грузны очень. Долго ли до греха!
– Не впервой! Сначала хозяина отвезу, а потом и гостя домой предоставим, – отвечает кучер.
Через час кучер, сидя рядом с толстым купцом и придерживая его рукой, возит его по Ямской.
– Ваше степенство, не спите! Указывайте, где же вы живете? – спрашивает он купца.
– Прямо!
Сани останавливаются у ворот. На скамейке дремлет дворник.
– Дворник! – кричит кучер. – Иди посмотри, не ваш ли это купец?
Дворник подходит к саням, заглядывает купцу в лицо и говорит:
– Не наш. У нас много купцов живет, а это не наш.
– Да может, новый какой переехал?
– Нет, у нас жильцы подолгу живут. Я всех знаю…
– Ах ты, господи! Вот наказание-то! К шестым воротам подвожу! – восклицает кучер. – Ваше степенство, откликнись! Где живешь?
– Прямо!
– Вот только от него и слышишь!
– А ты толкнись в Семихатов дом, – замечает дворник. – Вот большой-то, каменный. Там купцов, что блох…
Наконец семихатовский дворник признает толстого купца за своего жильца, берет его под руку и ведет в квартиру. Двери отворяет жена купца. Из комнат в прихожую выглядывают чада и домочадцы.
– Ну, говельщик, нечего сказать! – всплескивает она руками. – Бесстыдник ты, бесстыдник!
– Смирение! Смирение! Не по нынешним дням… грех!.. – бормочет купец.
Дворник чешет затылок и говорит:
– На чаек бы с вашей милости, потому эдакую ношу и в третий этаж!..
Первый день Пасхи
Картинка
Первый день Пасхи. Два часа дня. В церквах звонят в колокола. В зале купца Лазаря Антоныча Загвоздкина стоит накрытый стол с закуской в виде неизбежного окорока ветчины, кулича, пасхи, икры, сыру и целой батареи бутылок и графинов. Тут же виднеется нога телячья и баран, сделанный из масла, с красным флагом во рту. На стульях и креслах сидят жена Загвоздкина, пожилая женщина в ковровом платке, и две дочери-погодки, лет двадцати. Они ожидают гостей, приходящих с поздравлением. Дочери смотрят в окно.
– В каких-нибудь пять минут четырнадцать офицеров мимо проехало, – говорит, слегка позевывая, старшая из них, Серафимочка. – Ежели завтра погода будет хорошая, так пойду в фотографию, карточки с себя сниму.
– На что тебе? Ведь перед Новым годом снималась, – возражает мать. – Да и кому давать?
– Митрофану Захарычу. Да и монах с подворья просил.
– Сторожа из рынка пришли! С праздником поздравляют, – докладывает лавочный мальчик в хозяйском сюртуке с обрезанными фалдами и рукавами – подарок на Пасху.
– Сашенька, возьми два яйца, да вот тебе рубль… Поди похристосоваться с ними! – обращается мать к младшей дочери.
– Ну вот! Пусть Серафимочка идет! Я уж и так давеча с туляковскими парильщиками все губы себе отшлепала.
– А я с дворниками христосовалась, с водовозами, даже с трубочистом, – отзывается Серафимочка.
– Дуры эдакие! Везде сама мать должна… Никакой подмоги… Небось, ужо придут певчие, так к тем сами на шею броситесь.
– Как же, велик сюрприз с певчими целоваться, коли у них из пропасти, как из кабака!.. От вас только комплименты и слышишь. Вы на другой манер и не умеете, – отвечают дочери.
Мать тяжело поднимается с места и уходит к сторожам. Через несколько времени она возвращается и говорит:
– У одного сторожа бородавка какая-то на носу. Уж не оспа ли грехом?
Раздается звонок, и в залу входит пожилой гость. Он в сюртуке и с гладко выбритым подбородком. Шея его до того туго обвязана черной косынкой, что лицо налилось кровью.
– Христос воскрес! – произносит он, звонко целуется с хозяевами и садится. – Где изволили у заутрени быть?
– У Владимирской, да тесно очень, – отвечает мать семейства. – Одной даме даже весь шиньон спалили. Закусить не прикажете ли? Ветчинки…
– Ветчинки-то уж бог с ней! В шести местах ел; а я выпью рюмку водки да икоркой… Почем икру-то покупали?
– Эта икра от бабы. Баба-селедочница нам носит. По рублю… Ветчину-то боятся нынче есть. Говорят, нечисть какая-то в ней заводится. А без ветчины для гостей нельзя…
– Коли с молитвой, так ничего… А славная икра! Прощенья просим-с. Лазарю Антонычу поклон.
– А на дорожку рюмочку?..
Гость выпивает «на дорожку» и уходит. Раздается опять звонок, и в зале появляется другой посетитель. Он в новой сибирке и в сапогах со скрипом. Снова «Христос воскрес», снова звонкое целование.
– Уж извините, что без яиц… – говорит он. – Сами знаете, туда-сюда… того и гляди, раздавишь… А Лазарь Антоныч?
– Да вот тоже по знакомым Христа славить поехал. Ну и к начальству… Закусить пожалуйте… Ветчинки…
– Ветчинки-то уж трафилось… А я вот водочки да хлебцем с хренком… Где заутреню изволили стоять?
– У Владимирской… Да душно очень… Одной даме… Вы уж большую рюмку-то наливайте… человек семейный…
– А я лучше две средние… Нет, гуси-то нынче на Сенной каковы! Полтора рубля. Хотел молодцам борова купить, да не нашел мороженых. Нынче в первый день Пасхи хорошо: нынче пьяных и в часть не берут.
Гость глотает водку, садится около закуски и молча вздыхает. Через пять минут он сменяется молодым гостем во фраке и в зеленых перчатках. Опять христосованье… Гость останавливается перед девицами.
– Мы с молодыми мужчинами не целуемся… – застенчиво бормочут они и слегка пятятся.
– Невозможно без этого-с… Даже и в графских домах, и там…
– Следует, следует, – замечает мать, – потому такой день.
– Ну, смотрите, только по одному разу.
Девушки протягивают губы. Гость целуется, садится и говорит:
– Где изволили у заутрени быть?
– У Владимирской; только уж очень много мастеровых в тулупах, – отвечает Серафимочка. – Страсть, как тесно! Одной даме весь бархатный казак воском укапали.
– Хереску рюмочку, да вот ветчинки… – предлагает мать.
– Не могу-с. В трех местах ветчиной закусывал. И хересу не могу. Сами знаете, там-сям – пожалуй, и в знакомых перепутаешься. А мы так у Иоанна Предтечи за решеткой стояли. Чудесно! На вербах изволили гулять?
– Гуляли, да у маменьки из кармана воры кошелек с шестью рублями вытащили.
– Это к счастью-с. Однако до свиданья… Еще в три места надо.
– Да выпили бы что-нибудь… Или вот ветчинки… – пристает мать семейства, но гость снова отказывается и исчезает.
Три часа. Раздается пронзительный звонок, и в комнату входит сам глава семейства – Лазарь Антоныч. Он в мундире со шпагой, с двумя медалями на шее, с треуголкой в руках и слегка выпивши. Лицо его сияет.
– Отзвонил и с колокольни долой! – восклицает он. – А тяжело в мундире-то с непривычки!
– Так снимай скорей да надевай сертук! – замечает жена.
– Нет уж, зачем же? По нынешнему торжественному дню мы в нем до заката солнца пощеголяем, потому нельзя – привыкать надо. Почем знать, может, когда-нибудь и военный наденем, – шутит муж. – Теперь, брат, никто от красной шапки не отрекайся! Шабаш!
– Господи, помилуй нас, грешных! – крестится жена. – Вот уж и видно, что наугощался! Что ты говоришь-то? Опомнись. Нешто можно на себя эдакую невзгоду пророчить?
– От слова ничего не сделается, а только ежели что насчет мундира, так военный будет много основательнее, потому в этом только потуда и щеголяешь, покуда деньги в приют вносишь, а не заплатил, и сейчас тебя верхним концом да вниз. – Загвоздкин останавливается перед зеркалом, подбоченивается и гладит бороду. – А все-таки нам почет и большой почет, потому этому самому мундиру только трех классов до генеральского не хватает! – продолжает он. – Посмотрела бы ты, как со мной сегодня швейцары… Только и слышишь: «Ваше высокородие!» Самого генерала на лестнице встретил…
– И христосовался?
– Троекратно сподобился. И не узнал меня. Идет по лестнице, а я навстречу. «Христос воскрес, – говорю, – ваше превосходительство!» «А, это ты, – говорит, – Иванов?» «Никак нет-с, – говорю, – ваше превосходительство, я купец Загвоздкин». Ну и похристосовались. Щеки такие душистые! С самим генералом – понимаешь ты?
– Священники, Лазарь Антоныч! – докладывает мальчик.
– Дома, дома! Проси… – суетится хозяин. – Ах ты, господи! Есть ли у меня еще десятирублевая бумажка для них?
Между тем священники, держа левые руки на желудках, входят уже в комнату. Сзади следует дьякон, откашливаясь басом и расправляя руками волосы на голове, а за дьяконом вваливаются дьячки. Начинается пение. В дверях показываются «молодцы» и начинают «подтягивать». После общего христосованья духовенство присаживается. Идет разговор о заутрени. Дьячки тяготеют к закуске.
– Отец протоиерей, винца пожалуйте, ветчинки… – предлагает хозяйка.
– Ни боже мой! Былое дело! Сами знаете, везде клюешь. Я не запомню, когда я и обедал в этот день.
– Нельзя, нельзя… – говорит хозяин и тянет к закуске.
Священники жестом показывают, что они сыты по горло. Дьякон меланхолически выпивает стакан хересу. Хозяин подходит к дьячкам.
– Ну а вы, виночерпии? Валите! Чего зеваете-то? Вот и я с вами.
– Мы-то можем, – отвечают дьячки и торопливо глотают водку.
Протоиерей косится на них и говорит:
– А у нас сегодня во время литургии воробей в купол влетел.
– Это к радости, – замечает хозяйка. – Батюшка, да вы бы хоть кусочек ветчинки…
– Три дня, отец протоиерей, славить-то ходите? – спрашивает у священника хозяин.
– Три дня… ходим и на четвертый, но уже вразброд и по низам. Мелочная лавка идет, кислощейное заведение, табашная и все эдакое… Однако пора!
Священники начинают уходить. В руках протоиерея шуршит красненькая бумажка и опускается в широкий карман. Дьячки пропускают священников вперед и наскоро глотают по рюмке хересу.
– Ну, слава богу, это уж, кажется, последние! – говорит хозяин.
– С подворья еще не были да с Васильевского острова, – отвечает жена.
– Певчие! Певчие! В трех каретах подъехали! – восклицают глядевшие в окошко дочери и обтирают губы.
Топая сапогами, сморкаясь и кашляя, в дверях показываются певчие в кафтанах и строятся.
– Лазарю Антонычу! – говорит регент, подходя к хозяину. – Какую, «Ангел вопияше» прикажете?
– А ту, что сначала на дискантах, а потом басы, знаешь, эдак врассыпную.
Регент кусает камертон и задает тон.
– Ванюшка! Выплюнь, шельмец, изо рта булку! Разве можно в одно время и есть, и петь! – кричит он на дисканта и тыкает его в щеку камертоном.
Дискант выплевывает еду в руку. Начинается пение. Басы, чтоб угодить хозяину, ревут так, что даже стекла дрожат. Кончили. Общее христосованье. Раздается такое чмоканье, что, будь тут лошади, наверное, тронулись бы с места, приняв это за понукание.
– Господа певчие! Выпить да закусить пожалуйте! Ветчинки вот… – предлагает хозяйка.
Отказа не последует. Певчие, как саранча, накидываются на водку, на вино и даже на ветчину.
– Мальчишки, легче! На еду не очень накидываться! – кричит регент. – Заболите завтра, так от вас убыток. Нам еще в шестнадцать мест визиты…
– Вытекло! Скудель пуста бо есть! – возглашает какой-то бас и поднимает пустой графин.
– Дольем! Дольем! – откликается хозяин. – Настасья! Сашенька! Тащите сюда ведерную-то…
– Хозяин, с вашей милостью! Без хозяина нельзя! Укажите путь скользкий!
– Я с господином регентом… А впрочем, пожалуй… Серафимочка, вели откупорить пару хересу!
К Серафимочке между тем подсел белокурый тенор и, прожевывая кусок, читает какие-то чувствительные стихи.
– Мне за голос дьяконицкое место обещали, – говорит он ей, – но я намерен отказаться, так как думаю на светской барышне жениться и свой хор воздвигнуть.
– Вы и на гитаре играете?
– И на гитаре, и на скрипке…
Закуска раздрызгана. На столе стоит четвертная бутыль. Скатерть залита. На полу пятна. Кто-то из певчих икает. Мальчишки щиплют друг друга. Регент дает им щелчки.
– Хороший бас ежели… – рассказывает молодцу певчий, – так тот крикнет в рюмку, и рюмка пополам…
– Господа певчие, сделайте милость, пропойте светскую, веселенькую!.. – упрашивает хозяин и уже слегка пошатывается…
– Ветчинки-то, господа! – взвизгивает среди общего говора хозяйка.
Певчие группируются и начинают петь «Во лузях». Следом идет «Солнце на закате». Хозяин до того входит в экстаз, что выхватывает из ножен шпагу и начинает ею дирижировать хором.
– Браво! Браво! Совсем главнокомандующий! – кричат певчие и хлопают в ладоши.
Через час после ухода певчих хозяин спит в гостиной на диване. Около него на стуле висит мундир, лежат шпага и треуголка. Жена и дочери будят его к обеду.
– Не хочу… – бормочет он. – Идите прочь…
– Съешь хоть ветчинки-то… – пристает жена.
Хозяин плюет и молча перевертывается на другой бок.
Захар и Настасья
Роман в письмах
I
Милостивая государыня Настасья Степановна!
В первых сих строках прошу вас на чашку чаю. Извините за невежливость, но я послезавтра именинник. Это оттого, что с тех пор, как я видел вас у вашей кумы Василисы Никитишны, сплю и вижу, чтоб вы у меня были в гостях. Вот уже неделя, как я вспоминаю ваши сладостные речи и ваш бант на лебяжьей груди. Вчера нас гоняли в театр смотреть купца Иголкина, и я опять об вас вспоминал. Конечно, вы девица, а мы холостые солдаты и живем в казармах, но живем как семейные. У нас и самовар есть, и к нам очень часто дамы ходят; к тому же я давно чувствую привязанность к женатой жизни и сужу так, что не весь же свой век холостым бегать. Приходите вместе с Василисой Никитишной, она знает, где я живу, а где вы живете и у каких господ – узнал через нее, а все оттого, что об вас думаю день и ночь, даже и тогда, когда в реале. Ежели вы забыли меня, то я тот самый черный солдат, который провожал вас до Пяти Углов и купил вам в презент апельсин, но не рыжий, который разговаривал с вами и ушел раньше. С подателем сего письма пришлите ответ – придете или нет. Это мой товарищ по роте. Отказ ваш может подвергнуть мне лютую болезнь.
Шлю вам поклон от неба и до земли и остаюсь рядовой Захар Иванов.
II
Дражайшая Настасья Степановна!
Несчетно благодарю вас, что вы были у меня на чашке чаю. От радости я всю ночь не спал и кропил мою постель слезами, но впопыхах забыл спросить, где мы можем видеться, потому в разлуке я изнываю, и в моем сердце будто нож сидит. Хотел прийти к вам, но побоялся ваших хозяев, так как иные не любят, чтобы к кухаркам солдаты ходили. Улучите часок и приходите ко мне, а также захватите и башмаки, о которых вы говорили. Не токмо что сделать вам перетяжку, но даже и сшить целые башмаки, хотя бы и из моего товару, почту себе за счастие. Буду работать, вздыхать скоропалительно и думать об вас. С подателем сего письма пришлите ответ, а также посылаю вам апельсин, чтоб вы кушали в свое удовольствие, и не будьте ко мне бесчувственная. Адью с бонжуром! Это по-французски.
Всем сердцем ваш рядовой Захар Иванов.
III
Милостивый государь Захар Иваныч!
Посылаю вам свой поклон и с любовию низко кляняюсь. Хоть и стыдно девушке к холостым кавалерам в казармы бегать, но я сегодня вечером, как уберусь, забегу к вам. Уж очень мне башмаки нужны. А что вы меня бесчувственной называете, то совсем напротив, и напрасно вы обо мне такие низкие мысли имеете. Женщины завсегда нежнее кавалеров, а кавалеры – изменщики и соблазнители.
Остаюсь знакомая ваша Настасья Степановна, а, по безграмотству ее и личной просьбе, письмо сие писал и руку приложил мелочной лавочник Селиверст Кузьмин.
IV
Друг любезный Настасья Степановна!
Вот уже пять дней, как я вспоминаю, как вы были у меня и как мы с вами без свидетелев и бессловесно разговаривали. Лишь только зажмурю глаза, как вы стоите передо мной. О, ангел бесценный, как я люблю тебя на всю жизнь! Вы пишете, что, заторопившись у меня, вы забыли у нас платок. Никакого платка у нас нет, а ежели и забыли, то, надо полагать, кто-нибудь украл и уж давно пропил. Но не тревожьтесь: когда-нибудь купим для вас новый еще прекраснее. И еще прошу вас, пришлите мне с подателем сего письма сорок копеек, а то мне не на что купить чаю и сахару. У меня было три рубля, да я дал в долг товарищу, а он вчера в лазарете умер. Извини за просьбу. Лети мой вздох от сердца прямо другу в руки.
Прощайте, моя кралечка. Целую вас в уста сахарные. Рядовой Захар Иванов.
V
Друг мой Захар Иваныч!
И приходите завтра вечером ко мне. Господа наши едут в гости, и я буду дома только одна с горничной. Ах, как я скучаю об вас, две недели не видавшись. Все думаю, что будет война и тогда вас угонят. Сердце так и ноет об вас. Что я тогда буду делать? И посылаю вам рубль серебра, что вы у меня требовали, а также возьмите у товарища вашего Никифорова двугривенный денег и мой ситцевый платок. Деньги он взял в долг, а платок на подержание, чтобы завернуть кларнет, и вот уже месяц как не отдает.
Ожидает вас крепко Настасья Степановна, а письмо это писала подруга ейная Г. К. и кланяется товарищу вашему Никону Семенычу, так как он учтивый кавалер.
VI
Друг мой бесценный Настасья Степановна!
В первых сих строках целую тебя несчетно и благодарю за ватный нагрудник. Гляжу на него и о тебе страдаю. Башмаки принесу тебе не раньше как через две недели, так как у нас теперь все ученье и шить их совсем недосуг. И пришли ты мне с подателем сего письма полтора рубля денег. Нужно рубашку ситцевую справить. Присылай, не бойся, так как войны не будет и во всех государствах замирение. В воскресенье жду тебя к себе в крепкие объятия, а деньги пришли.
Друг твой неизменный, Захар Иванов.
VII
Другу моему любезному, Захару Иванычу от подруги его верной Настасьи Степановны низкий поклон.
И уведомляю вас, друг любезный, с прискорбием души телесной, что господа наши будут жить летом на даче и мне придется с ними ехать в Лесной Корпус. Ах, как я страдаю, что по дальности буду с вами редко видеться. Но вы не беспокойтесь, Захар Иваныч, для вас завсегда будет прием, и вы можете даже ночевать на сеновале. И сообщите мне, когда будут готовы мои серьги, что вы взяли починить, а ежели вы их заложили, то отпишите, где, и тогда я их выкуплю. Только вы не сердитесь. Также не обидьтесь, что я не прислала вам двух рублей, что вы просили. Денег у меня нет, а хозяева вперед не дают. У меня все болят зубы и тошнит, а вам посылаю осьмушку чаю и немножко сахару.
Ваша Настасья Степанова, а подруга ейная, что это письмо писала, просит товарища вашего Никона Семеныча прийти в воскресенье вечером в Александровский парк.
VIII
Ангел мой Настасья Степановна!
Ты едешь сегодня на дачу, но я не могу к тебе зайти проститься. Прощай заочно и пришли рубль серебра. Я сломал кран у офицерского самовара, и его надо отдать в починку. Крепко прижимаю тебя к моей груди, покрытой орденами.
Захар Иванов. Башмаки, что обещал, будут готовы через неделю.
IX
Сердечному другу Захару Иванычу.
Вот уже десять дней, как мы на даче, а вы и глаз не кажете. Что это значит? Я все глаза проглядела, на дорогу смотревши. Целый день я терзаюсь, а ночью плачу. Господи, неужто вы коварный изменщик и изменили из-за того, что я не могла вам прислать денег. Я и то вся испотрошилась на вас и хожу вся отрепанная. Приходите, друг милый, завтра; потешьте мое сердце. Я больна и еле могу работать, а хозяйка ругается. Как голубица, трепещу вашего свидания и молю вас слезно – приходите. Я вам скажу что-нибудь хорошее и подарю кисет для табаку. Ежели башмаки готовы, то принесите.
Настасья Степанова.
X
Милостивая государыня Настасья Степановна!
Вы не махонькая и сами понимать должны, что солдат – человек бедный и ему взять негде, стало быть, без денег и любовь водить невозможно. Где солдату взять, коли ежели не со стороны, а у вас то и дело отказ. У меня случилось несчастие, и к вам я прийти не могу, так как сломал свой штык. Казенную вещь надо пополнить, а то меня под арест. Ежели пришлете шесть четвертаков, чтобы купить штык, то послезавтра приду, а то так лучше разойдемся. Да пришлите еще для ровного счету полтину на сапожный товар, а башмаки через неделю. Письмо сие посылаю по городской почте, а это, сама знаешь, стоит денег.
Захар Иванов.
XI
Друг, Захар Иваныч.
Я больна, и приходите, пожалуйста, завтра. Коли ежели вам на штык, то мы потолкуем и тогда можем заложить перину и платок, только приходите, друг любезный.
Настасья Степановна.
XII
Я уведомляю вас, Настасья Степановна, что письмо ваше, присланное вчера с дачи с разносчиком-рыбаком в наши казармы, не могло быть передано знакомому вашему Захару Иванову, так как оный Захар Иванов выступил вчера в лагери в Красное село.
Унтер-офицер Никон Семенов.
От него к ней и от нее к нему
Краткий роман в письмах
I. От него к ней
Милостивой государыне, любви сердца моего Пелагее Спиридоновне от милого друга вашего Петра Степаныча.
И посылаю вам свое искреннее и всенижайшее почтение и с любовию низкий поклон, и целую вас в уста сахарные несчетное число раз. И уведомляю вас, моя милая душечка и бесценная Поленька, что моя горячая к вам любовь трепещет в моем сердце и поет, и ни день, ни ночь спокоя не видит. Только и есть одна отрада, как выйти на подъезд, смотреть в вашу сторону и вздыхать, сколько есть моей силы, или же кропить ваш полотняный платочек слезами, что я у вас на память дерзостно взял. О, зачем встретился я с вами на Волковом кладбище во время Радоницы? Если б я был птица или имел какие-нибудь крылья, о, колико раз в день летал бы я к тебе, Поля, и ворковал подобно голубице! И еще прошу вас, Поленька, откройтесь мне в любви и будете ли вы согласны соединить нам свою любовь в один союз, в одну мысль и в одно сердце, и прошу мне об этом написать, а то я сохну, очень скучен и с лица спадаю. Даже и товарищи замечают. Вот она что любовь-то! Мое сердце не может терпеть, чтобы не думать о вашей красоте. Все из рук валится. Сел писать ноты, свадебный концерт и окропил слезами, так что заплатил полтинник, чтоб переписать его, и во время венчания свадьбы, где мы пели, вдруг сжалось горло во время пения «положил еси на главах», и я не мог петь и чуть всех семи чувств не лишился. И еще извините меня, если я на Волковом кладбище с вами невежливо обходился, или какое-нибудь неприятное слово сказал, или как-нибудь неловко вас тронул. Что делать, праздник был.
