Читать онлайн Эпоха добродетелей. После советской морали бесплатно
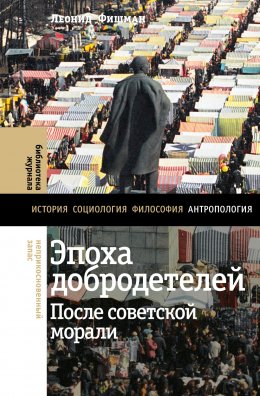
ВВЕДЕНИЕ
Эта книга является очередной попыткой ответа на вопросы: в каком обществе мы живем и почему так получилось. Она не столько о прошлом, сколько о вчерашних корнях дня сегодняшнего в аспекте ценностей, которые мы разделяем.
Ответы на подобные вопросы традиционно обусловлены методологией. Поэтому мы считаем нужным предварить дальнейшие рассуждения небольшим методологическим пассажем. Ценностные и методологические приоритеты российской политологии во многом обусловлены процессами, развертывающимися в мировой и внутренней политике1. Долгое время главный вектор развития отечественной политологии определялся заимствованием (часто некритичным) огромного массива западных мейнстримных теорий. В этот период господствовали методологические и мировоззренческие установки транзитологии, постулировавшей неизбежность практического воплощения идеальных типов демократии, капитализма, а также соответствующего им состояния моральной сферы, существующих в развитых странах. Российские исследователи, использующие доминирующий универсальный категориальный аппарат описания общества, замечали преимущественно лишь отклонения от должного, от социального идеала. Например, тоталитаризм (авторитаризм), усиление феноменов социальной архаики и власти-собственности2, недостойное правление3, неопатримониализм, неофеодализм4, коррупционные взаимодействия5, которые необходимо преодолеть в логике транзита, модернизации и движения к обществу открытого доступа, находящемуся на идеологической вершине ценностно-институциональной иерархии западноцентричного политического знания. Однако со временем выяснилось, что вся подобная институциональная архаика постепенно обнаружилась и в обществах, которые должны были служить образцом для сравнения. Более того, наиболее архаичными оказались механизмы реального воспроизводства и взаимодействия элит западных обществ, образующие слепое пятно политических теорий. Несмотря на то что западные общества идеализируются в идеологической оптике неолиберального мейнстрима, чем дальше, тем сильнее он уступает альтернативным взглядам на нормальное общество, представления о котором генерируются вне Запада. Соответственно, все типические интеллектуальные приемы мейнстрима с пространственным выносом феноменов социальной архаики в периферийные общества, схоластические интеллектуальные игры в либерально-демократическую норму и отклонения от нее будут вызывать все более глубокие сомнения на фоне пересмотра глобальных иерархий власти и знания. Поэтому нелиберальное, недемократическое и нерыночное ядро обществ-гегемонов, которое мейнстрим до некоторых пор замечал только в периферийных/отсталых социумах, начнут все чаще фиксировать в виде эмпирических фактов, признавать и нормализовать в качестве всеобщего формата политических коммуникаций и институтов, поскольку они не преодолены нигде, кроме идеологических самоописаний и политической риторики западных обществ.
Следовательно, российскому обществу нет смысла занимать место на периферии уходящих в историю классификаций политических режимов и иерархиях описаний, чье идеологическое измерение не позволяет осуществлять позитивную легитимацию любого российского политического порядка с точки зрения внешних бенефициаров подобного дискурса. Но не менее контрпродуктивной является и реакция «обиды» на политологический мейнстрим, которая сводится к простому переворачиванию ценностной шкалы, когда ранее объявленное отклонением вновь возносится на пьедестал и объявляется новой или старой доброй, но незаслуженно отвергнутой нормой.
Наше исследование является попыткой ухода, если так можно выразиться, от парадигмы нравственной «периферийности», равно как и от лишь формально противоположной ей установки. Ни та ни другая не способствуют пониманию того, что в действительности происходило в России конца XX – начала XXI века в области морали. Это означает не отказ от «западных» научных парадигм в области изучения морали и нравственности в пользу парадигм автохтонных, а, скорее, попытку избежать выявившей свою ограниченность риторики «отклонений от образца» – что бы в качестве такового ни воспринималось.
Следует объяснить, что является главной причиной избрания нами описанной выше стратегии уклонения. Сделаем это на представляющемся нам наиболее показательным примере.
Выше мы отметили, что по отношению к современному российскому обществу нередко используется метафора квазисословного и другие сходные метафоры, указывающие на немодерновый, нерыночный, «отклоняющийся» характер российской социальной стратификации. Если бы эти метафоры являлись чем-то большим, то мы бы имели возможность сравнительно непротиворечиво объяснить, откуда взялись те ценности, которые мы унаследовали из прошлого, равно как и правдоподобно предсказать векторы эволюции нашей общественной морали. В конце концов, происхождение и трансформация сословных норм и ценностей вполне может быть объяснена отчасти неизменными, отчасти меняющимися на потребу дня ожиданиями от членов этих сословий.
С другой стороны, трудно отрицать, что (нео)сословная метафора по большей части отражает лишь внешне сходные с сословными аспекты социальной реальности современной России. По крайней мере, у нас какая-то странная сословность, не похожая на традиционную хотя бы по причине сильно отличающегося от нее нормативного наполнения. Действительно, если еще есть смысл говорить о квазисословиях в СССР, поскольку при желании у них можно обнаружить внутрисословные ценности, нормы, кодексы чести (да и то зачастую с натяжкой, искусственно сконструированные «сверху»), то современные квазисословия выглядят таковыми лишь с точки зрения административной иерархии, на позицию которой становится также и исследователь. Это чисто внешним образом конструируемая сословность – и лишь с одной целью: распределения ресурсов. В выстраиваемом таким образом квазисословном универсуме внутрисословные ценности могут быть только у высших, руководящих сословий, поэтому мы время от времени становимся свидетелями попыток сформулировать для чиновников какие-то «кодексы чести», своды этических норм и пр. К остальным относятся как к сословиям в ракурсе распределения ресурсов, но не считают, что им нужны какие-то сословные кодексы чести, а предлагают следовать внешне модерновым версиям национализма, патриотизма и т. п.
С моральной точки зрения такое общество представляет собой удручающую картину и лучше всего описывается термином, предложенным Дианой Хапаевой, – «готическое общество», то есть общество, в котором отношения почти неприкрыто сводятся к праву сильного и лишены всякого романтического средневекового сословного флера. В нем все практики «носят сугубо индивидуалистический характер», «отказ от традиции и отрицание традиции, как и культуры в целом, опирается на способ выдвижения – „близость к телу“, отсутствие обязательных компетенций для занятия лидирующей позиции, случайность обстоятельств, ведущих „наверх“». В нем господствует «случайность как категория, отрицающая идею как „законности“, так и „честной конкуренции»6. Это версия пресловутого «атомизированного общества», в котором, по выражению Д. Драгунского, «атеизм и фриланс уничтожили честь и совесть»7, где нет социальных групп с отчетливой коллективной идентичностью, исчезает честь, уступая «наивной борьбе за собственный комфорт», а за ней и совесть, ибо «универсальным регулятором поведения выступает воля начальства или взнос по кредиту»8.
Сколь бы впечатляющими ни казались нарисованные выше картины, они по определению являются не только методологически, но и эмоционально ущербными. Общество и его мораль не могут быть объективно описаны в исключительно отрицательных терминах, с точки зрения того, чего в них нет. Ни одно общество, в том числе и наше, не является адом на Земле, а «злые» институты и практики вовсе не обязательно вытекают из таких же норм и ценностей – и это является основанием для надежды в нашем случае. Собственно, и книга наша по большому счету о том, как из «добра» вытекает «зло», а людям недостает опыта и предвидения, чтобы отличить одно от другого.
Читатель, безусловно, заметит, что автор иллюстрирует свои выводы почти исключительно отсылками к художественным (в основном литературным) произведениям. Оправданием нам служит ограниченность наших задач. Они заключались не в том, чтобы детально, с прямыми отсылками к свидетельствам современников описать процесс формирования и эволюции советской и постсоветской морали, а скорее в том, а) чтобы обозначить официальные и полуофициальные ценностные рамки, в которых он разворачивался; и б) показать, что даже внутри этих рамок было много разнородного, обусловленного не только культурой, но и доминирующей идеологией содержания, чтобы привести к результатам, неожиданным для всех участников этих процессов. (Читатель может прийти к выводу, что в исследовании критика советского общества осуществляется в концептуальных рамках, используемых самим этим обществом для рефлексии своих оснований. Но в этом и заключался замысел работы: показать, что даже исходя из своих собственных оснований, без учета всяких внешних воздействий, советское общество было обречено дрейфовать туда, куда оно в итоге пришло.) Для обоснования этой позиции, как мы полагаем, достаточно отсылок к художественным произведениям, которые служат зеркалом происходящих моральных трансформаций.
Разумеется, литература и кино являются такого рода зеркалами, использование которых подразумевает постоянную коррекцию изображения теми, кто в них смотрится. Свою коррекцию мы уже произвели – теперь очередь за читателями.
ГЛАВА I. СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК: ЛУКАВЫЙ РАБ ИЛИ ЖЕРТВА ОБМАНА?
Сегодня мы становимся свидетелями того, как самостоятельная ценность всего советского последовательно утрачивается, окончательно превращаясь в символический материал для борьбы за настоящее, продолжающее или отрицающее советский опыт. С помощью политик памяти легитимируются совершенно разные идеологические перспективы взгляда на феномен СССР: от репрессивного тоталитаризма до авангарда человечества, изменившего глобальные представления о положении трудящихся классов и социальном государстве для всех современных обществ. При этом субъекты подобного ретроспективного ценностного конструирования без помех и колебаний помещают свой советский личный, семейный и групповой опыт в принципиально разные идеологические конструкции, отметая все противоречия и возражения как несущественные исключения из этого опыта. Однако советское общество имело гораздо более тонкую, сложную, исторически изменчивую и противоречивую структуру ценностей на всех культурных этажах и во всех сообществах, не сводимую к официальной иерархии высших ценностей. Поэтому исторический феномен советского проекта и ценностную мотивацию разных социальных групп внутри него невозможно редуцировать к неким плоским идеологемам, а тем более отклонениям от универсального пути развития человечества, описанного современным экономическим и политическим мейнстримом.
Как принято считать, в конце 1980-х – начале 1990-х годов с советским обществом случилась резкая моральная трансформация. По крайней мере, так казалось в силу внезапности этого перехода; как лапидарно выразился А. Юрчак: «Это было навсегда, пока не кончилось»9. Проблемой, вытекающей из самоочевидной, по идее, констатации катастрофичности перемен в области общественной морали, является следующее. Вряд ли можно сказать, что названный выше переход произошел легко, и тем не менее, по прошествии двух с половиной десятилетий, трудно отделаться от впечатления, что социальная катастрофа не сопровождалась катастрофой моральной. Подавляющее большинство людей если с ходу и не вписались в рынок, то для перехода к новой жизни им, в общем, не пришлось переступать через себя. Конечно, это не означает, что граждане все скопом кинулись объединяться в мафии и убивать друг друга, но они оказались вполне терпимо настроены по отношению к тем, кто такое делал. Их мораль если не поощряла подобное поведение, то не провоцировала и ярого отторжения, а порой и находила ему оправдания.
С другой стороны, если судить с точки зрения официально декларируемых ценностей, разница между советским прежде и постсоветским теперь выглядит огромной. Такой же она выглядела и тогда, когда в расчет принимались отношения между людьми в повседневной жизни: многие в 1990-х годах вдруг обнаружили, что в плане человеческих отношений советская жизнь была совсем неплоха: больше доверия, теплоты, взаимопомощи – и куда только все это подевалось?
На последний вопрос отечественные и зарубежные обществоведы давали два основных варианта ответа, в равной мере схематичных и идеологизированных.
Первый из них сводился к тому, что, собственно, ничего хорошего, доброго и светлого в советской жизни не было, а если кому-то так казалось, то исключительно в силу обмана или самообмана. Ибо, как описывает эту точку зрения Юрчак, «каждый гражданин социалистического общества „был в некоторой степени соучастником системы покровительства, лжи, воровства, подкупа и двуличия, благодаря которым система функционировала“ и что в результате в этой системе даже „близкие, родственники и друзья доносили друг на друга“. Делая упор на категориях всеобщего двуличия, лжи, подкупа, доносительства и аморальности как базовых принципах в отношениях советских людей с системой и друг с другом, авторы <…> конструируют новую бинарную модель, в которой ло жь и аморальность „социалистического субъекта“ противопоставляется неподкупности и честности некоего другого, неназванного, „нормального“ субъекта (очевидно, субъекта либерального)»10. Как выразился в свое время М. Геллер, советский человек, конечно, относится к роду гомо сапиенс, но только это какая-то его уродливо-болезненная версия. Ибо «черты советского человека имеются у гомо сапиенс – в разной пропорции, в разной степени выявленности. В условиях системы советского типа, в результате социальной дрессировки, эти качества, эти черты начинают развиваться, расти, становятся доминирующими. В организме каждого человека имеются туберкулезные бактерии – в определенных условиях они вызывают болезнь, овладевают организмом»11.
Иными словами, советский моральный климат уже был в достаточной мере пронизан злом, чтобы из него выросло то, что выросло. Поэтому приверженцы этой точки зрения в выражениях не стесняются, для них советский социум был двухсотмиллионной колонией рабов, «для которых не было ни моральных ценностей, ни религиозных – только пропаганда и идеология, созданная на лжи и лицемерии»12. Советского человека можно описывать скорее в отрицательных категориях: прежде всего, у него нет уважения к себе и чувства собственного достоинства, а вместо них – либо забитость, либо бесцеремонность. «В целом можно сказать, что нет всего того, что связывает человека со всем прекрасным, странным, живым, тонким, сложным, что создано родом человеческим»13. Настоящего добра советский человек не знает, а может только его симулировать. В то же время он постоянно чего-то боится: «что кто-то будет свободнее его, боится, что его новая одежда слишком выраженная и яркая, боится, что без оружейного потенциала его стране и счастью наступит конец, боится, что нация будет страдать из-за отсутствия пристального контроля»14. Нравственное сознание советского человека перерождается чудовищным образом: «Предательство переименовывалось в эксперименте в высшую форму верности, а доносительство – в высшую форму честности», «Ложь становилась нормальным состоянием сознания и переставала восприниматься как ложь»15. Иначе и быть не могло, ибо в советском обществе насаждалась «тоталитарная культура», которая «развязывает подавляемые иррациональные страсти, обуревающие человека, она срывает заслоны морали, культивируя влечение к разрушению, агрессивность, зависть, месть, ненависть. <…> тоталитарное общество, подавляя личность, опирается на незрелую массу; в процессе своего развития тоталитарная культура деклассирует общество, люмпенизирует его, возвращает в пору варварства – детства»16. В такой парадигме советский человек изначально описывается в категориях «приспособленность», «лукавство», «двоемыслие» (Ю. Левада) или как «циничный, двуличный, апатичный» (Л. Гудков)17. Этот человек постоянно вступал в сделки с государством, которые были равнозначны сделке с дьяволом, «результат которой – разрушение структуры самой личности». Он обретался в среде, в которой происходит «постоянное разложение критериев отношений», которое «разлагает все общество». Советская модель описывалась как строящаяся на «двусмысленной, лукавой основе»; в ней «устойчивая система двойных стандартов в обществе была весьма близка описанному Дж. Оруэллом принципу двоемыслия». Стиль описания «лукавых игр» в большой мере задавался этической оценкой советского случая как ненормального, советский человек прямо противопоставлялся «человеку нормальному»18. Советский человек, как и его постсоветский наследник, представал как «лукавый раб», который «за порядок, но сам он обязательно попробует этот порядок обойти»19.
Выходило, что по большому счету советское и наследующее ему постсоветское общество обретается где-то за пределами морали, ибо морали как таковой в нем и не могло зародиться: «Вместе с катастрофой 1917 года, революцией, Гражданской войной, красным и белым террором, эмиграцией, национализациями и экспроприациями разного рода, классовыми чистками, коллективизацией, голодом, сталинскими репрессиями и тому подобным беззаконием и произволом коммунистического государства проблематика морали ушла из сознания советского населения. К настоящему времени она вообще потеряла какой-либо смысл, поскольку российское население не понимает, что за этим стоит, хотя смутное ощущение неблагополучия в этой сфере время от времени проступает в данных массовых опросов. Ни той духовной работы, которую вели католики в своих странах на протяжении последнего столетия, ни тем более практики протестантской этической рационализации жизни в России не было, что в своем роде „облегчило“ процессы опустошения и деморализации населения, распространения лагерных нравов, внутреннего одичания во время советского массового террора и последующих десятилетий. Какое-то, причем довольно долгое время (конец 1920-х – начало 1950-х годов) человек был поставлен в такие условия, в которых в принципе нельзя говорить о „морали“, – любой выбор в условиях массовых репрессий и атмосфере террора был аморален, поскольку субъективно детерминированное нравственное действие влекло за собой конфликт действующего со своим окружением, а значит, и угрозу репрессий или предательства по отношению к какому-либо из близких. За вольную или невольную нелояльность, тем более внутреннее сопротивление советской системе или выпадение из нее наказывался не только сам действующий, но и его семья, коллеги, друзья и знакомые, а часто и вообще посторонние люди. Принудительная коллективная ответственность уничтожила проблематику морали (как целой области культуры и определяемой ею социальной организации), что, соответственно, имело следствием разрушение структуры личности сложного типа и ее последующее исчезновение как социального феномена (хотя, разумеется, уникальные примеры человеческой порядочности всегда можно привести)»20.
Поэтому, подчиняясь гнету тоталитарного совка, советские люди в официальной жизни говорили одно, а в частной – другое, на людях клялись в верности одним ценностям и идеалам, но в душе пестовали совсем другие. Понятно, что с наступлением свободы эти лукавые рабы режима быстро показали свое истинное лицо и повели себя соответствующим образом: кто – мещанским, алчным и своекорыстным, а кто-то (явное меньшинство, увы) и цивилизованно, и либерально. К сожалению, далеко не все отягощенные советским прошлым постсоветские люди смогли достойно пройти проверку на способность противостоять соблазну потребительского мира, не скатываясь при этом к «перформансам насилия»21.
Не сказать, что этот ответ был совсем неправдоподобен: нет оснований отрицать наличие соответствующего личного опыта, по крайней мере у авторов приведенных выше высказываний. Концепция притворяющегося и лицемерного советского человека основана вовсе не на пустом месте: в значительной мере она вытекает из абсолютизации опыта первого советского или даже дореволюционного поколения, имевшего возможность сравнивать те и другие реалии, идеалы революции с их воплощением, менее индоктринированного, находившегося под еще ощутимым влиянием дореволюционной культурной среды. Это часто опыт представителей откровенно дискриминируемых советской властью социальных групп, которым действительно приходилось мимикрировать и притворяться22.
Тем не менее, будучи абсолютизирован, этот опыт приводит к достаточно упрощенным представлениям о советских реалиях. К тому же надо учитывать своего рода ретроспективную идеологизацию: вспоминая свою жизнь в советские времена, многие, чем далее эти времена отстояли, обнаруживают склонность врать как очевидцы, приписывая себе прошлым взгляды и мотивы себя настоящих23. Иными словами, они не воспринимали окружающую их жизнь как ад тотальной безнравственности, в котором они принуждены были скрывать свое истинное лицо. Мы можем предположить, что как раз эта бинарная схема про притворяющихся лукавых рабов была принята ими постфактум, когда потребовалось объяснить и оправдать то, каким образом вроде бы приличные в моральном отношении люди, будучи предоставленными сами себе (не из-под палки), устроили вначале «дикий капитализм» с «криминальной революцией», а потом нечто похожее на пресловутое «атомизированное общество» с низким уровнем доверия граждан друг к другу и социальным институтам. Реальное общество из в целом приличных людей, конечно, никак не могло дойти до такой жизни (ведь для такого рода обличителей-постфактум зло всегда вырастает только из зла). Поэтому естественным оказалось убедить себя в том, что общество, которому они отдали не худшие годы своей жизни, не было никогда нормальным в нравственном отношении, состояло из индивидов и коллективов, в разной степени бывших настоящими моральными уродами – за исключением, конечно, самих немногочисленных обличителей, которые либо и тогда были «не такими, как все», либо прозрели позже, осознав всю аморальность их прежнего существования. Надо заметить, что, как ни парадоксально это выглядит, критика советского общества такого рода исходила из доведенной до абсурда официозной точки зрения, а именно из того, что официально декларируемый проект выведения «нового человека» был осуществлен успешно и без изъятий.
Второй ответ исходил из представления о какой-то единой базовой ценностной модели, которая лежала в основании морали подавляющего большинства советских людей, а также представления о высокоморальном и высококультурном обществе24. Ибо, как писал А. Зиновьев, «даже по признанию наших врагов, русский народ в советские годы имел уровень духовности гораздо более высокий, чем другие народы планеты, не говоря уж о его духовном уровне в дореволюционные годы»25. Более того, советское прошлое прямо ассоциировалось с моральностью как таковой, тогда как постсоветское настоящее – уже нет. «„Мы“ – это поколение помнящих стыд, честь, совесть. Мы еще помним то время, когда слово „голубой“ было прилагательным. Нас учили высшим принципам, пусть через призму советской идеологии, но все равно это были совесть, и честь, и стыд. Нам казалось это таким очевидным, как воздухом дышать. Но сегодня мы осознаем: если так пойдет дальше, вырастет поколение, которое искренне не будет понимать терминов „стыд“ или „честь“. Понимаете, новое поколение будет не бессовестным, в смысле отрицающим совесть, а не знающим совести»26. Даже те, кто в целом отрицательно относился к большевизму, все равно полагали, что с точки зрения ценностей советский строй находился на высоте, поскольку строился на религиозных, православных принципах общежития. «Православные духовные ценности, вытекающие из евангельских заповедей – братолюбие, служение Родине, патриотизм, милосердие, самопожертвование, соборность, нестяжательство, справедливость, солидарность, миролюбие, стремление к совершенству, становятся правилами советского образа жизни»27. И если правила эти не сохранились до наших дней, а СССР пал, то только потому, что «никакой светский моральный кодекс не сможет удержать людей от усиления пожара греховных страстей при повышении материального благополучия. Пламя греховных страстей и проступков может тушить только религия. Но религия была под запретом»28. На таком фундаменте основывается мировоззрение многих нынешних коммунистов, для которых советский период был воплощением социализма как «русской идеи».
Другое заслуживающее внимания объяснение высокой нравственности советских людей парадоксально. Именно потому, что советская реальность (особенно сталинских времен) была адом кромешным и в принципе не поощряла добрых поступков, советские люди в области нравственности оказывались удивительно свободными, ибо единственным мерилом их поступков становилась индивидуальная совесть. Как писал по этому поводу Р. Редлих: «Добрые проявления человеческого сердца никем не поощряются и не могут принести советскому гражданину никаких выгод, зато влекут за собой самые тягостные последствия. И тем не менее эти проявления совершаются беспрерывно. <…> Нигде нравственные акты не свободны более, чем в современной России; нигде их природа не является более чистой, то есть более свободной от влияния посторонних мотивов: корысти, лицемерия, одобрения или неодобрения общественного мнения и т. п. <…> добро советский человек творит без мысли о заслуге, просто по влечению сердца <…>. Для него доброе дело отнюдь не предмет морального комфорта, оно существует не для него, а для того, кто в нем нуждается»29. С изложенной выше позиции факт наличия в советском человеке высоких нравственных качеств нельзя объяснить иначе как «чудом». И тем не менее они были!
Далее – вот это высокоморальное и высококультурное общество подвергли принудительной деградации. Ценой радикальных экономических реформ стало «пренебрежение нравственно-психологическим миром человека», «интенсивное искоренение морально-этической составляющей их социального бытия». Жители России приучились «почти без всякого протеста и нравственного неприятия» выживать в условиях тотальной коррупции, всеохватывающего взяточничества, сопровождающего едва ли не каждый их шаг, разгула криминалитета». Сформировалась «терпимость к злу, переходящая впоследствии в полную подмену им добра». Случилась «моральная деградация» современного российского общества, «испарение морали»30. Все это произошло потому, что в конце XX – начале XXI века «реформаторы понизили порог чувствительности общества к социальной патологии <…>. C 1990-х годов в стране стал насаждаться общественный аморализм <…> произошло разграбление государства, <…> сопровождаемое тотальной эрозией культуры и морали»31. «И если моральная деградация еще не полностью прошла свой путь, то лишь потому, что она встречает сопротивление традиционных для России ценностей, нашедших подкрепление и существенное развитие в советский период истории»32. Или, как писал С. Кара-Мурза, «с конца 1980-х годов в России ведется большая и хорошо разработанная программа по релятивизации, а потом и снятию нравственных норм и запретов и внедрению ценностей радикально аморальных»33. Выходило, что советских людей, обладавших высокими моральными достоинствами, цинично обманули. Апеллируя к их моральным чувствам, а отчасти и идеологемам, злоумышленники из зарубежной и отечественной элиты смогли связать высокие моральные идеалы и представления о достойной человека жизни с антисоветским проектом, с капитализмом. А когда те спохватились, было уже поздно.
Этот ответ выглядел уже несколько более правдоподобным, поскольку опирался на известные факты явной манипуляции общественным сознанием в эпоху перестройки и реформ Ельцина. Тем не менее и он не является достаточно убедительным: трудно поверить, что возможно посредством одной только манипуляции выдать черное за белое, совратить людей высоконравственного и высококультурного общества, заставив их проявлять упомянутую выше сравнительную толерантность к моральным реалиям великой криминальной революции. Ведь, как сказал Линкольн, невозможно долгое время обманывать всех. И главное – почему указанный период стал моральной катастрофой лишь для сравнительно небольшого числа алармистов, тогда как большинство пережило его сравнительно спокойно?
Нетрудно заметить, что, несмотря на всю разницу, оба приведенных выше ответа исходят из того, что в 1990-х годах произошел резкий переход от общества с одними нравственными и культурными ценностями к обществу с ценностями совсем другими, едва ли не противоположными. Оба ответа нацелены в первую очередь на объяснение высокой скорости этого перехода, описываемого как настоящий моральный коллапс. (Характерен в связи с этим пассаж И. Глебовой о том, что следствием нового социального переворота стало «уничтожение социальных табу, открытие и выход из „тени“ (с социального дна) ранее асоциальных явлений и сил, обесценивание прошлых героев и авторитетов, всего строя жизни, способов ее обеспечения. <…> Почти не осталось всеми принятых и соблюдаемых норм общественно значимого поведения, ценностных стандартов, механизмов их поддержания <…>. Все ценности стали относительными – значит, их можно преобразовывать, конструировать, манипулировать ими. Единственная абсолютная истина – материя, конвертируемая в дензнаки; возможность копить, приобретать, потреблять, удовлетворять непреодолимую тягу человека к стяжанию»34 и т. д.)
Но таким ли в действительности был произошедший переход? Имея основания сомневаться в упомянутых выше двух ответах, мы предлагаем наметить основные черты третьего. Он, конечно, тоже не может считаться исчерпывающим, но, как нам хотелось бы надеяться, избегает значительной доли схематизма и ограниченности первых двух. Но прежде чем подобраться к ответу на интересующий нас вопрос, придется ответить на другой: чем же являлся советский строй в моральном отношении?
ГЛАВА II. ЗАКОВЫВАТЬ В БЕТОН
В данной главе мы исходим из того, что советский проект во многом являлся проектом реморализации, совершенно необходимым как ответ на последствия катастрофических событий 1914–1922 годов. Мировая война, революция, Гражданская война – все это сопровождалось распадом социальных связей и формированием новых социальных практик, революционным энтузиазмом и невероятной жестокостью – словом, разливом той самой народной стихии, которую теперь требовалось «заковывать в бетон». Что бы ни говорилось о достоинствах дореволюционной российской духовной культуры, в последние десятилетия перед революцией она держалась на смеси привычки, инерции и прямого принуждения, замечательно отраженной в рассказе Л. Жарикова «Бог и Ленька»:
«Внезапно городовой поднес к моему лицу огромный волосатый кулак.
– Вот бог, видел?
Я молчал, глядя на грязный, пахнувший солеными огурцами кулак.
Городовой держал его у самых моих бровей, закрыв от меня весь свет.
– Что это? – спросил он грозно.
Я не знал, как отвечать. Городовой закричал:
– Я спрашиваю, что это?
– Б… бог, – испуганно выговорил я».
Поэтому дореволюционные духовные скрепы оказались во многом разрушенными и восстановлению не подлежали, хотя возврат к вере отцов и дедов начинал выглядеть привлекательно для некоторых людей, столкнувшихся во время исторических катаклизмов с кровавым разгулом народной стихии.
Как бы ни обстояло дело с моральным и культурным уровнем масс в действительности, принципиально то, каким образом воспринимали ситуацию сами большевики и образованные люди вроде М. Горького (а он откровенно считал русское крестьянство народом полудиким, жестоковыйным, да и просто жестоким35), на которых они так или иначе должны были опираться в своей преобразовательной деятельности. А воспринимали они ее как катастрофу, крах русской культуры со всеми ее достоинствами и недостатками, когда, по словам историка С. Веселовского, «взбунтовавшиеся низы снесли все начисто, не разбирая правых и виноватых, доброе и дурное»36. В силу тотальной моральной и идеологической дезориентации прежняя моральная пирамида «большого общества» с религиозными ценностями наверху и разного рода общинными, профессиональными, сословными добродетелями внизу оказалась либо разрушена, либо поколеблена. Многие утратили старые моральные ориентиры, а немногие «сознательные» (часто не стесняясь при этом в средствах) лишь только пытались принудить большинство принять новые возвышенные цели и следовать соответствующим им моральным ценностям.
Российский (то есть уже советский) народ поэтому настоятельно нуждался в обретении нового неба и новой земли. Обрести их, однако, было непросто. Ситуация после революции и Гражданской войны отличалась высокой степенью психической неуравновешенности, которая особенно ярко проявлялась у граждански и политически активной части населения. Большевики и сочувствующие им лишь в самом общем смысле понимали, что хотят построить (социализм, коммунизм), но испытывали серьезные трудности как с подбором конкретных форм воплощения своих идей, так и с их практическим внедрением. Далеко не всякий мог достигнуть потребного уровня сознательности, а среди достигших единогласия отнюдь не было. Многим казалось, что «наши апостолы ведут нас в темноте, услаждают нас и самих себя иллюзиями о нашем будущем <…>. Наша жизнь красива и радостна только в печати. Мы сами в себе вырабатываем яд, который отравляет наш и без того исхудалый организм»37. Палитра мнений включала в себя представления от необходимости вернуться к политике военного коммунизма до сменовеховства. По собственно моральным вопросам, касавшимся, к примеру, проблематики семьи или половых отношений, консенсуса не существовало даже среди самих коммунистов и комсомольцев. Н. Бухарин еще в 1928 году сетовал на то, что, хотя буржуазно-мещанская мораль уничтожена, «сказать, что мы уже построили собственные нормы поведения, такие, которые бы соответствовали нашим задачам, еще нельзя. Многие с презрением относятся к старой морали (и это хорошо), но своих норм еще не имеют, болтаются в каком-то безвоздушном пространстве без узды»38. Наконец, советский коллективизм, которому в перспективе было суждено стать организационной основой советской морали, сам находился в процессе становления. В итоге миллионы людей, особенно участников Гражданской войны, не могли найти себя в период НЭПа. И сам НЭП не казался устойчивым; многие, и не только коммунисты, расценивали его как временное явление, если не политически, то морально «незаконное», как ненадолго открывшееся «окно возможностей», которые надо ловить и успеть ускользнуть от наказания; другие просто пытались гедонистически воспользоваться его зыбкими благами, живя согласно максиме «бери от жизни все».
Следствиями такой ситуациями стали расцвет алкоголизма, бытовой распущенности, воровства, коррупции. Наиболее сознательные хотели от власти какого-то дела, желательно великого и опасного; или хотя бы чтобы их просветили, указали цель в жизни и просто дали работу, которой у многих не было. Требовался работоспособный синтез высоких целей и ценностей среднего уровня, которыми руководились бы люди в своих больших и малых, но всегда необходимых обществу занятиях.
Чтобы вполне выразить, с какой моральной ситуацией столкнулись большевики в 1920-х годах, от чего им пришлось отталкиваться в построении своего проекта, нам потребуется небольшое «лирическое отступление». Значение для советской литературы и культуры «Тихого Дона» М. Шолохова, думается, преувеличить невозможно. Между тем, как точно заметил Д. Быков, в отличие от не менее хрестоматийной «Войны и мира», в которой центральным является «пробуждение человеческого в человеке под действием событий экстремальных и подчас чудовищных, „Тихий Дон“ – книга уникальная, надежда в ней отсутствует. Мало кому, вероятно, было такое позволено. Уж какие люди склоняли Шолохова написать счастливый финал! После третьей книги Алексей Толстой целую статью написал – верим, мол, что Григорий Мелехов опять, и уже окончательно, придет к красным. А он не к красным пришел. Он пришел к совершенно другому выводу, и это становится в шолоховской эпопее главным: народ, не соблюдающий ни одного закона, народ, богатый исключительно самомнением, традициями и жестокостью, разрушает свое сознание бесповоротно. Остаются в нем только самые корневые, родовые, архаические связи. Родственные. Стоит Григорий Мелехов на пороге опустевшего своего дома, держа на руках сына, – вот и вся история. Последнее, чего не отнять, – род»39.
С чисто эстетической точки зрения, которая выражена, в частности, в статье А. Мелихова о Шолохове, эта буйствующая и страшная стихия рода и прочего подобного выглядит живым и прекрасным многоцветьем – а в искусстве кто прекрасен, тот и прав и, конечно, смотрится много привлекательнее серой, безликой, довольно косноязычной махины большевистской власти. У А. Мелихова вызывает удивление: и как же это у титана Шолохова многоцветье соединяется с серой махиной, как он ухитрялся выглядеть своим среди кондово-советских писателей и номенклатурщиков, соединяя в своей душе ослепительную многоцветность с беспросветной серостью40?
Ответ может оказаться прост. Это для чистых эстетов кто красивее, тот и прав. Для самого же Шолохова, равно как и прочих писателей, которые не могли и не хотели быть только писателями, критерии правоты оказывались другими. Ведь эти многоцветные знакомые не по книжкам герои для них могли выглядеть слишком уж страшными, дикими, жестокими (вспомним бабелевскую «Конармию») и вовсе не образцами для подражания, а, как выразился поэт, бушующим разливом, которой для его же блага нужно заковать в тот самый серый бетон.
Собственно, этим и объясняется исключительное значение Шолохова для советской культуры. Он не нашел в себе сил бесповоротно осудить все это анархическое «многоцветье» – ведь это ж были живые, достойные горячего сочувствия люди. Люди, по которым пришлось бы (что и случилось) проехать стальным катком ради построения пирамид материальных и, главное, своего рода моральной ценностной пирамиды советского строя. Но необходимость этого строительства «от противного» он показал, как никто другой, за что его и терпели, и превознесли.
Для людей, переживших революцию и Гражданскую войну, страшным казалось вовсе не умаление буйной воли, последствий разгула которой они нахлебались досыта. Их преследовал другой ужас, ужас «бездисциплинарного» существования, который делал невозможным достижение сколь-нибудь достойных условий человеческой жизни. Как писал в те годы А. Макаренко: «Дисциплина ставит каждую отдельную личность, каждого отдельного человека в более защитное, более свободное положение <…> дисциплина – это свобода. Дисциплина в коллективе – это полная защищенность <…> для каждой отдельной личности <…>. Мы для того и сделали революцию, чтобы наша личность была свободна, но форма нашего общества – это дисциплина <…> как раз беспризорные и правонарушители в своем значительном числе случаев побывали в таком детском коллективе, где нет дисциплины, и они на своей шкуре испытали всю страшную тяжесть такой бездисциплинарной жизни <…> и дисциплина для этих детей, страдавших от бездисциплинированного состояния, явилась действительным спасением, действительными условиями человеческого расцвета»41.
Поэтому большевистский проект был обречен с самого начала стать проектом воспитательным, моральным, в широком смысле – культурным.
Это обусловливалось в равной мере идеологическими и практическими (в определенном смысле – экзистенциальными) соображениями. Коммунистическое и социалистическое общественное устройство рассматривались их приверженцами как средства для человеческой самореализации, личностного роста и преодоления отчуждения. Человек, вставший на путь к светлому коммунистическому будущему, как заметил еще Ленин, мог пройти дорогу до конца, лишь овладев всем культурным богатством, созданным человечеством. В связи с этим некоторые исследователи говорят о большевистском «культурном фундаментализме»: «Ленинский курс предполагал, что культура поступательно и непрерывно будет перехватывать некоторые ключевые функции общего государственного регулирования и руководства. Партия обещала организовать жизнь каждого советского гражданина „от колыбели до могилы“. Ей нужна была почти вечность, жизнь нескольких поколений для того, чтобы искоренить и вытеснить культурой бюрократию, правовые и политические институты. Вместо государственного и правового порядка должны воцариться „развитая культура“ и социальная гомогенность. <…> Этот ленинский курс обозначен в Программе партии, принятой на VIII съезде. Позже, уже в 1927 году, он был прописан в резолюции XV съезда: „…упрощение функций управления при повышении культурного уровня трудящихся ведет к уничтожению государственной власти“. <…> Центральная роль, которая отводилась культуре, была подтверждена в докладе о первой советской пятилетке члена Политбюро Алексея Рыкова: „Начиная уже с ближайшего года на культуру мы должны давать относительно больше, чем даже на восстановление хозяйства <…>. Без быстрого культурного роста мы не сможем по-настоящему переконструировать наше хозяйство“»42.
Повышение культурного уровня, как видим, требовалось не только в абстрактной перспективе. Прямо здесь и сейчас для успешного решения ряда организационных и технических проблем люди должны были становиться «культурнее» в самом приземленном смысле этого слова, начиная от овладения основами наук и заканчивая усваиванием более высоких, чем прежде, норм бытового поведения.
