Читать онлайн К портретам русских мыслителей бесплатно
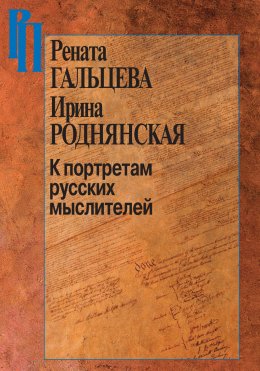
От авторов
Эта книга – собрание работ и очерков, писавшихся в течение десятилетий. Она не претендует на роль курса по истории русской мысли последних двух веков. У нее другая задача: представить облик и творческий пафос выдающихся русских умов в обновленном философском, прежде всего – христианском ракурсе, а также по возможности развеять накопившиеся вокруг этих имен – в особенности за годы советской власти, но и после нее – ложные толкования и аберрации.
Представленные тексты создавались в разное время, и выбор темы всякий раз диктовался актуальными запросами общественного момента. Так же, в зависимости от адресатов, варьировались жанры – будь то теоретическое исследование или публицистическое эссе.
Тем не менее мы надеемся, что читатель обнаружит в этой, шаг за шагом складывавшейся, книге мировоззренческое единство и логическую последовательность.
В «Приложении» авторы обращаются к преломлениям некоторых из поднятых ими тем и проблем в философских и публицистических текстах, обнародованных в последнее время.
* * *
Пристатейный библиографический аппарат в основном охватывает источники, привлеченные при подготовке первых публикаций; однако в некоторых случаях он ощутимо дополнен ссылками на более позднюю литературу – в особенности это касается работы «Владимир Соловьев и Ф.М. Достоевский в умственном кругу русских консерваторов XIX века». Некоторые тексты, предназначавшиеся для устного произнесения (выступления, доклады), а также для массовой периодики, в качестве популярных очерков, – ссылочным аппаратом не снабжены.
В начале каждого текста под чертой указываются сведения о первых публикациях
В цитатах места, выделенные их авторами, даются разрядкой, а курсив в них, как и в других случаях, принадлежит нам.
Р.Г., И.Р.
Александр Пушкин
Р. Гальцева
Пушкин и философия: На подступах к теме1
Насколько мне известно, до сих пор никто не брался за метафизику Пушкина. Но вот вышел труд Авраама Самуиловича Позова, прямо так и названный, труд необычный и даже уникальный (печатается по первому изданию, опубликованному в Мадриде в 1967-м году). И это вроде бы понятно, ибо метафизика предполагает у человека сознательное намерение посвятить ей свои умственные силы, задаваясь вопросами о «едином и многом», о сверхчувственных принципах и первоначалах бытия. А Пушкин как будто в такую материю не погружался (и даже, согласно глубоко укорененному убеждению, был врагом всякой метафизики). Нет также исследования, которое бы трактовало «философию Пушкина»2. И это можно понять, потому что, будучи более систематизированной и расширительно толкуемой метафизикой, философия есть дисциплина, а следовательно, тоже предполагает сознательное формулирование своих тезисов и постулатов. Ибо если по своим целям она экзистенциальна и призвана отвечать на коренные запросы человеческого существования, а в конечном счете на вопрос о смысле бытия – и тут она родственна искусству и религии, – то по своим средствам она близка науке, потому что должна быть убедительна для самого мышления, а значит, она должна пользоваться понятийно-дискурсивным аппаратом. За Пушкиным же до сих пор не числились опыты теоретизирования.
Итак, о философии Пушкина можно говорить метафорически, имея в виду то, по словам М. Гершензона, «неповторимое видение вселенной», которое носит в себе каждый человек, тем более что Пушкин – не «каждый», а, по характеристикам современников и исследователей, «умнейший муж России», «учитель мудрости», наконец, «истинно великий мыслитель». Попытку реконструкции такого целостного «ви́дения» предпринял Н. Бердяев в отношении Достоевского, корректно назвав свое философское сочинение «Миросозерцанием Достоевского» и отказавшись от первоначального названия – «Философия Достоевского», хотя автор «Братьев Карамазовых» и «Дневника писателя», в отличие от Пушкина, признавался в своей склонности к философствованию, пытаясь по временам изъясняться на понятийном языке. Пушкин не демонстрировал себя любомудром, но впечатление огромной умственной силы возникает при первом знакомстве с поэтом, переходя затем в восхищенное изумление.
Автор «Метафизики Пушкина» вслед за Д. Мережковским и Гершензоном и, конечно же, Достоевским призывает и стремится сам вникнуть в недооцененное духовное содержание пушкинского творчества. Своей книгой он откликается на сетования С. Франка: казалось бы, каждая строка поэта и каждый день его жизни исследованы вдоль и поперек, а его миросозерцание, его идейные воззрения остаются в небрежении?! À propos надо отдать должное самому Франку, автору непревзойденных «Этюдов о Пушкине», заметно высветливших эту панораму.
Однако в своей методологии Позов – не последователь Франка. Его философские дистинкции и дизъюнкции, категориальные различения и противоположения экстраординарны. Он – и в этом специфика его позиции – разрывает связь между метафизикой и философией. Он утверждает, что Пушкин метафизик, но не философ, потому что он не признавал такой вещи, как методику философского рассуждения. А дело в том, что для самого автора все, что началось в этой области в Новом времени, с Декарта, совершенно неприемлемо. Классической философии нашей эры он противопоставляет любомудрие древних греков. Вышедший из мира патристических занятий, издав книги «Логос-медитация древней Церкви» (1964), «Основы древнецерковной антропологии» (т. 1, 1965—1966), Позов парадоксальным образом сомкнулся с экзистенциалистскими критиками философского рационализма – от Льва Шестова до М. Хайдеггера. Правда, как христиански мыслящий человек он не ушел так далеко по пути разрыва с рациональной мыслью, чтобы перешагивать через головы Платона и Сократа и остановиться лишь перед барьером из досократиков, как это получилось у немецкого законодателя философской моды наших времен. Но все равно, совпадение знаменательное.
Впрочем, парадокс, когда, наступая с противоположных сторон на философскую рефлексию, антиподы невольно протягивают друг другу руки, мог наводить на раздумья испокон веков: что есть такого общего, к примеру, между, с одной стороны, киниками с их культурным опрощением и, с другой – извечной церковной установкой на то, чтобы пресечь, осадить неуемное «самосмышление», разорвать «афинейские плетения»? Противников своих церковь часто видела в так называемых «светских богословах» – как в непрошенных самодумах.
У Позова в нелюбви к философии смешиваются оба мотива – экзистенциальный и ревнительно-церковный. Он не любит спекулятивно-схематического доктринерства, но не любит и само философское доверие к разуму в его собственном домене. К чему самодумствовать, когда у Отцов церкви, к примеру у Максима Исповедника, имеется «ясный и исчерпывающий ответ», на какое средство познания, на какое орудие надо полагаться «истинному философу»? – На «сверхразумное соединение (с познаваемым существом или причиной)», которое стяжается познающим (умом), достигшим высшей степени нравственности и любви к Богу. Но Позов с Максимом Исповедником говорят о разных вещах. Отец церкви под «истинным философом» подразумевает богослова, интерпретатор же, подменяя разумное начало мистическим созерцанием, отказывает человеческому разуму в его запросах и способностях. Автор впадает в распространенный среди ревнителей благочестия «мистический гиперболизм», когда все срединное, человеческое, несовершенное, но реально данное подменяется идеально заданным.
В неприятии дискурсивного языка философии Позов делает своим единомышленником и героя книги, хотя вроде бы можно предположить, что Пушкин как глубокий и здравый, чуждый утопизму ум не мог бы укорять философию за то, что она – не мистическое богословие, а как поэт, ни на что не могущий променять достоинство свободно творящего духа, не захотел бы отнять его и у человеческого разума. Однако Позов прямо-таки на шестовский манер утверждает: «Пушкин знал хорошо, что философская система есть тюрьма для человеческой мысли, а философ – тюремщик мысли, и таковы все без исключения представители новой философии». При этом ссылается автор на ранние пушкинские стихи и, конечно же, на известное письмо поэта к А.А. Дельвигу от 2 марта 1827 года.
Однако основательны ли его доводы? «Отвращение к философии заметно у Пушкина с юных лет», – пишет автор. На самом деле, здесь путаница в предлогах: у автора есть основания только констатировать, что поэт куражился над философией в юные лета. Но что такое «юные лета»? Настроение беспечного разгула в лицейских стихах Пушкина, на которые ссылается наш автор, «Городок», «Мое завещание», «К Батюшкову», «Пирующие студенты», «Послание Лиде», – неизбежная дань пылкого поэта – молодости. Но азарт жизнелюбия требовал жертв, как требует их всякая страсть; юный жрец Вакха и Киприды свергает «холодных мудрецов», стоящих на пути к чувственным усладам, срывает «завесу» «Платоновых химер», скрывающую от нас радости жизни. И понятно, что философии (вкупе с «латынью» как символом тяжелодумности, «педантства» и «скуки») достается больше всего. Под нож вместе с Платоном и Кантом идут Сенека и Тацит. Исключение сделано только для Сократа – юный поэт попал тут в ногу с философской модой XX века: отправляться за точкой опоры в античные времена, – но увидел он в этом древнегреческом праведнике, искателе добра и проповеднике самопознания другое лицо: знающего толк в жизни проповедника наслаждения, лишь укрывающегося за «своею важностью притворной»: «он в жизни жил», «любил пиры, театры, жен». Сократ был выделен из всего философского цеха не в качестве учителя философии, а в качестве жуирующего учителя жизни, учение которого было стилизовано юным поэтом под собственное тогдашнее умонастроение. Антиподом «умному» Сократу был выставлен другой знаменитый грек, олицетворявший для лицеиста бесплодность аскетического умствования, Диоген, очернительский портрет коего в том же «Послании Лиде» полностью выдает – по отталкиванию – ветреную философию жизни Пушкина этих бурных, «безумных» лет: «Злой циник, негу презирая, / Один, всех радостей лишен, / Дышал от мира отлучен. / Но с бочкой странствуя пустою, / Вослед за мудростью слепою, / Пустой чудак был ослеплен; / И воду черпая рукою, / Не мог зачерпнуть счастья он».
И пусть ламентациями о тяжелом «похмелье» поэт поделится позже, юношеский культ удовольствий он переживал недолго. В нашу задачу не входит «отслеживать процесс», но вот результат: у зрелого Пушкина есть стихи, симметричные «Посланию Лиде»; это – стихотворение «К вельможе». Герой тут как раз любитель удовольствий, к которому прилагается по сути тот же самый оборот – «для жизни ты живешь», – что и когда-то (неправомерно) прилагался к Сократу. Как, однако, переменился взгляд автора, какая образовалась дистанция между ним и жизнелюбцем (вельможей)! Пушкин рисует нам портрет самого утонченного эвдемониста, высшей пробы эпикурейца и эстета, «любителя муз и неги праздной», и – не скрывает едкой усмешки над этой его философией жизни, показывая, как невысок ее полет. Это философия не жреца, не творца и не служителя прекрасного, но – усладителя собственных «прихотей» и «забав»: «Свой долгий ясный век / Ты смолоду умно разнообразил, / Искал возможного, умеренно проказил». А вот и момент окончательного дезавуирования – встреча вельможи с Бомарше: «Он угадал тебя: в пленительных словах / Он стал рассказывать о ножках, о глазах…»
«К вельможе» – это энциклопедия философии XVIII века. Описывая путешествия героя по Европе, Пушкин не обходит вниманием встречи его с тогдашними отцами-мыслителями и дает каждому из них концентрированную дефиницию, – что было бы совершенно невозможно без внутренней вовлеченности в мир идей. Поэт показывает себя знатоком их истории, точнее их филиации и глубоким различителем духов философии. Он чувствует себя как дома и среди древних (своего героя он называет «приветливым потомком Аристиппа», т. е. главы Киренской школы, развивавшей темы гедонизма), и среди новых ее лиц.
В легкокрылых, рождающихся как бы без труда, само собой, и потому вроде бы не претендующих на значительность характеристиках Пушкин на самом деле раскрывает смысл, а вместе с этим – и недомыслие, и умышленность модных учений века. При всей летучести, видимой непритязательности его определений мы вдруг обнаруживаем подспудную настойчивость, с какой автор хочет «просигнализировать» о том, что не все благополучно в философском королевстве. Так, в первый раз о Дидро говорится: «То чтитель промысла, то скептик, то безбожник», и во второй раз, три строчки спустя – то же в переводе на язык философских дифиниций: Дидерот назван тут «афеем иль деистом». Поэт самим повтором исподволь нудит нас задаться вопросом, а можно ли на самом деле быть – и что значит быть – и тем, и другим, да еще и третьим сразу. У поэта есть и собственный ответ, хотя он дан в самой ненавязчивой форме, ибо спрашивает он в понятиях, а отвечает в образах. Порок философского раздвоения, растроения позиции знаменитого энциклопедиста, прячущийся за словесными ухищрениями и актерским экстазом, передается в стихотворении через систему метафор и картин: «шаткий треножник», «софист» (что есть одновременно и философская категория), «глаза в восторге закрывал и проповедовал»… Увлекавший юного Пушкина Вольтер получил аттестат «циника», когда речь зашла о его отношениях с идеями; Гельвеций был назван «холодным и сухим», а его метафизика «пошлой и бесплодной». Резюме всей в целом философии Просвещения можно найти у Пушкина и в стихах, и в прозе. Тремя словами, составившими язвительный оксюморон, «энциклопедии скептический причет», поэт обозначил мировоззренческую несообразность и несостоятельность этой претенциозной философской школы, «которой, – по его собственному выражению, – восемнадцатый век дал свое имя», но которая по сути своей есть такая же обманная затея, как собрание служителей церкви без Бога. К тому же, по мнению Пушкина, философия Просвещения не только бесплодна по своему содержанию, но и опасна по своим общественным последствиям как прародительница революции («союз ума и фурий»).
Как видим, поэт – принципиальный критик и убежденный противник французского просветительства; между тем в его обличениях нет не только ничего антифилософского, а скорее наоборот: поэт не приемлет «энциклопедистов» как раз за нехватку философского ума, за интеллектуальную обывательщину, наряду с революционной поджигательностью. В то же время французские просветители – антиподы классической немецкой философии, философии ex definitionis с ее углубленной рефлексией и системосозиданием, которую как олицетворение всего философствования Нового времени А. Позов объявил главным предметом отвращения для поэта.
Взглянем теперь на основной козырь позовского доказательства, как и всех предшествующих и последующих доказательств антифилософичности Пушкина, – на знаменитый пассаж из письма Пушкина Дельвигу от 2 марта 1827 года: «Бог видит, как я ненавижу и презираю немецкую метафизику». Между тем фраза эта будет выглядеть совсем иначе, если учесть ее контекст, начиная с предшествующего ей предложения в письме3.
Пушкин совсем не спонтанно изливает свои чувства по поводу немецкого идеализма – он находится под моральным прессом, в положении человека, обвиняемого другом («Ты пеняешь мне…») и вынужденного оправдываться. Дельвиг недоволен сближением Пушкина с московскими «любомудрами», которые попали в плен к немецким любомудрам с их метафизическими вопросами (и навсегда потом остались с Шеллингом). Пушкина, живо чувствующего будущее за начинанием кружка В. Одоевского, Д. Веневитинова, И. Киреевского, А. Кошелева и других, который разовьется затем в творческое направление славянофильства, тянуло к этой компании энтузиастической молодежи («собрались ребята теплые, упрямые»), нашедшей, после самороспуска их «Общества» в 1825 году, пристанище в «Московском вестнике». Пушкин мечтал сблизить с этими молодыми метафизиками своих друзей из литературной аристократии – П.А. Вяземского, П.А. Плетнева, В.А. Жуковского, а возможно, и Дельвига и сделать журнал своим органом. К сожалению, это оказалось одним из неудавшихся литературных предприятий Пушкина.
Таким образом, выясняется, что письмо к Дельвигу – больше биографический, чем идейный эпизод из жизни поэта. Заметьте, как неубедительно, двусмысленно и маятникообразно звучат его разъяснения своей нелюбви к немецкой метафизике. С одной стороны, оправдывается поэт, собралась компания симпатичных и воодушевленных людей, с другой – он как бы пытается их разубедить в их философской приверженности: «Я говорю, господа, охота вам из пустого в порожнее переливать…». Вроде бы, Пушкин считает их занятие никчемным. Ан нет, тут же выясняется, что само-то по себе оно вовсе не пустое, потому что для немцев, «пресыщенных» уже положительными знаниями, т.е. для развитого в отношении конкретных наук народа, это хорошо. А для русских («но мы…»), которые еще должны накопить подобные знания, философия – это преждевременная умственная роскошь. (В «Гамлете Щигровского уезда» Тургенева герой задается риторическим вопросом: какое отношение философия Гегеля имеет к русской жизни?) Пушкин иллюстрирует это положение, вспоминая басню И. Хемницера «Метафизик» о попавшем в яму любомудрствующем человеке, которому бросают веревку, чтобы он выбрался оттуда, но которому, прежде чем ею воспользоваться, непременно нужно выяснить, что есть «вервие» вообще.
Как видим, метафизика осмеивается баснописцем – к чему присоединяется и Пушкин – не по своей сути, а по своему применению, как область бездейственного умствования, каковым метафизика становится там, где требуются неотложные действия. В иных же обстоятельствах подобное занятие не несло бы отрицательного смысла и могло бы быть оценено по-другому.
Но и эта оговорка об уместности метафизики в зависимости от внешних обстоятельств тоже выглядит уступкой другу, ибо в других и более ранних рассуждениях, к примеру в статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И.А.Крылова» (набросок которой сделан за три года до пресловутого письма Дельвигу), метафизика оказывается крайне злободневной для России: «Просвещение века требует пищи для размышления; умы не могут довольствоваться одними играми гармонии и воображения, но ученость, политика и философия по-русски не изъяснялись; метафизического (sic! – Р.Г.) языка у нас вовсе не существует». Здесь автор, как видим, не только не считает своевременным учиться философии, но настаивает на неотложности этого дела, начиная с усвоения ее языка. Мало того, эти интересы по важности вознесены Пушкиным над интересами собственного ремесла – поэтического творчества, о котором говорится в нарочито сниженном тоне – как об «игре», пусть и гармонической. Правда, предпочтение философии перед поэзией, выдвижение вперед задач философских по сравнению с поэтическими в данном случае объясняются у Пушкина ситуационно, так сказать, «неравномерностью развития» сфер духа в русской культуре, где поэзии больше повезло и она «достигла уже высокой степени образованности», а философия, увы, осталась в зачаточном состоянии. Но все равно, чтобы хлопотать о ней, нужно ее ценить, а уж никак не третировать.
Как часто, как рано и в каком благоприятном контексте мелькают у Пушкина слова «метафизика» и «философия» (что для него неразрывно)! Пушкин начинает агитировать за них в письме к Вяземскому от 1 сентября 1822 года: «Предприми постоянный труд, образуй наш метафизический язык, зарожденный в твоих письмах, – а там Бог даст»; то же в письме к нему же от 13 июля 1825 года; в наброске 1824 года <О французских историках и поэтах> он употребляет выражение «светильник философии»; в заметке 1830 года <О переводе романа Б. Констана «Адольф»> достижения перевода в области «метафизического языка, всегда стройного, светского, часто вдохновенного», он расценивает как «важное событие в жизни нашей литературы»; наконец, неоднократны похвалы перу Баратынского, соединившего «метафизику и поэзию»…
У позднего Пушкина мы находим и прямой панегирик заслугам «философии немецкой»: «Влияние ее было благотворно: оно спасло нашу молодежь от холодного скептицизма французской философии и удалило ее от упоительных и вредных мечтаний, которые имели столь ужасное влияние на лучший цвет предшествовавшего поколения» («Мысли на дороге», 1833—1835). А вот и исчерпывающий ответ на письмо Дельвигу – в статье 1836 года «Мнение М.Е. Лобанова о духе словесности как иностранной, так и отечественной»:
«Умствования великих европейских мыслителей не были тщетны и для нас <…>. Германская философия, особенно в Москве, нашла молодых, пылких, добросовестных последователей, и хотя говорили они языком мало понятным для непосвященных, но тем не менее их влияние было плодотворно и час от часу становится более ощутительно». Вот каковы его подлинные мысли о немецком классическом идеализме и о его русских поклонниках из «Московского вестника», которым Пушкин прощал и заумность языка. Какие еще нужны свидетельства?! И уместно ли после этого повторять заученную фразу о «презрении» и «ненависти» Пушкина к немецкой метафизике?!
Однако у поэта можно найти свидетельства не только в пользу ее общественной нужности, но и – собственной в ней потребности, что также до сих пор в расчет не принималось.
Уже в 1821 году в стихотворении «Чаадаеву» поэт говорит о себе, что он «познал <…> жажду размышлений», что он учится «удерживать вниманье долгих дум», вспоминая проведенные с П.Я. Чаадаевым «младые вечера, пророческие споры… поспорим, перечтем, посудим…». А ведь Пушкин в данном случае оказывается собеседником одного из самых философских умов России! Все это мало похоже на чурающегося «теории», «предметно мыслящего»4 человека – как пишет С.Л. Франк.
Автор «Евгения Онегина» мыслил также и себя участником захватывающих споров 2-й главы романа в стихах. Его легко представить третьим между Онегиным, героем с охлажденным, скептическим умом и поклонником Канта Ленским с «душою прямо геттингенской», кто «из Германии туманной привез учености плоды». Понятно, какого рода была эта «ученость» и вокруг каких «плодов» велась дискуссия. Ведь Германия – не без легкой иронии – названа «туманной» по причинам не физическим (по каким «туманным» именуют Лондон), а метафизическим. Ясно, что оба приятеля залетали «во области заочны» и дискутировали о предметах, относящихся к «последним», «проклятым» вопросам бытия, которыми занята была немецкая метафизика, что и подтверждается их, этих вопросов, беглой инвентаризацией в строфе XVI: «Плоды наук, добро и зло, и предрассудки вековые, и гроба тайны роковые, судьба и жизнь…» Трудно представить себе, что разговоры приятелей ведутся в стенах «духовной тюрьмы», каковой Позову представляется мир философии.
Но даже если бы мы не располагали приведенными выше аргументами, едва ли можно было бы вообразить, что Пушкин – закоренелый враг философствования. Потому что, во-первых, он человек нормальный, более того – образец человеческой нормы, человек «в полном смысле слова»; во-вторых, он гениально умный человек, «мыслитель-мудрец», не могущий друг игнорировать метафизические запросы человеческого ума и впадать в умоборчество. Надо помнить к тому же, что и к Богу он пришел во многом интеллектуальным путем.
Будучи умом не только глубоким, но и живым, Пушкин если и мог не любить чего-то в философии, то, как мы поняли, не ее саму, а ее «издержки» (т.е. грехи наши тяжкие, обременяющие каждое человеческое предприятие): претенциозное доктринерство, отлетную от бытия «схоластичность», нетрезвое философское прожектерство, ложную многозначительность жрецов любомудрия. Он – враг пустой абстрактности, но не обобщающей мысли. Он задается и вопросом «Что есть истина?» (который вынесен в эпиграф стихотворения «Герой»), но отвечает на него в духе притчи. Чего Пушкин не терпел, так это всякого рода подмен и смешений и, уж конечно, не выносил, когда на месте поэзии находил дидактические и педантские рацеи. Потому он недолюбливал рылеевские «думы» («целят, да все невпопад»), над которыми подтрунивал, ведя само название этих «песен» от немецкого слова «dumm» (глупый, тупой, дурацкий); он не питал симпатий к премудрому поэту Ф. Клоп-штоку и ему подобным, кто пишет «хладно и темно, что очень стыдно и грешно». Пушкина совсем не понимают, когда за чистую монету принимают его знаменитую провокативную максиму: поэзия должна быть глуповата. Мы имеем тут дело с иносказанием, выражающим протест против непозволительной замены поэтически воплощенной мысли мыслью голой, принудительно инъецируемой в наше сознание.
Отвращаясь от мудрености, Пушкин привлекался мудростью. Высоко (Франк считает, что даже избыточно высоко) он ценил стихи Е.А. Баратынского за то, что тот «мыслит». В послепушкинскую эпоху процесс смешения сфер и стирания граней только нарастал; наметилось встречное движение: философы пожелали быть поэтами, не будучи таковыми. И теперь не только сами поэты портят свои, скажем по-пушкински, «ботфорты» философской риторикой, но и профессионалы от любомудрия, соскучившиеся при нем, а скорее не выдержавшие метафизической нагрузки (к тому же такой обидно непубличной), все больше вторгаются на чужую, чуждую им территорию, отменяя границы поэзии и задачи философии.
Нет, неправ Позов, придавая Пушкину черты антирационалиста. В отличие от своего интерпретатора, поэт не превращает неприятие нездравого схематизма и спекулятивизма в воинствующую борьбу с умственностью как таковой. Но Позов, разумеется, прав, повторяя элементарную истину о том, что Пушкин – не профессиональный теоретик и даже не «рассуждатель», подобно Баратынскому, поэту, как выразился Франк, с «тяжеловесно-угрюмой философской рефлексией».
Однако прав ли сам Франк (и всякий с ним согласный), когда он отмежевывает Пушкина не только от философски перегруженной музы Баратынского, но и от «напряженной страстности метафизических умозрений» Ф.И. Тютчева. (Разве не родственно этой страстной напряженности признание Пушкина: «И сладостно мне было жарких дум уединенное волненье»?) Так ли уж всегда исключительно «предметна» была мысль Пушкина и так ли уж «ненавистно» было ему «всякое оторванное от конкретности умозрение»?
Дерзнем заявить: Пушкин не только знал, понимал и ценил, он любил философию (настолько любил, что шел против своей натуры и прощал ей «темный» язык!). Он не строил систем, но он умел «системно» мыслить; он не утомлял долгими рассуждениями, но по его «гениально умным идеям», как вырывающимся на поверхность протуберанцам, можно заключить о внутренней работе обобщающей (абстрактной!5), системной мысли. Вспомним пассаж из полемической заметки «Возражение на статью В.К. Кюхельбекера “О направлении нашей поэзии”», где Пушкин проводит различение между понятиями «вдохновение» и «восторг»: «Вдохновение есть расположение души к живейшему приятию впечатлений, следст. <венно> к быстрому соображению понятий <…>. Вдохновение нужно в поэзии, как и в геометрии. Критик смешивает вдохновение с восторгом. <…> Восторг исключает спокойствие, необходимое условие прекрасного. Восторг не предполагает силы ума, располагающей частями в их отношении к целому». (Чем не Кант, не автор «Критики способности суждения», чем не мастер «отвлеченного познания»?) «Восторг есть напряженное состояние единого воображения. Вдохновение может [быть] без восторга, а восторг без вдохновения [не существует]»6.
Перед нами – плод намеренной силлогистики, плод мысли, озадаченной отвлеченными вопросами.
Другое дело, что Пушкин редко позволяет себе демонстрировать ход дискурсивного мышления, он совершенствует «плоды любимых дум» целомудренно, про себя, в «уединении» и выпускает их на суд людской обычно уже облеченными в «легкие рифмы» или максимы.
Пушкин любил философию, но в его распоряжении было нечто большее. Чтобы понять то, что понимает философия, Пушкину не надо было быть профессиональным философом. Он владел высшим даром в отношениях с миром, более полноценных, чем у абстрактного теоретика; в его распоряжении находилось более совершенное средство, чем дискурсивное понятие. Английский пушкинист А. Бриггс писал, что взгляд этого великого поэта на мир стоит метафизической системы: в такой системе у него не было надобности, потому что он был философом опыта7. «Опыт», однако – это что-то слишком общее, да и банальное; все люди в той или иной степени обладают опытом.
И вот тут автор книги «Метафизика Пушкина», относящийся в общем к приверженцам русского культурно-религиозного ренессанса XX века, оказывается более близким к пушкинскому миросозерцанию, стремясь описать его в понятиях «всеединства», «конкретной метафизики» и мистической интуиции святых. И это открывает перспективы для содержательной конкретизации уникального пушкинского «опыта». Нельзя не согласиться с А. Позовым в том, что поэту было дано воспринимать мир как некую цельность, как множество, объединенное одним началом, или, по определению «всеединства», данному Соловьевым, «как отношение всеобъемлющего духовно-органического целого к живым членам и элементам, в нем находящимся»8; что поэту было дано знать место каждой вещи в иерархии бытия.
Вместе с автором книги можно назвать Пушкина и «конкретным метафизиком» – в отличие от тех претендентов на это звание, которые, однако, не выходили за пределы рассудочной сферы или в крайнем случае оставались при идейно нагруженных конвенциональных символах. Ведь чтобы быть «конкретным метафизиком», надо иметь в своем творческом распоряжении какую-либо «конкретность», кроме рассуждающей способности; надо суметь показать, что, узрев ноуменальную суть вещи, ты можешь передать ее в образе. А Пушкин с его способностью к «воплощающему высказыванию» (В. Вейдле) как раз и был «конкретным метафизиком» и по праву мог бы наследовать Андрею Рублеву, создателю «Троицы», названной Евгением Трубецким «умозрением в красках», – разумеется, с поправкой на то, что «краски» его – не киноварь, а литеры.
Наконец, Позов проводит существенную аналогию между пушкинским миросозерцанием и «умным чувством» святых и Отцов церкви – Исаака Сирина и Максима Исповедника, их непосредственным созерцанием «последних вещей бытия», невидимых «скрытых сущностей» (приближая вместе с тем творца к медитирующему пустынножителю и пророку). Однако предмет и цель пушкинского «всезнания» иные, чем у христианских подвижников. Художник творит произведение искусства, святой творит произведение из себя, в аскетическом подвиге претворяя ветхое свое существо в новое. Святой благодать стяжает, гений получает свой дар даром, как «естественную благодать». Для художника созерцание есть промежуточная стадия, «сырье» для творимой вещи; святой «пробивается» через вещный и через сущностный мир к «Единому на потребу», к созерцанию Бога лицом к лицу в лучах Фаворского света. Вот венец и награда для подвижника! Однако чтобы достичь этого visio beatifica, созерцания, доставляющего блаженство, прежде надо отрешиться от всех вещей: «Затвори двери твоей кельи, сядь в углу и отвлеки мысль твою от всего земного, телесного и скоропреходящего», – наставляет классик исихастской техники константинопольский монах XI века Симеон.
Но самоцельное созерцание мистика – совсем не то, что интуиция мира у творческого гения, которому плоды своего созерцания (тоже требующего уединения) надо предъявить миру овеществленными.
И все-таки есть правда в этой аналогии. Разность «задач»: в одном случае – «невидимая брань», в другом – творческая аскеза, – не мешает общности мировосприятия. И святой, и великий поэт (а великая поэзия есть всегда след от встречи с Божественным) «сквозь грубую кору вещества» прозревают прекрасный прообраз и изначальную благоустроенность мира. В «Откровенных рассказах странника духовному своему отцу» есть свидетельство о том же видении красоты сотворенного мира, открывающемся во время молитвы, тот же «горний ангелов полет», что в поэтическом вдохновении у Пушкина: «Все окружающее меня представлялось мне в восхитительном виде: древа, травы, птицы, земля, воздух, свет».
А. Позов акцентирует пушкинскую способность проникновения в смысловую иерархию бытия, соответствие духовного хозяйства поэта духовным первоосновам мира, присваивая поэтическому зрению Пушкина имя «серафического»; наш поэт предстает в виде многоочитого серафима. Несмотря на помпезность священных метафор, автор влечет нас по самому плодоносному пути в деле разгадывания пушкинской «конкретной метафизики». И приглашает поразмышлять над чудесным явлением.
Как же позволяет художественный образ просвечивать через себя трансцендентному порядку вещей? И святому, и поэту, отвечает автор, мир предстает «в живых образах». И хотя эта формула представляется слишком общей и неопределенной, чтобы объяснить установленную в творческом мире Пушкина корреляцию между художественным образом и ноуменальным первообразом, чтобы разгадать тайну присутствия идеального мира в изображении реального, она движет нас вперед, к разгадке.
Пусть сама по себе ссылка на «живость» образа не способна пролить свет на связь между дольним и горним; но этот свет может быть пролит на пути дальнейшей конкретизации – если посмотреть на поэтический образ как на олицетворенную сущность вещи. В самом деле, Пушкин-поэт мыслил и не дискурсивно, и не метафорически, а миметически ощутимыми эйдосами, ликами, выражающими ноуменальную суть явления. Идеи-эйдосы, если говорить на языке платонической метафизики, и их иерархические взаимоотношения между собой, заложенные в основания мира, предстают у поэта во плоти индивидуально-сущностной и потому конкретно-неповторимой.
Тут уместно вспомнить о символизме; конечно, поэзия Пушкина символична как всякая значительная поэзия, не остающаяся при одном текущем. Но символизм стал слишком расхожим понятием, пушкинская же муза не имеет ничего общего, во-первых, с нарочитым символизмом, проводящим свою «идею» средствами условного образа, – когда мы должны заранее знать или догадываться о правилах сигнификации, или зашифровки (что, к примеру, всегда «роза кивает на девушку, а девушка – на розу»); во-вторых, с символизмом «горизонтальным», выраженным в этом же примере, когда и означаемое и означающее находятся в пределах эмпирических.
В образах-символах Пушкина дано откровение бытия – внешнего и «субъективного», эмпирического и высшего порядков вещей в их соотношениях и их художественном сплавлении. В гипнотизирующем своей ритмически-словесной мощью стихотворении «Обвал» мы встречаемся не с аллегорией или с потусторонним, метафизическим пейзажем, а с символизмом в духе видения Данте (недаром мы находим у Пушкина сцену путешествия с Вергилием: «И дале мы пошли…»). Событие, описанное в «Обвале» в рамках природного пейзажа, силою образов выходит, однако, далеко за его пределы: в нем слышны раскаты хтонических стихий, и на нем лежит печать Божественного промысла. Этот второй, дополнительный план не мешает «Обвалу» оставаться земным пейзажем. Взаимопроникнутость планов – на сей раз земного и инфернального – еще очевидней в мистическом видении «Бесов», где психологическое состояние сбившегося с пути ездока оказывается одновременно и картиной демонической реальности.
Пушкин знает и то, как Божественное со здешним соотносятся в человеческом бытии. Он знает о людях такое, что знает только Бог, и выражает это знание богоподобно (что подчеркивается и в книге «Метафизика Пушкина»), знает он и о «непостижном уму».
Когда поэт говорит о Вольтере, своем бывшем кумире: «Циник поседелый, умов и моды вождь пронырливый и смелый», – он поражает умением так соотнести обертоны словесных смыслов, что в итоге мы не знаем, как назвать сказанное: это не сатира, не назидание, не панегирик, конечно же, но и не констатация. Это – проникновение в высшую, объективную реальность, облеченное в художественно непревзойденную форму парадокса.
Все эти разные аттестации фернейскому мудрецу приходят в столкновение между собой, в первое мгновение производя в нашем восприятии «сшибку нервных процессов», но тут же – и достоинства, и неприглядные свойства имярек как-то сами собой раскладываются на две противоположные чаши весов и уже сосуществуют таким образом, не отрицая друг друга. Мы присутствуем при совершении того суда, где «в подлинности голой лежат деянья наши без прикрас»… и без очернительства. Но при этой высшей объективности поэт «ухитряется» (так же богоподобно) быть милостивым и благорасположенным к человеку. Жертвенно, путем сердечных затрат, он разделяет жизненное бремя другого, подает ему в утешение и руку помощи и, в конце концов, просветляет его взгляд на мир. Пушкин несет людям добрую, благую весть (по многозначительному замечанию А. Бриггса).
Его всемогущество как создателя совершенных форм, продолжателя Божественного творения, только подтверждает, что в этом качестве ему, интуитивно постигающему план мироздания, не требуется еще какое-либо особое, рассудочное познавание этого плана. Другими словами, как творец он не был зависим от философии. Но ум его тоже требовал пищи, и когда им овладевала «жажда размышлений», – он был философом.
А. Позов не просто осознает уникальность всеведущего пушкинского зрения, он с живым волнением переживает всю грандиозность явления под именем Александр Пушкин. Вообще, он принадлежит к тем редким в пушкиноведении авторам, кто наперекор господствующей фактографии, текстологии и компаративистике углубился в духовный мир поэта, да еще взялся за такую неординарную тему, как метафизика.
Автор пленен Пушкиным, и это прекрасно. Однако в своей увлеченности он часто, что называется, не помнит себя, забывает о дисциплине исследователя и выходит далеко за рамки объявленного предмета. Многое в этой книге сдвинуто со своих мест, да и само название ее могло бы быть другим, к примеру: «Пушкин и европейская культура» или даже «Явление Пушкина». Но вообще-то никакое наименование не охватит всей представленной в книге экспозиции, или, точнее, скопления вещей, находящихся ко всему прочему в таком коловращении, что не всегда заметишь ценную бриллиантовую брошь или малахитовую шкатулку среди экспонатов броского кича или, наоборот, старой утвари. Причем часто на глаза попадаются одни и те же образцы, убеждая, что на этом вернисаже много дубликатов. Раскрывшему книгу надо приготовиться и к тому, что ко многим предметам прикреплены несоответствующие ярлыки и приложены тяжеловесные описания на мудреном и вычурном языке: эосфоризм, экфория, олоклирия, катастатический метасхематизм, эндиатетическое слово и т.п. И это – в тексте о поэте, изъяснявшемся прозрачно и изящно! Чувствуется, что Позов уже выступал автором таких богословско-антропологических сочинений, как «Логос-медитация» и «Логос-Христос». «Метафизику Пушкина», конечно же, сочинением не назовешь, скорее это (к чему мы уже подготовлены предыдущим) собрание пестрых статей или, быть может, лекций, где несхватчивым студентам приходилось повторять одно и то же.
Восторг перед Пушкиным получает подчас такой оборот, что ставит великого поэта в неловкое, не свойственное ему положение родного брата «апокалиптика апостола Иоанна», нового Предтечи, пророка «Ведомого Бога» и воплотившегося «исторического Логоса-Христа»…
Гимны в честь онегинской Татьяны принимают прямо-таки пародийное звучание своим неудержимым гиперболизмом. Она сверхчеловеческое существо, взобравшееся на «до-грехопаденческую высоту», «небожительница», в которой совершилась «победа над естеством». Между тем о Татьяне уже было найдено слово в том самом русле, в котором стремится рассуждать и к которому на самом деле принадлежит наш автор. Со времен Достоевского (а отчасти и Белинского) Татьяна поставлена на подобающее ей место «положительной» красоты, нравственно «совершенной» героини (у Достоевского, правда, не без почвеннического нажима). С. Франк добавил, кажется, последний штрих к ее дефиниции, сказав о «русско-христианском аскетизме» героини, осознавшей, что «единственный путь к умиротворению и спасению ее разбитой души лежит через самоотречение и исполнение долга»9.
Неумеренность и «перебор» в суждениях демонстрируются на обоих полюсах антитез автора, склонного к радикальным отталкиваниям и размежеваниям à la Шестов, под пером которого всякое различие превращается в абсолютный контраст.
Прежде всего, взявшись рассуждать о метафизике и философии, Позов высказывает о них такое мнение, которое можно было бы счесть за дикарское или обывательское, если бы оно не было нарочито экстремистским, ангажированным идеей мистического интуитивизма. У автора совсем не хватает собственно философской жилки, он нисколько не проникнут делом любомудрия, которое перекрывается, поглощается у него религиозным созерцанием и «восторгом». Все, что обретается чисто умственным путем, представляется Позову занятием праздным и бесполезным. Потому философы – это просто напыщенные пустомели, в подтверждение чего автор ссылается на историю философии, в которой он видит череду взаимоотрицающих амбициозных концепций. Он не воспринимает положительной стороны смены идей, составляющих в целом живое древо ищущей мысли, которая каждый раз стремится заново и полнее удовлетворить мировоззренческий запрос и, ревизуя предыдущие ответы, учитывает их неудачи и вбирает достижения. По крайней мере, так было вплоть до конца немецкой классической философии и продолжает быть в той мере, в какой еще где-то продолжает существовать приверженность принципам интеллектуальной достоверности.
В самом деле, двадцатипятивековая история метафизики, состоящая из непрекращающихся попыток прокладывания все новых умственных путей к подлинному бытию, после того, как предыдущие оказывались штольнями-тупиками, – это великое, пусть и трагическое, предприятие человеческого духа, доказывающее тягу homo sapiens к Трансцендентному (каковую в религиозном варианте так ценит автор Позов).
Странно звучат в труде Позова о метафизике и упреки ей в том, что она-де все сводит к одному принципу, – когда в этом и состоит предпосылка ее существования, ибо в этом заключается основное требование к ней рефлектирующего ума. Что есть единое сущее? Что есть субстанция?
Позов бросает укор интеллекту: «чистый разум», он не то, что «дух», – ничему не верит. Но ведь разум алчет ответов, убедительных для него самого; этого не может не знать метафизический автор. И ведь это равно относится ко всем философским формациям: от античного любомудрия до антиметафизического позитивизма, и в этом смысле их бесполезно разделять и противопоставлять, как делает это автор в своей книге.
О логическом достижении Декарта, сформулировавшего в тезисе «мыслю, следовательно существую», быть может, самый неукоснительный из возможных отправной пункт для разума, ищущего удостоверения в бытии, у Позова говорится как о «произволе спекуляции».
Кроме огорчительной антифилософичности, в книге бросается в глаза и угнетающее антизападничество. Понятно, что путь антропоцентризма опасен и гибелен, но автор по принципу короткого замыкания сближает раннее Возрождение, которое было эпохой христианского гуманизма, напрямую с позднейшим этапом внерелигиозного сознания, т. е. с антигуманизмом.
Ко всему прочему, восхищение Пушкиным оборачивается у Позова тем, что он впадает в недостойное разоблачительство мировых гениев, а к тому же всей послепушкинской русской классики. Не избегают порки: Кант, Шекспир, Ф. Бэкон, Наполеон, Гоголь, Толстой, Достоевский, Чехов да и мало ли кто еще. Бэкон оказался попросту «лгуном и клеветником», Толстой «растоптал своими босыми ногами» «чудные пушкинские всходы», Достоевский огласил русские просторы «истеро-эпилептическими всхлипываниями и воплями», Шекспир показал низший «психизм». И вообще Позов так ругает «отца нашего Шекспира» (названного так Пушкиным!) за изображенные им падения и преступления человека, будто сама порочность изобретена драматургом; ругает его и за то, что персонажи его слишком многословны. Читая все это, так и хочется заметить: Пушкин, конечно, великий человек, но зачем же стулья ломать?
Однако и персонажам его не всем повезло, некоторые из них подверглись доктринерски-бездушному препарированию. В «Русалке», этой трагедии вечно-женственного, исследователь усмотрел показательный казус на тему развоплощения человека (в лице героини) и превращения его в некое стихийное, животное существо. Такие же кривотолкования постигли и «Пир во время чумы», предельная напряженно-трагическая атмосфера которого охарактеризована Позовым как «кладбище духа».
Общая недисциплинированность мысли, замешенная одновременно на радикализме и на «православном» фундаментализме, равнение на Святых отцов при небрежности к деталям реальности и требованиям логики сказались и на внутренних противоречиях книги. Автор время от времени как бы забывает, чтó именно он писал о том или другом предмете, – не говоря уже о том, что в его хозяйстве совершенно не отрегулированы отношения между метафизикой и философией: изначально они вроде бы резко разводятся в противоположные стороны, а то вдруг сливаются воедино. Философия с ее «дурными навыками и нравами» только что была отринута в адские бездны, и вдруг автор сообщает, что она же «отвечает глубочайшей потребности самоутверждения человека в знании и бытии и – стремления к Высшему Бытию, к Богу». Так же странно автор не соотносит между собой филиппики против Евгения Онегина, «этой “квинтэссенции” жуирующего и фланирующего Петербурга» и т.д., со своими же последующими аттестациями его как «гуманиста в лучшем и подлинном смысле слова».
И все-таки книга, столь раздражающая своими несообразностями, ценна по существу, самим восприятием феномена Пушкина, исходящим из святоотеческой христианской антропологии, из учения тех самых церковных писателей, у которых автор порой искал повод для игнорирования реальности. Подход этот задает угол зрения и провоцирует мысль ввысь, в чем более всего нуждается наша постмодернистская эпоха «деконструкции» идеалов и торжества спекуляции, только не философской, а – на понижение духа.
Но что бы ни поставили мы в счет автору, он ведь прав в главном, – когда говорит, что Пушкин «превосходит всякое описание» (по Достоевскому, – это «чудесное, неслыханное и невиданное» явление; по П. Струве, – «непостижное» и «неизъяснимое»; по Франку, – изумительная, «общечеловеческая духовная реальность»), что в Пушкине опамятовался христианский европейский дух, исправлялся секулярный дух Просвещения (ср. известную формулу А. Герцена: на призыв Петра цивилизоваться Россия ответила явлением Пушкина), что в нем произошел синтез эллинизма и христианства (а это два столпа, на которых до сих пор держалась европейская культура), что жизнь его и смерть несут на себе жертвенный и пророческий для судьбы России отпечаток, что он залог будущего обновления и возрождения ее. Во всех этих мыслях и упованиях А. Позов не расходится с лучшими российскими умами и развивает ряд главных тем, поднятых ими.
С известным приближением о книге Позова можно повторить то, что С. Франк высказал о гершензоновской статье «Мудрость Пушкина»: она, «несмотря на почти невыносимую искусственность и нарочитость положительной конструкции, ценна своим любовно-внимательным отношением к духовной сокровищнице пушкинского творчества»10. В «Метафизике Пушкина» корни любви автора к великому поэту уходят в самую глубь.
Федор Достоевский
Р. Гальцева, И. Роднянская
О личности Достоевского
(По поводу романа-исследования Б.И. Бурсова)11
Книга Бурсова о Достоевском12 – одна из тех редких неожиданностей, одно из тех возмущений литературной тиши и глади, которым хотелось бы радоваться. Занявшись исследованием творчества Достоевского, Бурсов, весьма видный наш литературовед, убедился в справедливости той, к сожалению, временно у нас позабытой точки зрения, согласно которой понять Достоевского-писателя невозможно, минуя жизненно-личную основу его мысли и художественной работы. Он решительно отбросил условное и лицемерное разделение Достоевского на гениального мыслителя-художника и неприглядное (будто бы) частное лицо, некоего вздорно-раздражительного индивидуума, опутанного вдобавок сетями ложной идеологии. Приносить дань двусмысленного почтения первому, умалчивая о втором, еще недавно считалось хорошим тоном. Бурсов сломал эту традицию и даже на фоне многих интересных исследований сегодня действовал как партизан-одиночка. Своего героя он «облагораживать» не стремился, более того, как выясняется из чтения книги, «человек, который весь борьба» (определение Льва Тостого), – психологически не его герой. Но в самом названии романа-исследования – «Личность Достоевского» – звучит вызов предрассудкам достоевистики.
Бурсов воздвиг перед собой свою тему, как обнесенную стенами и рвами крепость, которую ему предстоит взять приступом. Все изложение напоминает штурм, атаку за атакой, перемежающиеся необходимыми маневрами, заходами с флангов и с тыла, внезапными перегруппировками соображений и аргументов и прочими военными хитростями. В этой манере сказалась не только зараженность страстным, наступающе-теснящим и вместе с тем оговорчивым стилем самого Достоевского; здесь очевидно и то, что у Бурсова не нашлось ключа к крепостным воротам – их пришлось взламывать.
Между тем маршрут Бурсова к личности Достоевского для текущего дня достаточно нов. Дело не в свободной от академизма, ассоциативной форме изложения, честь открытия которой принадлежит, в первую очередь, Виктору Шкловскому. Особая заслуга автора, на наш взгляд, заключается в том, что он сумел свежим взглядом оценить письма Достоевского, в которых он видит «самый верный путь к познанию его личности»13. И это не частность, а принципиальное решение.
Письма Достоевского, за незначительными исключениями, опубликованы уже давно. Они отлично прокомментированы, внимательно прочитаны всеми серьезными исследователями, стали источником фактов для биографов, наконец, разобраны на цитаты, главным образом в эпизодах, где идет речь о творческой истории романов или о чертах мировоззрения. И тем не менее очень немногие (А.С. Долинин как издатель этих писем, отчасти Л.П. Гроссман) приблизились к взгляду на них как на драгоценный и неподдельный роман жизни. Даже среди поклонников гения Достоевского многие отказывались признавать его письма литературно увлекательным чтением. В особенности западные читатели были прямо-таки шокированы этим потоком мелких денежных расчетов, жалоб, претензий, экивоков, обид, обнаженных признаний, бесцеремонных поручений и пр. – всей этой эмпирической кухней личного существования, распахнутой в эпистолярном наследии Достоевского. Сам же писатель, не трудно предположить, мало смутился бы тем, что его частная переписка стала достоянием любопытствующих потомков. «…и пусть [читают], пусть завидуют» (их взаимной любви), – восклицает он в ответ на опасения жены, что его интимное письмо к ней может быть распечатано14. Это не бесстыдство, а безоглядная готовность предаться «со всеми потрохами» человеческому суду, черта Митеньки Карамазова, не менее свойственная Достоевскому, чем его пресловутые мнительность и подозрительность (конечно, напрашивается мысль, что обе противоположные черты парадоксально связаны друг с другом). В Достоевском не было ни капли опасливой благочинности, он с готовностью смешивал верхний и нижний этажи собственной жизни и личности, их парадный и черный вход. Есть ощущение, что тот, кто погружается в письма Чехова, вторгается в не предназначенную для чужих глаз область; но тот, кто «копается» в письмах Достоевского, приближается к их автору с его молчаливого дружеского согласия. Ибо в Достоевском наряду с чувством виновности и недовольства собой жила трогательная ребяческая уверенность: всякий узнавший его подноготную поймет его, отыщет для него слова оправдания и утешения.
Бурсов окунулся в мир писем Достоевского, отдавая себе отчет, что за бытовыми обстоятельствами и деловыми материями можно разглядеть приключения души, изгибы духа и что здесь надо быть внимательным к подробностям, которые при поверхностном взгляде могут показаться несущественными и мимолетными. И что же? Раскрылось ли сердце Достоевского исследователю его внутренней жизни? Нет… – и неуспех осуществления тем разительней, чем вернее и точнее был замысел. Этот неуспех в своем роде не менее загадочен, чем «загадочный» (по мнению автора) герой бурсовского исследования. Прежде всего, загадочно отношение автора к Достоевскому.
Вот пассаж, с виду незначительный, отчасти запертый в подстрочное примечание, но живо характеризующий психологическую тональность книги Бурсова. Удивителен здесь сам ход рассуждений, какая-то сложнейшая дипломатия мысли с туманными целями. Н.Н. Страхов недвусмысленно заявляет о Достоевском, что «проповедник гуманности» – «был зол, завистлив и развратен»15. Бурсов не соглашается с ним, но и не оспаривает его. «Между прочим», роняет он, находились люди, разделявшие мнение Страхова. Из чего, по-видимому, следует, что это мнение не лишено оснований. Однако не тут-то было. Оказывается, лицо, судившее о Достоевском в унисон со Страховым, «как из всего явствует», было дурным и «ничтожным»16 человеком. Напрашивается вывод, что мнение Страхова скомпрометировано совпадением с мнением «ничтожного» М. Родевича. Но вывод этот так и не сделан. Внятная самооценка Достоевского (он не зол, а просто раздражителен и притом отходчив, близкие люди быстро замечают разницу между первым и вторым и привязываются к нему) оставлена без внимания. Заключительная фраза примечания искусно отводит взгляд читателя от этой самооценки и направляет его на подставную мизансцену: «великий» Достоевский, оправдывающийся перед «ничтожным» Родевичем, – хотя из приведенной цитаты совершенно ясно, что Достоевский не презирает своего корреспондента, но и не оправдывается перед ним, а скорее отчитывает его. Тон Достоевского в этом письме сварлив, но простодушен и человечен. Тон же Бурсова принадлежит лицу, торопливо заметающему следы от брошенных им же вскользь намеков. Бурсов как бы сталкивает лбами всех персонажей своего исследования, сам уворачиваясь от столкновения с ними. На Страхова брошена тень его общности с неким непривлекательным Родевичем, но брошена тень и на объект их суждений: согласие двух непохожих людей относительно пороков Достоевского автоматически наводит на мысль, что «нет дыма без огня». Достоевскому тоже корректно предоставляется слово, но тут же его четкий самоанализ отводится как жалкое самооправдание.
Отсутствие прямоты суждений или предположений, когда речь идет о старых злых легендах вокруг имени Достоевского, отличает позицию автора и при трактовке знаменитой истории с «каймой», которой Достоевский якобы просил обвести свой роман «Бедные люди», печатавшийся у Некрасова в «Петербургском сборнике». И в данном случае Бурсов тоже ничего не утверждает и ничего не отрицает. Может, дело с «каймой» было, а может, и нет. Может, был такой разговор, а может, все это наговоры «злых языков», которые хотели, чтобы Достоевский, «с его чрезмерными претензиями и жаждой немедленной славы», «был выставлен в смешном виде17. Все участвующие лица скомпрометированы и здесь – и Достоевский с его «чрезмерными претензиями», и его недоброжелатели-литераторы с их «злыми языками». И, как всегда, в заключение триумф молвы: «многие верили в эту историю»18. И, опять-таки как всегда, мелькает у автора: «это» в духе Федор Михайловича, «с ним это могло случиться».
Между тем Долинин находит для объяснения этой истории самые определенные слова. В своих примечаниях к письмам Достоевского он называет ее «сплетней», с удовольствием взятой на вооружение противниками писателя. Далее он рассматривает измененную версию этой же «сплетни», согласно которой просьба Достоевского насчет «каймы» касалась уже не «Бедных людей», а другого произведении, якобы отданного в проектируемый Белинским сборник («Левиафан»), а оттуда переданного в другое издание. «Ясно, – пишет Долинин, – что для сборника Белинского Достоевским ничего не было приготовлено, и, следовательно, никакого рассказа или повести Достоевского Белинский не передавал в “Современник”», а по поводу «Романа в девяти письмах», написанного «в одну ночь» и напечатанного в отделе «Смеси», – «совершенно невозможно себе представить, чтобы Достоевский мог требовать выделения его особой каймой»19. Наконец, комментатор предоставляет слово самому Достоевскому как решающему в этом деле свидетелю: «Ф.М. Достоевский, находясь в Старой Руссе, где он лечится, просит нас заявить от его имени, что ничего подобного тому, что рассказано в “Вестнике Европы” П.В. Анненковым насчет “каймы”, не было и не могло быть, что он никогда не получал стихотворения, якобы сочиненного Некрасовым и Панаевым насчет этой каймы»20.
Но есть сюжет, в отношении которого мерцающая манера полунамеков, эффектной переклички чужих мнений и весь вообще «театр теней» оказываются, если воспользоваться словосочетанием самого Бурсова, «человечески недозволенными»; речь идет о самой мрачной легенде вокруг Достоевского. Тема ставрогинской исповеди действительно терзала сознание Достоевского как крайний предел преступного, как последний «эксперимент» на путях зла. «Достоевский, – с похвальной проницательностью замечает Бурсов, – жил так, как будто репетировал роли едва ли не всех своих героев»21. Это вживание в роль, это глубинное соприкосновение с жизнью тех персонажей, которые ищут тьмы и бездны, не могло стоить ему дешево: почти непосильно вынашивать опыт тех, кто одержим злом…
И вот тут-то Бурсов воспроизводит эту черную легенду, ничуть не изменяя своему прежнему двусмысленному тону. Среди дурных «свидетельств», приводимых без опровержения, и случайно вклинившегося несогласия с ними (мнение С.Н. Булгакова), которое мимоходом же отклонено, его собственного прямо выраженного мнения отыскать невозможно. Но зато на свой страх и риск Бурсов берется угадывать, что в глубине души считал по этому страшному поводу тот или иной современник Достоевского. И опять знакомый рефрен: «многие поверили», – предполагающий анонимный, но слаженный хор, готовый огласить истину.
Однако тут явные недоразумения. В качестве одного из «поверивших» выступает Д.С. Мережковский, о котором Бурсов пишет, что он преступление Ставрогина «принял за преступление самого Достоевского»22. Между тем из того, что говорит Мережковский в своей книге «Л. Толстой и Достоевский» по этому поводу, как и из всей ее тональности, следует совсем иное. За ответами на «проклятые вопросы» относительно творческой личности Достоевского он обращается к подспудным, подсознательным ее сферам, инициирующим воображение подчас сильнее, чем психологическое «ясновидение» извне: «Конечно, ему самому не надо было убивать старуху, чтобы испытать ощущения Раскольникова. Конечно, тут многое должно поставить на счет ясновидению гения; многое – но всё ли? <…> достойно внимания уже и то, что в воображении его могли возникать подобные образы. Вот к чему никогда не было бы способно воображение Л. Толстого, проникавшее, однако, в не менее глубокие, хотя иные бездны сладострастия. Художественного любопытства Достоевского к “укусам тарантула” – к растлению девочки, к любовному приключению Федора Павловича Карамазова с Лизаветою Смердящею – никогда не понял бы Л. Толстой»23. И Мережковский задает вопрос (послуживший соблазном для Бурсова): «Мог ли» Достоевский «все это узнать только по внешнему опыту, только из наблюдений над другими людьми? Есть ли это любопытство только художника?»24 – вопрос, который предполагает совсем другой ответ, чем тот, который надеялся найти здесь Бурсов. Согласимся мы или нет с тем предположением человеческого «подполья» у Достоевского-художника, которое подразумевается в вопросе Мережковского, ясно одно: речь идет здесь о противоположении внешнему опыту внутреннего, наблюдению – самонаблюдения, а не чужим поступкам – поступка своего. То, что у Мережковского касается внутренней психологической картины навязчивых образов и состояний, сферы субъективных фантазмов, Бурсов относит к жизненной эмпирии, к области объективно-фактического. «Если понимать историю с малолетней как голый биографический факт, то, на мой взгляд, ею вообще не стоит заниматься. Прямых доказательств все равно не найти»25 (автор как будто досадует из-за их нехватки …).
Гроссман однажды заметил, что предъявленные Достоевскому обвинения Страхова тем и безнравственны, что их невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Мы не собираемся впрямую обращать эти слова против Бурсова. Страхов был – или считался – близким другом Достоевского, неожиданно его предавшим в письме ко Льву Толстому. Бурсов – не друг, а по статусу своему объективный исследователь, который призван и даже обязан говорить о том, о чем Страхову лучше было бы умолчать. И однако от него можно было ожидать другого тона – не такого уклончивого и недоброжелательно-пристрастного одновременно.
В начале книги Бурсов заявляет ко многому обязывающий тезис: путь к постижению личности Достоевского лежит через его самооценки. Это обещание во многом осталось неисполненным. Бурсов, действительно, проявляет интерес к самооценкам Достоевского (о его внимании к письмам писателя говорилось выше), но он бессилен в них вжиться из-за чуждости ему выразившегося в них жизненного склада. Он их скорее перетолковывает, чем истолковывает. Говоря о Достоевском, он апеллирует к Толстому как к некоторой кардинальной точке отсчета. И это сближает его со Страховым, который как бы отдавал Достоевского на суд Толстого, мысленно даже инсценировал и предвкушал этот суд, подражая позднетолстовскому слогу: «Я не могу считать Достоевского ни хорошим, ни счастливым человеком (что в сущности совпадает)»26. Страницы книги Бурсова, посвященные отношению Страхова к Достоевскому, написаны с особым воодушевлением. Анализ этого отношения достаточно тонок, выводы же из него неожиданны и очень существенны для понимания всей книги. По Бурсову, Страхова Достоевский «загипнотизировал» своим гением, заставил увидеть возможность ужасного в каждом человеке вообще и в нем самом, Страхове, в частности. Толстой был тем, в ком Страхов «искал опору для себя» и «спасения от наваждений достоевщины»27. Что ж, так оно, вероятно, и было. Страхов попал в орбиту мощного влияния личности Достоевского, влияния чуждого и тягостного ему; он не мог ни справиться с этим влиянием, ни отделаться от него, ни покориться. Он почувствовал себя в плену, а несвобода вызвала озлобление. Не трудно понять, что здесь не последнюю роль сыграла душевная узость Страхова. Однако у Бурсова – и в этом-то неожиданный поворот его размышлений – Страхов определенно играет роль жертвы, оказавшейся в тенетах Мефистофеля-Достоевского, носителя разрушительной силы. Главная беда Страхова, оказывается, была в том, что он общался с Достоевским: «Видимо, и тех, кто часто общался с ним, Достоевский способен был заразить двойничеством, которым было отмечено его собственное сознание и поведение»28. И далее: «Я не хочу сказать, что Достоевский одинаково действовал на всех, навязывая достоевщину. Тут многое значили личные качества другого человека. Талантливый литератор и философ, Страхов не обладал ни твердым характером, ни прочными самостоятельными убеждениями»29. Выходит, и сам Страхов виноват (о справедливости этих укоров умолчим). Но в чем же? В том, что был слишком бесхребетен, не обладал иммунитетом против ядов, источаемых Достоевским. Отрицательный эффект воздействия личности Достоевского, как видим, не ставится под сомнение.
В этой истории со Страховым, то есть на первых же страницах исследования Бурсова, уже обозначена общая и главенствующая концепция книги: Достоевский – «опасный гений». Приходится признать, что таково глубоко личное отношение Бурсова к своему герою. В этом и разгадка странного – маневрирующего и петляющего – тона книги. Так ведет себя человек в присутствии опасности, подавляющей, кружащей и обессиливающей его.
Причем опасности или ложности не тех или иных философско-идеологических построений, умозрительных идей, а опасности нутряной, стихийной, почти физиологической. Тот, кто собирается спорить с Бурсовым, вынужден начать с этого парадоксального утверждения: «гений» – и тем не менее «опасный».
«Опасным» Достоевского называли многие – Бурсов не первый. В этом неожиданно сходились люди разных, порой противоположных воззрений: Страхов и Горький, Д. Лоренс и Томас Манн. Гораздо меньше слов сказано о целительном и очищающем воздействии духа Достоевского. И такие слова тоже принадлежат совершенно не схожим между собой мыслителям. Религиозные философы ценили в Достоевском волю к смирению, экзистенциалисты – волю к бунту. В гениальности же Достоевского давно никто не сомневается. И вот, когда Бурсов предъявил свою лаконичную формулу, он разом затянул узел сомнений и проблем, мучивших многих: может ли быть гений опасным, другими словами, может ли быть гениальность разрушительной и разъединяющей силой? Хотя на этот вопрос ответили утвердительно Томас Манн своим «Доктором Фаустусом» и, косвенно, Горький, их заключение вряд ли следует принимать как окончательную истину.
Все дело в том, что понимать под гениальностью: природную силу с ее обильными дарами или тот целостный синтез духа, который достигается даже гениальными натурами только в итоге их творческой жизни. В глазах самого Достоевского гениями были люди, лишь вполне овладевшие своими нравственными и творческими силами, взошедшие на вершины, с которых можно обозреть человеческие пути и судьбы, и потому способные сказать людям «новое слово». Для Достоевского гениями были Данте, Шекспир, Гёте, Пушкин. Противоположная точка зрения, которая разумеет под гениальностью слепую неуправляемую мощь, истребляющую самоё себя в вихре безысходных противоречий, – характерна для декаданса. Декаданс эстетизирует такую гениальность, упивается ее мрачным трагизмом, отсутствием катарсиса. И с таким взглядом на сущность и назначение гения Достоевский вряд ли бы согласился. Конечно, в известном смысле любой гений опасен. Гений всегда нов, идет тягчайшим путем восхождения и силой присущего ему обаяния увлекает на этот путь других. С крутизны можно сорваться. Духовное беспокойство, духовная жажда – мучительны, и не каждый их выдерживает. Тот же Страхов был человеком даровитым и нравственно вменяемым, но известным образом ограниченным. Человек, стремящийся аккуратно выполнить всякий свой долг в поставленных им самим рамках, – мог ли он не видеть в Достоевском разрушителя, гибельную для его колеи стихию? И действительно, Достоевский был для него в этом смысле опасен. Однако есть абсолютное различие между восхождением и блужданием по кругу, между стремлением преодолеть трагедию через нахождение собственной подлинности – и упоением ее неразрешимостью. И то, и другое «опасно», но слово «опасность» несет здесь совершенно разный смысл.
Бурсов рисует Достоевского безнадежно раздвоенным и всю жизнь мечущимся по одному и тому же кругу. Он особенно прокламирует неспособность Достоевского к раскаянию: ведь раскаяние – уже путь (к изменению, совершенствованию), а не круговращение. Можно ли назвать человека, изображенного Бурсовым, гениальным? Вряд ли. Скорее перед нами талантливый и несчастный литератор, так и не сумевший за свою жизнь стать достойным вместилищем отпущенных ему сил и дарований. Кажется, исследователь сам ощущает неизбежность такого вывода из своей книги; недаром в ней эпитеты «гениальный» и «великий» звучат слишком часто, слишком назойливо, слишком некстати… Они звучат как отчаянные заклинания разочарованного поклонника или, не побоимся сказать, как подобострастная дань общепризнанному авторитету при отсутствии внутреннего уважения к этому авторитету.
По Бурсову, Достоевский – это сплошное нарушение всяческих норм, мер, границ. И он настаивает на личном, душевном сходстве Достоевского с такими его героями, как «подпольный» человек, Свидригайлов, Ставрогин. Герои Достоевского, действительно, не являются созданиями «объективного» и «незаинтересованного» художественного созерцания, – Бурсов это остро почувствовал и смело высказал. Но «автобиографизм» – не то слово, которое здесь уместно. Автор игнорирует существо происходившей в Достоевском внутренней работы. Он мыслью и воображением испытывал и проходил все пути, открывавшиеся перед человеком как таковым, в том числе и самые ужасные. Это не было «чистым» художественным экспериментом, безразличным к его жизненному существованию. Но это и не было личным житейским опытом, который потом служил бы материалом для писательской работы. От обычной работы художественной фантазии этот процесс отличался слишком большой степенью соучастия (именно в этом смысле Достоевский «брал» своих героев «из сердца»), от биографического события (пускай внутреннего, остающегося в границах переживания) – слишком большой степенью добровольности. Он подвергал себя добровольному мучению, удовлетворяя и свою исследовательскую страсть, и свое нравственное чувство причастности к любой человеческой судьбе и ответственности за нее. Да, не только мучение, но и наслаждение было велико! Но это наслаждение было связано не с переступанием запретов и норм (хоть бы и мысленным), а с трепетным приближением к загадке, имя которой – как всю жизнь повторял сам Достоевский – «человек». Многоликость, необычайная вместительность и «опасная» (по распространенному мнению) широта внутреннего опыта Достоевского связана с тем, что художник в нем неотделим от человека. «Идеологом» был Достоевский-человек, и эту свою первейшую человеческую задачу он решал как художник. Свой художественный труд он ощущал как свою человеческую миссию, а свою человеческую миссию – как произнесение «нового слова» о человеке. В этом смысле он как бы обязывался «побывать» и Раскольниковым, и Свидригайловым, и даже Смердяковым. И, наверное, он видел в этом не свое несчастье, а долг человеческого бесстрашия. Но в биографическом смысле он не был ни тем, ни другим, ни третьим, то есть был ими не в большей степени, чем прочие, чем все мы. Более того, художественно-нравственный опыт, мучительно нажитый им, был созидательным в отношении его собственной личности. Факты это подтверждают. Он в значительной степени преодолел в себе голядкинский комплекс неполноценности, голядкинсую мелочную уязвимость, одолел разрушительную страсть игрока (не приписывая себе честь победы – страсть эта, по его выражению, «оставила» его), победил свое мнительное одиночество, войдя в круг семьи, во многом одолел неизбежные патофизиологические последствия эпилепсии, клиническое течение которой грозит распадом личности. И это – на фоне талантливейших жертв алкоголя, безумных финансовых спекуляций и пр. – жертв, обильно населяющих вторую половину ХIХ века.
Герои Достоевского живут как бы на том же смысловом уровне, что и их создатель, говорят на общем с ним языке. Но в чем их общность между собой и отличие от человеческих типов, созданных иным творческим сознанием? Во-первых, в том, что человек здесь «идееносен», а, во-вторых, в том, что его идеи, его мышление экзистенциальны. Эти два как бы отталкивающие друг друга тезиса (в первом доминирует мысль, во втором – жизнь) могут быть примирены третьим: идея, которой поглощена здесь личность, есть всегда ключ к жизненному вопросу, вопросу о личном жизненном пути – «как жить дальше». И только в этом смысле «идеологична», «теоретична» жизнь человека в мире Достоевского. Пользуясь известным выражением, можно сказать: человек здесь мыслит, чтобы жить, а не живет, чтобы мыслить. И в этом отношении личность целостна; она не расчленяется на отдельно функционирующий мозговой аппарат, удовлетворяющий своим факультативным потребностям, и на живущий по собственным законам психо-телесный организм. Человеку Достоевского нужно «мысль разрешить», потому что сама эта мысль выражает насущную проблему личного существования, его самую глубинную и серьезную потребность. Дело в том, что человек здесь соотносится со смысловыми основами бытия посредством не одной лишь всеохватной мыслительной способности. Он чувствует себя причастным к бытию, так сказать, своими недрами, и потому жизнь его, способ его личного существования ставится им в зависимость от решения онтологически-смысловых вопросов. Этим его позиция отличается от традиционной интеллектуалистической философии, но этим же он отличается от экзистенциалистского героя-бунтаря, порвавшего как с Вселенной, так и с разумом. Всем известно, что Достоевский «дьявольски» умен (качество, которым он наделил и своих героев), но до чего нелепо было бы сказать, что он «интеллектуален». Поэтому заявление Бурсова о том, что у Достоевского есть «на все <…> своя теория»30, звучит невпопад. Достоевский – в неком отличии от Толстого – вообще не считал, что все можно и нужно объяснять.
Но жить в одном измерении со своими героями – не значит с ними отождествляться. Бурсов полемизирует с А.П. Скафтымовым, в своей классической статье настаивавшем на разграничении автора и героя «Записок из подолья». По мнению Бурсова, саратовский исследователь недооценивает общность трагических противоречий, свойственных тому и другому. Нет спора, духу Достоевского были присущи трагические противоречия. Но на противоречия, которые раздирают «подпольного», он к моменту завершения повести смотрел, если не как на разрешенные, то как на разрешимые. Знаменитые слова подпольного героя: « – Мне не дают… Я не могу быть… добрым!»31 – как раз та грань, которая отделяет его от автора. Ими Достоевский засвидетельствовал, что его герой находится в тупике. Сам же к этому времени был уверен, что «быть добрым», как и вообще кем-то «быть», – внутренний путь человека, на котором никто не может ему воспрепятствовать, кроме него самого.
Достаточно сравнить это изобличительное «мне не дают…» с патетической концовкой «Постороннего», где автор, А. Камю, действительно заодно со своим героем, чтобы почувствовать дистанцию, отделяющую Достоевского от героя «подполья». В душе Достоевского всегда оставался «неповрежденный пункт», позволявший ему наблюдать за своими персонажами с некой моральной возвышенности, при самом тесном участии в их муках и крушениях. Этим он и человечески, и художественно-идеологически отличается от трагических модернистов (будь то Ф. Сологуб, Ф. Кафка или французские экзистенциалисты), пытавшихся ему наследовать. Не новую, но справедливую эту мысль приходится напоминать в связи с исследованием Бурсова. Приводя своих героев к краху, Достоевский тем самым избегал собственного краха – не в «терапевтическом» смысле («убить Вертера», чтобы не покончить самоубийством самому), а прежде всего в том отношении, что на каком-то критическом перекрестке он расходился с их путем и избирал себе другую участь. Не только мастер «полифонических диалогов», неразрешимых «прений», но и мастер провиденциального сюжета, создатель, устроитель и сокрушитель воображаемых судеб, он всегда вовремя различал, что подстерегает его героев, и вовремя предостерегал самого себя. О нем можно сказать, что его «страстная и подлая» (согласно откровенной и жестокой самооценке) натура не знала меры; но не менее справедливо будет сказать, что его дух вовремя и издалека распознавал общечеловеческую моральную меру и склонялся перед ней. Достоевский со всей его неудержимостью, как мало кто другой, остерегался нравственного саморазрушения, и надо думать, что на каждую долю стихийной жизнеспособности у него приходятся две доли духовного усилия. Если читатели с этим согласны, пусть они рассудят, прав ли Бурсов, называя Достоевского духовно больным гением. Достоевский был физически больным человеком, и болезнь накладывала печать на его психику. В его жизни, особенно в молодости, были периоды, когда ему угрожало душевное заболевание. Но его здоровый гений вышел победителем из борьбы с болезнью тела и души. Здоровье его гения было единственным здоровьем, отпущенным ему и им не утраченным.
С Бурсовым тянет спорить по поводу едва ли не любой фразы. Создается впечатление, что каждая мысль, каждое побуждение Достоевского в переводе на язык Бурсова теряют исходный смысл – как будто не в состоянии наладить контакт инопланетные миры. Там, где Достоевский имеет в виду сверхличную Волю и Провидение, Бурсов пишет об объективной необходимости; где Достоевский выражает уверенность в своей художественной миссии, там Бурсову видятся «гордыня» и «удивительное самомнение»32 (и, значит, самозванство?); непримиримость и горячность Достоевского в защите своих убеждений Бурсов принимает за признаки душевной болезни (ход мысли, близкий психоаналитической идее адаптации) и т.п.
Язык Достоевского, подобно всякому индивидуальному языку со своей символикой, со своими смысловыми акцентами, «словечками», живет лишь в атмосфере внимательного к нему прислушивания. И хотя Достоевский не строил системы философских категорий, исходя из его миропонимания и лексикона, можно реконструировать его понятийный аппарат – что-то вроде совокупности излюбленных «экзистенциалов»: «проникновенный», «будущность», «судьба», «надрыв» (этим словом он обогатил русский язык), «поэт», «идея», «шиллеровщина», «эвклидов ум», «новое слово», «эффект», «выгода» и др. Понятие у него нарочито смещается, – оно должно нести новый смысл и к тому же эпатировать и «жалить». Но Бурсов невнимателен к своеобразной огласовке отдельных слов. И это невнимание есть часть некоторой общей глухоты к духовно-душевному миру Достоевского. Из-за этого иные фразы автора требуют буквально распутывания мысли. Есть прямо анекдотические заявления: «На всякую невыгоду он [Достоевский] смотрит с точки зрения, какую выгоду можно извлечь из нее»33, – словно идет речь о каком-нибудь прожженном деляге. «Выгода? Что такое выгода?»34 – риторически вопрошает «подпольный», и, оказывается, выгодой он называет как раз то, что с обычной точки зрения вовсе не выгодно. Достоевский считал совершенно неприемлемым руководствоваться утилитарно понимаемым принципом «выгоды» не только в жизни индивидуального лица, но и в жизни государства и нации: «Ведь с этим признанием святости текущей выгоды, – писал он в «Дневнике писателя» за июль-август 1876 года, – непосредственного и торопливого барыша, с этим признанием справедливости плевка на честь и совесть, лишь бы сорвать шерсти клок, – ведь с этим можно очень далеко зайти… Напротив, не лучшая ли политика для великой нации именно эта политика чести, великодушия и справедливости, даже по-видимому, и в ущерб ее интересам?»35. И как жизненный принцип самого Достоевского далек от утилитаризма, и как далеки от этого его интересы! Герои Достоевского находятся на линии «добро – зло», но не между пользой и вредом или выгодой и невыгодой. В романах-трагедиях Достоевского есть персонажи, преданные утилитарным воззрениям, но им-то как раз отводятся последние роли. Развратники и убийцы вроде Федора Павловича Карамазова или Федьки Каторжного – даже они ограждены от «деловых» Лужина или Ракитина стеной, отделяющей человеческое сообщество от обездушенных персон. Фраза о «невыгоде» и «выгоде» из письма Достоевского, к которой относится вышеприведенное умозаключение Бурсова, содержит обычное для писателя смещение смыслов: «невыгодой» обозначены здесь жизненные срывы и провалы, «выгода» символизирует залог лучшего будущего.
Достоевский любил слово «судьба», часто прибегал к нему в личной переписке и, понятно, не заботился о философском уточнении его смысла, но из контекста его писем ясно, что он в слова «судьба», «случай» по преимуществу вкладывал смысл: «промысел», «знаменье», «предзнаменование», видел в судьбе что-то вроде протянутой или предупреждающей руки. Бурсов тоже любит слово «судьба»: основной для главных героев Достоевского конфликт – «это столкновение единичной человеческой воли со свех-личными силами, с судьбой»; перед ними стоит «задача слияния того и другого, то есть восприятия личного веления как веления самой судьбы»36. «На первых порах своей сознательной духовной деятельности Достоевский убеждается в несговорчивости судьбы. Отсюда – либо бунт против нее, либо заискивание перед нею»37. Достоевский, по Бурсову, верит в силу случая, в «наитие», ибо он «нуждается во внешних толчках <…> дабы овладеть своими творческими силами»38. В такой трактовке Достоевский превращается в нечто среднее между правоверным гегельянцем, отождествляющим личные воления с велениями необходимости-судьбы, язычником, заискивающим перед божествами судьбы, и античным стоиком, смиряющим себя перед космическим роком (ведь именно в таком духе изображает Бурсов картину «тихой» и «спокойной» смерти Достоевского). Между тем Достоевский, всегда с надеждой чаявший будущего, «будущности» во всей широте этого слова, непрерывно ведет – яростный, восторженный, недоумевающий – диалог с Господином этого будущего, даже свое везенье-невезенье игрока (казалось бы, область, традиционно закрепленную за слепой фортуной) истолковывая как вразумляющие знаки свыше. Книга Иова, влияние которой на Достоевского неоспоримо, дает больше для понимания структуры его сознания, нежели разнообразные концепции рока, коренящиеся в совсем другой духовной почве.
Но чтобы не вести бесконечного спора с автором романа-исследования, имеет смысл выделить некоторые решающие пункты. Напомним среди них и те, что уже были упомянуты. Первый: в отличие от Толстого, который проделал путь личного совершенствования, Достоевский как личность оставался всю жизнь одним и тем же, пребывал в неизменном кругу одних и тех же проблем и переживаний; он не развивался, а двигался по раз и навсегда очерченной орбите. Второй пункт: раздвоенность и двойничество – черта, определившая личный и творческий склад Достоевского; вечная самопротиворечивость ставит его особняком между другими великими художниками; находясь во вражде со всей современной ему литературой и с самим собой, он всех тревожит и ни на что не дает ответа. Третий пункт: Достоевский – жертва окружавших его социальных обстоятельств, пример власти денег над вдохновением художника. (Мы поневоле здесь схематизируем рассуждения Бурсова с их текучестью и изменчивостью, но без этого пришлось бы безнадежно запутаться в сетях его уклончивых оговорок.)
Мысль о «неизменности» Достоевского Бурсов не столько аргументирует, сколько пользуется ею как удобным постулатом. Размышляя о зрелом облике Достоевского, он то и дело обращается к его юношеским письмам, юношеским честолюбивым планам, взрывам неудовлетворенного тщеславия и приступам отчаяния. Раз принимается, что Достоевский всегда оставался одним и тем же, почему бы не тасовать годы и страсти в каком угодно порядке? Между тем именно письма Достоевского, к которым автор обратился с такой охотой и с таким интересом, могли бы подсказать ему, что существовало, по крайней мере, «три Достоевских». Достоевский 40-х годов, еще не нашедший себя, одержимый своим Голядкиным и не осиливший, как он впоследствии сам признавал, великую и бесценную для него идею «двойника» именно оттого, что еще не мог над ней подняться; Достоевский, готовый пострадать за то, во что он (по известному замечанию Горького) никогда прочно не верил, и заранее этим озлобленный. Далее. Достоевский – недавний каторжник, полуавантюристический петербургский журналист и, вслед этому, скиталец по заграницам, похожий уже не на Голядкина, а на Дмитрия Карамазова, способный лететь в бездну и петь гимны жизни, беспорядочный, повисающий на грани позора и вместе с тем поразительно далекий от мучительной ипохондрии своих молодых лет, с восторгом говорящий о своей «будущности» в самые неподходящие для этого минуты – словно обладатель какого-то счастливого залога, словно человек, раз и навсегда излечившийся от смертельной болезни или получивший вечное прощение, для кого теперь все беды – не крушение, а отсрочка грядущего торжества. И, наконец, Достоевский последнего десятилетия, Достоевский Старой Руссы и Эмса, укрепленный поддержкой жены, выведенный из общественной изоляции успехом «Дневника писателя», уверившийся в своей учительной миссии, не достигший, конечно, внутренней бестревожности до самого смертного часа, но в те годы впервые понадеявшийся, что гармония достижима не только на несколько мгновений перед припадком падучей.
Разумеется, «три Достоевских» – не более чем метафора, существовал один Достоевский. Но он был живой, рывками развивающейся личностью. Инерция, косность, застой – то, что превращает личность в пандемониум призрачных двойников, а лицо в маску, – были ему ненавистны. Он изобразил этот процесс остолбенения и загнивания личности и – как всегда – изобразив, избежал его. Он был одним из тех людей, кто не способен жить, погружаясь в прошлое или ловя текущее мгновение, одним из тех, для кого все это становится мертво, если отнять у них будущее. Отдаленнейшее будущее значило для него так же много, как и ближайшее, он разделял логику и чувства вымышленного самоубийцы из «Дневника писателя»: если через биллионы лет наша планета превратится в мерзлый ком, если у нее нет будущего, то к чему сегодняшняя, сиюминутная жизнь?
То, что Бурсов называет неспособностью Достоевского к раскаянию, было связано с его постоянной надеждой на будущее. Раскаиваясь самым искренним образом в своем прошлом, он, однако, не мог заключить себя в нем, и здесь – одна из разгадок его «кошачьей живучести». От будущего он ждал неожиданностей и перемен, вопреки мнению Бурсова не считал их случайностями и охотно шел им навстречу, меняясь при этом сам. Эти перемены не были результатом рациональной и планомерной «работы над собой» (здесь Бурсов опять-таки ставит в пример Достоевскому Толстого, почему-то забывая о постигших того разочарованиях в своей моральной методе), но это были внутренние перемены к лучшему, так что благодарное доверие Достоевского к жизни оказывалось вознагражденным.
Толстой и Достоевский по-разному представляли себе соотношение изменчивости и неизменности в человеке. Толстой любил говорить о текучести человеческих чувств и настроений, о текучести той субстанции, из которой соткан человеческий характер (знаменитое: «люди – реки»), Достоевский же толковал об устойчивом ядре человеческой личности, с ее первоначальным зерном, в котором заключено будущее. Достоевский любил повторять, что он остался верен своей внутренней сути, он писал о «перерождении убеждений» при неизменности сердца; Толстой – оповестил мир о совершившемся в нем радикальном перевороте, зачеркивающем прежнюю жизнь. Но в определенном смысле можно утверждать, что Достоевский на протяжении жизни изменился больше, чем Толстой. Это видно по его героям: и князь Мышкин, и Иван Карамазов отстоят от Голядкина дальше, чем Нехлюдов от Иртеньева. Противопоставление Достоевского как человека, движущегося по замкнутой кривой, Толстому как человеку, уходящему в даль, по бесконечной дороге, не имеет ни фактических, ни психологических оснований. Впрочем, оно понадобилось Бурсову затем, чтобы подготовить почву для другого противопоставления: цельность Толстого и раздвоенность Достоевского.
Двойничество – великая и страшная тема Достоевского – и излюбленный предмет рассуждений о нем. После Достоевского и благодаря Достоевскому о двойничестве написаны тома; из фантастической темы романтиков, интересовавшей преимущественно историков литературы, двойничество превратилось в экзистенциальную и психопатологическую проблему. Нет сомнения, что Достоевский имел опыт «двойничества» и боролся с раздвоением в себе. Бурсов пишет об этом интересно, дает отличное определение «двойника», «чёрта»: это темная неуправляемая часть собственной души. Достоевский был хорошо знаком с этим «кем-то», подталкивающим в пропасть. Находил ли он наслаждение в общении со своим «двойником»? Возможно, временами находил. Но мы об этом ничего не знаем. Нам Достоевский оставил лишь описание мучительных и ужасных встреч своих героев с «двойниками». Бур-сов – не первый, кто утверждает: «Раздвоение сознания для Достоевского мучительно и сладостно»39. При этом ссылаются обычно на письмо Достоевского к Е.Ф. Юнге от 11 апреля 1880 года. В этом письме раздвоение сознания характеризуется как черта людей, способных к нравственному, духовному росту. Речь идет о свободной совести человека, возвышающейся над стихией темных страстей, о нравственных мучениях, которые одновременно «сладостны», ибо сигнализируют человеку о том, что он не погрузился в духовную спячку. «Это, – пишет Достоевский, – сильное сознание, потребность самооотчета и присутствия в природе Вашей потребности нравственного долга к самому себе и к человечеству. Вот что значит эта двойственность»40. Человек, который судит самого себя – раздвоенный человек. Об этом до Достоевского писал еще Кант в своих специфических терминах, а до Канта – многие религиозные мыслители. Достоевский не считал такое состояние души идеальным и (в отличие от Канта) окончательным. Судящий себя нередко не способен себе помочь; он не достигает цельности. Подчас суд над собой не спасает его от гибели и не оставляет у него надежды на внутреннюю перемену: Ставрогин приговорил себя к самоубийству и с ледяной педантичностью привел приговор в исполнение. Но раздвоение на человека-совесть и человека – игралища темных сил – все-таки благо по сравнению с безмятежной и бессознательной самоуспокоенностью. Это – любимая мысль Достоевского, начиная с «Записок из подолья». Однако амбивалентные переливы противоположных внутренних состояний он никогда не эстетизировал, считая такую амбивалентность разрушительной и «инфернальной». Из «цветов зла» он не составлял соблазнительных букетов.
И вот теперь, после всего сказанного о двойничестве как сущностной черте мира Достоевского, пришла пора заявить о принципиальной цельности его личности и личности его героя, «человека Достоевского». Какой бы разлад ни происходил в его душе: разлад «между умом и сердцем», между тем, что удовлетворяет нравственному сознанию, и тем, что влечет сердце прочь, между «двумя безднами», – человек Достоевского целиком отдается одной из них. Так, «пятами кверху», летит Митя Карамазов, так живет и сам его создатель: «Весь с головой, все разом на карту, что будет, – то будет!»41. Хорошо это или плохо – но места для упрека в жизненной раздвоенности тут не остается. Человек здесь не знает, что такое теплохладность, он губит или спасает свою душу, но он всегда совершает выбор, хотя бы и подсознательно. И тут нельзя согласиться с Бурсовым в том, что «идея Достоевского во всех случаях двойственна, а потому выбор поступка у него никогда не окончателен»42, – ибо выбор одного из двух решающих путей есть то, без чего в представлении Достоевского не существует человеческой личности, без чего не существовал бы он сам. При всей душевной раздвоенности в созерцании «двух бездн», для человека Достоевского невозможна реальная, жизненная двойственность, течение личного бытия сразу по двум руслам. Эта невозможность – грань, отделяющая трагизм от цинизма.
Та нечувствительность к развалу человеческой личности, с которой приходится встречаться в мире современного романа, рельефно оттеняет иноприродное устройство человеческого космоса у Достоевского. Героиня романа «Прелестные картинки» известной французской писательницы Симоны де Бовуар мысленно решает всечеловеческие вопросы – она думает, например, о том, как придать смысл существованию бедной работницы, занятой приготовлением бутербродов, но она же как-то невосприимчива к трещине собственного существования – ситуации любовного треугольника. И тем не менее автор «Картинок» не сомневается в ее исключительных человеческих качествах, единственных во всем романе. Достоевский мог описывать такого рода феномены в своих «репортажных» размышлениях о духе времени в «Дневнике писателя» (так, он считал, что «можно сказать любопытное словцо» по поводу одного молодого человека, который «донес» и «не понял», что «сделал низость»43). Но поставить такое лицо в центр своего человеческого интереса и творческого воображения (тем самым канонизируя его в статусе личности) было бы для него немыслимо. Субъект двойной жизненной бухгалтерии мог, конечно, сыграть роль привходящего, нужного для сюжета и контраста, персонажа, вроде «де Грие» из «Игрока», но по поводу его как кандидата в герои своего романа Достоевский сказал бы, вероятно, то же, что булгаковский Мастер про Алоизия Могарыча: скучно! А впрочем, Достоевский сам ясно ответил на этот вопрос: жалкие уродства не стоят литературы.
В мире Достоевского человек всегда знает «что есть что», то есть, какова аксиологическая и реальная весомость его действия, и не отказывается от принятия вины и ответственности. В самоубийстве Ставрогина, самоказни Раскольникова и Мити Карамазова, в надрывах Настасьи Филипповны и самоистязающих истериках «пьяненького» Мармеладова светит все тот же ясный свет мирового порядка.
Есть, пожалуй, у Достоевского два героя, нарушающие эту картину, оба они – при всей их между собой разности – принадлежат к совершенно особому духовно-психологическому разряду. Первый – Алеша Валковский из романа «Униженные и оскорбленные», в котором Достоевский рассчитывался с наивным гуманизмом и розовым мечтательством своей молодости, с умонастроением, названным им шиллеровщиной. (Притом можно согласиться с Бурсовым, что в самом Шиллере для Достоевского оказалось «все не совсем так», как он представлял в годы своей юности.) Любопытно, что не только среди униженных и оскорбленных, но и среди оскорбителей есть существа, не чуждые всему «прекрасному и высокому» (ироническая формула писателя). Эта как бы надмирная настроенность «милого», «пасторального» мальчика Алеши приводит его к чудовищному жизненному раздвоению и влечет за собой трагические события для окружающих. Герой же остается при полной, так сказать, невинности. Двойственность такого рода интересовала Достоевского как особый статус шиллеровской натуры на путях вырождения «надзвездного» романтизма в безответственный практический цинизм. Эту свою идею Достоевский впоследствии развил и в «Записках из подполья», и в «Бесах» (где генеалогическая связь между идеализмом человека сороковых годов, Степана Трофимовича, и нигилизмом его сына Петруши дана без обиняков). Мир, отчужденный от мыслимого идеала, превращается под взглядом разочарованного романтика в недостойный внимания и душевного участия континуум отбросов; таким путем отстраненно-идеалистическое сознание может освободить себя от серьезного отношения к мимотекущей реальности. И личное существование отставного шиллеровца грозит распасться на высокий образ мыслей и «кой-какую» жизнь.
Однако, несмотря на кровавую внутреннюю борьбу, Достоевскому не удалось изжить «шиллеровских» настроений и в зрелый период своей творческой жизни. Об этом свидетельствует его «манифест» человека – роман «Идиот». Не Ставрогин, как полагает Бурсов, а именно князь Мышкин выступает идеальным самообразом Достоевского (отсюда секрет его обаяния, по сравнению с несколько умозрительным Алешей Карамазовым), и все, что только можно было «решить» в «мирском» человеке, было решено Достоевским в образе Мышкина. Ответ на загадку «Идиота» – а именно, объяснение катастрофических последствий от встречи идеального человека с миром – нужно искать в прекраснодушном, идиллически-шиллеровском «остатке» князя. Он не теряет своей привлекательности «положительно-прекрасного человека», ибо выполняет одно свое призвание до конца – «быть кротким, как голубь»; но он изменяет другому своему призванию – «быть мудрым, как змий». Мышкин стремится жертвовать собой там, где надо защитить истину иным способом: нечто «взять на себя», – и в этом эгоизме совести как бы отстраняется от реальных последствий своего неопределенного, двойственного поведения. Соблазнившись мечтой о личном счастье и поселив в сердце новое чувство, он тем не менее продолжает обращаться со своим сердцем как с орудием «преизбыточной жалости» (по терминологии Фомы Аквинского). Этим князь Мышкин вносит извращение в мир человеческих отношений и хаос в смысловой порядок бытия, духовно гибнет сам и влечет к гибели тех, кого хочет спасти… Это исключительный казус в мире романных героев Достоевского.
Достоевский слишком хорошо знает, что такое желание «по своей глупой воле пожить!». Его герой может быть неправ и даже преступен, но он не фальшивит. Будучи «широк», он несовместимое созерцает – но не совмещает, ибо в своих действиях собран и устремлен – или просто несется – к своей точке. Поворот же на путь добра совершается у него не в силу рациональной дисциплины добродетели, а в самой глубине существа, в сердце. Здесь снова придется не согласиться с Бурсовым, нашедшим у Достоевского «головную» установку. Пусть лучше будет или очень хорошо, или совсем худо, – это убеждение Федора Михайловича было лозунгом человека крайностей и цельности, чрезвычайно далекого от разумного и уверенного жизненного стиля, от всего «дрянного и золотосрединного».
Не будь Достоевский цельной личностью, он не был бы гением. В письме к жене он замечает, что простодушие – его определяющая черта. Он часто говорит о своей наивности – это не поза и не ошибка; внимательный читатель его писем не может с этим не согласиться. Кое-кто, возможно, даже утратит пиетет к их автору – и вовсе не из-за чего-то в них отталкивающего, а потому, что их тон то и дело вызывает улыбку. Достоевский простодушен в своих упреках, жалобах, обидах, восторгах, надеждах; он ужасно боится быть смешным и притом не замечает, когда и где смешон; он, что называется, «не помнит себя». Конечно, он был великим артистом и, хотя жаловался на отсутствие «жеста», умел «контролировать» свое простодушие и, так сказать, придавать своей самозабвенности форму. И от этого, однако же, не переставал быть простодушным. Что ж, на то и художник, чтобы «со стороны» наблюдать собственное простодушие и обращать его в сырье для творчества, в то же время не утрачивая его. Пушкинский Моцарт, соединяющий в себе простодушие с мудрой глубиной, навсегда стал в русской культуре прообразом гения как такового, гениальности, взятой в ее сути. И даже такой по видимости негармоничный и «изнервленный» творец, как Достоевский, отвечает этому архетипу. Он проницателен, но не хитер, он знаком с подноготной человеческой души, но его нетрудно обвести вокруг пальца. (Здесь уместно вспомнить мысль Достоевского о Дон-Кихоте: красота, не знающая себе цены, – в этом глубокий юмор творения Сервантеса.) Как бы высоко он ни оценивал свои литературные успехи, мы всегда сталкиваемся с их, с его стороны, недооценкой – не от неуверенности и мнительности, а от… наивности. Работая над «Бесами», Достоевский сетовал, что, если б у него было время, он, быть может, сумел бы создать книгу, о которой спорили бы и через сто лет. Он, должно быть, даже немного щеголял жалобами на свои плачевно неиспользованные возможности. Сейчас это место в его письме вызывает улыбку.
«Гений и злодейство две вещи несовместные» – если не понимать эту формулу таким образом, что гений, дескать, не способен, на уголовное преступление (от чего ни один гений не застрахован!), то она оказывается безупречной. В ряду гениев остается лишь тот, кто не способен на злодейство саморастления. Гений – это цельность, первозданная или прошедшая через расколотость. Достоевский остался господином и целителем собственной раздвоенности, и потому он осуществился как гений.
Владимир Соловьев
Р. Гальцева, И. Роднянская
О современных уклонах в освоении соловьевского наследия44
(Вводные замечания)
Авторы помещенных в этом разделе статей обратились к творчеству Владимира Соловьева еще в 60-е годы прошлого века, на подъеме интереса к русской религиозной мысли, находившейся тогда под фактическим запретом. Не без наших инициативы и участия в неординарном 5-м томе «Философской энциклопедии» (1970) появилась посвященная этому мыслителю статья, удивившая публику уже тем, что объемом своим она превосходила помещенный там же словарный текст о сакральной фигуре марксизма – Фридрихе Энгельсе. Так был заявлен масштаб гениального русского философа в мало подходящих для этого условиях. В коллективной энциклопедической статье 5-го тома дан был, в частности, анализ метафизики Соловьева, его теории «мирового процесса» и его софиологической доктрины; отмечались и те гностические элементы, те мифологические конструкции, которые теперь нередко преподносятся в качестве шокирующих находок последних лет.
Десятилетие спустя мы занялись уже не столько теоретической мыслью Соловьева, сколько его общественно-духовной ролью христианского просветителя России. Корпус статей на эти темы создавался в течение последних двадцати лет истекшего века, естественным рубежом чему стали юбилейные мероприятия к 100-ле-тию со дня смерти философа.
Но этот рубеж оказался и неким переломным моментом в трактовке мысли Соловьева и его жизненного дела. Здесь сыграли роль два обстоятельства.
Во-первых, именно к этому времени появились заново изданные или прежде неизвестные источники к изучению его интеллектуальной биографии. Стали общедоступны «эмигрантские» книги: К.В. Мочульского о Вл. Соловьеве, биография философа, написанная его племянником С.М. Соловьевым, репринт труда С.М. Лукьянова «О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы» с прежде не публиковавшимся дополнительным томом (1990). Главное же впечатление произвел вышедший наконец в русском переводе45 трактат молодого Владимира Соловьева «La Sophie», писавшийся им в 1875-1876 годах по-французски и до тех пор доступный только в этом оригинале (Брюссель, 1977). Эти материалы сделали совершенно очевидным «эзотерическое» лицо Соловьева, которое не было абсолютно закрыто и раньше, но заслонялось его публичным обликом воинствующего христианского мыслителя.
Во-вторых, как раз в этот период на смену первоначальному увлечению мыслительной продукцией русского религиозно-философского ренессанса пришел порыв к неудержимой критической ревизии этого наследства ввиду общей радикализации концептуального мышления в кругу профессионалов. И первым под критический нож, естественно, попал отец-основатель религиозно-философского возрождения конца XIX —середины ХХ века, без творений которого не были бы возможны ни учение о «всеединстве», ни софиология, усердно развивавшиеся соловьевскими наследниками, а в означенное время ставшие мишенями для массированного обстрела.
Главный сюжет в сегодняшней переоценке задач, которые ставил перед собой Соловьев с юношеских лет и вплоть до последних сочинений, – это сомнение в его звании собственно христианского философа или даже полный отказ ему в таком звании.
В книге известного исследователя русской религиозной философии А.П. Козырева «Соловьев и гностики» (М.: Издатель Савин С.А., 2001)46 наш герой представлен в первую очередь как создатель внецерковной «вселенской религии», в которой христианство играло роль лишь одной из сторон, привлекательной для просвещаемой им публики и приемлемой для духовной цензуры47.
В этом капитальном научном труде Козырев проделал огромную работу по сопоставлению не только ранних, но буквально всех значимых соловьевских текстов с гностическими и прочими герметическими учениями, с Филоном Александрийским, немецкими мистиками и пр. Но при этом руководствовался он не лишенным предвзятости замыслом: во что бы то ни стало доказать, что Соловьев так и остался при своем «еретическом» проекте, тем или иным способом внедряя его в христианскую и даже по видимости церковную топику. Иногда эта тенденция ведет к откровенным натяжкам. Так, обратившись к одному из поздних «Воскресных писем» – «Два потока», Козырев обнаруживает «своеобразную “сублимацию” эротической любви в любви космической»48 там, где Соловьев, не обмолвившись ни словом об эросе (да и о «космосе»), говорит о переработке страстной душевной энергии в христианское «чувство, отвечающее добром на зло»49.
Козырев облегчает себе задачу интерпретации Соловьева как адепта гностической мифологии тем, что принимает во внимание исключительно «книжные» источники его вдохновения, принципиально не находя для себя проблемы в общеизвестных фактах его личного мистического опыта, его визионерства. Соотвественно, автор монографии превращает своего героя в рационального идеолога вычитанной доктрины, попутно усугубляя его «вину» осознанным актом такого выбора. Между тем проблема соловьевского «медиумизма» весьма драматична: то, что Козырев не без основания считает опасным отклонением молодого Соловьева от ортодоксии, было ему сначала «навеяно» и лишь потом неизбежно перешло в стадию «книжных» поисков. Какова бы ни была природа этого визионерства в аспекте «различения духов» (о чем не станем пока судить), оно для самого Соловьева было чередой жизненно важных событий, направляющих умственную деятельность.
Нельзя не согласиться с Козыревым: «Воскрешающий на рубеже двух эпох дионисийские глубины древних мифов [гностицизм] и поныне остается мощным и опасным генератором все новых мифов и адептов», «подменяет в душе человека веру, надежду и любовь бременем “эзотерического” <…> знания, [добытого] мистическим путем “посвящения”»50. Но подобная характеристика меньше всего отвечает целостному творческому образу Владимира Соловьева. Зато она приложима к некоторым современным сочинениям, которые выделяют в миросозерцании Соловьева именно это сомнительное зерно как главное и творчески перспективное.
Мы в особенности имеем в виду книгу доктора философских наук В.В. Кравченко «Владимир Соловьев и София» (М.: Аграф, 2006)51. Несмотря на философскую подготовку автора и научные методы работы в архивах, присутствие ее книги скорее уместно на тех обширных полках современных книжных магазинов, где красуется табличка «Эзотерика». Кравченко уверена, что построения Соловьева диктовались «необходимостью толковать в профанном поле философских сочинений несказуемое знание иерофанта, связанного священной клятвой молчания»52. Другими словами, исследовательницу восхищает то, в чем мыслителя подозревают наиболее радикальные из нынешних его критиков; а именно, что все его публичные выступления были прикрытием эзотерических тем от аудитории непосвященных или, точнее, бледным намеком на них53.
Монография Кравченко описывает роман Соловьева с Небесной Девой в разных ее ликах: языческой богини, гностической, спиритической, алхимической возлюбленной, христианской Богоматери – и, наконец, в женственном образе озера Сайма, «отношения» с которым стали вершиной просветленного эроса. Если Козырев вообще не хочет иметь дела с этой стороной духовного бытия Соловьева, уходя от соблазна посредством отсылок к «отреченным» книжным текстам, то покорившаяся соблазну Кравченко воодушевленно переходит с философского на чисто мифологический дискурс, стыдливо пряча этот переход проставлением кавычек вокруг наиболее вызывающих слов. К примеру: «… через “автоматические” или трансовые записи Соловьева был установлен “контакт” с Софией, возникла уникальная “обратная связь” между влюбленным и его возлюбленной»54. Впрочем, иногда рассказчица забывается и описывает эти любовные перипетии в трогательных беллетристических тонах: «В случае Соловьева богиня снизошла к нему в видениях и спиритических сеансах как Небесная Дева, добилась его любви, затем стала преследовать и мучить философа, и лишь в самом конце его жизни они примирились»55.
Хаотически смешивая философские концепты и мифологемы, Кравченко утверждает себя в качестве поклонницы той самой «вселенской религии», которая так и не была создана Соловьевым и осталась теневым наброском его умозрений. «Представляется, – заключает она, – что Соловьев преодолел не только западную, но и восточную, в том числе и ортодоксально-христианскую, ограниченность»; личная же вера Соловьева в Софию дает «надежду религии христианства на будущее»56.
В одном с В.В. Кравченко нельзя не согласиться. Мифопоэтическая утопия Соловьева о «смысле» любви, резко отвергаемая Козыревым с богословских позиций57, имеет – как это акцентируется в книге «Владимир Соловьев и София» – чрезвычайную культурную ценность. Без этого импульса не сложилась бы соловьевская эстетика и не был бы создан основной корпус его поэзии. Без его учения о преображающей силе эроса невозможно представить литературного движения «младосимволистов» и в особенности поэтического творчества Блока. Как ни рассматривать эту утопию в догматических тонах, из русской культуры нельзя вырвать столь драгоценную страницу.
Еще одно общее место в усиливающихся претензиях к Соловьеву относится к области его личного самосознания и оценки им своего поприща. Речь идет о поисках в его писаниях, начиная с юношеских лет (эпистолярий, трактат «София» и др.), мотивов мессианства и самозванного учительства. Нельзя отрицать, что огромные дарования Соловьева смолоду подталкивали его к мысли о своей исключительной роли в судьбах христианского человечества. Особенно это сказалось в ранних «софийных» фантазиях, которые цитирует Козырев: «Среди избранников первого порядка один находится в наиболее интимной связи с Софией и является великим священником человечества»58. Нетрудно догадаться, о ком идет речь.
Однако Козырев (и не он один) распространяет это «самопревозношение» юноши Соловьева на дальнейшую его деятельность, приводя в качестве улики его недолжное отношение мирянина к церковной иерархии. «В 70-е годы “учительной” Церкви для Соловьева словно и не существует. Он сам – учитель веры, проповедующий со светской кафедры <..> идею богочеловечества и всеобщего спасения. <…> В начале 80-х он уже ставит задачу учить архиереев. <…> Так родилась статья “О духовной власти в России”»59.
И такое вот «самозванство» продолжается вплоть до его покаяния в «Краткой повести об антихристе», где, как принято считать, ее антигерою приданы некоторые автобиографические черты.
Между тем, если вникнуть в духовный путь Соловьева, то легко убедиться, что его молодая гордыня скоро переродилась в другой тип самосознания: «мессианство» вошло в берега миссии – миссии христианского проповедника и пророка, в том смысле служения Истине, в каком сам Соловьев пишет об этом в статье «Когда жили еврейские пророки?» (1896). Его предсмертное восклицание: «Тяжела работа Господня!» – лучше всего свидетельствует об обретенном им самочувствии чернорабочего исполнителя высшей воли.
Двумя упомянутыми авторами представлены крайности в подходе к умственной деятельности Соловьева, которые разнятся в оценках, но сходятся по сути: это жесткая фиксация, условно говоря, оккультно-мистического горизонта мыслителя, распространенная на всю его творческую жизнь. Более осмотрительный взгляд на соловьевскую метафизику и ее прикладные задачи мы нашли у питерского исследователя С.П. Заикина, познакомившись с некоторыми его выступлениями в печати и в Сети60. Главное отличие от изложенных выше позиций здесь состоит в том, что уже во вступлении к своим лекциям Заикин рекомендует рассматривать философский путь Соловьева с «диахронических позиций, с особым вниманием <…> к выявлению смены акцентов»; иначе говоря, он постулирует эволюцию взглядов Соловьева.
Заикин, как и двое рассмотренных нами критиков, готов отметить несоответствие «между интимной и публичной “ипостасями”» философа61, соответственно, между «эзотерическим» и «экзотерическим» вариантами учения о «мировом процессе». Он противопоставляет портрет Соловьева-рационалиста в раннем труде А.А. Никольского и образ Соловьева-мистика в монографии К.В. Мочульского, «самого чуткого из его биографов»62. Опять-таки Заикин не чужд мнения, что сокровенная мистическая сторона мысли Соловьева в «Чтениях о Богочеловечестве» и после них вуалировалась отвлеченным понятийным аппаратом не без вынужденной оглядки на внешнюю среду, в которой протекала его работа.
Однако – и это чрезвычайно важно – питерский автор выявляет то, что не стало предметом интереса в подробнейших анализах Козырева и Кравченко: жизненный нерв устремлений мыслителя. Соловьев, говорит он в первой из своих лекций, хотел опереться не на философские, а на богословские основоположения (добро и зло, вина и грех); это не вопросы гнозиса – древнего или шеллингианского – а вопрошания религиозно-практического свойства: не только как возможен мир, но и зачем и ради чего он существует. «…Коренной пафос соловьевских построений носит не философский и не богословский <…> а проповеднический характер, – еще рельефнее формулирует Заикин свою мысль в послесловии к книге А.А. Никольского. – <…> [Соловьев] ближе Лютеру, а не Гегелю или Фоме Аквинскому, и создает он не философскую теорию, а новое мировоззрение, “регулятор” практической деятельности»63.
В отличие от Козырева, который фактически выводит софиологию Соловьева из его «начитанности», Заикин не сомневается, что «первая софийная интуиция далась Соловьеву в ранней юности», до всякого чтения на эти темы, и ее адепт «совершенно искренно верил, что связан с потусторонним миром и получает оттуда прямые указания» (лекция 1-я). Заикин не отрицает, что из писаний гностиков могло быть заимствовано само имя «София»64, – но не тот «непосредственный мистический опыт»65, ради которого возводилось его философское здание. «Одно дело, когда идея Софии выдвигается как естественный и логически обоснованный компонент системы, – как бы оспаривает автор один из тезисов книги Козырева, – другое – когда София выступает в качестве предпосылки, основания, а система создается “под нее”<…>»66.
Софии молодой Соловьев препоручает главное мировое дело – восстановление падшего, по ее же «вине», мира в соответствии с замыслом Бога о нем: одухотворение материи и собирание человечества в некую вселенскую Церковь. Нельзя не увидеть тут близости к христианскому упованию на преображение мира в «новое небо» и «новую землю». Но, как замечает Заикин, роль Логоса здесь пока еще отодвинута на второй план и вообще не ясна; однако в 1878 году, когда Соловьев выступил публично со своими «Чтениями…», у него происходит знаменательный сдвиг: а именно, «перемещение христологической проблематики в центр метафизических построений»; софиология теперь ориентирована на идею Богочеловечества, где вечный Богочеловек – Христос, София же объединяет природный мир и человечество, устремленные на воссоединение с Ним. Таким образом, Соловьев переходит к христоцентрической концепции мирового процесса, что (как замечает лектор) особенно ощутимо в перепаде между первыми десятью «Чтениями…» и последними двумя, которые нам известны в переработанном виде – по публикации 1881 года в «Православном обозрении».
В дальнейшем, по словам Заикина, Соловьев как философ и богослов движется «все дальше от Софии и все ближе к Логосу». В упомянутых выше «Духовных основах жизни» вектор мысли их автора – «объективно-церковный» (сочувственно цитирует исследователь С.М. Соловьева-младшего); а в третьей части «России и вселенской Церкви» (1889) ее автор вообще дает новую редакцию «мирового процесса», освобождая свою софиологию от гностических функций и даже частично разрушая ее.
Прочерченная в итоге траектория (представляющаяся нам близкой к истине) не означает, что в конечном счете С.П. Заикин отказывает Соловьеву в статусе отца русской софиологии. В заключение своих лекций он цитирует письмо Соловьева к Анне Шмидт от 8 марта 1900 года, написанное за несколько месяцев до смерти, где тот подтверждает верность софийной идее как вопросу «заложенному в самой сущности христианства, но еще не поставленному отчетливо ни в церковном, ни в общефилософском сознании <…>»67.
Сегодня этот богословско-философский теологумен подвергается полному отвержению со стороны так называемой неопатристики (от продуманных претензий о. Георгия Флоровского до атак Н.К. Гаврюшина и С.С. Хоружего). Но трудно представить будущее развитие религиозно-философской, христианской мысли без творчества Е.Н. Трубецкого, о. Павла Флоренского, о. Сергия Булгакова и др., для кого «софийная идея» была и источником вдохновения, и камнем преткновения.
Как бы то ни было, в представленных выше вариантах ревизии «соловьевства» есть один общий изъян. Везде в них отправным пунктом пути Соловьева оказывается «мифологема» Софии – между тем как юный искатель истины изначально отправлялся от христианства и Христа.
Двадцатилетний Соловьев, еще не захваченный софийной тематикой, решительно пишет своей кузине Е.В. Романовой (Селевиной) 2 августа 1873 года: «… настоящее состояние человечества не таково, каким быть должно <…> оно должно быть изменено, преобразовано» на основании «безусловной истины». «Сама истина, т.е. христианство <…> ясна в моем сознании»68.
Читая это исповедание верности христианству, не следует, однако, забывать, что христианство последних веков, «которое мы все знаем по разным катехизисам», Соловьев тут же называет «односторонним, недостаточно выраженным» и даже «мнимым», а к настоящему моменту «разрушенным» в сознании общества. И продолжает: «…пришло время восстановить истинное. Предстоит задача: ввести вечное содержание христианства в новую соответствующую ему, т.е. разумную безусловно, форму»69.
Эта титаническая миссия, взятая на себя юношей, подтолкнула его, после не удовлетворившего его курса богословия в Московской духовной академии, обратиться к герметическим источникам в надежде обрести то, что ему казалось утраченным в историческом христианстве. Этот духовный соблазн вылился, как известно, в полосу мистических созерцаний и переживаний загадочного свойства. Но теперь, после опубликования плода этих видений и инспирированных ими книжных поисков – трактата «La Sophie» («София»), становится ясно, насколько Соловьеву было необходимо включить навеянные ему «откровения» в границы христианства и как он добивался подтверждения этому от своей неведомой «собеседницы».
В том самом диалоге с «Софией», который приводит в своей книге Козырев, проходя мимо его надрывного драматизма, Философ (то есть сам Соловьев) волнуем вопросом, не ведут ли ее, «Софии», толкования к отступлению от христианства. «[Философ]: Но прежде чем выслушать твои откровения <…> я хотел бы знать, в каком отношении твое учение находится с верой <…> наших отцов. Является ли вселенская религия, которую ты возвещаешь, христианством в его совершенстве или у нее другое начало?»70. Выслушав подозрительно уклончивый ответ, Философ не успокаивается и с удвоенной настойчивостью повторяет: «Я спрашиваю, является ли вселенская религия религией Христа и Апостолов, религией основавшей новый мир и воодушевившей святых и мучеников?»71.
На очередном этапе этого диалога так и не давшая внятного ответа на прямо поставленный вопрос «София» уводит Философа в сторону от справедливой мысли о том, что христианство не может быть лишь одним из элементов в смесительном синкретизме разных вер, и предлагает ему именно то, чего он опасался: «вселенская религия <…> это реальный и свободный синтез всех религий»72. Не напоминает ли это прение известную сцену из «Братьев Карамазовых», где Иван сталкивается со своим двойником-искусителем?
Однако, как мы старались показать, частично опираясь на соображения С.П. Заикина, но главным образом – представив в настоящем издании ряд собственных статей о Соловьеве – великом христианине и духовном просветителе русского общества, – это искушение было им по существу преодолено. Софийные мотивы, как бы сильно они ни влияли в дальнейшем на его поклонников – мыслителей и поэтов, остались в качестве проблемного и провокативного сопровождения его христианского трудничества.
Соловьевский раздел этой книги как раз и собран вокруг не столько отвлеченных метафизических конструкций (которые, конечно, составляют интеллектуальное богатство первого русского философа-систематика), сколько вокруг животрепещущих тем, обращенных к драматическим условиям творчества Соловьева в кругу других русских умов, к его историософии, включающей отважную борьбу против западно-восточной церковной схизмы, к его страстному утверждению онтологического статуса Красоты, к его во многом пророческой эсхатологии. Все это и поныне связано с жаркими спорами вокруг текущих проблем жизни и культуры, – и именно будущему предстоит выявить немалую правоту прозрений Владимира Соловьева.
2011
Р. Гальцева, И. Роднянская
Владимир Соловьев и Ф. М. Достоевский в умственном кругу русских консерваторов XIX века73
Зимой и весной 1878 года, великим постом, на лекциях молодого философа Владимира Соловьева в Соляном городке присутствовали среди собравшегося здесь интеллектуального Петербурга два человека, глубоко причастных к судьбе России. Эти двое – член Государственного совета, воспитатель наследника Константин Петрович Победоносцев и прославленный писатель Федор Михайлович Достоевский.
К той поре оба, после совместного сотрудничества в газете «Гражданин» и частых вечерних бесед на животрепещущие темы, считали себя во многом единомышленниками. Но вот появился перед ними, на кафедре либерально-просветительного учреждения – Высших женских курсов, – чаемый человек из нового поколения, не «нигилист», а проповедник «положительных начал», с неслыханным по тем временам и с такой кафедры словом о «разумном оправдании» религиозных основ жизни, – и отклик каждого из этих двух выявил их подспудное духовное несовпадение в самом существенном: в том, что касается человека, свободы и России.
Религиозный лично, отдавший много сил богословским размышлениям и писаниям74, Победоносцев поначалу был подкуплен и размягчен начинанием смелого, но благонамеренного молодого человека. В конце февраля, то есть после первых соловьевских «Чтений о Богочеловечестве», он пишет своей постоянной корреспондентке Екатерине Федоровне Тютчевой, дочери поэта: «Здесь в Питере все теперь заняты лекциями молодого Соловьева – о философии религии. Я скучаю на всяких лекциях, но эти слушаю с удовольствием, не пропуская ни одной. Дело, задуманное им, – новость в России, приятная и много обещающая в будущем. Конечно, он еще очень молод, но успел вполне выносить в себе и обработать пропорционально предмет своих чтений для нашей публики. Рамка его – по содержанию своему слишком широка, необъятна, для 12 часов, в которые он должен втиснуть свой сюжет. В ней не остается места широкому, ясному развитию тех философских начал, которые он должен изложить, – и это недостаток заметный. Притом он не привык к публике – и аудитория покуда угнетает его более нежели возбуждает. Он конфузлив, не владеет вольною, живою речью и должен – либо говорить утомительно медленно с большими паузами, либо читать по бумаге. Но то, что он говорит или читает, связно и толково, и до сих пор ни разу не вырвалось у него ни одно из тех бестактных выражений, которые слышатся у нас всякий раз, когда бывает попытка секуляризировать в аудитории для публики священные предметы. Слушателей очень много и число их возрастает – из всех классов общества – впереди целая фаланга дам из высшего общества. Конечно, многие понимают очень мало, иные понимают вполовину, но все-таки все стараются понять – и это много значит. Я высоко ценю это возбуждение интереса к идеальным предметам и понятиям. Соловьев неоспоримо – молодой человек с талантом и знанием»75.
Далее Победоносцев, развлекая свою адресатку игривым сюжетом, описывает осаду молодого философа великосветскими интеллектуалками, которые «не дают ему прохода»: «Я <…> внутренне смеялся, видя юного философа сидящего промежду двух этих дам у чайного стола. – Хотели, чтоб он разговорился между ними о своей философии. Но он молчал упорно, изредка проговаривая. Неловкое положение для философа – и потом, слыша, что его принялись каждый день звать к себе то та, то другая, я искренно пожалел об нем и, принимая в нем участие, стал себя спрашивать, как молодой человек вынесет это испытание. Авось-либо устоит».
Давняя конфидентка Победоносцева, умевшая читать между строк еще не осознанное им самим, в этом благодушном отзыве уловила и в ответном послании от 24 февраля 1878 года высказала сомнение в пригодности слишком независимого молодого человека к исполнению идейно-охранительной службы: «Жаль, что Соловьев начал с того, что обращает светскую публику <…> Il est trop jeune, pour séculariser une pensée, qu’il ne devrait encore approcher, que pour demander son proper enseignement»76. И, вспоминая о своих московских впечатлениях от Соловьева, когда тот переживал первый шумный успех после защиты магистерской диссертации в 1874 году, Тютчева добавляет: «Года четыре тому назад, он имел в Москве то же самое положение, которым пользуется теперь в Петерб<ургских> гостиных, и помнится мне, что отказалась от его знакомства ради его самого»77. (Это знакомство могло тогда легко состояться через родную сестру Екатерины Федоровны Анну Федоровну Аксакову, жену известного славянофильского публициста и поэта Ивана Сергеевича Аксакова, в чьем доме, «в Толмачах близ Ордынки», Соловьев был радушно и даже восторженно принят78.)
Действительно, Е.Ф. Тютчевой удалось предугадать скорое разочарование Победоносцева в «молодом человеке с талантом и знанием». В многостраничном письме-отчете от 2-3-5 апреля 1878 года, адресованном той же Екатерине Федоровне, Победоносцев пишет: «Сегодня последняя лекция Соловьева. Я не поехал слушать его. Эти лекции мне надоели. Болезнь прервала их для меня на месяц, потом я слушал его в прошлую пятницу и вышел с неприятным впечатлением. Выступить с такою программою – большая претензия для молодого человека. Но всему есть мера. Есть сюжеты столь возвышенные, что неприятно, когда их касаются поверхностно. <…> А сегодня он предпринимает говорить про Воскресение и Вознесение. Я очень рад, что он кончает, и желаю от души, чтобы он обрел неудовлетворенность своими лекциями». И спустя некоторое время дописывает: «5 апр. <…> Лекции Соловьева кончились. Я не был на последней, и очень доволен что не был. Представьте, что этот молодой человек, говоря о воскресении и будущем суде, публично опровергает учение о вечной казни грешников, и один раз назвал это учение “гнусным догматом”! <…> Этого я не могу простить Соловьеву и не могу причислить его к сериозным и православным защитникам веры. Это опять тот же нигилизм личного самолюбия, личной гордыни, личной мысли, только в ином виде»79.
Разумеется, в Победоносцеве говорило не только оскорбленное чувство ревнителя православной догмы – все его духовное пристрастие к недвижности, к всяческим перегородкам в жизни и мысли, к ограничению личной самодеятельности восставало против свободного почина и свободного философствования Вл. Соловьева. Он не полагал, подобно Достоевскому, что «никакая из святынь наших не боится свободного исследования»80. Кстати, теологически скандальное заявление Соловьева о «гнусном догмате» положило начало его сомнительной репутации не только в глазах Победоносцева, но и в церковных кругах, – и, видимо, проникло даже сквозь стены Оптиной пустыни, так что можно предположить: некое (по слухам) порицание Соловьеву после их совместной с Достоевским поездки (летом того же 1878 года) в знаменитый монастырь связано не с впечатлением монахов от личного его облика, а именно с этим публичным демаршем81.
В отличие от Победоносцева, Достоевский по мере слушания не только не остывал к лекциям Соловьева, но, не пропустив ни единой, внутренне перерабатывал их как стимул для своей художественной и нравственной мысли. Примечательно, что вышеупомянутая антидогматическая дерзость лектора не только не шокировала религиозные чувства Достоевского, но, напротив, привлекла писателя своей этической подоплекой, побудив его вложить в уста старца Зосимы истолкование «вечных мук» как неизбывных укоров совести, а не загробных телесных пыток82. Мы еще вернемся к тому, как духовное общение с Соловьевым отразилось в круге тем и образов «Братьев Карамазовых», а сейчас перенесемся на несколько лет назад, к моменту первого знакомства писателя и юного философа – знакомства, которое с самого начала наметилось как идейное взаимоузнавание двух разных поколений, озабоченных судьбой России.
К этой встрече, состоявшейся в 1873 году, привела новая жанровая и общественная проба, предпринятая Достоевским, – печатание «Дневника писателя» в редактировавшейся им газете кн. В.П. Мещерского «Гражданин». «Дневник писателя» и предназначался прежде всего молодой аудитории, в которой, по мнению Достоевского, скопилась жажда правды и полезной деятельности, но которая блуждает без духовного руководства и попадает под нигилистические влияния. Как «ловец человеков» он закидывает посреди молодой России словесную сеть, захватывающую сердца прямым, безоглядным обращением к идеалу. Иногда эта страстная надежда ободрить, возвысить и даже «заклясть» общественное сознание достигает мучительно высоких, на грани срыва, степеней возбуждения: «…Мы убедимся тогда, что настоящее социальное слово несет в себе не кто иной, как народ наш, что в идее его, в духе его заключается живая потребность всеединения человеческого, всеединения уже с полным уважением к национальным личностям и к сохранению их, к сохранению полной свободы людей и с указанием, в чем именно эта свобода и заключается, – единение любви, гарантированное уже делом, живым примером, потребностью на деле истинного братства, а не гильотиной, не миллионами отрубленных голов…» Он и сам чувствует, что на этот, до неправдоподобия искренний, напряженно вибрирующий звук отзовется разве что энтузиазм юности. «А впрочем, – заканчивает он эту тираду, – неужели и впрямь я хотел кого убедить. Это была шутка. Но – слаб человек: авось прочтет кто-нибудь из подростков, из юного поколения <…>»83.
И действительно, уже на январский выпуск «Дневника…» за 1873 год отозвался письмом, в числе самых первых, двадцатилетний юноша: «Вследствие суеверного поклонения антихристианским началам цивилизации, господствующего в нашей бессмысленной литературе, в ней не может быть места для свободного суждения об этих началах. Между тем такое суждение, хотя бы и слабое само по себе, было бы полезно как всякий протест против лжи. Из программы “Гражданина”, а также из немногих ваших слов в №№ 1 и 4 я заключаю, что направление этого журнала должно быть совершенно другим, чем в остальной журналистике, хотя оно еще и недостаточно высказано в области общих вопросов. Поэтому я считаю возможным доставить вам мой краткий анализ отрицательных начал западного развития <…>. Впрочем, я приписываю этому маленькому опыту только одно несомненное достоинство, именно то, что в нем господствующая ложь прямо названа ложью, и пустота – пустотою»84. В последних словах этот корреспондент Достоевского увлеченно воспроизводит строй и тональность фразы из только что прочитанного «Дневника…»: «…порок по-прежнему называется пороком и злодейство – злодейством…»85. Но пишет он пером не робеющего ученика-поклонника, а человека, неукоснительно ведомого мобилизовавшей его истиной и потому нечувствительного к дистанции между собой и знаменитым адресатом. Этот юноша – Владимир Соловьев, «философ призывного возраста» (как вскоре будет насмешничать над ним недружелюбная часть прессы). Стоит сравнить энергию его сжатого письма с трепетным многоречивым излиянием старшего его брата Всеволода, письменно обратившегося к Достоевскому за месяц до того86, чтобы понять всю исключительность «улова», выпавшего на долю первых же страниц «Дневника писателя».
К Владимиру Соловьеву, вскоре после этого письма представшему во плоти перед Достоевским87, будущий автор «Братьев Карамазовых» мог бы отнести слова, какими он представляет читателям своего героя Алешу: «<…> это человек странный, даже чудак. <…> Чудак же в большинстве случаев странность и обособление. Не так ли? Вот если вы не согласитесь с этим последним тезисом и ответите: “Не так” или “не всегда так”, то я, пожалуй, и ободрюсь духом насчет значения героя моего <…>. Ибо не только чудак “не всегда” частность и обособление, а напротив, бывает так, что он-то, пожалуй, и носит в себе иной раз сердцевину целого <…>»88. Новый знакомец должен был поразить Достоевского необычайностью даже своего внешнего облика (чего, конечно, нельзя сказать об Алешиной наружности, в которой писатель намеренно подчеркивает черты здоровья и нормы). Вот рельефный портрет Соловьева той поры – глазами прозаически настроенного наблюдателя: «<…> Черные длинные волосы наподобие конского хвоста или лошадиной гривы. Лицо <…> небольшое округлое, женственно-юношеское, бледное с синеватым отливом, и большие, очень темные глаза с ярко очерченными черными бровями, но без жизни и выражения, какие-то стоячие, неморгающие, устремленные куда-то вдаль. <…> Длинные и тонкие руки с бледно-мертвенными, вялыми и тоже длинными пальцами. <…> Почему-то хочется называть такие пальцы перстами. <…> Нечто длинное, тонкое, темное, в себе замкнутое и, пожалуй, загадочное <…>»89. В этом странном образе, между прочим, схвачены черты отвлеченности и интеллектуальной отрешенности, характерные скорее для Алешиного брата Ивана90. Но при первом же приливе воодушевления во Владимире Соловьеве проступало то духовное сияние, тот дар возбуждать к себе особенную любовь, которым Достоевский наделит своего любимого героя Алешу. Близко общавшаяся в эти годы с Соловьевым его сверстница и слушательница на Московских женских курсах Елизавета Поливанова вспоминает: «<…> это лицо прекрасно с необычайно одухотворенным выражением; мне думается, такие лица должны были быть у христианских мучеников. <…> Говорил он тогда о своих широких замыслах в будущем. Он в то время горячо верил в себя. Верил в свое призвание совершить переворот в области человеческой мысли. <…> Когда он говорил об этом будущем, он весь преображался. Его серо-синие глаза как-то темнели и сияли, смотрели не перед собой, а куда-то вдаль, вперед, и казалось, что он уже видит перед собой картину этого чудного грядущего»91.
И такие крайние выражения восторга типичны для встречавших его тогда людей: «Высокий <…> тонкий, изящный, с головой пророка и бледным красивым лицом, обрамленным длинными, спадавшими волосами, он напоминал Иоанна Крестителя на картине Иванова и производил взглядом больших, казавшихся синими, глаз своих, блестевших иной раз в беседе вдохновением, поразительное впечатление. Нельзя было усомниться, увидев Соловьева, что перед вами особый человек, – пророк, гениальный поэт. <…> На нем лежала печать высшей духовной силы и одаренности; не показалось бы невероятным, если бы вокруг его лба засияли лучи», – вспоминает университетский товарищ Всеволода Соловьева, впоследствии хороший знакомый Владимира Сергеевича, Н.В. Давыдов92. Можно предположить, что и Достоевский не остался равнодушен к этой впечатляющей внешности. Уже подружившись с Соловьевым, он пишет в июне 1880 года из Старой Руссы гр. С.А. Толстой: «А Владимира Соловьева пламенно целую. Достал три его фотографии в Москве: в юношестве, в молодости и последнюю в старости; какой он был красавчик в юности»93.
Достоевского должен был поразить и поступок Соловьева, совершенно необычный для его среды и для научной карьеры: после окончания Московского университета он стал вольнослушателем Московской Духовной академии при Троице-Сергиевой лавре, в связи с чем пошли слухи о его намерении принять монашество. Впоследствии у Достоевского Алеша Карамазов столь же непредвиденно отправится в монастырь – тоже, как выяснится, не затем, чтобы навсегда остаться в его стенах. Оба в поисках всецелой правды курсируют между «дольним» и «горним», непроизвольно нарушая ранжир и кастовые условности. И в своем устремлении к воплощению жизненного идеала оба – реальный персонаж и литературный – являют собой тип еще «невыяснившегося» нового «деятеля», на которого как на созидательный и единящий фермент русской жизни возлагал надежды автор «Дневника писателя» и «Братьев Карамазовых».
Говоря о тесном общении Достоевского и Соловьева, обычно обращаются к концу 1870-х годов. Однако из следующего краткого уведомительного письма видно, что Соловьев уже в первый год знакомства вошел в постоянное окружение Достоевского и был принят им на равной ноге. Приехав ненадолго в Петербург, москвич Соловьев пишет:
Милостивый Государь
многоуважаемый Федор Михайлович,
собирался сегодня заехать проститься с Вами, но к величайшему моему сожалению одно неприятное и непредвиденное обстоятельство заняло все утро, так что никак не мог заехать. Вчера, когда Н.Н. Страхов нашел Вашу записку на столе, я догадался, что это Вас я встретил на лестнице, но по близорукости и в полумраке не узнал. Надеюсь еще увидеться, впрочем, осенью в Петербурге.
С глубочайшим уважением и преданностью остаюсь
Ваш покорный слуга Вл. Соловьев.
Передайте мое почтение Анне Григорьевне.
23 дек. 7394
Таким образом, Достоевский выделил Соловьева еще до его шумного успеха на магистерском диспуте «против позитивистов»95 в 1874 году, то есть еще до того, когда молодой диссертант был отмечен в академических кругах как выдающаяся «умственная сила»96 и когда на него обратили внимание «последние представители коренного славянофильства, к которому, – как вспоминает впоследствии Соловьев, – в некоторых пунктах примыкали мои воззрения <…>»97. У Соловьева с Достоевским за короткий срок складывается общий круг знакомых: вожди славянофильства И.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин, А.А. Киреев, известный историк и общественный деятель, создатель Бестужевских женских курсов в Петербурге К.Н. Бестужев-Рюмин, тогдашний литературный соратник Достоевского Н.Н. Страхов, затем вдова поэта А.К. Толстого графиня С.А. Толстая и др.
Начиная с 1873 года вплоть до кончины писателя, Соловьев присутствует в жизненном мире Достоевского как репрезентативная фигура. Известны попытки раскрасить ближайшую среду позднего Достоевского в салонно-дворцовые и помпезно-геральдические тона, якобы утешительные для взора и самолюбия выходца из неродовитой семьи, бывшего острожника98. Действительно, в числе его знакомых были титулованные особы, но атмосфера здесь определялась не сословным, а духовным отбором. Иначе, как можно представить своим среди этих людей Владимира Соловьева – такого же, в сущности, как и сам Достоевский, вечного пролетария пера, Соловьева – бессребреника и странника, живущего, так сказать, надимущественно и надсословно!
Сфера человеческих отношений, объединявшая Достоевского и Соловьева, – это столько же литературно-общественные салоны с их благотворительными вечерами и необязательным интересом к высшим предметам, сколько целеустремленный мир идейной молодежи, часть которой увидела в эти годы реальное жертвенное дело в помощи славянам, страдающим под турецким владычеством. Тот и другой жизненные стили как раз олицетворяли две молодые женщины, серьезно увлекавшие тогда Владимира Соловьева.
Одна из них, уже упоминавшаяся Елизавета Михайловна Поливанова, принадлежала к особо выделенному Достоевским типу русской девушки, о котором он говорит в июньском выпуске «Дневника писателя» за 1876 год: «… прямой, честный, но неопытный юный женский характер, с тем гордым целомудрием, которое не боится и не может быть загрязнено даже от соприкосновения с пороком. Тут потребность жертвы, дела, будто бы от нее именно ожидаемого, и убеждение, что нужно и должно начать самой, первой и безо всяких отговорок, все то хорошее, чего ждешь и чего требуешь от других людей, – убеждение в высшей степени верное и нравственное <…>»99. Она, как и юная знакомая Достоевского, описанная на этих страницах «Дневника…», могла бы прийти к писателю и заявить: «Хочу ходить за ранеными». Так Лиза Поливанова и поступила: когда ей не удалось уехать на сербский фронт, где уже воевали ее братья, она стала сестрой милосердия в подмосковном госпитале. Владимир Соловьев, за два года до этого делавший ей предложение, сраженный отказом и вновь возобновивший дружбу с нею после долгого заграничного путешествия, обращается к Поливановой как к единомышленнице, как к возможной сотруднице в начатом молодежью деле обновления жизни и 25 сентября 1877 года пишет ей в госпиталь: «Мне очень тяжело, что мы встречаясь смотрим друг на друга, как люди, у которых нет и не может быть ничего общего. Разве это так? Я не думаю. Я совершенно уверен, что скоро будет большое дело, которое соединит очень многих – и нас с Вами очень близко. Я смотрю на Вас и на себя (как на всех порядочных людей нашего поколения) – как на будущих служителей одного неведомого бога. Правда, Вы лучше меня готовитесь к этому служению – живя для других и делая добро окружающему Вас миру, хотя я пока искал этого бога больше только в теории <…>. Правда, я говорю о неведомом – откроется ли оно? Одно несомненно, что без этого жить нельзя. <…> Если же мы соглашаемся жить, то только потому, что смотрим вперед. А если мы смотрим в одну сторону, то зачем бы нам чуждаться друг друга?»100. Настроение подъема, вера в открывающийся путь, которым веет от этого письма Соловьева, всей душой разделял в 1876—1878 годах и Достоевский, надеявшийся, что молодежь, начав со справедливого дела защиты «братьев-единоверцев», отныне пойдет по пути оздоровления социальной жизни и оторвется от политического радикализма. То, что пишет Достоевский одному из своих корреспондентов, удивительно перекликается с письмом Соловьева к Поливановой: «Несомненно <…> что идут (и скоро придут) новые люди, так что горевать и тосковать нечего. Будем достойными, чтобы встретить их и узнать их»; «<…> по симпатиям я вовсе не 60-х и даже не сороковых годов. Скорее теперешние годы мне более нравятся по чему-то уже въявь совершающемуся, вместо прежнего гадательного и идеального»101. (Выражение «новые люди» здесь полемически переосмыслено по отношению к роману Чернышевского «Что делать?», откуда оно и позаимствовано Достоевским. Выше уже говорилось, что Алеша Карамазов для него «новый человек» – во всем противоположный Рахметову…)
Упоминание в письме к Поливановой грядущего «неведомого бога» навеяно мыслями о как раз в это время формулируемой философом и затем публично заявленной им в «Чтениях …» 1878 года цели мирового исторического процесса – «Богочеловечестве». Эта грандиозная задача гармонизации всех сторон земного бытия и была для Соловьева тем «практическим» делом, в которое он призывал включиться всех «смотрящих в одну сторону» и прежде всего свою любимую. Соловьев отдал дань и конкретному, «славянскому делу»: по свидетельству очевидцев вооружившись букетом роз и огромным пистолетом, он отправился на театр военных действий за Дунай в качестве корреспондента от «Московских ведомостей» М.Н. Каткова, но там сразу произвел впечатление человека, оказавшегося не на своем месте, и вскоре вернулся назад. (Д.А. Скалон, в чью часть прибыл Соловьев, вспоминает его экзотическую фигуру «в русском наряде, в бархатных шароварах, красной рубашке и суконной расстегнутой поддевке»102.) В этом эпизоде, надо думать, сказалась не только житейская неприспособленность философа; панславизм ему, в отличие от Достоевского, никогда не представлялся тем рычагом, с помощью которого можно приблизить братское устроение России и всего человечества (хотя Соловьеву тоже был дорог опыт общественного энтузиазма, порожденного русско-турецкой войной, и в 1891 году он пытался организовать общественную помощь голодающим по образцу славянских благотворительных комитетов прежней поры).
Окрашенное во многом одинаковыми надеждами интенсивное общение Соловьева и Достоевского осенью-зимой 1877 года достигает под влиянием «Чтений о Богочеловечестве» степени единодушия, и не случайно в трагическую для Достоевского полосу (смерть младшего сына) Соловьев оказывается рядом с ним, сопровождая его в Оптину пустынь. История этого предприятия, знакомая нам по письмам Достоевского к Анне Григорьевне и по ее воспоминаниям103, может быть дополнена ответом Соловьева от 12 июня 1878 года на не дошедшее до нас письмо к нему Федора Михайловича, озабоченного устройством поездки:
Многоуважаемый Федор Михайлович,
Сердечно благодарю за память. Я наверно буду в Москве около 20 июня, т. е. если не в самой Москве, то в окрестностях, откуда меня легко будет выписать в случае Вашего приезда, о чем и распоряжусь. Относительно поездки в Оптину пустынь наверно не могу сказать, но постараюсь устроиться. Я жив порядочно, только мало сплю и потому стал раздражителен. До скорого свидания. Передайте мое почтение Анне Григорьевне.
Душевно преданный
Вл. Соловьев.104
Упоминаемые здесь «окрестности Москвы» – это, очевидно, гостеприимное имение Поливановых Дубровицы близ Подольска на реке Пахре, в восемнадцати верстах от Москвы, где Соловьев часто бывал, собираясь с духом для нового предложения руки и сердца Елизавете Михайловне, хотя и без всякой уверенности в положительном ответе. (Этим смятенным состоянием, быть может, объясняется тогдашнее, июньское впечатление от него, сложившееся у Достоевского: «Соловьева застал, очень странный, угрюмый и поношенный»105.)
Другая любовь, захватившая Соловьева после крушения романа с Поливановой, – к Софье Петровне Хитрово, племяннице С.А. Толстой, вместе с которой она тогда жила, – развертывалась уже, можно сказать на глазах Достоевского, в светском кружке106. Обе приветливые и каждая на свой лад блестящие дамы способствовали частому общению писателя и философа в Петербурге. Дети Софьи Петровны, нежно любимые Владимиром Соловьевым, играли с детьми Достоевских, а сама она на правах близкой приятельницы слала Федору Михайловичу записки с приглашениями и просьбами, прибегая к свойственному ей языку «восхитительного косноязычия107: «Федор Михайлович Пожалуйста будьте очень добрым и скажите мне прямо можете ли вы согласится [sic] на нашу просьбу с Графиней. Видите что, есть очень бедный и несчастный человек – которому Графиня очень хочет помочь и вот в его пользу мы стараемся устроить чтение у нас. Я знаю что вы очень нелюбите [sic] читать но пожалуйста сделайте это для нас <…>. Простите мне что я так многое у вас прошу, но этот человек в самом деле нуждается в помощи, а иначе мы не можем ему помочь. Он занимался литературой а теперь у него неизличимая [sic] болезнь. Я не умею все это трогательно рассказать, но Цертелевы и Соловьев вам раскажут [sic]»108. Из этой записки видно, что Соловьев как доверенный друг обоих домов чувствовал себя естественным посредником между ними и охотно выполнял роль посланца. Так, именно он доставил от С.А. Толстой очень дорогой сердцу Достоевского подарок – большую фотографию Сикстинской Мадонны109. Как бы от имени всей семьи Соловьев пишет 26 мая 1886 года Достоевскому из Пустыньки, имения С.А. Толстой под Петербургом: «Как вы поживаете, а я все в Пустыньке, часто вас вспоминаем. <…> Я живу хорошо, надеюсь и вы также. Читаю огромную немецкую эстетику и биографии великих художников для своего сочинения о началах творчества110. Здесь в Пустыньке ожидается нашествие иноплеменных, но надеюсь обойдется без междоусобной брани <…>»111. В этом же письме Соловьев обращается к Достоевскому за благотворительным делом – насчет оказания помощи одной бедной знакомой Анны Григорьевны. Филантропия была повседневной чертой быта в этом кругу, но для Соловьева она являлась не побочным занятием, а непреоборимой сердечной потребностью. По уже цитированным воспоминаниям Поливановой, «для каждого обездоленного он был готов сделать все, что было в его силах. Да и вообще, всякий, кого он знал, мог всегда полагаться на него как на каменную гору. Точно так же было трогательно его отношение к детям»112.
Достоевский, несомненно, оценил натуру Соловьева, его бескорыстие, беззаветную отданность высоким замыслам и вместе с тем умозрительную радужность его упований, что подчас вызывало у много пережившего шестидесятилетнего писателя покровительственную улыбку. Литератор Д.И. Стахеев воспроизводит в своих записках сцену, происходившую в его доме:
«Владимир Сергеевич что-то рассказывал, Федор Михайлович слушал, не возражая, но потом придвинул свое кресло к креслу, на котором сидел Соловьев, и, положив ему на плечо руку, сказал:
– Ах, Владимир Сергеевич! Какой ты, смотрю я, хороший человек…
– Благодарю вас, Федор Михайлович, за похвалу…
– Погоди благодарить, погоди, – возразил Достоевский, – я еще не все сказал. Я добавлю к своей похвале, что надо тебе года на три в каторжную работу…
– Господи! За что же?..
– А вот за то, что ты еще недостаточно хорош: тогда-то, после каторги, ты был бы совсем прекрасный и чистый христианин…»113.
В этой зарисовке мемуариста соблазнительно увидеть иллюстрацию к довольно распространенной точке зрения, согласно которой миросозерцание Достоевского противостоит миросозерцанию Соловьева как трагическое – утопическому114. На самом же деле эти два начала в мышлении каждого из них находились в сложном переплетении и приводили к сходным внутренним коллизиям.
Оба приняли близко к сердцу аномальное состояние мира и человеческого духа и были убеждены, что нельзя сохраниться людскому общежитию и ближнему человечеству – России – иначе, как решительно двинувшись по направлению к идеалу. У молодого Соловьева это ощущение «мирового зла», радикальной неустроенности всего окружающего выражалось с остротой юношеского мессианизма, верующего в свое право на вселенский почин: «Сознательное убеждение в том, что настоящее состояние человечества не таково, каким должно быть, значит для меня, что оно должно быть изменено, преобразовано»; «… теперь пришло время не бегать от мира, а идти в мир, чтобы преобразовать его. <…> С такими убеждениями и намерениями я должен казаться совсем сумасшедшим <…>»115. У Достоевского 1870-х годов, давно изжившего – в формах социально-утопического радикализма – максималистский пафос юности, конечно, было меньше пожектерского пыла и больше бережности к наличному органическому строю жизни. Но ведь и Достоевский, устами «смешного человека», которому он по существу доверил свое вúдение истины, свою проповедь и свое бесстрашие перед перспективой показаться «совсем сумасшедшим», свидетельствует с той же, что у Соловьева, убежденностью о глубоком искажении, вкравшемся в бытие: о лжи, эгоизме, обособлении и вражде, определяющих социальную жизнь людей и влекущих за собой космический разлад. Так же, как Соловьев на пороге будущей деятельности, поздний Достоевский в «Сне смешного человека» заявляет о своем неприятии «мирового зла»: «Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей»116 – и демонстрирует одинокий почин, зовущий сообщество людей к совершенству: «И пойду, и пойду!»
Истоком такой проповеди у каждого было личное соприкосновение с жизненным идеалом в его зримо-убедительном образе: «Я видел истину, – не то, что изобрел умом, а видел, видел, и живой образ ее наполнил душу мою навеки <…> я все-таки видел воочию, хотя и не умею пересказать, что я видел» (Достоевский)117; «<…> первое сиянье всемирного и творческого дня <…> все видел я, и все одно лишь было <…>» (Соловьев)118.Поэтому оба оценивали житейскую данность, глядя на предносящийся им образец «живого и беспрерывного единения с Целым вселенной» (Достоевский)119 – или, по терминологии Соловьева, «положительного всеединства». Эта роднящая их изначальная внутренняя установка рождала у обоих одну и ту же потребность примерять к ходу исторических событий грандиозные схемы, которые открывали бы для человечества спасительную перспективу.
Независимо от лично дружелюбных отношений с идеологами «абсолютного» консерватизма (Достоевского с Победоносцевым, Соловьева – с Леонтьевым) ни писатель, ни философ в поисках исхода не могли успокоиться: морально – на потустороннем, а исторически – на прошлом. Так успокаивал себя Победоносцев, который отвечал на все провокации истории мумифицированием старых оболочек и соблюдением правил благочестия, или Леонтьев с его «трансцендентным эгоизмом»120, освобождающим от ответственности за общее положение вещей и позволяющим созерцать игру преходящих форм обреченного, в принципе, мира с незаинтресованной позиции естествоиспытателя и эстетика. Но те, кто уязвлен коренным трагизмом истории, не станут искать в прошлом незыблемой опоры, а в ходе времен – эстетического зрелища; их мысль будет судорожно перебирать вехи всемирно-исторической жизни в поисках роковой ошибки.
Еще во всех деталях не проведено сравнение тем, двигаясь в пределах которых, Достоевский и Соловьев пытались представить себе в конце семидесятых годов генеральный путь истории; еще предстоит пристальней разобраться в скрещении и расхождении мыслительных ходов, прорытых в ту пору каждым на предельной исторической глубине. Но нельзя не удивляться их конгениальности в этой сфере. Попытки установить, кто на кого влиял, кто первый высказал ту или иную мысль, а кто – подхватил, как правило, приводят к неопределенным результатам. Так, казалось бы, рассмотрение судеб человеческих сквозь призму евангельского рассказа о трех искушениях Христа (Мф. 4: 1—11) не могло родиться в Поэме о великом инквизиторе (Книга пятая «Братьев Карамазовых», писавшаяся в 1879 году), если бы Достоевский не слышал историософской экзегезы этого эпизода весной 1878 года на финальных «Чтениях о Богочеловечестве»121. С другой стороны, известно, что Достоевский думал над соответствующим местом из Нового Завета давно, говорил о нем в «Дневнике писателя» за 1876 и 1877 годы122, с увлечением разъяснял его своим корреспондентам123, и не исключено, что беседовал о том же с Соловьевым в первые годы их знакомства. Однако систематическая форма изложения, неотрывность этого теологического сюжета124 от всего замысла «Чтений…», наличие звеньев, отсутствующих в «дневниковых» размышлениях писателя125 – все в свою очередь свидетельствует о том, что Соловьев готов был независимо от Достоевского увидеть в тех искусительных пропозициях «страшного и умного духа»126 аллегорический ключ к мировому процессу, к «историческим противоречиям человеческой природы на всей земле»127. В данном примере суть не во взаимных влияниях и даже не в том, что обоим было свойственно облекать свои умозрения в образный язык Евангелия; главное и исходное – что история для них движима изнутри: свободным решением человека избрать высшую или низшую ценность. И отсюда: исторические беды человечества объясняются выбором низшего в себе – иначе говоря, падением.
В одном и том же 1877 году, в преддверии и начале русско-турецкой войны, проникнувшись, должно быть, единым ощущением скорого исторического поворота («видно, подошли сроки уж чему-то вековечному, тысячелетнему, тому, что приготовлялось в мире с самого начала его цивилизации»128) и дав волю своему одинаковому философскому вкусу к оформлению картины бытия принципом тройственности, – сначала Достоевский (в январской статье «Дневника писателя» о «трех идеях»), а затем Соловьев (в речи о «трех силах» на апрельском заседании Общества любителей российской словесности129) предложили русской публике такой взгляд на тысячелетнее течение истории, согласно которому именно теперь, по прошествии веков, пробил час России как обновительницы мира. Доныне великие идеи цивилизованного общества, начиная с католицизма и кончая атеистическим материализмом, зиждились, как это представляется нашим мыслителям, на ложном выборе – на отказе от высших прерогатив человеческого духа. Славянский же мир во главе с Россией исторически еще не подпал «искушениям», он весь в потенциальности. Поэтому именно Россия способна исполнить «завет общечеловеческого единения <…> в духе истинной широкой любви, без лжи и материализма и на основании личного великодушного примера <…>» (Достоевский)130 – «дать средоточие и целость разрозненному и омертвелому человечеству через соединение его с божественным началом» (Соловьев)131. В этой всемирной посреднической задаче и заключается, согласно обоим, «национальная идея русская» (Достоевский)132.
Опять-таки, помесячная очередность этих высказываний не столь важна, потому что у Достоевского и Соловьева здесь налицо общий исток: раннеславянофильские мечты о том, что Россия не последует по уже пройденному Западом и скомпрометированному пути и что в ней – последняя христианская надежда европейского человечества, чьи прежние ставки уже биты.
Однако сходные рассуждения обоих преемников «классического» славянофильства окрашены разной интонацией и по-разному идейно аранжированы. Достоевский в «Дневнике писателя» мыслит скорее геополитически, Соловьев – религиозно-метафизически. «Три идеи» у Достоевского – это три сменяющие друг друга мира: католический, протестантский и, надо думать, православный, – которые представлены тремя великими нациями (Францией как государственной преемницей папского Рима, Германией и Россией) и, совпадая с этими национальными ареалами, поочередно приводят к упадку одного из них и возвышению последующего. Здесь не предполагается единого и преемственного процесса, и третья, всеразрешающая, «русская идея», хоть на нее и возложено объединение народов, не обещает, однако, синтеза их «идей». Чувствуется зависимость Достоевского от поразившей его книги Н.Я. Данилевского «Россия и Европа»133 (автора, чьим оппонентом в восьмидесятых годах станет Владимир Соловьев): на протяжении истории народы и культуры соперничают друг с другом, и вытесненные фактически не оставляют после себя вклада в историческое будущее. У Соловьева же «три силы» – это две противоположности, подлежащие примирительному синтезу с помощью третьего начала; бесчеловечный Восток, абсолютизирующий Бога за счет человека, и безбожный Запад, абсолютизирующий человека за счет Бога, взаимно восполняют свою половинную правду при посредничестве славяно-русского национального типа благодаря его бескорыстной восприимчивости к высшей истине, готовности послужить вселенскому делу и отсутствию, так сказать, исторической специализации. По сравнению с январской статьей «Дневника писателя» здесь звучит – душевно – такая братская участливость к чужому и – философски – такая уверенность, что мировая жизнь народов в итоге оправдана и, несмотря на все заблуждения, не напрасна, что трудно удержаться от предположения: Соловьев этим своим выступлением 1877 года внес некий предварительный вклад в событие Пушкинской речи, прозвучавшей из уст Достоевского три года спустя.
Как замечено выше, идея мировой посреднической миссии России была выдвинута в тот момент, когда оба мыслителя надеялись на зарождающееся вокруг помощи славянам единодушие русского общества134. Однако развернуть эту идею как знамя Достоевскому привелось в совершенно ином общественном климате 1880 года (а Соловьеву вскоре после смерти Достоевского выпало отстаивать ее уже на краю глубокой пропасти между общественностью и властью и трещины внутри самой общественности).
Предчувствия назревавшей крутой перемены не обманули автора «Дневника писателя» (да и Соловьева в том модусе, в котором он их разделял). Но пришла эта перемена не с тем и не оттуда, откуда ожидалась в 1877 году. С выстрела Веры Засулич, а может быть, в еще большей мере – с ее сенсационного оправдания, началась война «Народной воли» и правительства, напрягшая до предела и расколовшая все общество. (Для тогдашней ситуации символично совпадение дат: «Чтения о Богочеловечестве», как бы предлагавшие русской молодежи другой предмет увлечения, начались через день после покушения Засулич на генерала Трепова и завершились одновременно с окончанием ее процесса.) Притом, если либеральная, западническая «партия» консолидировалась в надежде на положительный, с ее точки зрения, умеренно-конституционный итог этой «войны», ведущейся революционерами-террористами, то консервативная сторона, столкнувшись с террором как с новой общественной идеей-силой, оказалась совершенно обескураженной. Недолгое время спустя К.Н. Леонтьев с сокрушением писал: «<…> во всех государствах и у всех наций нашего времени все однородные охранительные силы находятся в постоянной между собой борьбе <…> Согласны везде между собой только одни социалисты и те, которые им потворствуют»135.
Действительно, положение на правом фланге, во всяком случае, в России, в ту пору можно было охарактеризовать, перефразируя известное mot Достоевского, как «раскол в консерваторах». Разумеется, некая общность существовала, иначе нельзя было бы говорить об «охранительном» направлении как таковом; но общность эта была чисто отрицательного свойства. Так, перспектива конституции («увенчания здания» реформ, о котором мечтали либералы) считалась здесь антинародной и пагубной136 – ввиду опасений, что в патриархальные отношения между царем и народом137 вмешаются своекорыстные политики. Но на том, чтó предложить вместо западной «говорильни» (как называет Леонтьев парламентскую систему, сочувственно цитируя при этом Н.А. Добролюбова!138), люди этого стана никак не могли сойтись: то ли Земский собор и уездное самоуправление (славянофилы и, в частности, Аксаков); то ли спросить на местах «серые зипуны» относительно их коренных нужд, а интеллигенции, наряду с властью, выслушав их, – действовать в земствах, исходя из народного волеизъявления (Достоевский); то ли укрепить юридические перегородки между сословиями, чтобы, создав таким образом резервацию для народа, сохранить его «византийские» добродетели (Леонтьев); то ли вообще ничего не надо, даже земств, где засели люди нравственно испорченные всяческой новизной, а, правя твердой рукой, перенести столицу из гиблого Петербурга в древнюю Москву и, поелику возможно, сочетать петровскую табель о рангах с церковно-государственным уставом Московского царства (бюрократическое славянофильство Победоносцева, не оставшееся без влияния после убийства Александра II).
Интересный документ, свидетельствующий об идейной разноголосице в этой среде, – письмо Достоевскому от известной в то время писательницы и общественной деятельницы славянофильских убеждений О.А. Новиковой-Киреевой139; оно датировано 15/3 апреля 1879 года и написано под впечатлением от покушения члена подпольной «Земли и воли» А.К. Соловьева на императора: «Вся Москва поражена злодейством 2-го Апреля. Встречаешь людей, готовых накинуться на первого встречного, на невинного, как на виноватого. Вчера на большом одном обеде нашелся господин, утверждавший, что наступило время действовать наперекор Екатерине II-й: “лучше казнить 10 невинных, чем пропустить одного виновного”140. Я прямо возразила, что, к счастию, наш Государь не стыдится подражать великодушию своей бабки и что он не признает другого основания строгости, как справедливость! Но все эти толки вам доказывают, до чего сильно возбуждение. <…>. Все это так грустно, так тяжело, что не знаешь, как Бог поможет Государю сохранить его обычную доброту и не сойти с пути реформ, которые ознаменовали его царствование. А ведь эти убийцы подлинно не ведают, что творят! Нет никакой возможности понять: чего они добиваются? Но верю, что не благо России дорого им, а какие-то мелкие, гадкие побуждения. Видела вчера Влад. Серг. Соловьева, очень расстроенного преследованием, которому подвергают его статьи141. Вот нашли опасного писателя! Неужели в П<е>т<ер>бурге решительно неспособны отличать друзей от врагов?»142.
Здесь засвидетельствована, во-первых, позиция «крепко реакционных» (по классификации Леонтьева143) консерваторов, автоматически реагирующих на угрозу слева повальным устрашением и «не способных отличить друзей от врагов»; а, во-вторых, близорукость более свободолюбивой, реформистски настроенной фракции консервативного течения, которая, в лице автора письма, явно недоумевает перед феноменом революционного террора и не в силах поверить в его идейную энергию. Дезориентированный лагерь русских охранителей мог бы обратиться к себе со словами, сказанными Достоевским еще в 1873 году по поводу бессилия французских консервативных элементов Третьей республики: «Надо принести с собою какую-нибудь новую мысль, сказать какое-нибудь такое новое слово, которое действительно имело бы силу вступить в бой с злым духом целого столетия несогласий, анархии и бесцельных французских революций. Заметьте, что ведь этот злой дух несет с собою страстную веру, а стало быть, действует не одним параличом отрицания, а соблазном самых положительных обещаний»144.
Однако среди людей, вырабатывающих в этот период практическую идеологию консерватизма, даже не ставилась задача выращивания общественной жизни из дорогих им старых начал; так что безнадежная характеристика, данная Леонтьевом Победоносцеву, приложима не к нему одному: «Он как мороз; препятствует дальнейшему гниению; но расти при нем ничто не будет. Он не только не творец; он даже не реакционер, не восстановитель, не реставратор, он только консерватор в самом тесном смысле слова; мороз; я говорю, сторож; безвоздушная гробница <…>»145.
Итак, среди защитников старых устоев доминировал тип «прямолинейных консерваторов», «ровно ничего не понимавших в текущих делах, в новых людях и в молодом поколении»146. И когда Достоевский на московских литературных торжествах обратился к такому общезначимому символу русской духовной культуры, как Пушкин, он указанием на традиционный единящий источник подобного масштаба сразу вышел за наличные рамки российского консерватизма с его партикулярными ориентирами. От аудитории Пушкинского праздника Достоевский добился восторженного единодушия ценой намеренной недосказанности в том, что касалось его конечных выводов относительно устройства русского общества на христианских основаниях. Но недоговоренность эта была пророческой широтой, а вовсе не тем расплывчатым компромиссом, который незамедлительно после триумфа усмотрели в его словах «прямолинейные». Стержень Пушкинской речи – идея служения, адресованная как личности, так и нации, и идея жертвы своею самостью (потому-то патетически интерпретированный образ Татьяны стал средоточием всей речи). Писатель призывает на исконно русской почве нравственного подвижничества осуществить то, чего нельзя, по его мнению, достигнуть политическими размежеваниями и партийными пристрастиями. Но призыв Достоевского, как и следовало ожидать, никого не устраивал целиком. Сам примирительный дух его требовал от всех сторон некоего отрешения от устоявшихся привязанностей и движения навстречу друг другу, то есть, по существу, безумного дела; путь внутреннего преображения противоречил политическому инструментарию революционеров и конституционалистов-либералов147, а цель – братское состояние людей и «мировая гармония» – расходилась с представлениями правых о христианском вероучении.
Даже ближайший к Достоевскому энтузиаст его выступления И.С. Аксаков не воспринял исходного импульса Речи и встревожился из-за того, что в ней писатель не ставит западникам предварительных, вытекающих из его собственного кредо, условий для объединения со славянофилами. 20 августа 1880 года, получив свежий «Дневник писателя» с публикацией Пушкинской речи, Аксаков пишет Достоевскому: «Само собою разумеется, сойдись западники и славянофилы в понятии об основе (православно или истинно-христианской) просвещения – между ними всякие споры и недоразумения кончаются и стремление в Европу, т. е. на арену общей, всемирной, общечеловеческой деятельности народного духа – освящается. Вот почему, кстати сказать, тот только славянофил, кто признает умом или сердцем <…> Христа основой и конечною целью русского народного бытия. А кто не признает – тот самозванец»148.Чувствуется, что широкое приглашение Достоевского «поработать на одной ниве» Аксаков здесь осторожно уточняет – с тем, чтобы в этом деле к «своим» не примешались «чужие».
Но по крайней мере Аксаков, усматривавший заодно с Достоевским в чувстве «всебратства»149, свойственном русскому народу, залог его великого будущего, тем самым выказывал сочувствие конечным упованиям автора Пушкинской речи и не находил в ней ничего «еретического». Между тем речь эта неожиданно оказалась источником для догматического прения, которое тянулось и после смерти Достоевского. Оно обнаружило, что его участники – Достоевский, Леонтьев, Победоносцев и Соловьев – не только не солидарны в том, что, казалось бы, должно составлять их единство перед лицом противоположного лагеря, а, напротив, расходятся в самих основах своего христианского миросозерцания – в религиозных представлениях о смысле общественной жизни и судьбе мира…
Как известно, Константин Леонтьев встретил речь Достоевского активным неприятием; Победоносцев переслал его статью о ней в «Варшавском дневнике» Достоевскому без каких-либо комментариев; уязвленный Достоевский ответил на нее контробвинениями Леонтьева в нечестии и ереси (см. его письмо Победоносцеву от 16 августа 1880 года150 и записную книжку 1881-го151); в свою очередь, Анна Григорьевна включила эту крайне резкую запись в посмертное издание «Биографии, писем и заметок из записной книжки Ф.М. Достоевского» (СПб., 1883), выпущенного ею в качестве 1-го тома его собрания сочинений, тем самым парируя перепечатку журнальной статьи Леонтьева152, включенной им в отдельную брошюру153. Леонтьев же был крайне раздражен этой публикацией вдовы Достоевского и впоследствии в письмах В.В. Розанову жаловался на ее выпад, ссылаясь при этом на единомысленное с ним мнение Соловьева, который, однако, как будет показано ниже, вряд ли в этом решающем пункте мог быть с ним согласен154.
Здесь необходимо поясняющее отступление155. Ситуация, в которой Соловьев как бы признает «преимущества» Леонтьева перед Достоевским, возникла лишь несколько лет спустя после смерти писателя. О единомыслии Соловьева с ним и разномыслии с Достоевским Леонтьев с горячностью пишет Т.И. Филиппову 10 октября 1888 года из Оптиной пустыни156. Он пересказывает по памяти письмо Соловьева к нему157 – с завидной точностью (и с темпераментными комментирующими репликами, например, «Как это зло и справедливо!»), но притом ощутимо смещая контекстуальные акценты. В письме Соловьева от конца февраля – начала марта 1885 года158 сказано: «…никто кроме Вас не соображает своих советов с Варсонофием Великим159. В этом отношении я Вас гораздо более ценю, нежели Достоевского: для него религия была некой новой невиданной страной, в существование которой он горячо верил, а иногда и разглядывал ее очертания в подзорную трубу, но стать на религиозную почву ему не удавалось <…>». Однако дело в том, что в пору написания этого письма Соловьев был погружен в вопросы внутреннего канонического устроения православных Церквей на Востоке, готовя под псевдонимом злободневный материал для консервативной (и связанной с Леонтьевым) газеты «Голос Москвы» (см. об этом в сопроводительной статье Н.В. Котрелева), – то есть занимался вещами, в которых Леонтьев действительно разбирался куда лучше Достоевского, далекого от этих тем. И похвалы Соловьева своему корреспонденту носят частный характер («в этом отношении <…> ценю»), отнюдь не свидетельствуя о кардинальном единомыслии с последним, тем более о схождении в глобальной оценке Достоевского.
Но вернемся к восприятию Пушкинской речи. Чем же Достоевский так задел своих придирчивых единоверцев? Он избрал отправным пунктом неразрывность личной этики и социального действия и предположил, что, идя путем христианской нравственности, можно усовершенствовать мир. В этом-то состояло «новое слово» его Пушкинской речи и заключался невольный вызов другой точке зрения, согласно которой социальное приложение христианства состоит в том, чтобы только сдерживать злые силы мира сего, но не заниматься «посюсторонним» строительством жизни во имя несбыточной гармонии. «Христос учил, – пишет Леонтьев, оспаривая устремленность Пушкинской речи, – что на земле все неверно и неважно»; «верно только одно <…> это то, что все земное должно погибнуть»; «итак, пророчество всеобщего примирения людей во Христе не есть православное пророчество, а чуть-чуть не еретическое»160. Леонтьев находит у Достоевского уклонение в ересь «хилиазма» (то есть в сомнительное для Церкви учение о наступлении на земле тысячелетнего царства правды) и «понижение» христианства до социально-утопического «жорж-зандовского» гуманизма.
Подспудно же Леонтьев предпринимает это догматическое расследование не столько ради защиты вероучения, сколько затем, чтобы отстоять эстетику иерархического «византийского» уклада жизни от внедисциплинарого пафоса любви, с которым Достоевский, сам «новый человек», обращался к людям новых духовных запросов. И тот, пожалуй, был даже и «догматически» в чем-то прав, ощущая привкус кощунства в радикальных леонтьевских максимах, вроде следующей: «Правды на земле не было, нет, не будет и не должно быть: при человеческой правде люди забудут божественную истину»161 – или в характеристике желательного тонуса милосердия как «сдержанного, сухого, как бы обязательного и холодно-христианского»162.
Своей полемикой Леонтьев спровоцировал Соловьева (перед чьим умственным и теологическим даром он, кстати сказать, преклонялся) взять под защиту уже покойного Достоевского163 и поставить его Пушкинскую речь на более строгие вероучительные рельсы: «<…> Проповедь и пророчество о всеобщем примирении, всемирной гармонии и т.д. относится прямо лишь к окончательному торжеству Церкви. <…> И напрасно г. Леонтьев указывает на то, что торжество и прославление Церкви должно совершиться на том свете, а Достоевский верил во всеобщую гармонию здесь, на земле. Ибо такой безусловной границы между “здесь” и “там” в Церкви не полагается. <…> И та всемирная гармония, о которой пророчествовал Достоевский, означает вовсе не утилитарное благоденствие людей на теперешней земле, а именно начало той новой земли, на которой правда живет»164. Этот полемический эпизод, непосредственно связанный для Соловьева с заботой о христианском реноме своего старшего друга, вместе с тем привел его к исповеданию собственной неизменной веры в общественную миссию христианства165.
Одновременно с прямым комментированием мыслей Достоевского Соловьев в главном труде 1883 года – «Великий спор и христианская политика», – не называя современных ему имен и углубляясь в церковно-общественную историю, по существу учиняет богословский разгром тех позиций «византийца» Леонтьева, с которых тот нападал на Пушкинскую речь. Когда Соловьев пишет о ереси «практического несторианства», поразившей строй Византии, который «рядом с божественным началом узаконил человеческое начало, несогласованное с первым»166, – он тем самым оспаривает автора «Наших “новых” христиан» с его разделением мира на «здешний», десакрализованный, обживаемый человеком по-язычески, и на запредельный, куда душа, равнодушная к судьбе всего мирского, стремится для воссоединения с Богом. В том же духе Соловьев изобличает на этих страницах «еретическое» настроение, к которому сводима другая претензия Леонтьева, предъявленная Достоевскому, – относительно подмены христианства светским человеколюбием. Находя у византийских церковников столь «леонтьевский» комплекс пренебрежения к человеческому, Соловьев заносит его в свой список ересей под названием «практического монофизитства», «в котором человек поглощался Богом»167. И как нельзя больше подходит к душевной ситуации Леонтьева парадоксальная фраза Соловьева о том, что в Византийской империи «православное вероучение ревностно охранялось не только подвижниками монастырей, но и подвижниками гипподрома»168. Ведь раздвоенный Константин Леонтьев, этот, по выражению В.В. Розанова, «турецкий игумен», действительно ухитрялся совмещать тип сознания тех и других…
Ну а Победоносцев, который, как было упомянуто, не замедлил довести до сведения Достоевского враждебную статью в «Варшавском дневнике»169, – ограничился ли он этим косвенным намеком на сомнительность для него христианского кредо писателя? 4 февраля 1882 года он пишет Е.Ф. Тютчевой: «Достаньте себе сегодняшний № Нового времени и почтите там речь безумного В.С. Соловьева о Достоевском. Ведь они подлинно думают и проповедуют, что Достоевский создал какую-то новую религию любви и явился новым пророком в русском мире и даже в русской церкви!»170. Они, так панически прозвучавшее у Победоносцева («они подлинно думают и проповедуют…»), – это какое-то полчище религиозных модернистов, которое мерещится автору письма за спиной Соловьева и грозит вторгнуться в заведенный порядок, разграничивающий дела веры и дела общественные. Становится очевидным, как глубоко запал в сознание Победоносцева «сигнал» Леонтьева по делу о ереси («какая-то новая религия любви»!) и до чего усилились его подозрения относительно прежнего, как-никак, сподвижника, после того как Соловьев заострил некоторые принципиальные темы Достоевского в своей речи памяти писателя. И поскольку Достоевский сознательно выступал с пророческим словом «в русском мире», а Соловьев ставил ему это в великую заслугу171, то думается, Победоносцев, выражая в процитированном письме раздражение против обоих, косвенно засвидетельствовал единство их духовного настроения.
Соловьев безумен в глазах Победоносцева, конечно, в первую очередь не оттого, что провозгласил пророческую миссию Достоевского. В высказываниях обер-прокурора Синода о философе эпитет «безумный» фигурирует в качестве постоянного (кочуя из письма в письмо) с тех пор, как Соловьев 28 марта 1881 года произнес свою знаменитую речь с призывом помиловать убийц Александра II. Легендарность этого выступления – не только в его резонансе, но и в отсутствии авторского и вообще авторитетного текста; существует несколько пересказов, сильно разнящихся между собой. Одну из версий, видимо, тут же доложенную доверенным лицом Победоносцеву, мы узнаём из его очередного письма Е.Ф. Тютчевой, написанного на следующий день. Рассказав в нем об обращении Л.Н. Толстого к царю с просьбой не казнить народовольцев, Победоносцев возмущенно продолжает: «А вчера безумный философ Влад. Соловьев читал публичную лекцию о философии. Публика состояла из гимназистов, курсисток и т.п., дам и кавалеров. Он с вдохновением доказывал, что не следует казнить преступников, и в конце сказал: если царь это не сделает, мы не можем идти за ним. Ответом были громовые рукоплескания. Мне передавали слушатели там бывшие. И представьте, что болван Киреев устраивал эту лекцию! Судите, что здесь происходит!»172.
Эта краткая передача слов оратора в общих чертах совпадает с вариантом, который приводится во вступительной статье З.Г. Минц к изданию стихов Соловьева в «Библиотеке поэта»173. Но нам представляется более адекватным ходу мысли философа свидетельство тогдашнего студента Н. Никифорова, оставившего воспоминания о речи 28 марта. По его словам, Соловьев говорил: «Совершилось злое, бессмысленное ужасное дело: убит царь. Преступники схвачены, их имена известны, и по существующему закону их ожидает смерть, как возмездие, как исполнение языческого веления: око за око, смерть за смерть. Но как должен бы поступить истинный “помазанник Божий”, высший между нами носитель обязанностей христианского общества, по отношению к впавшим в тяжкий грех? Он должен отречься от языческого начала возмездия и устрашения смертью и проникнуться христианским началом жалости к безумному злодею. <…> “Помазанник Божий”, не оправдывая преступления, должен удалить цареубийц из общества как жестоких и вредных его членов, но удалить, не уничтожив их, а вспомнив о душе преступников и передав их в ведение церкви, единственно способной нравственно исцелить их…»174.
Этой записи очевидца хочется отдать предпочтение потому, что в ней зафиксированы мысли, которые несут отпечаток духа Достоевского и непосредственно по смерти писателя занимают Соловьева, поглощенного тогда продолжением его дела.
Не прошло еще и двух месяцев с того дня, как Соловьев над раскрытой могилой писателя в Александро-Невской лавре сказал поистине клятвенное надгробное слово, прозвучавшее в тонах поздней проповеднической прозы Достоевского и напоминающее «речь на камне» Алеши Карамазова: «И мы, собравшиеся на могиле, чем лучшим можем выразить свою любовь к нему, чем лучшим помянуть его, как если согласимся и провозгласим, что любовь Достоевского есть наша любовь и вера Достоевского – наша вера. Соединенные любовью к нему, постараемся, чтобы такая любовь соединила нас и друг с другом. Тогда только воздадим мы достойное духовному вождю русского народа за его великие труды и великие страдания»175.
Но как начать дело любви и единения в обществе, раздираемом враждой и сотрясаемом террором? Соловьев речью 28 марта поставил перед царем и общественностью ту же самую проблему, какую Достоевский решал для себя в последние месяцы перед кончиной, в связи с казнью в конце 1880 года двух народовольцев-террористов и помилованием (присуждением бессрочной каторги) их однодельцев: «Как государство – не могло помиловать (кроме воли монарха). Что такое казнь? – В государстве – жертва за идею. Но если церковь – нет казни. Церковь и государство нельзя смешивать. То, что смешивают, – добрый признак, ибо значит клонит на церковь. В Англии и во Франции не задумались бы повесить <…>»176. Как видим, Достоевский над юридическим механизмом возмездия ставит монарха, для кого одного возможен акт милосердия не как нарушение, а как превосхождение закона. Именно в таких прерогативах «помазанника» Достоевский усматривает отличительную особенность и многообещающее преимущество русской государственности по сравнению с теми же «Англией» и «Францией». После 1-го марта Соловьев вообразил, что царю наконец предоставляется «небывалая прежде возможность»177 продемонстрировать это преимущество в роковой для России момент и уникальным личным великодушием инициировать христианскую общественную правду, противостоящую революционному насилию.
Далее Соловьев (и этим тоже подтверждается достоверность записи Никифорова) безусловно мог в своей речи выдвинуть ту идею церковного суда, которая дебатируется в несомненно памятной ему и создававшейся в общении с ним главе «Буди, буди!» (из Книги второй «Братьев Карамазовых») и к которой Достоевский вернулся в приведенной выше записи 1881 года. Соловьев был как раз одним из тех, кого, по выражению Достоевского, «клонит на церковь» и кто в итоге хотел бы заменить государственное правосудие ее попечением. Наконец, и та особо одиозная для властей мысль, о которой мы узнаём из пересказа Победоносцева (и Щеголева), тоже имеет соответствие в размышлениях позднего Достоевского. Если Соловьев, судя по всему (в том числе и по его письму к императору) действительно говорил, что народ пойдет только за царем, явившем христианскую правду милосердия, близкую народному сознанию, – то ведь и Достоевский подобным же образом полагал, что царская власть сильна не иначе, как своей общностью с религиозно-нравственными началами, живущими в народе.
«Безумное» выступление 28 марта было для Соловьева поступком в духе заветов Пушкинской речи и, более того, конкретным воплощением этих заветов в ситуации исторического распутья и выбора. От Соловьева ждали живого, возвышающего дух слова не только «гимназисты» и «курсистки», но и друзья Достоевского, славянофилы, дорожащие духовной свободой178. Тот самый Киреев, которого за содействие Соловьеву Победоносцев в сердцах назовет «болваном», на следующий день после смерти Достоевского писал в своем дневнике: «Вчера вечером скончался Достоевский! Страшная потеря! Незаменимая! Он не популярничал, не подличал перед молодежью (говорю о Петербурге). <…> Здесь in spe179 Соловьев, но ему необходимо укрепиться»180.
В марте 1881 года Соловьев, не заботясь о цене, которую придется платить, постарался оправдать ожидания. Он в духе прецедента, созданного Достоевским на Пушкинском празднике, но обращаясь уже не к идейно враждующим, а к попросту воюющим сторонам, призвал обе к очищению и исправлению, что могло бы, как ему казалось, положить начало здоровому единству в обществе. Дело в том, что Соловьев произнес в эти дни не одну, а три речи, и прежде всего он решил обратиться к наступающей, а не обороняющейся силе. Но, выступив перед молодежной аудиторией (13 марта на Высших женских курсах, а также в Петербургском университете181) с метафизическим и моральным осуждением террора, Соловьев счел бы себя остановившимся на полуправде, если бы не прочел рацею и противоположной стороне относительно того, как ей дóлжно вести себя в согласии со своим исповеданием веры. Небывалый нравственный акт, идущий сверху, представлялся Соловьеву единственной в данном положении альтернативой кровавой политической войне в России. (Отвращение Соловьева к смертной казни не могло не усилиться под влиянием бесед с Федором Михайловичем об опыте смертничества; возможно, пленял и пример его святого патрона, киевского князя Владимира Крестителя, пожелавшего после принятия христианства отменить в своих владениях смертную казнь.)
Таким образом, Соловьев в эту пору хранит верность их общей с Достоевским надежде – на возможность России идти особой дорогой: не по пути «формальной» справедливости и не по пути принудительной авторитарности, не раздваиваясь между личной и политической моралью, а по «безумному» в глазах остального мира пути «христианской политики». Соловьев с очевидностью выступил в роли одинокого Дон-Кихота, но все же его акцию нельзя свести к прекраснодушному порыву, отрешенному от текущей действительности. Напротив, Соловьев очень остро почувствовал и, очевидно, хорошо взвесил практическую значительность, так сказать, «чреватость» момента, совпав в этом со своим оппонентом – с опытным государственным мужем Победоносцевым182. Ведь в эти дни обер-прокурор Синода и воспитатель только что взошедшего на престол государя тоже выступил с радикальным в некотором роде планом переориентации русской державы. 6-7 марта он пишет Е.Ф. Тютчевой: «Сегодня нетерпение взяло меня и я написал Государю большое письмо. Мой план между прочим объявить Петербург на военном положении, переменить людей и затем оставить Петербург, это гнилое место, покуда очистится, уехать в Москву, если нельзя еще дальше»183, – а на заседании Государственного совета 8 марта в Зимнем дворце наголову разбивает сторонников конституции. Однако тоже по-своему «безумный» победоносцевский проект антипетровской монархической «революции» оказался, как мы знаем, столь же несбыточным, что и упования Соловьева. По свидетельству вдумчивого наблюдателя, Россия в начале царствования Александра III «не пошла назад и вперед не двинулась, а как-то взяла в сторону»184.
В эти первые годы нового царствования (1881—1883) Соловьев борется за свои духовные идеалы под звездой Достоевского. В изменившихся условиях имя Достоевского для философа – девиз не только истины, но и времени, подававшего надежды на ее постепенное введение в жизнь, – эпохи внезапно оборванной, но незабываемой185. Программные идеи Достоевского Соловьев отстаивает теперь на двух выявившихся перед ним фронтах: перед противниками свободы во главе с Победоносцевым и перед сторонниками радикальной политической борьбы, представленными в публицистике начала 1880-х годов влиятельной фигурой Н.К.Михайловского.
Интересно, что публичный поединок с набиравшей силу идеологией Победоносцева оказался бы для Соловьева в ряде практических моментов неосуществимым, если бы не участие Анны Григорьевны Достоевской и не ее твердая убежденность, что младший друг покойного мужа был и остается его ближайшим единомышленником186. В то время, после скандализовавшей правительство речи, Соловьева почти не допускали к публичным выступлениям и всякое его устное слово наперед заподазривалось. Приглашать Соловьева для чтений на вечерах памяти Достоевского значило бросать косвенный вызов Победоносцеву, в глазах которого философ стал нежелательной фигурой; а ведь Победоносцев был в некотором смысле попечителем осиротевшей семьи Достоевских, хлопотал о ее материальном благополучии. И вот в этих обстоятельствах Анна Григорьевна делает Соловьева едва ли не центральным лицом годовщин памяти ее мужа.
В личном архиве она бережно сохранила семь писем Владимира Сергеевича к ней, связанных с организацией его выступлений на этих общественных поминках, и предварила свою коллекцию пояснительной запиской, составленной по смерти философа (даты под запиской нет) и звучащей как некролог в память высоко ценимого человека:
«Владимир Сергеевич Соловьев принадлежал к числу пламенных поклонников ума, сердца и таланта моего незабвенного мужа и искренно сожалел о его кончине. Узнав, что в память Федора Михайловича предполагается устройство народной школы, Владимир Сергеевич выразил желание содействовать успеху устраиваемых для этой цели литературных вечеров. Так он участвовал в литературном чтении 1-го февраля 1882 года; затем в следующем году, 19 февраля, произнес на нашем вечере в пользу школы (в зале Городского Кредитного общества) речь, запрещенную министром и, несмотря на запрещение, им прочитанную, и имел у слушателей колоссальный успех. Предполагал Владимир Сергеевич участвовать в нашем чтении и в 1884 году, но семейные обстоятельства помешали ему исполнить свое намерение.
По поводу устройства этих чтений мне пришлось много раз видеться и переписываться с Владимиром Сергеевичем и я с глубокой благодарностью вспоминаю его постоянную готовность послужить памяти моего мужа, всегда так любившего Соловьева и столь многого ожидавшего от его деятельности, в чем мой муж и не ошибся.
А.Д.»187
Три первых письма Соловьева из собрания Анны Григорьевны связаны с его приездом в Петербург в январе-марте 1882 года, когда он выступал на первом литературном вечере, устроенном А.Г. Достоевской. Тон писем к «многоуважаемой и дорогой Анне Григорьевне» – почтительный и вместе с тем теплый: «Спасибо Вам за доброе расположение, которое Вы мне всегда показывали и которое я очень, очень ценю»188. Так пишут тому, к кому испытывают давнее доверие.
Пока еще, несмотря на всю «скомпрометированность» приглашенного оратора, потребовалось, видимо, не так много усилий, чтобы выхлопотать Соловьеву разрешение на участие в вечере, – об этом можно судить, например, по тону следующего сообщения Соловьева Анне Григорьевне в письме от 18 января: «Графиня С.А. [Толстая] передала мне, что требуется предварительно куда-то представить мою речь, но не могла наверно сказать, нужно ли написать вполне или только конспект. Если днем для чтений не назначено окончательно 22 января, то мне казалось бы лучшим оставить этот день для церковной и семейной памяти Федора Михайловича, а для публичного и литературного поминовения назначить хотя бы за тем воскресение или день похорон. Впрочем, об этом поговорю завтра»189.
В соловьевском цикле «Три речи в память Достоевского» произнесенная тогда речь значится как вторая; однако, если не считать Слóва на похоронах писателя, она явилась первым190идейным заявлением Соловьева относительно Достоевского как пророка обновления жизни. Примечательно, что подобная оценка вызвала одинаково сильное раздражение и (как уже было отмечено) у обер-прокурора Синода, и у литературно-общественного вождя народников. Ни первого, ни второго – каждого по своим соображениям – не устраивало тó, что Соловьев, говоря об общественном идеале Достоевского, назвал «свободным согласием на единство»191. Для Победоносцева это был непозволительный либерализм, а Михайловского-социалиста оскорбил привлеченный оратором образ принудительного «муравейника»192.
После этой речи Соловьева и радикальная критика, и правительственная администрация принимают свои меры. Михайловский начинает статью о Достоевском «Жестокий талант» с грубо-саркастического пассажа по адресу Соловьева193. Что касается властей, то, когда на следующий год Анна Григорьевна пригласила философа участвовать в аналогичном литературном вечере, ему и устроителям уже пришлось столкнуться с нешуточным сопротивлением сверху. Друг семьи Достоевских, либерально-славянофильский литератор О.Ф. Миллер, обсуждая с А.Г. Достоевской трудности организации будущего вечера, с самого начала сомневается, дадут ли на этот раз говорить Соловьеву: «Если Соловьеву позволят говорить, то тем лучше; пусть хлопочет <…>»194. И если в письме к Анне Григорьевне от 7 февраля 1883 года Соловьев еще выражает надежду на беспрепятственность своего выступления: «Что касается цензуры моей речи, то я уверен, что попечитель безо всяких затруднений возьмет это на себя, как в прошлый год»195, то всего четыре дня спустя, в письме к ней же от 11 февраля, эта надежда в нем явно поколеблена: «Сверх того я стал мнителен, как и Вы, и мне сдается, что в Петербурге найдутся многие доброжелатели, которые постараются помешать моей речи 19 февраля. Если Вы заметите что-нибудь такое, то конечно не оставите без противодействия»196.
Как уже знаем из приведенных выше сведений Анны Григорьевны, Соловьев в качестве оратора был действительно запрещен и говорил вопреки запрещению – поступок в его независимом духе. После инцидента Соловьев в том же месяце сообщает И.С. Аксакову: «Мою речь в память Достоевского постигли некоторые превратности, вследствие чего я могу Вам ее доставить только в 6 № “Руси”. Дело в том, что во время моего чтения пришло запрещение мне читать, так что это чтение понимается якобы не бывшее, и петербургские газеты должны умалчивать о вечере 19 февраля, хотя на нем было более тысячи человек. <…>. И все это наш друг К.П. Победоносцев»197.
В этой речи 19 февраля (так называемой «третьей речи в память Достоевского») Соловьев стремится предельно конкретизировать расхождения с идейными противниками и вместе с героем своего выступления остаться на узкой полосе нравственно безупречного для него идеала. Письмом от 11 февраля (уж цитированном выше) Соловьев сообщает Анне Григорьевне детальный план своей речи, который он и развил в публичном выступлении: «Содержание предполагаемого чтения в кратких словах следующее: связь между деятельностью Достоевского и освободительным актом прошлого царствования. С высвобождением из внешних рамок крепостного строя русское общество нуждается во внутренних духовных основах жизни. Эти основы угадываются и возвещаются Достоевским. – Несостоятельность так называемого “общественного идеала” (внешнего). Возникший в русском обществе вопрос: что делать? Ложный и истинный смысл этого вопроса. Общественная жизнь зависит от нравственных начал, а они не возможны без религии, а религия истинная невозможна без вселенской Церкви. Положительная задача России, вытекающая из этих оснований. Заключительное суждение о Достоевском. По этой программе можно сказать ужасно много, между прочим и о самоубийствах, – не знаю как все это выйдет. Начал писать»198.
Уже выбор даты для чествования памяти Достоевского, подсказанный, как увидим дальше, самим Соловьевым, заключал в себе момент конфронтации с взглядами Победоносцева на недавнее прошлое России. Речь Соловьева начиналась словами: «В царствование Александра II…» – и этот зачин был для него принципиален. Еще при первом обдумывании речи, 7 февраля, он пишет Достоевской: «У меня в голове нечто слагается подходящее, скоро начнет слагаться и на бумаге, и если ничего неожиданного не произойдет, приеду непременно. Но как я Вам телеграфировал, мне кажется, хорошо бы 19 февраля не потому только, что это дало бы 2 лишних дня, но и для того, чтобы связать память Федора Михайловича с днем освобождения, т.е. годовщину духовного представителя России в царствование Александра II с годовщиной важнейшего события в этом царствовании. Так как в настоящем году не удалось устроить поминовения в день кончины, то отчего бы для общественного воспоминания не взять праздник 19 февраля?»199.
Для Победоносцева «эпоха реформ», начавшаяся с отмены крепостного права, несла в себе разложение русских государственных и общественных устоев. Еще в 1864 году он жаловался сестре Екатерины Федоровны – А.Ф. Тютчевой: «Нам здесь, не поверите, как надоели преобразования, как мы в них изверились, как хотелось бы на чем-нибудь твердом остановиться <…>»200. И, подводя итог двадцатипятилетнему правлению Александра II, он пишет Е.Ф. Тютчевой 25 февраля 1879 года: «А это 25-летие роковое, и человек его роковой – l’homme du destin для несчастной России <…> в руках у него рассыпалась и опозорилась власть, врученная ему Богом, и царство его, может быть и не по его вине, было царством лжи и мамоны, а не правды»201.
Взгляд Достоевского был в корне иной. Когда Соловьев в своей «третьей речи» говорил, что в эпоху Александра II «закончилось внешнее природное образование России, образование ее тела, и начался в муках и болезнях процесс ее духовного рождения»202, он фактически повторял мысль из выделенного им еще в 1873 году, в момент опубликования в «Гражданине», очерка Достоевского «Влас»: «Да ведь девятнадцатым февралем и закончился по-настоящему петровский период русской истории, так что мы давно уже вступили в полнейшую неизвестность»203. Сам акт освобождения крестьян Достоевский расценивал как «великий» и «пророческий момент русской жизни», в котором выразилось национальное чувство справедливости, и как «проявление русской духовной силы»204. Эти слова тоже не трудно поставить в связь со сказанным на соответствующую тему у Соловьева: «Великий подвиг этого царствования есть единственно освобождение русского общества от прежних обязательных рамок для создания новых духовных форм <…>»205. Достоевский, далее, не был противником и прочих либеральных реформ, не исключая судебной, особенно ужасавшей Победоносцева206. Нам ничего неизвестно о том, выходили ли наружу эти существенные внутриполитические расхождения между ними в годы их общения. Но Соловьев, задумав сделать в своей речи Достоевского символической фигурой всего периода александровских преобразований, тем самым выявил контраст взглядов Достоевского и Победоносцева и отмежевал покойного писателя от инициатора «подмораживания» России.
По этому поводу остается добавить, что «третья речь в память Достоевского» была только началом идейного сражения между Соловьевым и Победоносцевым, затянувшегося на годы. С точки зрения философа, самый большой грех этого могущественного человека перед будущностью России заключался в попрании свободы совести. Апогеем их противостояния можно счесть страстное и ультимативное обращение Соловьева к Победоносцеву во время народного бедствия – голода 1891 года:
«Милостивый государь Константин Петрович. Решаюсь еще раз (хотя бы только для очищения своей совести и не без некоторой надежды на лучший успех) обратиться к Вам как к человеку рассудительному и не злонамеренному. Политика религиозных преследований и насильственного распространения казенного православия видимо истощила небесное долготерпение и начинает наводить на нашу землю египетские казни. <…> Но видит Бог, теперь я отрешусь от всякой личной вражды, отношусь к Вам как к брату во Христе и умоляю Вас не только для себя и для других, но и для Вас самих: одумайтесь, обратитесь к себе и помыслите об ответе перед Богом. Еще не поздно, еще Вы можете перемениться для блага России и для собственной славы. Еще от Вас самих зависит то имя, которое Вы оставите в нашей истории. Говорю по совести и обращаюсь к Вашей совести.
Словесного ответа мое письмо не требует. Не оставляю надежды, что милость Божия Вас тронет, и что Вы ответите делом. А если нет, то пусть судит сказавший: Мне отмщенье и Аз воздам»207.
Судя по серьезности этих слов, Соловьев в «нашем друге К.П. Победоносцеве», постоянной мишени его злых насмешек и эпиграмм, видел не просто душителя свободы, внутренне монолитного и закоснелого, а признавал все же трагическую личность…
Вернемся, однако, к 1883 году и ко второму противнику, с которым Соловьев схватился в своей речи 19 февраля. Философ в ней особенно энергично подчеркивает, что Достоевский обладал положительным общественным идеалом, и весьма озабочен тем, чтобы обосновать несовместимость этого идеала с «разрушительными» планами переустройства общества. Характеризуя подобные намерения как чисто негативную цель, Соловьев не без язвительности добавляет: «Для такого служения общественному идеалу человеческая природа в теперешнем ее состоянии и с самых худших своих сторон является готовой и пригодной»208. Здесь пока еще ничто не мешает думать, что Соловьев занят опровержением радикального направления в целом, а не каких-либо конкретных его выразителей. Однако далее в речи звучит нота прямого полемического возражения, понуждающая предположить, что у всех этих инвектив есть индивидуальный адрес. «Такого грубого и поверхностного, безбожного и бесчеловечного идеала не было у Достоевского, – и в этом его заслуга»209.
Опознать адресата полемики помогает письмо Анне Григорьевне от 8 февраля 1884 года, где Соловьев, сообщая о невозможности для него участвовать в очередном вечере памяти Достоевского, посвящает его вдову в свой замысел опубликовать в ближайшем будущем работу о писателе: «<…> я хочу сделать кое-что более прочное для памяти Федора Михайловича, а именно издать о нем отдельную книжку, которая на половину будет состоять из нового, т.е. еще не бывшего в печати. Кстати: в прошлом году у меня была очень милая дама (или девица) с иностранной фамилией, которую не могу припомнить, и получила от меня для передачи Вам одну мою полемическую заметку в защиту Федора Михайловича от критики Отеч<ественных> Записок. Разумеется, я не могу в своей книжке соединять имя Достоевского с именем г. Михайловского. Но, может быть, что-нибудь возьму из той заметки. Итак, если она у Вас, то пожалуйста пришлите мне ее заказным письмом»210.
Упомянутая в письме заметка Соловьева – «Несколько слов по поводу “жестокости”» – писалась им в 1882 году под непосредственным впечатлением от статьи Михайловского «Жестокий талант», но была заброшена автором, с тем, однако, что ответы Соловьева по возмутившим его пунктам нашли себе место в «третьей речи». Вот извлечения из неоконченного черновика этой заметки, передающие ее центральную мысль.
«В двух последних №№ Отечественных Записок напечатана статья о Достоевском под заглавием “Жестокий талант”. Вся литературная деятельность Достоевского сводится здесь к ненужному мучительству и беспредметной игре “мускулов творчества”. Играя этими “мускулами”, он с наслаждением и излишеством терзал своих героев, чтобы чрез них терзать своих читателей211. Те, для кого писал Достоевский, знают, что у него было нечто большее, чем “жестокий талант”. Но дело не в этом. В последней статье есть одно место, затрогивающее весьма важный общий вопрос и вызывающее на довольно печальные размышления. Указав, что свойственная Достоевскому жестокость таланта не могла быть смягчена чувством меры, какового у Достоевского не было, автор продолжает так <…>»212.
Далее Соловьев щедро цитирует своего оппонента, утверждающего, что, если б Достоевский обладал ясным «общественным идеалом», то не слишком симпатичную черту своего таланта – склонность к мучительству – мог бы употребить на общественно-полезное дело разрушения старого строя. Любопытно, что Михайловский растолковывает свою мысль как бы на языке Достоевского-петрашевца, изучавшего доктрины Ш. Фурье и знакомого с его «теорией страстей», согласно которой «дурные» страсти требуют не изживания, а подходящего использования. Критик вспоминает об одном кровожадном герое Эжена Сю: природные наклонности этого персонажа были умело направлены руководителем-«фурьеристом» в общеполезное русло – он стал мясником на бойне. «Доколе, – поучает Михайловский, – нет “на земле мира и в человецех благоволения”, самый любвеобильный человек допускает, что возможна и обязательна “необузданная, дикая с лютой подлостью вражда”213. А всякая вражда требует иногда людей жестоких (не мучителей, конечно, которые ни для какого дела не нужны). Вот и пусть бы Достоевский взял на себя в этой вражде роль, соответствующую его наклонностям и способностям, которые нашли бы себе таким образом определенную точку приложения. Все равно как нашли себе таковую кровожадные наклонности героя Сю»214. Но, по мнению критика, Достоевский не усвоил себе подобной, спасительной для его дара, роли, ибо не имел высоких целей. «Будь такой идеал у Достоевского, он <…> направил бы его жестокие наклонности в какую-нибудь определенную сторону. Но у Достоевского такого идеала не было…».
Отталкиваясь от последней обличительной фразы, Соловьев продолжает свою отповедь Михайловскому словами, которые потом почти буквально будут повторены в его речи 19 февраля 1883 года: «Да, не было у Достоевского такого общественного идеала, для которого пригодны жестокие наклонности, не было у него такого общественного идеала, который требует необузданной и дикой вражды. Он не принимал всуе слова “общественный идеал” и знал разницу между тем, что бывает, и тем, что должно быть. Проникнув глубже других в темную и безумную стихию человеческой души, он отразил ее в своих действующих лицах иногда с гениальною силою, иногда с излишнею и действительно мучительною напряженностью. Но рядом с этой изнанкою человеческой души, которую Достоевский воспроизводил и показывал нам как психологическую действительность, у него был в самом деле нравственный и общественный идеал, не допускающий сделок с злыми силами, требовавший не того или другого внешнего приложения злых наклонностей, а их внутреннего нравственного перерождения, – идеал, не выдуманный Достоевским, а завещанный всему человечеству евангелием. Этот идеал не позволял Достоевскому узаконять и возводить в должное “необузданную и дикую вражду”; такая вражда всецело принадлежит дурной действительности, в достижении общественного идеала ей нет никакого места, ибо этот идеал именно и состоит в упразднении215 дикой и необузданной вражды. Дело трудное. Носители новой социальной идеи за это дело не принимаются, просто берут всю мерзость человеческую как она есть и самодовольно подносят ее нам под видом общественного идеала. Все злые факторы нашей действительности остаются у них неприкосновенными в своей нравственной сущности, а меняют только свои места или получают “определенную точку приложения”. Положим, вы грубо-кровожадны. Хорошо! говорит общественный идеал: ступайте мясником на бойню (причем предполагается, что бойни должны существовать вечно). Вы коварно-жестоки? Хорошо! берите кинжал, будьте Равальяком216. А у вас сильны разрушительные инстинкты, вы, может быть, склонны к пиромании? Превосходно! берите порох, динамит, взрывайте церкви, поджигайте дворцы и театры. А вот вы страдаете завистью и тщеславием? недурно и это: идите в радикальные публицисты, служите своей партии клеветой и злословием217. Все это под прямым внушением и руководительством “общественного идеала” и с соблюдением “нравственной дисциплины”218. Существует же дисциплина и в разбойничьих шайках. <…> И не будет конца этой круговой поруке злобного насилия, этому усложненному каннибализму до тех пор, пока общественный идеал будет отделяться от нравственного, пока злые страсти будут оправдываться точками приложения. Упомянув иронически о “расцвете любви” и о “мире на земле”, г. Михайловский восклицает: “Чего лучше! Но улита едет, когда-то будет!” Наверное даже никогда, с его точки зрения, по его общественному идеалу. Ибо если на основании того факта, что между нами господствует вражда, мы должны признать ее законной и даже обязательной, и притом вражду дикую и необузданную, то спрашивается, откуда же может взяться на земле мир? Прежде чем явится хоть какая-нибудь возможность такого мира, должны мы хоть в идее-то по крайней мере, хоть в принципе, хоть в законе своей совести решительно отказаться от злобы и вражды, осудить их безусловно как нравственное зло, независимо ни от каких точек приложения. А то хотят исправить действительность, а между тем и в душе и на деле преклоняются перед коренным злом этой самой действительности»219.
Если в схватке с Михайловским за свое понимание заветов Достоевского Соловьев походит на бойца, ринувшегося в контратаку, а в единоборстве с Победоносцевым – на стратега, ведущего методическое наступление, то в третий, открывшийся тогда очаг борьбы Соловьев вовлекается, не ожидая сопротивления и надеясь на добрый мир. Уже в кратком конспекте выступления 19 февраля (см. цитированный выше фрагмент из письма А.Г. Достоевской от 11 февраля 1883 года) посреди прочих его тезисов несколько внезапно появляется тема «вселенскости» Церкви. А в самом этом выступлении Соловьев неожиданно, но логически неотразимо экстраполирует главную мысль Пушкинской речи Достоевского – идею примирения – на западно-восточный раскол христианской ойкумены. «И тут было нечто гораздо большее, – говорит он о Пушкинской речи Достоевского, – чем простой призыв к мирным чувствам во имя широты русского духа <…> тогда почувствовалось и сказалось, что упразднен спор между славянофильством и западничеством, а упразднение этого спора значит упразднение в идее самого многовекового исторического раздора между Востоком и Западом, – это значит найти для России новое нравственное положение, избавить ее от необходимости продолжать противохристианскую борьбу между Востоком и Западом и возложить на нее великую обязанность нравственно послужить Востоку и Западу, примиряя в себе обоих»220. И Соловьев здесь же делает как бы первый практический шаг в качестве русского человека-«примирителя»221: он, так сказать, от имени Достоевского призывает к доброжелательному сближению с католическим Римом! Таким образом, он распространяет интенцию своего вдохновителя на новые мировые темы, уже противореча пристрастиям самого Достоевского. Как это, на первый взгляд, ни парадоксально, именно в посвященной Достоевскому речи Соловьев открыл ту кампанию «за воссоединение Церквей», которой он отдаст многие годы и лучшие силы.
Несмотря на то, что «третью речь» Соловьева опубликовало славянофильское издание222, она, надо думать, способствовала – наряду со все более поглощавшим тогда философа трудом «Великий спор и христианская политика» – огорчительному для него превращению старых друзей в упрямых противников. Как раз в эти дни, в письме от 23 февраля, Аксаков жалуется О.Ф. Миллеру, что в «Великом споре…» содержится «страстная апология латинства и пап». «Я даже вовсе не из цензурных соображений, – продолжает Аксаков, – противлюсь напечатанию статьи в ее настоящем виде – даже не потому, что она прямо противоречит в некоторых местах Хомякову, но из опасения, что, появись эта статья в печати, последовало бы запрещение “Руси” при общем справедливом ликовании всего православного мира»223.
По этому поводу Соловьев в цитированном выше письме от 11 февраля делится своими печалями с Анной Григорьевной, видимо, не сомневаясь в ее человеческом, а может быть, и в идейном сочувствии: «Я болен и огорчен: болен постоянной крапивной лихорадкой, а огорчен задержкой большой моей статьи в Руси – о разделении Церкви. – Аксаков убоялся Синода с одной стороны и тени Хомякова224 с другой».
В этом, 1883-м, году Соловьев, навсегда потеряв общий язык со славянофилами, оказывается в предельном одиночестве как мыслитель и писатель: «Вообще, куда я денусь и к чему приткнусь, – не знаю. Здоровье мое тоже плоховато. Впрочем, я не унываю и стараюсь подражать птицам небесным»225, – пишет он своему старому приятелю кн. Д.Н. Цертелеву после того, как выяснилась его нежелательность для славянофильских изданий226. И даже отказ его участвовать в вечере памяти Достоевского в 1884 году был вызван не столько «семейными обстоятельствами», на которые он сослался Анне Григорьевне, сколько утратой веры в общность с аудиторией. Раздумывая над этим приглашением А.Г. Достоевской, Соловьев писал Н.Н. Страхову: «… когда мне напомнили и я осуществил в своем воображении и фрак, и залу Кредитного общества, и “благосклонную” публику, я решил окончательно на вечере не читать и в Петербург не ехать <…>»227.
Тем не менее Соловьев и тогда сохраняет убежденность, что он – а не его оппоненты из славянофильского лагеря, тоже имевшие свои основания претендовать на наследство Достоевского, – является продолжателем общественного дела писателя и даже мог бы заслужить его одобрение. Он не чувствует себя посторонним и задачам всего, что связано с памятью Достоевского, давая нелицеприятные отзывы об уже осуществленном издании и рекомендации на будущее. 8 марта 1884 года он с радостью сообщает Анне Григорьевне о выходе в свет брошюры, включающей три его речи в память Достоевского с предисловием и «антилеонтьевским» приложением: «Книжка моя о Федоре Михайловиче уже напечатана и на днях должна выйти <…>. А я думаю, Федор Михайлович был бы доволен моею книжкою: первая речь (вновь написанная), кажется, удалась, а с ней и остальное выигрывает и вместе выходит нечто цельное. Так мне показалось, когда я прочел все зараз в корректуре. Очень утешительно, что Ваши дела идут хорошо. Сердечно радуюсь за Вас и за наше общество, что все издание сочинений Федора Михайловича уже разошлось. Что касается до биографии228, (т.е. собственно писем), то мне кажется следующее: так как это не есть полное собрание всех писем, а только часть их, то выбор должен быть более строгий и менее случайный. Некоторые письма должны быть совсем исключены, другие напечатаны с выпусками. Как-нибудь на днях я перечту и пришлю Вам свои отметки. – Я еще не получил посланную Вами копию с моей полемической заметки, но это неважно, так как книжка все равно уже напечатана»229.
Посвященный Достоевскому этап жизни В.С. Соловьева подытоживается страницами, добавленными им в виде «первой речи» к двум произнесенным. Сам философ чувствовал, что благодаря содержащимся здесь значительным обобщениям прежние его высказывания о Достоевском приобрели целостное, программное звучание. Соловьев последний раз отдает сердечную дань личности писателя и, прощаясь с темой Достоевского, старается отобрать из его духовного мира все то, что считает насущным для дальнейшего пути. Тот образ Достоевского, который создается в этом новом вступительном слове, как бы напутствует Соловьева на две задачи, надолго определившие его философское и общественное будущее: на борьбу за «теургическое», то есть преобразующее жизнь, искусство и на защиту «вселенской истины» от националистических посягновений.
Исполняя это второе задание, Соловьев не мог не столкнуться с «теневой» стороной Достоевского-мыслителя которую он, конечно, видел и раньше, но которую намеренно отделял от высших идеалов «гениального прозорливца и страдальца»230. В цикле статей «Национальный вопрос в России» Соловьев обращает внимание на «несомненную двойственность в воззрениях Достоевского»231: с одной стороны, в его «праздничной речи» утверждается универсальный всечеловеческий и жертвенный характер «русской идеи», а с другой, в «будничных спорах» – претензии на мировое руководительство со стороны России силами ее государственности и едва ли не оружия. Неоспоримо, что Соловьев прав как в том, что у Достоевского были эти срывы в националистическое мессианство, так и в том, что не они составляют существо его общественного идеала и что память писателя «сохранилась не запятнанной сознательным отречением» от всебратского пафоса Пушкинской речи232.
Эти два переплетающихся между собой, но разных по своим импульсам проекта российского и общечеловеческого будущего – что почувствовал, но не до конца проследил Достоевский – можно условно обозначить как «внутреннюю», или этическую, и как «внешнюю», или социально-политическую, утопии. Этическая утопия возлагает надежды на внутренний отклик и вклад каждого в дело благого общественного устроения; ее непременный девиз (провозглашенный самим Достоевским) – «И один в поле воин»; она вскрывает зависимость общественного дела от каждого «я» и утопична, собственно, в той мере, в какой оказываюсь виноват «я один» («Сон смешного человека»). Общественная проекция этической утопии предполагается как кунктаторский путь реформ, приближающий общество к заявленному идеалу, но, разумеется, никогда не претендующий на абсолютное его воплощение. Поэтому этическая утопия Достоевского, как бы она ни была патетична и грандиозна, никогда не грозит перерасти в «антиутопию».
Совсем другое дело – глобальные социально-политические проекты Достоевского. Ставки здесь делаются на существующие институциональные силы, от которых ожидаются окончательные, радикальные решения; осознанное или неосознанное неверие во внутренние духовные ресурсы человека возбуждает прожектерскую торопливость и оправдывает третирование человеческой свободы; триумф такого рода «распорядительности» представúм в виде безысходной антиутопии.
Избежав того, что он относил к «непросветленным взглядам»233 Достоевского, Соловьев сам не сумел уберечься от соблазна тотальных проектов, в которых намечаются окончательные начертания будущего распорядка и на скорую руку подыскиваются рычаги для его введения. Эти рычаги в соловьевской схеме – папство и русская императорская власть, совместно организующие все человечество. Искусственно сочиненная Соловьевым и преподнесенная им в качестве «окончательного идеала Христианства как общества»234 всемирно правящая «социальная троица» (первосвященник, царь и пророк) столь же опасно фантастична, что и геополитические мессианские планы Достоевского, предполагающие имперское торжество на развалинах католического и вообще западного мира.
При всем конкретном различии их социально-политических утопий, Достоевский и Соловьев, так сказать, симметрично отклонялись от роднящего их общественного идеала, но смогли в конце концов возвратиться на магистральные для обоих пути. Как в «Братьях Карамазовых» трагедийный корректив некоторым скоропалительным рецептам из «Дневника писателя» нисколько не компрометирует задушевные надежды Достоевского на всечеловеческое братство, – точно так же в сочинении Соловьева о крахе социального прожектёрства – его прощальной «Краткой повести об антихристе»235 – трагическая самокритика не отменяет ценности того духовно-общественного идеала, которому Соловьев служил всю жизнь.
Р. Гальцева, И. Роднянская
Просветитель: Личная участь и жизненное дело Владимира Соловьева
(По случаю выхода в свет труда С.М. Лукьянова «О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы»)236
…Объявляю заранее, что между мною и благоразумием не может быть ничего общего, так как самые цели мои неблагоразумны.
Из письма Вл. СоловьеваС.А. Толстой от 14 мая 1877 года
Репринтная комментированная публикация трехтомного труда Сергея Михайловича Лукьянова237 – заметное культурное событие, дающее отличный повод в свете позабытых или свежих источников заново окинуть взглядом удивительный путь русского мыслителя и дело его жизни.
Тех, кто углубится в книгу этого почитателя и биографа В.С. Соловьева, ожидает встреча с блистательным молодым героем, у которого все впереди. Выходец из благополучной и высокообразованной профессорской семьи, «философ призывного возраста», в двадцать один год успевший изумить коллег профессионально глубоким и вместе с тем дерзновенным трудом и вызвать уважительный интерес у таких старших современников, как Л.Н. Толстой, Достоевский, Страхов; юноша с поражающей воображение наружностью, снискавший почти «скандальный успех» в светских салонах и интеллектуальных гостиных; путешественник по заграничным центрам просвещения и таинственным экзотическим землям, прямо с университетской скамьи направленный в престижную научную командировку, – он привольно идет по дороге, которая сама расстилается перед ним, предлагая беспрепятственную академическую карьеру и суля жизнь, проводимую в утонченных умственных пиршествах.
Если бы С.М. Лукьянову удалось довести свои биографические разыскания до намеченной черты – до 1881 года, который ему видится концом «молодых лет» Владимира Сергеевича, – тогда читатель узнал бы о переломе этой, казалось бы, ясно наметившейся линии: публично выступив с «безумным» призывом к царю Александру III – помиловать убийц его отца во имя христианской общественной идеи, Соловьев обнаружил свой истинный выбор и навсегда расстался с возможностями просторной и торной дороги. В последующие годы он, конечно, не «питался сухожилием и яичной скорлупой» и в «болотах» не ночевал, как то изображается в его юмористическом стихотворении «Пророк будущего» (1886), но, согласно с пояснением автора к этому опусу, в его жизни, действительно, «противоречие с окружающею общественной средой доходит до полной несоизмеримости».
И когда встречаешь Соловьева на его последнем, смертном пути из Москвы в Узкое238 – поистине узком пути, – следующего с единственной связкой книг из одного чужого жилища в другое, коротко остриженного, расставшегося даже со своими колоритными кудрями, то каким контрастом с безоблачным триумфальным началом представляется этот финал…
Но в случае Соловьева такое житейское оскудение свидетельствует как раз о торжестве его миссии, об исполненном призвании. Большинство людей, сталкивавшихся с ним, сразу ощущало, что он создан не по мерке обычной жизни, что он как бы пришелец неотсюда и явился со своей особенной вестью.
Самое его происхождение, родовые корни наталкивают на мысль о некоей провиденциальной подготовке появления его на свет: тут и поразительное сходство будущего скитальца, проповедника и натурфилософа со своим дальним предком, странствующим мудрецом и учителем жизни Григорием Сковородой239; и благословение на служение Богу, полученное ребенком в алтаре от деда-священника; и дух воителя, унаследованный от военной родни; и, наконец, близость к настроению отца, историка, принадлежавшего, по словам В.О. Ключевского, к числу людей, готовых проповедовать в пустыне, и как будто передавшего сыну свою отроческую мечту – основать философскую систему, которая, показав ясно божественность христианства, положит конец неверию. За образцами подходящей для Соловьева судьбы мемуаристы и биографы отправляются в легендарные времена, обращаются к легендарным фигурам. Его сравнивают с античным праведником Сократом240 и с античным любомудром Платоном – не только из-за «сократовской» проповеди добра и из-за «платонической» интуиции горнего мира, но и по сходному положению между общественными силами, с разных сторон не приемлющими носителя примирительной истины. Столь же наглядна параллель Соловьева-проповедника с пророческими фигурами Ветхого завета, о которых он писал: «Они оказались пророками в трех смыслах: 1) они предваряли царство правды, идеально определяя им свое религиозное сознание; 2) они обличали и судили действительное состояние своего народа как противоречащее этому идеалу и предсказывали народные бедствия как необходимое последствие такого противоречия; 3) самим своим явлением и деятельностью они предуказывали выход из этого противоречия в ближайшей будущности народа…»241. Когда читаешь эти строки, понимаешь, что Соловьев, не мысля равнять себя с персонажами Священной истории, тем не менее именно так представлял себе собственный долг по отношению к своей родине, – и долг этот исполнял, не оглядываясь на обстоятельства.
Следя за жизненной линией Соловьева, внимательный читатель книги Лукьянова заметит, что здесь не однажды возникает сравнение ее героя с Франциском Ассизским: с образом жизни великого католического святого сопоставляют как добровольную бедность Соловьева – правда, хранимую не по обету, а из «пренебрежения к власти денег» (Н.В. Давыдов) и из отзывчивости к просителям, так и одушевляющее отношение к природе, сочувствие живым тварям и дар мистической радости, не чуждой юмора и шутки. В тонах средневековой героики виделся Соловьев и Александру Блоку, назвавшему его «рыцарем-монахом». Отсюда недалеко до пушкинского «рыцаря бедного», над чьей стезей, применительно к собственным видениям, размышлял Соловьев в трактате о «смысле любви». И, конечно, в позднейшем литературном перевоплощении этого «рыцаря» – в князе Мышкине – предугадана ангелическая духовность Соловьева, его бестелесный эрос: избранницы его, при самом сердечном восхищении, от союза с ним неизменно уклонялись, чувствуя, верно, то же самое, что Лизавета Прокофьевна (в романе «Идиот») перед лицом симпатичного ей Мышкина, однако, «невозможного жениха» для ее дочери.
Среди свидетельств, сохранившихся в памяти современников Соловьева, попадаются формулы почти житийного характера. «… Печать избранника судьбы, высокоодаренного, носившего в себе божественный огонь, была ясно видна на его лице», – вспоминает старый его товарищ А.Г. Петровский242. Сестра Соловьева М.С. Безобразова так передает слова многих знавших его людей: «В присутствии вашего брата Владимира Сергеевича сам становился лучше: при нем слишком стыдно было думать и чувствовать гадко». И она добавляет от себя: «Войдет высокий, бледный, худой и такой красивый, с головой, которая, говорят, напоминает голову Иоанна Крестителя! И некрасивое слово не произносится, и руки, поднятые для некрасивого жеста, опускаются <…> и так хочется сказать или сделать что-нибудь умное и красивое!»243. Католический деятель епископ Штроссмайер, близкий к Соловьеву, определил его с четкостью и лаконизмом средневековой латыни: Soloviev anima candida, pia ас vere sancta est («…душа простая, благочестивая и поистине святая»). Даже эпизоды его жизни порой передавались в агиографическом стиле: «Хотел видеть Фаворский свет и видел»; «Видел дьявола и пререкался с ним».
И тем не менее – соответственно посланнической участи, предполагающей тернии, незаслуженно дурную славу, – подобные свидетельства чередуются с недоумениями и даже с попытками разоблачения: аномалии психики, кощунственная насмешливость, попустительство чувственным соблазнам, демоническое угрюмство, ставрогинская изломанность, оригинальничанье и позерство, переменчивость убеждений… Раздраженный непонятной фигурой «ложного пророка», епископ Антоний (Храповицкий) составил из темных слухов и пристрастных подозрений настоящее «анти-житие» Владимира Соловьева: в изображении этого церковного деятеля главный импульс всей жизни обвиняемого – непомерное тщеславие, сочетавшееся с «русской ленью» и склонностью к утехам. На нескольких страницах Антониевой филиппики чего только не умещается: «запойный алкоголизм», привычка «драпироваться» «во внешность Иоанна Крестителя», плагиат у почтенных предшественников, обращение ко «лжи, иногда вовсе бесцеремонной». По части идейной философу бросаются укоры, которые должны обличить в нем нестерпимого возмутителя спокойствия: «Погоня за славой <…> перегоняла его из лагеря в лагерь», он «никогда не имел твердых убеждений», «часто менял их», постоянно уклонялся «в сторону то одного, то другого учения, наряду с выражениями скептицизма и цинизма», пропагандировал взгляды «нравственного нигилиста Ницше», перемигивался «с дарвинизмом и революцией», а под конец, исписавшись, «стал бесцеремонно якшаться с революционерами и оплевывать свою родину»244.
Больше всего смущало – и даже возмущало, – видимо, то, что человек, чья высота и иноприродность («пророческий вид», «победа идейности над животностью», по словам его знакомца М.М. Ковалевского) бросаются в глаза и как бы обязывают к особому поведению, – что человек этот не выделяет себя из мирского быта, не чужд простодушным удовольствиям и развлечениям (любит проводить время, как сказал бы булгаковский Воланд, чуть ли не «в обществе лихих друзей и хмельных красавиц»), наконец, не брезгует злобой дня и немилосердной по отношению к своим противникам журнальной полемикой. Близорукие очевидцы ошибались, выискивая здесь непоследовательность, раздвоенность, темные загадки. Соловьев разделял черты быта своей среды, как ее гость, а не как ее член, и жил в чужом монастыре, не расставаясь со своим уставом. Но, действительно, занятое им место могло раздражать своей необычностью, неожиданностью – этой роли в статуте мирской и церковной России прежде не существовало вовсе, быть может, лишь пунктиром была она обозначена в «типе еще не выявившегося нового деятеля», в образе младшего из братьев Карамазовых. Это роль пророка в цилиндре и сюртуке. Такая фигура выглядела парадоксальной и неприкаянной. На ней не лежала печать церковного избрания и благолепия, а с другой стороны, она не умещалась в культурных представлениях общества, отринувшего религиозную опеку.
Между тем Соловьев предвосхитил общественную потребность в такой роли, чувствуя, что отрыв интеллигенции от христианства, а народной веры от просвещения приведет к катастрофе, если никто не возьмет на себя миссии посредничества. Его отважный, порой ведущий к нездравым проектам почин одними воспринимался как еретическое самочинство, другими – как старозаветный обскурантизм. «… Несмотря на всю ясность и твердость своих взглядов, он <…> возбуждал множество недоразумений. С различных сторон ему хотели навязать принципы, которым он никогда не служил. Люди различных партий считали его своим, потому что он признавал их относительную правду, и они же яростно нападали на него, когда убеждались, что он не считает их правду безусловной. Кто только не считал его ренегатом! <…> В одной из речей, произнесенных в его память, было сказано, что как публицист он плыл без компаса. И, как это бывает всегда, его называли беспринципным, потому что он неизменно служил одному высшему принципу»245.
Им двигало убеждение в наличии верховной правды и скорбь оттого, что она не торжествует в окружающем мире. «Быть или не быть правде на земле»246 – таков для него главный вопрос жизни и одновременно ищущей мысли. «<…> Как его вдохновение, так и его негодование и его смех вытекали из одного общего источника: из его серьезного отношения к жизненному идеалу – из пламенной веры в смысл жизни. Как философ и поэт, он созерцал небесный свет в его бесчисленных здешних преломлениях и восходил, подобно Платону, от этих отражений к их первоисточнику. Когда этот свет освещал для него глубь земной действительности и делал явными скрытые в ней темные бесовские силы, он, как пророк и обличитель, метал в них небесные громы. Вне этой борьбы света с тьмой жизнь была для него бессмыслицей»247.
Вопрос о судьбах правды – «быть или не быть» – Соловьев воспринял как обращенный к его деятельной воле, как собственную жизненную цель; он словно был рожден вместе с представлением о том, что земное бытие должно быть покорено высшей истине. Каким же путем этого достичь, он начинает думать с ранней юности, – и, знакомясь с письмами молодого Соловьева его кузине Е.В. Романовой (Селевиной)248, видим: уже в эту пору – в 1873 году – его мысль движется не тем курсом, что у большинства его сверстников-«семидесятников». «Сознательное убеждение в том, что настоящее сознание человечества не таково, каким быть должно, значит для меня, что оно должно быть изменено, преобразовано. <…> Но самый важный вопрос: где средства? Есть, правда, люди, которым вопрос этот кажется очень простым и задача легкою <…> они хотят возродить человечество убийствами и поджогами. <…> Я понимаю дело иначе. Я знаю, что всякое преобразование должно делаться изнутри – из ума и сердца человеческого».
Преобразование это хоть и мыслилось им не на путях насилия, но рисовалось в виде такой грандиозной ревизии, что Соловьева легко принять за радикального «отрицателя», который желал бы заменить проверенные устои бытия произволом своей новоявленной системы. Его близкой приятельнице Е.М. Поливановой Соловьев в эпоху первого творческого подъема запомнился горячо верившим в себя, «в свое призвание совершить переворот в области человеческой мысли <…> открыть новые, неведомые до тех пор пути для человеческого сознания <…> и казалось, что он уже видит перед собой картины этого чудного грядущего»249. Такой энтузиазм, при очевидной его привлекательности, может вселить подозрение, что жизненное дело Соловьева в своем отправном пункте было самонадеянной попыткой начать все с нуля.
Однако же этот реформатор, заявивший о совершенно новом подходе к устроению человечества, видел чаемый переворот не в том, чтобы устранить прежние начала существования, а в том, чтобы отменить их вражду, поставив их в должные отношения друг к другу. «Универсализм» и «синтез» – вот два непременных понятия, которые употребляет всякий, кто взялся охарактеризовать умственный мир и метод мышления Соловьева. «В истории философии трудно найти более широкий, всеобъемлющий синтез того великого и ценного, что произвела человеческая мысль. Ценностей, наследованных от прошлого, он не отвергал, напротив, он их тщательно собирал: все они вмещались в его душе и в его философии <…>»; «Тот широкий универсализм, в котором Достоевский усматривает особенность русского гения, был ему присущ в высшей мере»250, – пишет Е.Н. Трубецкой, а брат его Сергей философскую универсальность Соловьева сравнивает с художественной универсальностью Пушкина251.
Мысль Соловьева как бы бросила вызов тому разделению, разъединению, которое в качестве изначального порока сопутствует процессам человеческой истории и культуры и, видимо, даже нарастает в них. Интеллектуальное просвещение разошлось с верой в абсолютные основания бытия, свобода оторвалась от истины как от своей положительной цели и увязла в области относительного, знание, соответственно, эмансипировалось от жизненного источника и замкнулось на постижении собственных законов; вплоть до враждебного противостояния разошлись исторические пути восточной и западной цивилизаций, в христианском мире произошел глубочайший вероисповедный раскол (схизма), национальное обособилось от вселенского, сословные и классовые интересы отмежевались от общечеловеческих. С присущей ему духовной отвагой Соловьев ринулся соединять края образовавшейся трещины, цементируя ее примиряющей мыслью. В открытой им перспективе просвещению, поднявшись над уровнем позитивизма, предстоит «оправдать веру отцов», сделать ее разумно осознанной: «цельному знанию» следует опереться на сердце и совесть, а не на один только рассудок (идея, унаследованная Соловьевым от ранних славянофилов и его учителя П.Д. Юркевича); «бесчеловечный Восток», сильный своим богопочитанием, но принизивший личность, найдет восполнение себе в «безбожном Западе», развившем зато необходимое начало индивидуальности; схизма, «великий спор» внутри исторического христианства, разрешится на путях отчленения второстепенных разногласий от единящей веры в Богочеловека; каждая национальность через уразумение своей особой миссии в семье народов вольется во вселенскую общность, не теряя лица; классовая и всякая вообще корысть смягчится под влиянием евангельских заповедей любви к ближнему, обратившихся в руководство социальной политики. Но и это великое примирение было бы в глазах Соловьева ущербным, если бы осталось в пределах человеческой истории и не охватило весь природный мир, избавив естество от тяжести, косности, разорванности во времени и пространстве. Венцом «великого синтеза» он мыслил распространение небесной гармонии на материальный мир, – и эта мечта о торжествующем «всеединстве» переживалась Соловьевым в связи с тайным зовом избранничества, надеждой, что он один из тех, кто «цепь золотую сомкнет и небо с землей сочетает».
Порыв к соединению разрозненных тем и идей культуры, вероятно, неизбежный в связи со специализацией знания и угрожающим ростом профессиональных перегородок, заметно окрашивал собой умонастроение века: и позитивисты-систематики, и теософы – составители «мировой религии» возводили свои варианты «синтеза» из наработанных человечеством разнородных вер, учений, научных теорий. Не того хотел Соловьев. Он не собирался получить некую общепригодную истину в результате сложения частных воззрений; он извлекал из них то, что принадлежало истине сверхличной, не изобретенной им, но ему открывшейся252. Поэтому предпринятый им «великий синтез» в принципе не есть эклектика: прежде, чем быть примирением, он проведен через очистительное рассечение (и в этом смысле напоминает «Сумму» Фомы Аквинского, которая, всё объемля, слагается, однако, лишь после вычитания того, что противоречит христианскому миропониманию). Это рассечение – как бы спасающий акт в отношении той правды, которая, согласно Соловьеву, присутствует в любом человеческом мнении хотя бы потому, что ложь, в отличие от истины, не может предстать обнаженной и при этом найти себе поклонников.
«Долг указать зерно истины» (собственное выражение Соловьева) распространялся им на все феномены, попадавшие в его горизонт независимо от степени близости; будь то дарвиновский эволюционизм, или социализм, или ницшевский сверхчеловек, или «Верховное существо» Огюста Конта, или эстетика действительного у Н.Г. Чернышевского, или либерализм кружка «Вестника Европы», – не говоря уже об античном неоплатонизме, немецком идеализме и о славянофильстве его старших современников. Оттого-то и предъявлялись ему обвинения в отсутствии твердых убеждений. Его последователь кн. Е.Н. Трубецкой отлично понимал как неизбежность, так и несостоятельность подобных претензий, в которых выражалось непонимание сверхзадачи Соловьева: вырвать из рук лжи и сберечь для «всеединства» каждую крупицу онтологически подлинного. «Не удивительно, что мы находим у него положительные оценки самых противоположных и несходных миросозерцаний. Он – верующий христианин, но это не мешает ему находить элементы положительного откровения не только в исламе, но и во всевозможных языческих религиях Востока и Запада. Философ-мистик, он тем не менее высоко ценит ту относительную истину, которая заключается в учениях рационалистических и эмпирических. Как политик и публицист он не может быть назван ни социалистом, ни индивидуалистом, ни консерватором, ни либералом, потому что он видит правду в каждом из этих противоположных направлений и пытается объединить их в органическом синтезе»253.
Свой метод – примирителя, действующего рассекающим мечом, – сам Соловьев в докторской диссертации по философии назвал «критикой отвлеченных начал». Отвлеченные, то есть извлеченные из равновесия с другими принципами, эти «начала» как бы сорваны с подобающих мест в иерархии бытия и возведены той или иной системой мысли в ранг абсолютных. Но лишив их роли идолов-абсолютов, можно восстановить их относительную истинность, а значит и неподдельную ценность. «Он был беспощадным изобличителем всякой односторонности и тонким критиком: в каждом человеческом воззрении он тотчас разглядывал печать условного и относительного <…> и это тотчас заставляло его противоречить, т.е. выдвигать ту сторону истины, которая заключается в воззрении противоположном». Но «тот самый универсализм, который заставлял Соловьева восставать против идолов, обусловливал его чрезвычайно высокую оценку относительного. В его глазах относительное только тогда становится ложью, когда оно возводится в безусловное, становится на его место; напротив, относительное, утверждаемое как таковое, составляет необходимую часть целой, вселенской истины»254.
Как не раз отмечали историки мысли, с Соловьева, собственно, и началась в России философия в европейском смысле слова, иначе говоря, философия, критически осознающая свои предпосылки. По справедливому наблюдению его биографа, он ввел русскую мысль, питающуюся «духовными созерцаниями» патристики, в послекантовскую эпоху, соединив таким образом догматический и критический моменты философствования, первый – «без принижения требований рассудочного сознания», второй – «без ущерба для всесторонней полноты человеческого духа»255.
Из всего сказанного выше очевидно, что свою примирительную миссию и задачу «великого синтеза» Соловьев меньше всего представлял осуществимыми на пути формального компромисса и безразличной уступчивости. Поэтому его общественная, равно как и философско-просветительская проповедь, направленная на погашение всяческой вражды, всегда вызывала враждебное противодействие и устремлялась против течения, точнее – против главных течений, сменявших друг друга при его жизни.
По словам Е.Н. Трубецкого, он «обрушивался всеми силами против того идола, которому наиболее поклонялись в среде, где он в данное время жил». (При этом рассказчик имеет в виду даже и непосредственное житейское соседство, в которое попадал Соловьев.) «<…> Перемена местопребывания не оставалась без влияния на его полемику. Его полемические статьи против славянофилов, М.Н. Каткова и иных эпигонов славянофильства относятся большею частью к тому времени, когда он проживал преимущественно в Москве, часто сталкиваясь с деятелями Страстного бульвара и вообще с националистами. Напротив, его известная статья “Византизм и Россия”, близкая к славянофильству по своей положительной оценке неограниченного самодержавия, была написана в то время, когда он вращался преимущественно в либеральных западнических кругах в Петербурге. Статья была напечатана в “Вестнике Европы”, который в данном случае сыграл роль унтер-офицерской вдовы из “Ревизора”. Соловьев заслужил горячие похвалы от “Московских ведомостей”, незадолго перед тем его распинавших»256.
Но, конечно же, та или иная позиция противостояния, которую занимал Соловьев, определялась не временными пристанищами бездомного философа, а историческим временем, с духом которого ему выпало сразиться. То был дух нарастающего центробежного экстремизма, разрывавшего общество в левом и правом направлении. То была эпоха, когда традиционализм стал нетворческим и жестоковыйным, а свежие силы общества – воинственно антитрадиционными и разрушительными.
Соловьев принадлежал к поколению семидесятников и, выйдя на свое поприще, обращался преимущественно к ним. Его поколение стало полем битвы между идеалами Достоевского – автора «Дневника писателя», адресованного в значительной мере молодой России, и народническо-социалистическим направлением, представленным громкими тогда именами П.Л. Лаврова и Н.К. Михайловского. Преобладание оставалось за последними, поскольку их атеистический материализм окружен был ореолом передовой научности, – и перед Соловьевым, младшим единомышленником автора «Дневника…», сразу же встало сплоченное и духовно чуждое ему большинство.
Лукьянов находит у Д.Н. Овсянико-Куликовского чрезвычайно удачную характеристику, этого господствующего «типа семидесятника»257, в котором моральный энтузиазм служения народу сочетался с псевдонаучным социологизмом и авантюризмом политических заговорщиков. Соловьев по своему психическому складу сам был столь же воодушевленным идеалистом-общественником (а в отрочестве и ранней юности отдал несколько лет «отрицательному направлению»), и в первых же публичных обращениях к своим современникам он предпринимает попытку перенаправить скопившуюся в обществе нравственную энергию в новое русло – «влить струю христианской веры в сердца представителей прогрессивной мысли в России» (этой формулой у биографа Соловьева В.Л. Величко определена «главная практическая цель» всей его деятельности258).
С этой поры, исполняя задачу просвещения, Соловьев втянулся в многоактную драму с однотипными коллизиями: всякий раз он приглашает инакомыслящего соединить правду своих убеждений с вселенской истиной, пожертвовав при этом их ложной стороной, – и всякий раз после такого призыва к «перемене ума», к обузданию своего идейного пристрастия перед философом запирается дверь, в которую он стучался. Дверей было столько, сколько в тогдашней России наличествовало общественных сил.
Сценой для первого акта послужил публичный диспут на защите магистерской диссертации Соловьева «Кризис западной философии. Против позитивистов» (1874). Здесь не просто выявились его философские противники по академической линии (В.В. Лесевич, С.В. Роберти, отчасти К.Д. Кавелин), а выплеснулось противодействие радикального лагеря, для которого позитивизм был знаменем «отрицания». В частности, Михайловский объявил молодого соискателя дремучим ретроградом, который ради своих религиозных суеверий попирает аксиомы положительной науки, гарантирующей верный путь к лучшему будущему. Таким образом, на первый же шаг Соловьева, еще, собственно, не выходящий за пределы теории, сразу враждебно отозвался неоспоримый лидер влиятельной группировки, ставший отныне постоянным противником философа в споре о духовном выборе России259.
Не надо думать, что каждый раз слово Соловьева падало исключительно на каменистую почву. Так, на своем диспуте он встретил приветственный отклик среди аудитории, восхищавшейся самим ристалищем, блеском мысли и речи героя дня; «было нечто молодое в этом настроении <....> в смысле чистоты души и первой умственной жажды», – цитирует С.М. Лукьянов свидетельство Н.Н. Страхова260. Еще до этого события, в 1873 году, Соловьев познакомился с Достоевским, к которому он, несмотря на разницу в возрасте, обратился «на равных» – как к общественному деятелю, единственно способному понять его задачу261. В дальнейшем знакомство перешло во взаимообогащающую дружбу, которая длилась до конца дней писателя, так что смерть Достоевского осиротила Соловьева, но не прервала этого идейного союза – одного из немногих уцелевших в череде принципиальных столкновений философа со средой.
Надежда на общественное понимание могла также возникнуть у молодого Соловьева в годы борьбы балканских славян за независимость и русско-турецкой войны, когда социальная жизнь в стране консолидировалась вокруг идеальной цели, вокруг новой, освободительной роли России и, как казалось тогда Соловьеву, вокруг ее посреднической миссии между Востоком и Западом. Сказанная им в заседании Общества любителей российской словесности речь «Три силы» (1877), где утверждалось вселенское религиозное призвание России, прозвучала в унисон с тем подъемом, который испытывала молодежь, добровольно идущая на войну (тогда, кстати сказать, стали сестрами милосердия две близкие Соловьеву девушки – Е.В. Романова (Селевина) и Е.М. Поливанова262).
Однако магистраль этого и последующих десятилетий пролегала таким образом, что всё, готовое откликнуться на проповедь Соловьева, оказывалось на обочине, а силы, определяющие исторический путь, выдвигали навстречу ему одного противника за другим. Альтернативу, которую Соловьев предложил обществу в своих «Чтениях о Богочеловечестве» зимой-весной 1878 года (символично, что «Чтения…» начались через день после покушения Веры Засулич на генерала Трепова и завершились одновременно с окончанием ее процесса), – отвергли как левые, все усиливавшие свою террористическую борьбу с властью вплоть до цареубийства 1 марта 1881 года, так и правые, в лице слушателя «Чтений…» Победоносцева уже в этот момент опознавшие в лекторе опасного модернизатора православной веры. Так, симметрично лагерю Михайловского, вооружается против мыслителя лагерь К.П. Победоносцева – В.П. Мещерского, и борьба с этим станом за свободу совести заполнит собой один из продолжительных актов жизненной драмы Соловьева.
Кульминация драмы – это вмешательство Соловьева в смертельную схватку между революционным террором и самодержавием, когда он обратился с увещевательным словом сразу к обеим сторонам, пытаясь вдохнуть в каждую из них веру в чудо примирения и пророчески предупреждая о необратимости момента. Мало кто отмечает, что в марте 1881 года Соловьев произнес не одну, а три речи, касающиеся первомартовского события. Он выступил перед молодежной аудиторией (13 марта на Высших женских курсах, а также в Петербургском университете) с метафизическим и моральным осуждением террора как возврата в «зверское состояние»263, а 28-го в зале Кредитного общества прочитал лекцию, которая была обращена не только к присутствующим, но, по сути, и к престолонаследнику. Текст этой легендарной лекции не сохранился, и изложение ее существует в разных передачах264. По ряду оснований265 нам представляется наиболее адекватным свидетельство тогдашнего студента Н. Никифорова. Как сообщается в его воспоминаниях, Соловьев говорил: «… как должен бы поступить истинный “помазанник Божий”, высший между нами носитель обязанностей христианского общества по отношению к впавшим в тяжкий грех? Он должен всенародно дать пример. Он должен отречься от языческого начала возмездия и устрашения смертью и проникнуться христианским началом жалости к безумному злодею. “Помазанник Божий”, не оправдывая преступления, должен удалить цареубийц из общества как жестоких и вредных его членов, но удалить, не уничтожив их, вспомнив, о душе преступников и передав их в ведение церкви, единственно способной нравственно исцелить их <…>»266. Небывалый нравственный акт, идущий сверху, от царя как ревнителя веры, смог бы, по мысли Соловьева, предотвратить кровавую гражданскую войну в России и стал бы исходным образцом «христианской политики», преодолевающей разделение между личной и политической моралью. Надо ли напоминать, что речи Соловьева оказались гласом вопиющего в пустыне, но, как засвидетельствовало то же будущее, нежелание его услышать было куда менее благоразумным, чем его кажущееся донкихотство.
Отныне, отторгнутый официозными охранителями, Соловьев вскоре изгоняется уже из самого родственного ему круга, к которому он тоже обратился с инициативой, непереносимой для недавних единомышленников. Этим кругом, более того, его гнездом были при начале пути Соловьева старшие славянофилы – Аксаковы, Киреевы, газета «Русь», Славянский комитет в Москве. Их-то он понуждал додумать заветную мысль о русском призвании в мире. По логике Соловьева («Великий спор и христианская политика», 1883), на земле Правда не может победить без преодоления розни внутри ее самой, и Россия – могущественная православная страна, не поглощенная до конца «византизмом», должна начать дело воссоединения восточной и западной Церквей, увидев, наконец, на противоположной стороне не одни только заблуждения. Это было сочтено изменой отечественным политическим интересам (упирающимся в панславизм), равно как и религиозным идеалам («русской вере»). Взаимное непонимание сторон обозначилось тут не только в конкретном вопросе о «великом споре» (двух Церквей), но и в вопросе «христианской политики» (то есть политики, руководствующейся христианской моралью267). Для Соловьева выбор в пользу «естественных интересов», а не «высшего призвания» был чистейшим язычеством, а безусловная защита религиозного традиционализма свидетельствовала об эгоистической привязанности к своему в ущерб истинному. Славянофилы же обвиняли Соловьева в оторванности от почвы, от коренных нужд страны, а значит, в недостатке «любви к ближнему» и, более того, в подрыве православия, тождественного народному телу России268. «Грех славянофильства, – подытоживал Соловьев несколько позднее, – не в том, что оно приписало России высшее призвание, а в том, что оно недостаточно настаивало на нравственных условиях такого призвания. Пускай бы эти патриоты еще больше возвеличивали свою народность, лишь бы они не забывали, что величие обязывает»269. В сущности, Соловьев в ходе полемики поставил вождей тогдашнего славянофильства перед выбором между христианским универсализмом и национальной идеей, связанной с христианством лишь относительными узами. Оппоненты Соловьева, в особенности же те, кто наследовал уходящим со сцены маститым деятелям, выбрали второе, полностью уступив своему противнику мечту о «всебратской» миссии России. Отныне семейный спор со славянофилами переходит в тягчайший для душевного мира Соловьева поединок с «национальной партией» Н.Н. Страхова, М.Н. Каткова, А.С. Суворина. Его пророческое одиночество достигает предельного напряжения, и тылом его оказываются «попутчики» – люди и группировки, равнодушные к его духовным целям.
Внешний ход этих перемещений уловлен в очерке Е.Н. Трубецкого: «Пока оно (славянофильство. – Р. Г., И. Р.) было в загоне, Соловьев был славянофилом; как только оно вошло в силу, выродилось в национализм и превратилось в идолопоклонство – он вышел из славянофильского лагеря и стал выдвигать ту сторону истины, которая заключалась в западничестве»270. Однако суть дела была более трагической: свои не познали своего, а союз с «чужими» – с либералами-западниками из «Вестника Европы», с зарубежными католическими кругами – не шел дальше общности в защите гражданских прав и свобод, в борьбе с официозной политикой Синода. Но и тут Соловьев не удержался в границах злобы дня и отважился поднять эти вопросы на метафизическую высоту, обратившись вновь к единоверцам – на сей раз не с увещеванием, а с обличением. Неслыханный вызов, прозвучавший в реферате «Об упадке средневекового миросозерцания», прочитанном в 1891 году перед аудиторией Московского психологического общества, заключался в том, что Соловьев отказывался признавать связь между христианской жизнью и принудительным укладом, исторически для нее традиционным, и предлагал связать ее с ценностями либерализма, которые до сих пор считались внехристианскими и даже враждебными Церкви. Он едва ли не впервые в истории очертил получившую будущность в XX веке программу социального христианства, которое берет ответственность за благоустройство общественной и природной жизни. Хотя Соловьев, как и десять лет назад, увлек своим порывом часть публики, его выступление было неприятным сюрпризом для тех либеральных союзников, кому вопросы веры казались простым балластом, охранители же, которым «реферат» адресовался в первую очередь, пришли в ярость, найдя в нем нечестивый бунт против освященного порядка.
Присутствовавшая на лекции сестра философа М.С. Безобразова так описывает реакцию зала: «Взрыв бешеных аплодисментов с одной стороны, несмелое, невнятное шипенье с другой.
– Пророк, пророк! Горел весь сам, как говорил; так и жег каждым словом. А лицо-то, что за красота! Да за одним таким лицом и голосом пойдешь на край света.
– Что он, с ума сошел? Хорош верующий! За атеистов и всех подобных заступается… Против правительства, против законного порядка… Юродствует, оригинальничает, популярности среди этих, красных ищет… Чересчур смел – надо бы ему рот закрыть…»271.
Одиночество Соловьева усугубляется – после реферата его покидает в гневе последний друг и восторженный поклонник из правохристианского лагеря, К.Н. Леонтьев; до этого соловьевское тяготение к католичеству Леонтьева нисколько не смущало, признания же относительной правды за либеральным гуманизмом он вынести не смог. Ужаснувшись поступку Соловьева: «К кому он пойдет теперь?» – Леонтьев этим восклицанием довольно точно охарактеризовал положение Соловьева после очередного разрыва с окружением.
Леонтьев оказался прав – как в том, что новую соловьевскую проповедь «иезуиты не примут»272, так и в том, что религиозно индифферентные прогрессисты не станут последней пристанью христианского мыслителя. «Три разговора» и включенная в них «Краткая повесть об антихристе» (1899—1900) свидетельствуют, что Соловьев к этому времени уже не ищет «имеющих уши» последователей среди современников и как бы через головы их обращается в будущее, предупреждая об относительности и ненадежности прогресса, о нарастании в мире зла, против которого достижения цивилизации сами по себе бессильны. Здравомыслящие либералы-позитивисты теперь получают все основания, чтобы отнестись к нему как к отступнику. Лукьянов приводит характерную для этого круга оценку пути Соловьева, высказанную К.А. Тимирязевым: вся его «деятельность представляет три полосы: начальную, мистико-метафизическую, вторую, к сожалению слишком кратковременную, – критико-публицистическую и третью – снова метафизическую с еще большим оттенком мистицизма. <…> мистический туман снова стал заволакивать эту светлую голову, – мы услышали побасенки про антихриста»273.
Это был финальный акт в драме одиночества Соловьева, закончившейся его ранней кончиной на грани двух веков. Но есть и перспективный эпилог: немногочисленная плеяда ближайших друзей и последователей все-таки окружала философа в последнюю, предсмертную пору его трудов. Здесь было посеяно зерно, из которого выросла русская философия XX века, чье просветительное слово разнесется по всему миру. Несмотря на изоляцию Соловьева среди современных ему враждующих партий, после его смерти стало обнаруживаться, что он явился плодотворным посредником между провúдениями Достоевского и мыслью, рожденной в катастрофах нового столетия, и что наследство его, пусть и не вполне понятое, ощутительно присутствует в дальнейшей жизни общества. Этим, в частности, был недоволен цитированный выше архиепископ Антоний: «Вся плеяда наших профессиональных лжецов: братьев Трубецких, Розановых, Петровых, Семеновых, вся эта наперебой лгущая компания – плоды соловьевской декадентщины и, по большей части, его ученики и приятели»274. Набор имен – наряду с Трубецкими и В.В. Розановым, досаждавшим тогда критикой церковных установлений, «левый» священник Г.С. Петров и поэт-символист, мистический народник Л.Д. Семенов – тут достаточно случаен и определяется текущим днем. Но момент сдвига и развития в религиозно-философской мысли, которая возвращалась тем самым в состав мысли общественной, – этот творческий момент, несомненно, уловлен, хотя и недружелюбным оком. Без этого выхода из неподвижности, инициированного Соловьевым, не было бы и той «действительной заслуги», за которую его все-таки хвалит суровый оппонент, признавая за ним «высокие идеи исправления полуязыческой европейской культуры началом моральным»275.
Задача подобного «исправления» представлялась Соловьеву, настолько безотлагательной, что – в виде эксцессов, углублявших драматизм его судьбы, – толкала его к глобальным утопическим замыслам. Чувствуя подземные толчки истории, Соловьев спешит собрать мир под крышей христианства и не останавливается перед апелляцией к внешним организационным средствам достижения мировой гармонии. Речь идет о неожиданной – к концу 80-х годов – перемене ракурса в вопросе о соединении Церквей и преодолении раскола между православием и католичеством.
В книгах «История и будущность теократии» (1887) и «Россия и вселенская церковь» (1889; по цензурным условиям была издана во Франции: «La Russie et I’Eglise Universelle») мысль Соловьева соединяет обе половины христианского мира, Восток и Запад, на новый лад: вероучительная, собственно церковная сторона представлена у него римским первосвященником, мирская власть со всей ее геополитической мощью – русским православным царем, вверяющим себя духовному водительству папы; но притом такая массивная двуединая высшая власть должна сообразовываться и с духом свободы, чьим выразителем оказывается третье лицо земной «троицы» – пророк, так сказать, харизматический вождь христианской общественности. Несмотря на сказавшуюся и здесь верность Соловьева либеральным приобретениям Нового времени («пророк», обеспечивающий соблюдение прав человека), это мироустройство восходило к средневековым представлениям о «священной империи»276 (недаром Соловьев как раз тогда увлекался трактатом Данте «О монархии»), и выношенная мыслителем еще со времени «Чтений о Богочеловечестве» идея «теократии» (боговластия) из сверхисторической, запредельной цели, по существу, превращалась в посюстороннюю задачу установления всемирного государства. Любопытно, что Константин Леонтьев с его имперскими идеалами и ненавистью к либеральному уравнительству сразу зажегся этим фантастическим планом, отмахнувшись от «сентиментальных» обещаний всеобщего примирения, но высоко оценив открывающуюся за ними перспективу – сделать Россию орудием приведения мира к железному порядку: «… Скорее, говорю я, может случиться, что эти русские паписты не только не будут кротки, как советует нам зря Вл<адимир> Серг<еевич>, а положут лоском всю либеральную Европу к подножию папского престола: дойдут до ступеней его через потоки европейской крови». И тогда, продолжает Леонтьев, «скажут: “Великий человек! Святой мудрец! Он сулил журавля в небе; но он знал, что даст этим нам возможную синицу в руки!” И если кто (предполагаем в случае успеха) скажет тогда: “Он не хитрил, он сам заблуждался и мечтал о невозможном” <…> на это ответят: “Тем лучше. Это трогательно”»277.
Сам же Соловьев, разумеется, не предполагавший проливать ради осуществления своего проекта «потоки крови», взялся хлопотать о нем в качестве одного из исполнителей будущей триединой власти перед двумя другими – папой и русским императором. Нужно ли говорить, что эти немыслимые хлопоты были тщетны, но можно также быть уверенным, что отмечаемое всеми биографами разочарование Соловьева в своем замысле всемирной теократии произошло не исключительно под влиянием такого неуспеха, – неотделимость христианства от свободы, как ведущий принцип мировоззрения, перевесила в душе реформатора соблазн скорейшей гармонизации мира извне. В литературе о Соловьеве преобладает мнение, что разочарование это привело его к полнейшей катастрофе, к отказу от взгляда на историю как на осмысленный поступательный процесс и к мрачным пророчествам о близком конце бессильного человечества, совершенствовать которое невозможно, да и не нужно.
Однако на самом деле Соловьев вышел из испытания, связанного с заманчивой и несбыточной реорганизацией мира, не сокрушенным, а очистившимся. Он ищет и в поздние годы находит новое соотношение между временным и надвременным, между повседневным делом христианской цивилизации и эсхатологическим завершением истории. В мае-июне 1896 года он пишет своему французскому корреспонденту католику Евгению Тавернье: «Надо раз навсегда отказаться от идеи могущества и внешнего величия теократии как прямой и немедленной цели христианской политики. Цель ее —справедливость<…>»278. И тут же Соловьев излагает новый «план христианской политики» в свете евангельских пророчеств о конце мира. Человечество, рассуждает он, должно быть подготовлено к последнему противостоянию добра и зла в том смысле, чтобы каждый человек мог сознательно и свободно совершить свой выбор за или против Христа. А значит, существует поле конкретной деятельности «для настоящей концентрации христианства» – создание условий как в сфере общественной жизни, так и в области умственного и духовного просвещения, при которых такой личный выбор не мог бы оказаться плодом недоразумения или случайности. По мысли Соловьева, победа христианства в метаистории, обещанная в Новом завете, не предполагает «пассивного ожидания» и не будет просто результатом внешнего чуда, «актом божественного всемогущества», «ибо в таком случае вся история христианства была бы излишней»279. Как видим, в конце жизни Соловьев освобождает свою заветную идею Богочеловечества – взаимодействия человечества с Богом – от бесконфликтного благодушия и придает ей высшее напряжение перед последним актом истории: «Очевидно, что Иисус Христос, чтобы восторжествовать истинно и разумно над антихристом, нуждается в нашем сотрудничестве»280. Напомним также, что предсмертная апокалиптическая «Краткая повесть об антихристе», в которой принято видеть полный отказ от участия в истории, включена Соловьевым в сочинение «Три разговора», где ведется речь о проблемах мирского общежития, полемика с Львом Толстым по вопросу о непротивлении, обсуждение ближайших международных прогнозов и т.п., интерес к чему был бы бессмыслен, если бы Соловьев не ставил развязку истории в некую зависимость от всех этих забот.
Изживаемый Соловьевым утопизм питался из двух источников, возможно, характерных для русского национально-исторического сознания вообще. Первый из них – нетерпеливое желание встретиться лицом к лицу с правдой без отсрочек и промежуточных ступеней. Эта черта Соловьева видна даже в его ранних оккультно-спиритических увлечениях, позволявших, как ему чудилось, непосредственно удостовериться в сверхъестественной реальности, «Обрадовавшись, что нашел метафизическую сущность, Соловьев уже готов видеть ее повсюду лицом к лицу и расположен к вере в спиритизм», – иронизировал по этому поводу Страхов в письме к Л.Н. Толстому281. И, конечно, торопливое составление схем вроде теократической «троицы» исходило не столько из рационалистического склада его ума, сколько из жажды отыскать быстродействующие рецепты для воцарения правды. Вторым источником того же уклона в утопизм можно было бы назвать «метафизическую доверчивость», то есть неготовность к действенному присутствию злой воли в космической и человеческой жизни. В ранних построениях Соловьева недолжное состояние мира есть результат нарушения бытийственной иерархии, следствие ложной перестановки ее элементов, что поправимо на путях природной эволюции, к коей на последнем этапе подключается человечество. Человеческая история хоть и чревата срывами, но движется не трагическим путем. После крушения теократической мечты перед взором Соловьева, так же как перед взором героя его позднего сочинения – Платона, «раскрылась бездна чистого, беспримесного зла»282, безусловного злого начала, действующего в истории. Но в отличие от античного философа, который понадеялся изгнать зло из человеческого общежития при посредстве тоталитарной утопии, Соловьев на полпути отказался от подобного выхода. Его завещанием стали не «Законы» и «Государство» (как у Платона) с их образцовой несвободой, а «Оправдание добра» и «Краткая повесть об антихристе», где обнаруживается и трагическая глубина грядущего поединка со злом, и ценность любого малого шага к добру, свободно совершаемого в повседневности.
Проповедь Соловьева имела глубокие корни в том, что открывал и удостоверял ему внутренний опыт. Торжество гармонии было для него не отвлеченной идеальной целью, а непосредственным переживанием, даже предметом созерцания, порой невыносимо контрастирующим с плоскостью окружающей жизни. «Его глаза светились какими-то внутренними лучами и глядели прямо в душу. То был взгляд человека, которого внешняя сторона действительности сама по себе совершенно не интересует». «Та доступная внешним чувствам действительность, которая для обыкновенного человека носит на себе печать подлинного и истинного, в глазах Соловьева представлялась не более как опрокинутым отражением мира невидимого, истинно сущего»283. Подобно герою Платоновой притчи о пещере, он жил своими мистическими встречами с высшей реальностью во всем совершенстве ее форм, «верил в ближайшее соседство надземного мира»284, и эмпирика бытия представлялась ему сразу и мертвенно-косной и призрачно-бледной. «Я не только верю во все сверхъестественное, – писал молодой Соловьев Н.Н. Страхову, – но, собственно говоря, только в это и верю. Клянусь четой и нечетой, с тех пор, как я стал мыслить, тяготеющая над нами вещественность представлялась мне не иначе как некий кошмар сонного человечества, которое давит домовой»285. «По сравнению с нездешним миром, наполнявшим его душу, – как бы подхватывает ту же мысль Е.Н. Трубецкой, – наша жалкая действительность вызывала в нем или скуку или грусть, а иногда – настроение, близкое к отчаянию, от которого он освобождался смехом»; «казалось, что он с преувеличенной силой реагирует на те комические положения и случаи, которые в других вызывают только улыбку»286. О смехе Соловьева, заразительном, стихийном, даже «неистовом» («впереди него, если можно так выразиться, катился его неистовый смех»287), – вспоминают едва ли не все, знавшие философа.
Одни называют этот смех детским, другие – загадочным, а третьи ищут в нем оттенок двусмысленности. Но разгадку найдем у самого Соловьева, в его самобытной теории смеха, о которой мы узнали благодаря Е.М. Поливановой, записавшей его лекцию на Высших женских курсах в Москве, и Лукьянову, опубликовавшему в своей книге этот замечательный конспект. «… Характеристическая особенность человека, – неожиданно сообщает Соловьев, – заключается в том, что один человек имеет способность смеяться. Эта способность чрезвычайно важна и лежит в самом существе человеческой природы, а потому я определяю человека как животное смеющееся. …Человек рассматривает факт, и, если этот факт не соответствует его идеальным представлениям, он смеется. В этой же характеристической особенности лежит корень поэзии и метафизики. …Человек может быть также определен как животное поэтизирующее и метафизирующее». И далее Соловьев изображает «человека смеющегося» стихийным платоником, который как бы от рождения помнит, что подлинный мир – не здесь. «…Человек принадлежит двум мирам: миру физическому, который к нему ближайший и который он считает призрачным, и миру истинно сущему, который не есть данный, но только требуемый и желаемый. <…> Животные принимают мир таким, каков он есть, для человека же, напротив, всякое явление есть только маска, за которой он ищет неведомую богиню»288.
Среди свидетельств о соловьевском «смехе» можно найти и такое, где связь его с философским идеализмом выражена еще парадоксальнее. Старший знакомый Соловьева И.И. Янжул вспоминает, как тот расхохотался при рассказе о нелепой гибели рабочих, очищавших канализацию. На недоумение, что же здесь смешного, Соловьев заметил: «… здешняя жизнь на земле не составляет столь серьезного факта, за который стоило бы так держаться и дорожить <…>»289. Разумеется, в этом демонстративном хохоте заключалось больше вызова солидному собеседнику, чем равнодушия. Но, вообще говоря, платоническое пренебрежение к здешнему миру «призраков», действительно, соперничало в душе Соловьева с христианским приятием мира – падшего, но достойного спасения. Верх при этом одерживала христианская интуиция. Между безразличием мудреца-идеалиста платоновского толка и «чудачествами» надмирного Соловьева существует, по словам Е.Н. Трубецкого, «резкое, бросающееся в глаза отличие. Античный философ чувствует себя, как говорит Платон, “чуждым семенем”, случайным гостем в здешнем мире. Его идеал – полнейшее отрешение, бегство от земли. <…> Для древнего философа земля остается навеки царством греха и беззакония; напротив, в Соловьеве поражает любовь к “земле-владычице”. Цель и конец его поэтического и философского вдохновения – не отрешение от земли, а окончательное примирение с нею через преображение земного божественным»290.
«Преображение» – этим словом для Соловьева выражается главное задание по отношению к земле, природе, материи. «Кажется, ни у кого из современных Соловьеву христианских мыслителей не было в такой мере выдвинуто положение, что “мир во зле лежит”, и это, несомненно, давало его системе ее захватывающую широту и ее прочувствованную серьезность»291, – замечает Л.М. Лопатин. Но для Соловьева это не значит, что мир затронут злом по существу, ибо в прообразе он всеедин, совершенен и прекрасен, как прекрасна София Премудрость Божия, олицетворение этого прообраза, предносившееся Соловьеву в таинственных созерцаниях292. Ужасен же мир только в своем преходящем состоянии, которое рисовалось мифопоэтическому воображению философа в виде мук «мировой души», всей стенающей твари, рвущейся ввысь, навстречу Софии – своему небесному двойнику.
Один из последователей Соловьева Г.А. Рачинский пишет: «Для Соловьева вся история космической жизни была одной великой драмой борьбы и страданий мировой души, раздираемой хаосом качественно различного, раздробленного и распавшегося природного бытия, с его множеством обособленных и борющихся за свою эгоистическую обособленность, взаимно самоутверждающихся в своей исключительности начал»293. Эту мятущуюся одушевленность сущего Соловьев прозревал «под грубою корою вещества», и все, что наполняет мир, представлялось ему только внешне порабощенным и омертвленным, но живым в своем самобытии и ждущим вызволения. «Тут мы соприкасаемся с наиболее чуждою, непонятною современникам чертою умственного облика Соловьева294: он мог бы подписаться под изречением древнего Фалеса – “все полно богов”. Он видел деятельность незримых сил духовных в самых разнообразных явлениях природы – в движении волн морских, в молнии и громе. Они наполняли для него таинственною жизнью леса и горы. Мир сказочный с его водяными, русалками и лешими был ему не только понятен, но и сроден: внешняя природа была для него или иносказанием, или прозрачной оболочкой – средой, в которой господствуют деятели зрячие, сознательные. <…> В таком понимании природы заключается один из наиболее могучих источников поэтического вдохновения Соловьева. Здесь – корень того необычайного подъема душевного, который вызывается у него созерцанием ее красоты <…>»295.
Красота – удостоверение присутствующего в непостоянной земной жизни божественного света и наглядное обещание, что мир может быть совершенным. Соловьев, по замечанию одной тонкой наблюдательницы, «опьянялся красотой». Ибо красота была для него не просто услаждением внешних чувств, а «иносказанием» небесной гармонии, собирающей мир в живую целостность. В его опьянении красотой выражал себя платонический эрос, устремленный к двум посюсторонним символам Софии – «образу возлюбленной или родины» (замечает в своем капитальном исследовании Е.Н. Трубецкой)296.
Мировой процесс со всеми его ступенями трактуется в эстетических сочинениях Соловьева («Красота в природе», 1889, «Общий смысл искусства», 1890) в виде восхождения к красоте как абсолютной норме бытия. «… Развитие природы для него – беспрерывно совершающееся, а потому – несовершенное и незаконченное откровение иной, сверхприродной действительности»297. Соловьев даже в годы зрелого творчества дорожил доставшейся ему от юношеского «дарвинизма» идеей естественно-исторической эволюции, поскольку здесь ему виделся залог того, что природный мир живо, хоть и неосознанно, откликается на поставленную свыше задачу совершенствования. Как на продолжение того же процесса смотрел он на человеческую историю: в центре ее – явление Богочеловека, не только «сшедшего с небес», но и вызванного на землю ее собственным развитием298, а в финале, к которому приведет богочеловеческое сотрудничество, – преображенная по образу красоты вселенная.
Что же это? Безумная задача? Несбыточная надежда? И не согласился ли он сам на роль Дон Кихота и поэтического фантазера, заранее объявив, что цели его «неблагоразумны»? Но ведь оповещал он тут не о романтическом произволе и не о своевольном изобретательстве. Неблагоразумие это открывало горизонты, скрытые от мудрости «века сего», оставаясь в границах которой человечество рискует провалить свои ближайшие дела и сбиться в выборе текущих решений.
Близкие к Соловьеву люди считали порой, что он обрек себя на заведомое непонимание; восхищались его независимостью, но скорбели о ее неизбежных последствиях. Л.М. Лопатин писал: «… его философские идеи для огромного большинства русского образованного общества оставались закрытою книгою. В них скорее видели выражение чудачества очень капризного, хотя и очень большого ума, нежели серьезное порождение философской мысли <…>»299. (Если не чудачество, то необъяснимую странность находил в Соловьеве и Розанов, вовсе не представитель «огромного большинства».) В очерке Е.Н. Трубецкого читаем: «…он был, есть и остается до сих пор непонятым почти всеми. … Среднему человеку труднее всего понять то, что не укладывается в прокрустово ложе какого-нибудь партийного течения, то, что не может быть охарактеризовано каким-нибудь шаблонным ярлыком. Политик, который не отождествляет себя с какой-либо определенной партией, а пытается стоять над партиями, сочетая в своем уме истину каждой, со всех сторон вызывает к себе враждебное и несправедливое отношение: одни заподозривают в нем реакционера, другие, наоборот, крамольника: диалектический переход от одной точки зрения к другой понимается как выражение непостоянства, изменчивости в убеждениях, а попытка объединения, синтеза противоположностей принимается за внутреннее противоречие»300.
Все эти грустные соображения, однако, не должны смущать тех, кто сегодня обращается к Соловьеву, как не смущали они его самого. Проходит время, делает скачок, – и признание непонятого мыслителя «несомненно самым блестящим, глубоким и ясным философом-писателем в современной Европе» (К. Леонтьев)301 уже не выглядит причудой чьего-то эксцентрического ума, а, напротив, – справедливой и основательной оценкой. Выясняется, что главные предвидения Соловьева оказались вещими, а пути, им предложенные, – не только не опровергнутыми историей, а, быть может, единственно неутопическими.
Но все-таки слова о «неблагоразумии» сказаны Соловьевым не зря. Всякий, кто хотел бы последовать за ним в его жизненном деле, должен приготовиться к тому, что позицию его сочтут странной, иррациональной, чуть ли не лукавой. Ведь такая позиция должна выходить за пределы партийных идеологий и частных интересов, руководствоваться которыми общепринято. Мало того, ей нельзя не возвышаться над трезвыми решениями, обеспечивающими кратковременный успех, но ведущими к духовному поражению. И нельзя не руководиться верой в невозможное и чудесное, если оно предстает как прекрасное – сердцу и как должное – совести.
Р. Гальцева, И. Роднянская
Реальное дело художника
«Положительная эстетика» Владимира Соловьева и взгляд на литературное творчество302
I
Перед нами – последний бастион классической эстетики, существовавшей в европейском мире около двух с половиной тысячелетий и опиравшейся на онтологию Прекрасного. Конечно, и после Соловьева его путь остался привлекательным для близких по исходным рубежам философов: Вячеслава Иванова, Сергея Булгакова, а на Западе – таких выдающихся томистов, как Жак Маритен. Но возобладавший в искусстве нашего столетия дух бунта против мирового строя привел эстетику – как дисциплину, в некотором смысле зависимую от практических вкусов времени, – на рельсы «теории выразительности», с первыми проявлениями которой Соловьеву уже приходилось схватываться.
Среди эстетических воззрений нет ничего более полярного, чем опора в одном случае на красоту, а в другом – на выразительность. Эта противоположность еще недостаточно осознана и ответственно не обдумана. Даже в статье об эстетике, написанной для «Философской энциклопедии» крупнейшим истолкователем неоплатонизма и знатоком сочинений Соловьева Алексеем Федоровичем Лосевым, выразительность рассматривается как фундамент эстетического акта – без отчета в том, что таким образом, по существу, упраздняется вопрос: каково место этого акта на шкале абсолютных ценностей. Другими словами, незамеченным остался радикальный поворот от веры во вселенную, имеющую смысл, к нейтрально-позитивистскому представлению о мире как вместилище наличных вещей, оформленных в соответствии со своими качествами и функциями, – поворот от неоплатонического идеализма к феноменализму.
Уже заезженная назойливыми моралистами троица Истины, Добра и Красоты на самом деле, как и многие другие «банальности», заключает в себе в свернутой формуле целое философское здание. Здание это стоит на предпосылке идеальной благоустроенности бытия, на фоне чего всякая дисгармония воспринимается как отклонение. Благая, добрая основа бытия есть его сущностная истина, в плане выразительности и являющая себя красотой. Любая другая выразительность, с этой точки зрения, – либо ложная, поддельная красота, выставляющая дурное и лишенное бытийного корня в привлекательном виде, либо уродство, минус-красота, правдиво свидетельствующая о поврежденности нормы в данной вещи. В этой системе отсчета эстетика соотносится с высшим смыслом жизни, включаясь в стремление человека к идеалу. Отрезающая себя от идеальных ориентиров, «горизонтальная» эстетика позитивна и феноменальна только на уровне деклараций; непризнание Логоса в мире ведет к эстетическому произволу, питающемуся имморализмом и неуклонно повышающему акции безобразия, которое выдается за истинный образ существующего.
Соловьев, рыцарь Красоты как объективной мировой силы, начал философскую деятельность с борьбы за восстановление прав Абсолюта «против позитивистов»303 и в конце своего поприща раскусил плоды этого вроде бы внеценностного направления – ницшеанский «гиперэстетизм», претендующий на превосхождение добра, но имеющий источником низшие проявления человеческой природы304.
Итак, Владимир Соловьев – наследник того взгляда на космос как на образец для художника, без которого была до сих пор невозможна вся большая культура. Но это наследие он разворачивает в сторону христианской эсхатологии, обещающей торжество красоты на «новой земле» под «новым небом». Совершенная мера, какою у него мерится все наличное бытие, – это мера будущего века.
Ведущая мысль Соловьева – о свете преображения, которым будет пронизан и претворен весь тварный мир. В этом отличие эстетики Соловьева от статического двоемирия платонизма, где прекрасное пребывает в недвижном царстве идей, не поднимая до себя преходящее земное бытие. По Соловьеву, красота – плод любви идеи к материи; она не обитает в сфере отвлеченной идеальности, или спи-ритуальности, она есть «святая телесность», материя, до конца просветленная идеей и введенная ею в порядок вечности. Вопрос о красоте – это для нашего мыслителя практический вопрос о «спасении» материального мира. Воспользовавшись «недоговоренной» в «Пире» интуицией Платона о рождающем в красоте Эросе, Соловьев выводит заветы Платона из русла последующего античного неоплатонизма, презревшего материю, и направляет их в русло религии спасения.
Если теперь мы обратимся к немецкой классической философии, являющейся, по справедливой характеристике А.Ф. Лосева, наиболее значительной в Новом времени версией неоплатонизма, то увидим, что воспитанник этого направления Соловьев, имея в качестве незабытой отправной точки некоторые общие мотивы с патристикой, и сюда вставляет свое особое христианское слово, проведенное через философский искус.
Он принимает как достижение разработку автономной эстетики у Иммануила Канта, который, назвав красоту «бесцельной целесообразностью», освободил ее от служебной роли на подхвате у Добра (что имело место в дидактических поэтиках Средневековья). Но, соглашаясь с этим определением, метко разящим уже послекантовский «эстетический утилитаризм», Соловьев считает дефиницию Канта «чисто отрицательной» – недостаточной в главном. Ибо, если красота не служит ничему средством, значит, сама она, в своем положительном содержании, есть не что иное, как мировая цель, состояние, к которому должен стремиться мир и которое наступит в результате воплощения в нем Истины и Добра. В отличие от игровой и созерцательной эстетики основоположника немецкого идеализма эстетика Соловьева активна и озабочена своим жизненным делом.
Гегелева эстетика, при определенной близости к соловьевской – связью между становящимся Абсолютом и художественными его отражениями, – имеет лишь второстепенное значение в «феноменологии духа», поскольку венцом мирового процесса сочтено здесь пришедшее к самоосознанию Понятие. Мир воплощенных форм, собственно мир художественно-прекрасного, брошен по дороге, как отслужившая одежда. В то время как Соловьеву никакая вершина самопознания не может заменить реального блага воплощенной красоты, евангельского «Слово плоть бысть», распространенного в конечном счете на все мироздание.
Ближе всего Соловьев, как и вся традиция российского любомудрия, конечно, к Ф. Шеллингу. Но и тут различие существенно. Евгений Трубецкой, автор знаменитого исследования «Миросозерцание Вл.С. Соловьева» (1913), косвенно указывает на такое различие, находя в эстетических сочинениях Соловьева значительно меньший уклон к пантеизму, нежели в его метафизике, явственно окрашенной шеллингианством: внебожественная хаотическая основа бытия, шаг за шагом вводимая в порядок красоты, понимается в этих сочинениях не как эманация Божества, не как ухудшенная версия божественного бытия, а как сотворенная «из ничего» «безвидная земля» Библии, над которой трудится «космический ум», ее устрояющий. Однако, быть может, еще важнее другое различие между Шеллингом и Соловьевым – в самой направленности, в самом пафосе их систем. У Шеллинга мироздание выступает, так же как и у согласного с ним Соловьева, в виде произведения мирового художника, однако произведения совершенного и завершенного в космическом времени. Искусство же призвано постигать это совершенство, недоступное дискурсивному разумению, служить передатчиком истины о красоте мирового строя, – опять-таки задача познавательная, но не деятельная. Для Соловьева мир не завершен; пройдя космическое восхождение, он продолжает твориться в человеческой истории. Ведь природная красота еще не преодолевает, по Соловьеву, косности, тяжести и разобщенности элементов мирового целого, она побеждаема временем и смертью. Значит, заключает мыслитель, задача преображения мира духовной силой ждет своего разрешения от человека, который, будучи наделен разумом, один только может сознательно взяться за нее. По мысли самого Соловьева, художественное дело человечества состоит не в повторении, а в продолжении художественного дела, которое начато природой.
Как видим, Владимир Соловьев даже в такой исконно зарезервированной за созерцанием сфере, как эстетическое, остается верен главной интенции русской философской мысли, которая прямее всего выражена известными словами Н.Ф. Федорова: «мир дан человеку не на погляденье» – он не только дан, но и задан.
В эстетике Соловьева с наибольшей энергией выразился «религиозный материализм» как основа мироотношения. Недаром диссертацию материалиста Н.Г. Чернышевского Соловьев со свойственной ему готовностью везде отыскивать зерна истины на звал «первым шагом к положительной эстетике». Материя, земля для него одновременно и «сумрачное лоно», дарящее свою сырую плоть всему, чему предстоит стать прекрасным, и задаток будущего совершенства – предмет и благодарности и страсти. Вспоминается такой же «материализм» князя Мышкина в «Идиоте» Достоевского и вообще присущий этому писателю, одному из вдохновителей Соловьева, теллурический эрос, культ матери-земли. По аналогии с учением Федорова о «воскрешении отцов» эстетику Соловьева можно метафорически назвать делом «воскрешения Матери».
II
Свои статьи на эстетические и литературные темы Владимир Соловьев адресовал читающей публике, достаточно далекой от его философской и теологической терминологии, а главное – не проникшейся всей серьезностью его кредо. Поэтому мы не найдем здесь не только интимной мистики Соловьева-поэта, обращенной к видению «подруги вечной», к лику Вечной Женственности, прозреваемому сквозь «грубую кору вещества», но и упоминания о прошедших через философскую рефлексию метафизических сущностях – таких, как София Премудрость Божия и богочеловеческий процесс (между тем как раскрытие их и составляет основное содержание капитальных его трудов – «Чтения о Богочеловечестве», «Россия и вселенская Церковь» и др.). Соловьев-эстетик подчас позволяет себе изъясняться на языке полупоэтическом-полунаучном, что оставляет впечатление туманного философского мифа: «Космический ум в явном противоборстве с первобытным хаосом и в тайном соглашении с раздираемою этим хаосом мировою душою, или природою, которая все более и более поддается мысленным внушениям зиждительного начала, – творит в ней и через нее сложное и великолепное тело нашей вселенной» («Красота в природе»305). В недрах этой мистерии, где действуют олицетворения не вполне определенных сил, у Соловьева, как увидим дальше, могут прятаться и неувязки мысли; но, конечно же, за мифическими «псевдонимами» проглядывают контуры созданной Соловьевым метафизики положительного всеединства.
Норма и итог мироздания представляются философу как полная свобода частей в абсолютном единстве целого. И раздробленость, и принудительная общность равно далеки от этого идеала. Красота торжествует там, где побеждена всякая косность, разъединяющая элементы мира, где рухнули перегородки во времени и пространстве между наполняющими мир вещами, а сами эти вещи не потеряли своей самобытности. Иначе говоря, условиями красоты оказываются свобода, оберегающая каждое бытие от поглощения целым, и любовь, оберегающая целое от вражды и распада. Ближайшей аналогией такого тоталитета у философских предшественников Соловьева считался живой организм. Но мистическая интуиция Соловьева толкала его дальше: организм безличен, следовательно, единство его неполноценно; положительное всеединство должно обладать лицом. И личный образ совершенства, требуемый метафизической концепцией Соловьева, предносился ему как София306 Премудрость Божия, олицетворенная красота, которая по отношению к мирозданию является замыслом, деятелем и финальным состоянием.
Как же движется к этому состоянию мир? Мысль Соловьева была постоянно занята разработкой теории мирового процесса в его «космической» и «богочеловеческой» (т.е. исторической) стадиях, причем нервом ее можно счесть не историософию, а своеобразную космогонию, подчиненную эстетическому критерию.
Такого рода космогония составляет содержание программной статьи «Красота в природе» (1889), по поводу которой Е.Н. Трубецкой замечает, что в нее вложены мысли, продуманные и отстоявшиеся на протяжении целого десятилетия – 70-х годов. Размышления Соловьева здесь захватывающе грандиозны – и поразительно противоречивы.
Прежде всего некую сумятицу в изложение вносят понятия, которые он в границах своего эстетического трактата не обязывался, как уже говорилось, строго определять, но которые ему не удалось, по-видимому, прояснить и для себя на протяжении всей жизни. Самое темное из них, однако не изымаемое из хода рассуждений в статье, – это «душа мира». Если вспомнить, чтó Соловьев писал на ту же тему в других местах, картина не прояснится. То философ отождествляет душу мира с Софией, запредельным божественным замыслом о вселенной, то, стремясь избавиться от пантеизма, от отождествления божественного бытия с мировым, усматривает в ней противообраз Софии, воссоединения с которой жаждет смутно порывающаяся ввысь мировая душа (она же «первая тварь», materia prima, мать внебожественного мира, душа хаоса, природа, наконец, земля); то понуждает видеть в ней что-то вроде личности с волей и желаниями, то характеризует ее как бессознательное и доличное стремление к единству, личным образом реализуемое лишь в человеке – этом «центре всеобщего сознания природы». Для дальнейшего уяснения противоречий соловьевской миропреобразующей эстетики важно заметить, что у него не божество, а душа мира оказывается непосредственным агентом мирового процесса, космическим художником, воспроизводящим зиждительные воздействия Логоса неадекватно, так сказать, методом проб и ошибок, с катастрофическими уклонениями на каждой стадии. Возникает величественная первобытная драма – диалог «первой твари» с Богом.
Но по ходу этой драмы Соловьев предоставляет попеременно действовать двум разным принципам: естественнонаучному эволюционизму и религиозно-поэтическому символизму. Мыслителю представляется, что оба они свидетельствуют в пользу магистрального дела красоты в природе. Между тем эволюция материи от простого к сложному, от примитивной организации к высокой осуществляется вне прямой зависимости от человеческих понятий о прекрасном (тех самых понятий, за которыми Соловьев признает объективность); если червь, стоящий на более высокой ступеньке эволюционной лестницы, прекраснее алмаза, то дело красоты в природе проиграно. Соловьев в этом случае пытается поправить положение, мифологизируя натуральную эволюцию: в строении червя хаотическая сила материи возобладала над формой, оказав злобное сопротивление идеальному началу, поэтому червь и являет собой, по сравнению с мертвым минералом – алмазом, рецидив безобразия в потенциально более прекрасном царстве живого. Мало того, что с этим не согласится натуралист-зоолог, который может восхищаться целесообразным устройством червя, не спрашивая с него красоты; вряд ли рассуждение Соловьева способно удовлетворить и строгого философа или теолога. Лишь в гностической мифологии активность зла связывается с материальной стихией, а не с нравственной волей, носителем которой может быть лишь разумное сознание. Мистический эволюционизм Соловьева, вопреки желанию автора подключить к делу красоты научные аргументы (в духе искомого «великого синтеза» религии, науки и философии), не достигает цели.
Но в той же статье мы находим и совершенно другой угол зрения на природную красоту, другую цепочку аргументов, а вернее – наглядных аналогий. Когда алмаз, просвеченный лучами света физического, предстает как прообраз просвещенной горним светом и спасенной материи; когда «всеобъемлющее небо» своим торжественным спокойствием возбуждает мысль о достигнутом всеединстве; когда водная стихия своим непрестанным движением напоминает о прекрасной неисчерпаемости жизни, – тогда вся природа представляется говорящей с человеком на внятном ему языке символов, повествуя о красоте, которая больше ее самой, которая есть в запредельности и должна быть чаема на земле. В таком, символическом понимании (бессознательно намеченном Соловьевым) красота природы, так сказать, объективно-субъективна, она существует реально, а не в фантазии человека, но существует для человека и никак не помимо него. Живи Соловьев сегодня, он, вероятно, был бы рад узнать, что исконное богословское представление о мироздании, созданном для человека-художника, человека-возделывателя, совпадает с установленным современной наукой «антропным принципом», согласно которому вселенная устроена так, как будто присутствие человека предполагается в ней заранее. Однако беда в том, что религиозно-антропологический принцип как раз в эстетике Соловьева проведен непоследовательно и именно здесь обнаруживается завязь того утопизма, который разрастается в учение о теургической миссии искусства.
III
Надежды на преображение мира в красоте Соловьев связывает с художественным актом, понимаемым расширительно. Его стихотворение «Три подвига» (1882) – как бы поэтический эпиграф и лирический ключ к статье «Общий смысл искусства» (1890). Тот, кто проникся этим смыслом, должен, читаем мы в его стихотворном манифесте, совершить подвиг Пигмалиона, придающего косному материалу прекрасную форму, подвиг Персея, побеждающего дракона, то есть поработившее красоту нравственное зло, и, наконец, подвиг Орфея, выводящего красоту-Эвридику из ада смерти. Границы искусства раздвинуты здесь так широко, что в него помимо собственного дела художника – символического, а не реального преображения материи, входит, по существу, дело святого – «умное художество», освобождающее от власти греха, и даже дело самого Богочеловека, сошедшего во ад ради победы над смертью.
Для Соловьева, однако, между «тремя подвигами» существует необходимая преемственная связь, как будто они предназначены одному и тому же деятелю, который до сих пор останавливался в самом начале пути – на чисто символической акции вытесывания статуи из камня – исключительно в силу своей робости и непросвещенности. Ибо высшая задача искусства – «превращение физической жизни в духовную» (с. 82), а значит – в бессмертную, «создание вселенского духовного организма» (с. 83), где уже не останется непреображенной материи. Философ заходит так далеко, что попрекает художественную деятельность за самую ее суть, за то, что она творит воображаемый мир, даже когда стремится создать подобия абсолютной красоты: все-таки «и это чудо искусства, доселе не удававшееся ни одному поэту, было бы среди настоящей действительности только великолепным миражем в безводной пустыне, раздражающим, а не утоляющим нашу духовную жажду» (с. 89). «Совершенное искусство, – пишет Соловьев, – должно <…> пресуществить нашу действительную жизнь» (там же). Его не смущает, по-видимому, беспрецедентность подобного задания, возлагаемого на человеческие плечи. «Если скажут, что такая задача выходит за пределы искусства, то спрашивается: кто установил эти пределы?» (там же). Во взаимоотношениях с окружающим миром он встает на сторону должного, а не сущего и поэтому ощущает себя призванным к невиданным инициативам. Духовный мир с его красотой для Соловьева настолько реальнее и субстанциальнее, чем преходящая неприглядная действительность, что победа первого над второй зависит, кажется, только от решимости и веры.
Но помимо психологического источника этих взглядов, коренящегося в преизбытке личной духовности Соловьева, они следуют также из отмеченного выше уклона его философской мысли. Не случайно эстетика Соловьева не испытывает нужды в таких общепринятых в его время категориях, как возвышенное, трогательное, ужасное и т. п.; более того, по поводу одной из них – а именно «возвышенного» – он специально оговаривает излишность данного термина. Эта особенность его зрения становится понятна, если учесть, что все перечисленные грани эстетического выражают активный отклик человеческой души на проявления бытия; в отличие от «прекрасного» они мыслимы лишь внутри человеческого мира и только через воздействие на него и в меру такого воздействия могут преображать мир материальный. Это и есть та «субъективная» сторона художественного дела, без которой оно превращается в магию, прямо и непосредственно овладевающую вещами и стихиями.
И действительно, в соловьевском царстве одушевленных стихий и подобных им дочеловеческих деятелей художнику как бы открывается простор для соучастия в этой натуральной драме на роли вождя. Такое, по сути магическое, призвание художника-творца Соловьев в «Философских началах цельного знания» и ряде других сочинений именует «теургией», богодействием, человеческим продолжением божественной работы по совершенствованию мира.
Приходится констатировать, что на дальнем горизонте мыслей Соловьева об искусстве проступает грандиозная эстетическая утопия. Ее можно до конца уразуметь лишь в связи с учением философа о преображающей силе Эроса, развернутым в статьях «Смысл любви» (1892—1894) и «Жизненная драма Платона» (1898). Смысл художественного вдохновения и смысл любовного пафоса Соловьев характеризует почти одинаковым образом: и то и другое – пророчество о должном, пророческое созерцание красоты сквозь преходящий образ мира и сквозь эмпирику любимого лица. В самом деле, сравним: «Всякое ощутительное изображение какого бы то ни было предмета и явления с точки зрения его окончательного состояния, или в свете, будущего мира, есть художественное произведение» (с. 83 – «Общий смысл искусства»). А в «Смысле любви»: «любовный свет», прозорливая идеализация любимого предмета есть «начало видимого восстановления образа Божия в материальном мире» (с. 125). В этих первоначальных заветах любящему, пусть и головокружительных по своей высоте, еще нет ничего собственно утопического. Однако дальше, как и в случае с искусством, в силу вступает теургический импульс. «Как Бог творит вселенную, как Христос созидает церковь, так и человек должен творить и созидать свое женское дополнение» (с. 140). Иными словами, влюбленный – тот же художник, перешедший, однако, границы искусства (к чему, впрочем, у Соловьева художник-теург как раз призван) и уже непосредственно претворяющий жизненный «материал» (это слово в статье о любви присутствует!), то есть личность своей возлюбленной307. В обоих случаях благой финал предполагается один и тот же: введение предмета творчества или предмета любви в план бессмертия и шире – торжество над смертью в «перерожденной» вселенной. Притом и любящего, и художника вдохновляет на это сверхприродное дело сама София, Вечная Женственность, чей небесный образ равно просвечивает сквозь индивидуальный лик любимой женщины и сквозь изменчивые лики природы – ближайшего объекта художественного вдохновения. Кстати, «три подвига», помянутые выше, – столь же подвиги любви, сколь и искусства. Их трехликий герой – Пигмалион-Персей-Орфей – как раз и творит «свое женское дополнение», создавая Галатею, освобождая от зла Андромеду и увековечивая Эвридику.
Замысел Соловьева сопоставим по своей дерзновенности с «философией общего дела» его старшего современника Н.Ф. Федорова. И здесь и там речь идет о пересоздании коренных условий человеческого существования, об избавлении всего человечества от смертности и о включении природы в общий план спасения. Сходство, казалось бы, велико, тем более что не раз высказывались предположения, в том числе и самим Федоровым, что Соловьев подхватил в своей схеме богочеловеческого процесса федоровские идеи, но не имел смелости развивать их с присущей автору прямотой и преподносил их половинчато, в закамуфлированном виде. Действительно, многое говорит в пользу того, что ошеломительная идея всеобщего воскрешения, исходившая от Федорова и рано ставшая известной Соловьеву, развязала утопическую энергию в молодом мыслителе-реформаторе и заставила его думать в том же направлении. Но фактически он выступил не как продолжатель, а, скорее, как соревнователь федоровского «проекта».
Совершенно принципиально (и, быть может, полемически осознано самим Соловьевым) то обстоятельство, что великое преобразовательное дело, препоручаемое Федоровым жизненно переориентированной науке, у Соловьева должно совершаться средствами шагнувшего за свои привычные пределы искусства. За образец берется отношение к природе не ученого, а поэта: если Федоров мечтал о «регуляции» стихийных сил, о том, чтобы обезопасить их и поставить на службу людям, то для Соловьева такая победа исключила бы жизнь природы «из всеобщей солидарности»; стихию надо не «победить», а «убедить», просветлив изнутри, и это уже задача не инженерии, но гармонии, не организации, но свободного согласия. Движущая сила «проекта» Федорова – нравственная энергия сыновней любви, сыновнего долга перед умершими отцами, при отрицании за энергией пола какого-либо положительного смысла. Для Соловьева сила любви тоже глубоко нравственна, ибо означает уничтожение эгоизма, перенос центра личности со своего «Я» на другое. Но федоровские надежды на созидательную мощь сыновних чувств для него неубедительны, он отказывается видеть в родственных отношениях прототип спасающей любви. Дело спасения он возлагает на любовь половую, силу, по мирочувствию Соловьева, на вершине своей – мистическую, а не только нравственную или естественную. Совершенное соединение двоих восстанавливает целостный образ человека-андрогина, который, преодолев ущербность раздельного существования полов, тем самым обретает бессмертие. И уже от таких бессмертных пар, как надо понимать Соловьева, ждет избавления вся стенающая тварь, вся раздробленная «физическим эгоизмом», подпавшая закону смерти земная природа. Таким образом, по многим важнейшим пунктам натуралистически-техницистской интуиции Федорова противостоит художественно-мистическая интуиция Соловьева.
Однако печать ирреализма лежит на вселенских замыслах и того и другого. Оба черпают воодушевление из христианского источника и в своих построениях обычно ссылаются на образы родительской или брачной любви, данные в Писании, но оба в своем гибрисе, реформаторском азарте нечувствительны к той преграде грехопадения, которая отделяет человеческие возможности от божественного всемогущества и смиряет человека перед его земным уделом в качестве подзаконного существа. Утопизм и есть непризнание границ, положенных воле человека высшей волей, – когда мечтается, что «невозможное возможно», стоит только пожелать. И вот, вразрез с великой христианской идеей Богочеловечества, развивавшейся Соловьевым на протяжении всей жизни, он, как и другой пламенный христианин, Федоров, попадая в пространство утопии, невольно вступает на дорогу обличаемого им человекобожества. Привлекательность цели и непредставимость подручных средств для ее достижения – характерная черта магической утопии. Это не религия, не наука и не искусство, а нечто, принципиально игнорирующее границы между всеми ними и самостоятельную сферу каждого. В такого рода утопии всегда будет волновать пророческая постановка вопроса, но вслед за этим мысль у Соловьева, подобно герою «Жизненной драмы Платона», «сбивается с пути и начинает блуждать по неясным и безысходным тропинкам»308.
Впрочем, тот вызов здравому смыслу, который был сделан Соловьевым в его эротико-эстетической утопии, не остался без значительных последствий в русской культуре. После трагических попыток осуществить эти идеи в жизненной практике, предпринятых в начале XX века младшими символистами, им пришлось глубоко задуматься «о границах искусства» и признать неизбежность этих границ и плодотворность их для дела художника в мире.
IV
Если судить по тем невообразимым и неподъемным задачам, которые ставит перед художником Соловьев, теоретизируя о метафизике красоты и метафизике любви, – можно не без опаски предположить, что его сошедшие с утопических высей оценки современных писателей и поэтов окажутся крайне доктринерскими и далекими от конкретных художественных явлений. Между тем, вопреки ожиданиям, мы в лице Соловьева – литературного критика встречаемся с проницательным судьей, чувствительным и к месту художника в мире идей, и к его индивидуальному пафосу. Здесь философская мысль почти полностью освобождается от примеси прожектерства и в дело идут вкус Соловьева-поэта и внимание к духовному строю личности, отличающее Соловьева-христианина. Все это, разумеется, без отказа от веры в объективную силу красоты.
Литература и живопись XIX века, ушедшие от классической нормативности и уходящие от романтической идеализации, не могли не поставить перед Соловьевым вопрос, едва ли не роковой для его эстетической программы: откуда же берется красота в таком искусстве, как бы выросшем из действительности? К этому вопросу о «поэзии и правде» (если воспользоваться знаменитой формулой Гёте) Соловьев с разных сторон возвращается в своих статьях о литературе.
Для колебаний мысли Соловьева очень показателен его спор с кн. С.М. Волконским, автором книги «Очерки русской истории и русской литературы. Публичные лекции, читаные в Америке» (1896), по поводу понятия «живописность»309. Один из сюжетов в лекции Волконского – восхищение Иваном Грозным как колоритнейшей моделью множества писателей, поэтов и художников – послужил толчком, возбудившим кардинальные раздумья над «различием между красотою изображения в искусстве и красотою самого изображаемого как явления в действительности и в истории» (с. 214). Соловьев проводит разграничение между действительным как образцом для воспроизведения и как всего лишь «поводом» или «материалом» для творчества; в первом случае действительность должна быть прекрасна сама по себе, содержать в себе норму красоты, которой подражает художник, во втором – она должна, по не слишком ясной формулировке Соловьева, обладать «богатством фактического содержания» (с. 215), пусть то будет даже содержание вовсе не прекрасное и не высокое.
Соловьев здесь повинуется своему нравственному чувству, протестуя против признания эстетической ценности («живописности») за экспрессивным уродством и злом, наблюдаемым в жизни, но он все-таки готов предположить в арсенале искусства наличие средств, способных «переработать» это уродство и это зло в полноценно прекрасный художественный предмет. Спрашивается – как? Ответа в пределах данного рассуждения мы не найдем, поскольку, не сосредоточиваясь на лично-духовном усилии творца, Соловьев ограничен чисто предметным соотношением между явлением действительности и художественным фактом. Остается думать, что превращение безобразной или ужасной натуры в прекрасное изображение – это либо следствие невольного помрачения художественного взгляда, утерявшего чувствительность к безобразию, либо любование злом, его сознательная идеализация. Но ведь Соловьев явно имеет в виду другое: неподдельную красоту, непонятным образом рождающуюся из антиэстетического «сырья».
Однако стоит мысли Соловьева обратиться к творческому миру современного художника – Достоевского, миру, знакомому и близкому ему изнутри, как вопрос о злой действительности и прекрасном художественном продукте находит свое убедительное решение. Во вступительном слове, которым Соловьев предварил речи в память Достоевского, читаем, что писатель «принял в свою душу всю жизненную злобу, всю тяготу и черноту жизни и преодолел все это бесконечною силою любви» (с. 228). Может показаться, что это характеристика скорее душевных движений, чем эстетического акта, но на самом деле здесь вводится как раз тот недостающий в теории Соловьева элемент, благодаря которому ужас и безобразие жизни трансформируются в прекрасное творение. По существу, тут очерчены подлинное поле действия художника – мир, принятый им в душу, то есть из внешнего ставший внутренним, и, косвенно, – поле его воздействия: не действительность как таковая, а опять-таки человеческие души, которые под влиянием эстетического впечатления способны изменить себя и жизнь. Недаром в статьях о великих творческих судьбах – о Достоевском, Пушкине, Мицкевиче, Лермонтове – Соловьеву рисуются образы не «теургов» или «демиургов» с их в некотором смысле «операциональным» отношением к бытию, а пророков и духовных вождей.
Вдохновляясь этими образами, Соловьев неожиданно находит прогресс искусства в реалистической романистике своего времени, то есть там, где немецкая классическая эстетика видела упадок и симптом конца художественной эры человечества и где он сам, когда поддавался своим непосредственным вкусам, испытывал неудовольствие от заземленности или неблагообразия. В первой речи о Достоевском, где заявлен такой взгляд на движение искусства, автор оставляет за классическим каноном античности и Ренессанса, который до сих пор считался вершиной художественных достижений человечества, всего лишь предварительную роль – создания прекрасных форм, отвлекающих от житейской тьмы либо прикрывающих ее извне. Это только цветы искусства, и то, что они «опали», не повергает Соловьева в уныние, потому что он видит завязь плодов в идущем на смену классическому, обратившемся к сырой реальности искусстве. Даже неизбежный в этом случае натурализм («изображать еще не значит преображать») не отпугивает его, ибо искусство не может привлечь человека к тьме и с этим его оставить: следующим шагом непременно будет усилие просветить эту тьму, и такой шаг, по Соловьеву, сделан Достоевским, предтечей нового религиозного реализма. «…Грубый реализм современного художества есть только та жесткая оболочка, в которой до времени скрывается крылатая поэзия будущего» (с. 232).
«Красота спасет мир» – этот афоризм Достоевского, который несколько лет спустя станет эпиграфом к статье «Красота в природе» и сослужит там Соловьеву космиургическую службу, в цикле речей о Достоевском получает совершенно уникальное истолкование в качестве общественного лозунга. Полемизируя с радикалами, упрекавшими писателя в отсутствии передовых идеалов (в первую очередь спор велся с Н.К. Михайловским), Соловьев объявляет преимуществом Достоевского независимость его от внешних насильственных социальных проектов и приверженность такому идеалу, который преображал бы общежитие изнутри человеческой души. Мыслитель, проникаясь озарением Достоевского, как бы предлагает проверить благоустроенность и справедливость общественного целого критерием красоты. Уродливость форм жизни в принудительных общностях, будь то архаическая деспотия или планируемый коммунистический муравейник, свидетельствует о том, что в основе одного и другого – ложное единство. «Дело не в единстве, а в свободном согласии на единство» (с. 245), – говорит Соловьев (и тем сразу обозначает слишком часто игнорируемую разницу между коллективизмом и соборностью). «Мир не должен быть спасен насильно» (там же), а единственный способ обойтись без принуждения – привлечь сердца красотою. Она, таким образом, и путь воздействия на общество, и конечный идеал общественных отношений.
На этом пути художник становится пророком новой общественности в силу своей опоры на сверхсоциальное и благодаря троякой вере в присутствие красоты – в мире запредельном, в мире человеческой души и в мире природной материи. Таким верующим в преображение «мистиком», «гуманистом» и «натуралистом» Соловьев рисует Достоевского.
Вообще говоря, в писаниях Соловьева парадигма пророческой миссии художника заимствована из поэзии Пушкина и как бы по эстафете воспринята от Достоевского, непревзойденного декламатора этих стихов. Разбор пушкинского «Пророка»310, на наш взгляд, принадлежит к самым вдохновенным монологам философа. Мы узнаем здесь, что художественная способность – дар свыше; что для приятия этого дара нужно приготовить душевное вместилище – переродить чувства и очистить сердце; что такая операция сопряжена со страданиями на грани смерти; что выдержавший испытание обретает космическое тайнозрение, нравственную мудрость и власть пронзать сердца образом совершенства.
Но этот заданный Пушкиным идеал находит лишь частичное воплощение в тех или иных гениальных творцах искусства. Четыре духовных типа, представленных у Соловьева Пушкиным, Достоевским, Мицкевичем и Лермонтовым, позволяют заключить, что служение художника, неисполнимое, быть может, в его предельной полноте, осуществляется как бы двояким образом. Достоевский, Мицкевич (одноименная статья – 1899), а в неосуществленном задании и Лермонтов (одноименная статья – 1901, посмертно), изображены вождями человечества, которые призваны к богочеловеческому делу и должны послужить ему своим словом. Особенно рельефно очерчена эта миссия на примере возвышенной судьбы Мицкевича, в описание которой вложено немало и автобиографического, задушевного. Когда Соловьев показывает духовное восхождение польского поэта, в страданиях расстающегося с надеждой на личное счастье, с мечтой о национальном торжестве и с нерассуждающей верой в церковные авторитеты, через утрату этих иллюзий укрепляющегося в своем пророческом сознании (не так ли было с нашим мыслителем?), – то о художественных достижениях Мицкевича, рождавшихся на каждом этапе пройденного пути, говорится лишь вскользь, словно они – побочный продукт борений души, а не главное, что явил поэт в специальной области прекрасного. А ведь Соловьев считал Мицкевича одним из величайших поэтических гениев Европы.
Не таково оказывается служение Пушкина. В статье «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина», посвященной призванию поэта как такового, Соловьев четко противопоставляет поэзии содержательной, богатой душевным, личностным материалом (каковы могуче-индивидуальное творчество Байрона и опять-таки творения Мицкевича), чистую поэзию, все наполнение которой – онтологическая красота. «Ни в чем, кроме красоты, настоящая поэзия не нуждается» (с. 321), – пишет Соловьев, как бы забывая о том, что буквально страницей раньше он ставил поэтов несомненно тенденциозных – Мицкевича и Байрона – по впечатляющей силе выше Пушкина. Впрочем, философ различает (хотя и не совсем убедительно) силу поэзии и ее чистейшую сущность.
Дабы стать выразителем последней, поэту надо достичь своего рода духовной нищеты, опустошить свое сознание не только от мелочных житейских забот, но и от рефлексии, от вмешательства ума и пассивно, медиумически предать себя вдохновению из сверхсознательной области. Современного читателя, давно согласившегося с Николаем I в том, что Пушкин – «умнейший человек России», может удивить та настойчивость, с которой Соловьев, признавая за Пушкиным большой ум, подчеркивает, однако, несущественность этой способности для достоинств его поэзии. Конечно, здесь все заострено подразумеваемой полемикой с В.В. Розановым, в чьем нарочитом изображении Пушкин предстал трезвым, уравновешенным умником, не вкусившим пьянящего напитка богов поэзии311. Но у Соловьева в этом непризнании прав ума присутствует и свой принципиальный мотив. Чистая красота есть ощутительный свет вечной истины, и, открывая себя созерцанию красоты, поэт тем самым доносит до нас неискаженную истину бытия; а ум своим активным вторжением в ту прозрачную среду, какою должна стать душа поэта, своей деятельной субъективностью грозит замутить и возмутить эту душу, настроившуюся на восприятие высшей гармонии. По Соловьеву, поэт не волен в своем вдохновении, но волен, и даже обязан, оберегать его чистоту от собственных низших побуждений, а его права – от утилитаризма толпы.
Если для Соловьева Достоевский – предтеча будущего искусства, своей религиозной стороной связанного с общественным делом, то Пушкин – главная опора в защите уже достигнутой искусством трансцендентной высоты от новейших, сменяющих писаревщину, попыток расторгнуть союз между Красотой и Истиной, Красотой и Добром и, лишив Красоту бытийных оснований, обессилить, подменить, а наконец, и упразднить ее.
Намеченные здесь два облика художника и соответствующие им два рода служения – не просто эмпирически неизбежное в несовершенных земных условиях раздвоение всецелой и единой миссии. Известная двойственность, неподытоженность имеется и в самих мыслях Соловьева на сей предмет. Зная большой соловьевский контекст этих мыслей, нетрудно увидеть, что обеим художественным задачам в равной мере покровительствует София, но к своим избранникам божественная Премудрость обращена по-разному. «Чистому поэту» пушкинского склада она явлена как вселенская норма красоты, а христианскому писателю, озабоченному людской судьбой, – как норма исторического восхождения к Богочеловечеству.
Есть основания заподозрить, что Соловьев нагружает художника заданиями, на которые падает отсвет двух его разных глобальных схем. Пушкина он всячески подтягивает до теурга из уже описанной нами эстетической утопии и готов упрекнуть его, что тот, в силу своего человеческого несовершенства, остановился на подвиге Пигмалиона и не стал «практическим идеалистом». Что касается «духовных вождей человечества» или неудачливых кандидатов на это место (Лермонтов), то таковые, по-видимому, восходят к одному из лиц возглавляющей человечество троицы в теократическом проекте Соловьева, а именно – к пророку, свободным вдохновением свыше призванному наставлять царя и жреца. Сам Соловьев, незаурядный поэт и, конечно же, пророческая личность, ощущал в себе задатки и того и другого назначения, – так что, раскладывая на составные его теоретизирующую мысль, мы обязаны чувствовать и ее лирическую ауру, окрыленность личным воодушевлением.
V
Соловьев унаследовал от Достоевского веру в спасающую силу красоты, но остался почти безучастен к другому великому прозрению Достоевского – что в человеческом сердце, в зависимости от его склонности к добру или злу, эстетический идеал может раздваиваться и подменяться; что «идеал Мадонны» и «идеал содомский» соперничают между собой за душу, равно пленяя ее впечатлением красоты. Правда, положение литератора, наблюдающего падение престижа всего «прекрасного и высокого» в текущих писаниях, заставило его обронить фразу:
«Страшно, кажется, возлагать на красоту спасение мира, когда приходится спасать саму красоту от художественных и критических опытов, старающихся заменить идеально-прекрасное реально-безобразным» (с. 30) Но полуиронический тон этого замечания говорит о том, что Соловьеву все-таки осталась чужда экзистенциальная глубина обозначенной проблемы.
Высокая настроенность натуры Соловьева на идеальное и должное, непрельстительность для него демонических порывов избавляли его от соучастия в раздумье над словами Мити Карамазова: что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. А когда литературный процесс все же ставил перед ним этот вопрос, когда нарождающиеся «декаденты» попытались взрастить на русской почве первые «цветы зла», Соловьев, язвительно парируя и высмеивая их претензии, держа, что называется, круговую оборону, тем не менее не желал всерьез спускаться в этот темный лабиринт. Поэтому соответствующие суждения у него, при всей их непреклонности, обычно случайны и не соотнесены между собой.
В самом деле, в статье «Что значит слово “живописность”?» Соловьев беспечно замечает, что «живописность действительного ада, действительной чумы и действительного Торквемады все-таки осталась бы висящим в воздухе парадоксом» (с. 222). Между тем «парадокс» этот, мы знаем, заставлял содрогаться душу Достоевского, разглядевшего в садизме своего рода эстетизм.
В другом месте, обороняя Пушкина от попыток присвоения со стороны русских ницшеанцев, Соловьев уже утверждает, что «красивое зло, изящная ложь, эстетический ужас» в действительной жизни существуют» (с. 322), но в сравнении с истинной красотой это подделки, свечение болотных гнилушек.
Озадаченный несомненным обаянием прекрасного, какое излучают демонические образы у Лермонтова, однако не плененный ими, Соловьев жалуется, что поэт, «облекая в красоту формы ложные мысли и чувства» (с. 398), соблазняет неопытные сердца. Причем, конечно, так и не выясняется, откуда же при ложной установке души почерпнуто совершенство форм.
Наконец, в упомянутом «Особом чествовании Пушкина», почти памфлете, Соловьев противопоставляет вдохновение, идущее сверху, из царства чистой красоты, вдохновению, исходящему снизу, в виде удушливых паров, из хтонической расщелины, хаотической бездны. Однако остается открытым вопрос, может ли это опьянение низшими стихиями породить хотя бы иллюзию красоты.
Узнав, таким образом, что красота зла есть парадокс для ума, подделка для чувств, внешний камуфляж для взора, дурман для сознания, мы все же остаемся при недоумении.
Попытаемся в духе метафизики Соловьева додумать его неоформившуюся мысль. Начнем с уверенности, что эстетическая идеализация зла не может питаться из ресурсов самого зла. Значит, источником прекрасного способна служить здесь только память об утраченной высоте. Но заблудившееся нравственное чувство лукаво окружает этим прежним сиянием самый факт падшести. Так зло присваивает себе обаяние не присущей ему красоты, эксплуатируя трагедию утраты и представляя страдающую от него же, ущербленную красоту даже более значительной, чем девственная гармония.
Если бы Соловьев отнесся к судьбе Лермонтова не как к однозначно отрицательному примеру разрастающегося «демонического хозяйства», а как к человеческой трагедии раздвоения между памятью о райском, «софийном» образе вечноженственного и гордой апологией своей жизненной практики, то, быть может, у него обозначилась бы пусть отдаленная, но существенная параллель с судьбой Пушкина, которая трактуется Соловьевым тоже как драма раздвоенности, несоответствия между человеческим и пророческим.
Статья Соловьева «Судьба Пушкина» (1897) вызвала всеобщее раздражение, которое не улеглось и век спустя. Автора обвиняли в морализме (или, как теперь модно говорить, в гиперморализме) и высокомерном пренебрежении трагическими обстоятельствами, навязанными Пушкину враждебной ему средой. Разумеется, в этом сочинении Соловьев не только не учел многих конкретных биографических факторов (возможно, не зная их), но и, что выглядело особенно неуместным, взялся судить о роковой гибели Пушкина как бы от имени Провидения. И тем не менее, понятая изнутри мира соловьевских ценностей, статья, посвященная судьбе Пушкина, предстает красноречивой иллюстрацией к учению об «общем смысле искусства» – «притчей», где интимно переплетены взгляд на идеальную красоту и на идеальный эрос.
Хотя пушкинская дуэль выступает в статье как центральный и самый пространный эпизод, сразу обративший на себя раздраженное внимание читателей, истинный нерв сюжета для Соловьева – это нескромное письмо, написанное Пушкиным приятелю по поводу «победы» над той самой А.П. Керн, которой поэт посвятил высочайшее лирическое творение. Сознание Соловьева буквально сотрясено этим фактом, получившим в его глазах принципиальное духовное значение – предельного разлада между поэтической истиной (прозреть в возлюбленной «гений чистой красоты»!) и подчиненностью житейской среде, где «гусарский», цинический тон господствовал в качестве обиходной «правды». Напомним, что на игривые вопросы из альбома Т.Л. Сухотиной Соловьев с юмором, но и с недвусмысленной твердостью ответил: «Не служил в легкой кавалерии» (с. 642). Эскапада Пушкина была для него не просто компрометирующей психологической чертой: она означала оскорбление, нанесенное «чистой красоте», то есть Софии – вдохновительнице поэтов, и одновременно неверие в любовь, возводящую идеальный образ возлюбленной до той же Софии («Вера в любовь» – вот ответ Соловьева на вопрос из того же альбома «В чем счастье жизни?»). Суть внутренней трагедии Пушкина, которую Соловьев отказывается признать драмой обстоятельств, видится ему в том, что свое высшее художественное служение поэт исполнял, что называется, «по праздникам», между тем как в повседневной жизни предавался житейским страстям. И читая другие статьи Соловьева, вводящие в душевный мир русских поэтов, мы убеждаемся, что «суд» над Пушкиным и над Лермонтовым вершился не из ригористических претензий именно к этим прославленным лицам, что цельность, нерасколотость сознания всегда была для Соловьева тем главным условием, без соблюдения которого он не мог считать художественное деяние вполне удавшимся. Так именно у него разрешается дилемма «поэзии и правды».
Несчастьем большинства поэтов XIX века Соловьеву представлялось недоверие их «реалистического» ума, равняющегося на трюизмы своего времени, к той истине, которая открывается в художественном созерцании как последняя достоверность. Так, по его проницательному замечанию, Баратынский был раздвоен между религиозно-поэтическим взглядом на мир и материалистическими выводами современного ему научного умонастроения, что делало его пессимистом, то есть в каком-то смысле «отступником». Самые вдохновенные, поднимающиеся вровень с лирической высотой разбираемых образцов статьи Соловьева посвящены тем поэтам, кто так или иначе одолевал «противоположность между тем прекрасным и светлым миром, в котором живет <…> муза, и <…> суровою и темною глубиною жизни» (c. 524) Это на девять десятых посвященная А.А. Фету статья «О лирической поэзии» (1890), где ее герой, бегущий от жизненной тревоги «в мир вдохновенного созерцания», соединяет вместе с тем эти два мира «пафосом истинной любви, поднимающей его [поэта] над временем и смертью» (с. 416). (Если мы сопоставим даты и формулировки, то увидим, что патетическая любовная лирика Фета послужила таким же источником для трактата «Смысл любви», как и собственная душевная жизнь его автора.) Это философское эссе о Тютчеве (1895), у которого Соловьев находит редчайшее соответствие между интуитивным ощущением всеобъемлющей одушевленности вселенной и сознательной мыслью, эту одушевленность утверждающей. (Лирический мир Тютчева дает Соловьеву повод снова воссоздать вехи мирового восхождения красоты, расставленные им в статье 1889 года.) Это тончайший разбор стихотворений Полонского-лирика (1896), который, по словам Соловьева, «не остается при <…> двойственности» – мира поэтических созерцаний и «темной жизни», – а находит выход в столь созвучной автору «Чтений о Богочеловечестве» идее «совершенствования, или прогресса» (c. 525), притом прогресса не научного, а духовно-нравственного, оправдывающего дело художника. Это портрет А.К. Толстого (1894), позволивший Соловьеву напомнить о «старом, но вечно истинном платоническо-христианском миросозерцании» (с. 505), в свете которого художник – «связующее звено, или посредник, между миром вечных идей, или первообразов, и миром вещественных явлений» (с. 492), то есть живой гарант того, что двоемирие преодолимо.
Итак, у Тютчева Соловьев нашел родственную своей собственной мистику, у А.К. Толстого – близкую себе философию, у Фета – просветленный эротический пафос. И всякий раз это сближение критика с миром поэта происходит на почве веры в связующую задачу искусства и уверенности в том, что для исполнения такой задачи потребны цельное сознание и цельная жизнь, а нарушение этого правила мстит за себя трагедией и даже гибелью.
Частные суждения о поэтах Соловьева-критика могли быть односторонни и чрезмерно зависимы от его основоположений. Но коренному его переживанию судеб искусства сопутствует правота – правота не литератора, а учителя жизни.
VI
Соловьев – корифей русской философской критики, более того – ее подлинный основатель. Это вовсе не значит, что до него наша литературная критика, переживавшая расцвет в 40 – 60-х годах XIX века, была лишена философской подкладки, что, размышляя о литературе, не философствовали при этом В.Г. Белинский, И.В. Киреевский, А.В. Дружинин, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев и даже Варфоломей Зайцев. Но именно Соловьев продемонстрировал, что философский анализ не подчиняет художественное произведение схеме, внутри которой оно обречено служить иллюстрацией тезиса, а восходит к его объективной смысловой основе. В критическом очерке о поэзии Я.П. Полонского Соловьев, сберегая от рационалистического разъятия «несказанную и неизреченную» тайну личности, исключает из задач критики уловление художественной индивидуальности в сети отвлеченных формулировок. Цель философского разбора – уяснить, на какую сторону истинного Бытия откликается душа художника как на родную себе идею, какой луч сущей Красоты озаряет мир его созданий. С этой точки зрения даже лирика для Соловьева – искусство вовсе не субъективное (в связи с чем оспаривается известное определение Гегеля), а, при всей мимолетности настроений и при всей порожденности пережитым мгновением, укорененное в вечности и живущее верой в безусловную, вечную ценность запечатляемых состояний. При таком взгляде лирика явно проигрывает в объеме тем и мотивов312, но выигрывает в самом существенном – в причастности к абсолютам, каковыми для Соловьева была Любовь и Красота, поднятые на онтологический уровень. (Они действительно ядро лирики, и иссякание этого запаса в современной лирической поэзии не может не свидетельствовать об общем ее кризисе.)
На фоне новейших течений в искусстве литературно-критическое наследие Соловьева может показаться старомодным и отсылающим к уже как бы обветшалому миру гармонии и благолепия. Но в нем как это, мы надеемся, будет в конце концов осознано, – заключена спасительная энергия, возвращающая искусство в мир духа.
Р. Гальцева
Конкретная эсхатология Владимира Соловьева313
Тема эта возникла у меня как отклик на вошедшее в обиход литературы о Вл. Соловьеве трехчленное деление его историософских взглядов: на первый, оптимистически-эволюционный; второй, по мере разочарования в первом к середине 80-х годов, утопически-теократический; наконец, третий, наступивший по мере отрезвления и отхода от прожектов институционального спасения, апокалиптический этап «Краткой повести об Антихристе». Против констатации этих стадий трудно возражать, но хочется ее скорректировать. Остается в тени еще один факт, требующий уяснения. При том, что описанные этапы дискретны, что они мало совмещаются между собой, а сменяют друг друга, в сотериологической историософии Соловьева есть еще один проект, проходящий через все ее стадии и при этом, можно сказать, не линяющий ни перышком.
Соловьев явился в этот мир с острым чувством странничества в нем и одновременно за него ответственности. Странник-миссионер – это и есть антиномия, в которой живет христианин. С юношеских лет Соловьев переживал недолжное состояние мира и ощущал свое призвание сразиться, как Персей с драконом, с жизненным злом.
«С тех пор, как я стал что-нибудь смыслить, – признается он, двадцатилетний, своей кузине Екатерине Романовой (Селевиной), я сознавал, что существующий порядок вещей далеко не таков, каким должен быть». А это означает, что «настоящее состояние человечества <…> должно быть изменено, преобразовано»314. Другой своей конфидентке, Елизавете Поливановой, он запечатлелся юношей, преисполненным великими планами, готовым «совершить переворот в области человеческой мысли <…> открыть новые, неведомые до тех пор пути для человеческого сознания <…> и казалось, что он уже видит перед собой картины этого чудного грядущего»315.
Им двигали убеждение в наличии верховной правды и скорбь от того, что она не торжествует в окружавшем мире. «Быть или не быть правде на земле» – таков для него главный вопрос жизни и одновременно – ищущей мысли. Вопрос о судьбах правды считал Соловьев обращенным к нему самому, к его мысли и воле: земное бытие должно быть подчинено высшей правде.
Ясно, что перед нами эсхатолог, человек, захваченный разрешением конечных судеб мира. Как же мыслил эту работу Соловьев? «Где средства?» – на этот «самый важный вопрос», как он характеризует его в том же письме к Е.В. Романовой, дается такой ответ: «Есть, правда, люди, которым вопрос этот кажется очень простым и задача легкою <…> они хотят возродить человечество убийствами и поджогами <…> Я понимаю дело иначе. Я знаю, что всякое преобразование должно делаться изнутри – из ума и сердца человеческого»316.
Таким образом, замысел грандиозного переворота, пугающий нас своим радикальным, вроде бы, разрывом с существующим миром, мыслился Соловьевым на мирных, внутренних путях. И действительно, если мы проведем ревизию его эсхатологических идей, то лишь один (отвергнутый им затем), проект опирается у него на внешнюю организацию – это «всемирная теократия» середины 1880-х – середины 1890-х годов, остальные – обращаются к сознанию и воле человека.
Теократическая утопия317 развивалась Соловьевым в предчувствии сейсмических сдвигов истории. С целью удержания мира от надвигающегося мрака и хаоса и в попытке «исправления, – если воспользоваться оборотом архиепископа Антония Храповицкого, – полуязыческой европейской культуры началом христианским» мыслитель спешит собрать мир под покровом христианства, уже не ограничиваясь только «внутренними средствами». Для все того же водворения гармонии в мире Соловьев хочет воссоединить расколовшуюся христианскую ойкумену – латинский Запад и православный Восток, при этом первый в лице Папы будет представлять церковную и вероучительную сторону; второй – в лице православного царя с его геополитическим могуществом – мирскую власть, обеспечивающую земную прочность христианской идее. Правда, в качестве гаранта «прав человека» и «свободы личности» Соловьев предусматривает третье лицо этой земной «троицы» – пророка, харизматического вождя христианской общественности. Однако весьма сомнительно, чтобы массивный властный тандем сообразовывал свои действия с этим беспочвенным руководителем.
В данном проекте окончательного спасения мира от раздора и нестроений первоначальный, юношеский замысел Соловьева о сверхисторической теократии в форме воцарения вселенской религии превращается в посюстороннюю окончательную цель: утвердить что-то вроде средневековой «священной империи».
По поводу этой грандиозной фантазии возликовал, как мы знаем, Константин Леонтьев с его имперскими симпатиями. Он оставил без внимания «сентиментальные» обещания всеобщего примирения, но пришел в восторг от открывавшихся здесь возможностей принуждения: используя силу «русских папистов», привести Европу – через папский престол – к надежному порядку.
В конце концов, именно этот организационный элемент несвободы, вкравшийся единожды в соловьевские планы по спасению мира, а не только последующая неудача в хлопотах – по осуществлению замысла всемирной теократии – перед папой и русским императором привел реформатора к отказу от искушения быстрейшей гармонизации мира на внешних путях. В 1896 году Соловьев пишет своему католическому корреспонденту Евгению Тавернье «…Надо раз и навсегда отказаться от идеи могущества и внешнего величия теократии как прямой и немедленной цели христианской политики»318.
Из тех эсхатологических идей, которые в согласии с основополагающими принципами Соловьева опираются исключительно на внутренние ресурсы человека, известны две мистических утопии: эстетическая, или теургическая, и связанная с ней эротическая (конечно же, в платоновском смысле слова).
В первой преображение мира поручается художнику-творцу, который выходит далеко за пределы искусства и возводит свой художественный акт до демиургического, богодействениого уровня. От него Соловьев ждет трех подвигов: при этом только первый остается в известных искусству границах. Художник должен совершить подвиг Пигмалиона, т. е. придать косному, природному материалу совершенную форму; подвиг Персея, который должен победить дракона нравственного зла, поработившего красоту в индивидуальной и общественной жизни, и, наконец, подвиг Орфея, увековечивающий индивидуальные явления, спасающий личность, – как Орфей спасает Эвридику, выводя ее из ада смерти319. Невиданное задание поднимает художника на высоту Богочеловека, ибо поручает ему то, что человеку не по плечу. Эротическая утопия по своему головокружительному масштабу не уступает предыдущей. Но акцент здесь – на любви двоих, не только нравственной, но и мистической, ибо такова есть любовь между полами. Восстанавливая цельный образ человека-андрогина, она преодолевает ущербную раздельность существования полов; любящие пары обретают бессмертие, избавляя от печальной юдоли и всю стенающую тварь, весь земной мир.
Размышляя над источниками соловьевского утопизма, можно предположить два таковых: один, характерный для русского национально-исторического сознания, – нетерпеливое желание увидеть торжествующую правду лицом к лицу без проволочек; другой – «метафизическая доверчивость» самого Соловьева, его несогласие на присутствие злой воли в космической и человеческой жизни. Дело облегчается еще тем, что присутствие метафизического мира вечной красоты он ощущал явственней, чем физический мир окружающих его временных вещей.
Между тем есть у Соловьева эсхатология, которая не только не угрожает никаким организационно-принудительным планом, ибо она не использует никакого внешнего средства, но и не является утопией в обычном смысле этого слова – как нетрезвой доктрины.
То разрешение конечных судеб мира у Соловьева, о чем идет здесь речь, с одной стороны, невероятно по своей грандиозности, с другой же, не имеет никаких принципиальных препятствий к своему воплощению, потому что может осуществляться и по частям. Оно исходит из восприятия Соловьевым Благой вести «всем сердцем своим и всем помышлением своим». Что касается «сердца», то мы знаем, чему оно было предано; но как имеющие своим предметом теоретическую мысль, остановимся на «помышлении». Соловьев так рассуждал о сущности христианского учения: «Одни будут находить» его «в непротивлении злу, другие – в подчинении духовным властям (“слушающийся вас – Меня слушается”), третьи будут настаивать на вере в чудеса, четвертые – на разделении божественного от мирского и т. д.». Но все это – в лучшем случае «только частные пункты учения». Само же Евангелие, сама благая весть Христова «не именует себя ни Евангелием непротивления, ни Евангелием священноначалия», ни «Евангелием чудес, ни Евангелием веры, ни даже Евангелием любви: оно признает и неизменно называет себя Евангелием царствия – доброю вестью о царствии Божием». «Царство Божие внутри нас», но оно же и «силою берется». Соловьев поясняет его реальность: «Внутренняя возможность, основное условие соединения с Божеством находится <…> в самом человеке <…> Но эта возможность должна перейти в действительность, человек должен проявить, обнаружить скрытое в нем царствие Божие», сочетая усилие своей свободной воли с тайным действием в нем благодати Божьей. Царство Божье, совершённое в вечной божественной идее («на небесах»), потенциально присущее нашей природе, необходимо есть вместе с тем нечто совершаемое «для нас и чрез нас»320 и через нас должно распространяться дальше, на все формы бытия. И действительно, если религия открывает для человека безусловную истину, то она не может быть «для него кое-чем», но только всем. Неужели Благая весть Христова – это только методика для спасения индивидуальной души, только некий личный путь для человека, который совершенствуется, чтобы после смерти иметь вечное блаженство? – бросает бесстрашный вызов Соловьев бытующему в православной среде умонастроению, которое С.Н. Булгаков впоследствии назовет «социальным ничегонеделанием». Этот эскапистский взгляд на разрешение человеческих судеб К.Н. Леонтьев, страстный его приверженец, тоже с вызовом назвал «трансцендентным эгоизмом», Г.П. Федотов же описал как «эсхатологизм», который «всегда сохраняет привкус, хотя бы очень тонкий, духовного сектантства»321.
Включимся и мы в старый спор. «Не любите мира», говорит Апостол (1 Ин. 2:15), но и: «так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного <…> чтобы мир спасен был чрез Него»322. Характерная для этой Книги книг антиномия разрешается через взаимоуточнение каждого из полярных высказываний – его антитезой. Заповедь «Не любите мира» – таким образом раскрывается предостережением не отдавать своего сердца мирскому, а отнюдь не в гностически-манихейском смысле предания всего сотворенного на «поток и разграбление». С другой стороны, жертвенная любовь Бога к миру тоже корректируется: учитывая первый императив, мы понимаем, что не все в мире Бог хотел бы спасти, Он спасает мир в перспективе его преображения; Он дает шанс миру как совокупному человечеству: «Если не покаетесь, все погибнете. Если покаетесь, все спасетесь». Но если «все спасутся», то чисто теоретически (нечестиво отвлекаясь от предписанного нам в Священном писании конца) обязательно ли представлять историю этих «всех», покаявшегося человечества, как драму с катастрофическим концом, и, во-вторых, не оставляет ли сослагательное наклонение слов Спасителя место для «непредрешенческого» взгляда на завершение мирского эона? В поддержку этого хода мысли позаимствуем у Федотова найденные им в Евангелии «образы пришествия Царства Божия» не катастрофическим, а органическим путем: “Зерно горчичное, вырастающее в дерево, которое покрывает вселенную <…> Закваска, квасящая все тесто. Поля, побелевшие для жатвы <…>”»323.
Пусть не только священные тексты, но и всё в мире сегодня предвещает его грозный конец, но кто знает, как откликнулось бы Провидение на исполнение человечеством евангельских призывов («Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земли»). И не был бы подготовлен в таком случае природный мир к некатастрофическому переходу в новый эон, когда Божественная воля захотела бы в ответ изменить «естественные условия» человеческого существования, включая смерть?! Не наше дело пророчествовать об этом. Однако помнить, что эсхатологический прорыв уже начался вместе с явлением Мессии, пришедшим в мир в «последние времена», и осознавать, что у нас нет логических оснований принципиально отрицать непредвиденные явления Божественной силы в мире. Скажем, если законы природы – в руках Божиих, то мир человеческих отношений во многом – в руках человеческих.
Соловьев формулирует принципы приложения христианского идеала к собирательной всечеловеческой жизни, тем самым выводя православие за пределы личного спасения в мир исторический (согласно тому, что он осознал в юности: «Пришло время не бегать от мира, а идти в мир, чтобы преобразовать его»324). Он выступает реформатором русского христианского самосознания, заложившим основы христианской общественности, или социального христианства, которое выливается в плодотворное, хотя и неосуществленное в России, к ее несчастью, течение русской общественной мысли XX века. «Наше дело, задача нашей деятельности, – развивает эту мысль Соловьев позже, – <…> не могут ограничиваться разрозненным индивидуальным существованием отдельных лиц. Человек – существо социальное, и высшее дело его жизни, окончательная цель его усилий лежит не в его личной судьбе, а в социальных судьбах всего человечества. <…> Если мы заботимся о деле царствия Божия, то мы должны принимать то, что этому достойному делу служит, и отвергать, что ему противно, руководясь при этом не мертвым критерием каких-нибудь отвлеченных измов, а (по апостолу Павлу) живым критерием ума Христова, – если мы его в себе имеем; если же не имеем, то лучше нам и не называться христианами. По праву носящие это имя должны заботиться не о сохранении и укреплении во что бы то ни стало данных социальных групп и форм <…> а напротив об их перерождении и преобразовании в христианском духе (насколько они к этому способны), – об истинном введении их в сферу царствия Божия»325.
Продолжим от себя. «Царство Божие не от мира сего», но из этого никак не следует, что оно не для мира сего. Напротив, только то, что свыше, может править миром. Согласовывать все свои политические и социальные отношения с христианскими началами – в этом и состоит настоящая «христианская политика».
Тех, кто бездейственно ждет грядущего откровения, оставляя всю свою мирскую деятельность мирским и языческим интересам и поддерживая нехристианские институты, Соловьев изобличает как «мнимых христиан», ставя им в укор деятельность либералов. Последние выгодно отличаются от поддельных сторонников христианства, которые сводят его к мертвой вере и к толкам о личной святости и личном спасении души (здесь автор метит сразу и в индивидуалистическое христианство Толстого, и в «трансцендентный эгоизм» Леонтьева).
Сам Соловьев отнюдь не считает себя основоположником, а в крайнем случае – лишь обновителем той политики, которая впервые была взращена у нас крестителем Руси князем Владимиром и определяется мыслителем как политика, которая «боится греха». (След этой политики – а не одной лишь борьбы пресловутых классовых, групповых и личных интересов – пунктиром затем проходит по всей русской истории вплоть до 1917 года.)
Но Соловьев не только утверждает принципы «христианской политики» как возможного пути общественно-исторического спасения, он конкретизирует принципы соответствующего ей устройства общества, т.е. такой лично-общественной среды, которая по существу становилась бы «организованным добром». В эту «организацию» непременным требованием входит соблюдение личной свободы: ни под каким предлогом человек не может служить добру, даже «общему благу», против собственной воли, что, конечно, вызывает симпатии всех либералов. Однако либерализм Соловьева – это либерализм классический, имеющий под собой старый сверхконвенциональный, религиозный фундамент. Оккупировавший сегодняшнюю идейную сцену абсолютный либерализм совершенно неприемлем для Соловьева и был отвергнут им в своих основах под именем «этического натурализма», или «социального позитивизма», не признающего вечных, сверх-эмпирических ориентиров. Перед человеческим сообществом, так же как и перед человеком, всегда стоит необходимость выбора между добром и злом, добродетелью и пороком. Между этими принципиальными путями иные хотят отыскать еще какой-то – ни добрый, ни злой, а натуральный или животный. Но для человеческого мира этот путь не натурален, не естествен. «Волей-неволей человеку приходится выбирать: или становиться выше и лучше своей данной материальной основы, или становиться ниже и хуже животного». (Последнее прямо про нынешнюю культурную доминанту.)
Соловьев подчеркивает, что «притязание» «христианской политики» на христианское устроение общества как согласованное с безусловным нравственным началом «совершенно безобидно»: личность здесь ничего не потеряет.
Но так же, как «христианская политика», эта важная часть богочеловеческого процесса, так и весь в целом грандиозный замысел богочеловеческого сотрудничества по воплощению Благой вести о Царствии тоже «безобиден»: он не является организационной утопией (чреватой своей обратимостью в антиутопию), поскольку не выходит к человеку ни с каким принудительным заданием, ни с какой извне мобилизующей идеей и насильственной регламентацией жизни. В отличие от вселенского теократического плана, который мыслился Соловьевым в качестве внешнего утверждения «окончательного идеала христианства на земле», он не включает в себя социальное прожектерство. А в отличие от мистических утопий не содержит человекобожеского дерзания, берущего на себя непосильную задачу пересоздания условий человеческого существования, т.е. самих законов природы. Если это и утопия, то не проективная, а конкретная, обращенная к реальным возможностям человека, которые открылись для него с явлением Богочеловека, пришедшего в мир «в последние времена» и «победившего мир». Но утопия она потому, что в своем расчете на всечеловеческий отклик она оказалась недостижимой достижимостью, – человечество пока выбирает другой путь. Однако сие есть тайна историософии.
Соловьевский отклик на откровение о Царстве Божьем можно было бы назвать также эсхатологией условной, или открытой, ибо принципиально она зависит от человеческих усилий, но, будучи грандиозной целью, она никогда не теряет смысла в качестве импульса и средства. От нас зависит мера ее воплощения; и всякая мера будет благом. Эта эсхатология задана в словах Христа: «Я есмь истина и путь», грандиозность цели не только не мешает ей быть прочным основанием повседневной практики по оформлению жизни, но как раз предполагает ее.
При этом перемены во взглядах на ход и вектор мировой истории тоже бессильны повлиять на подобный императив, ибо он продолжает потенциально оставаться эсхатологическим выходом в Царство Божие: если это не выйдет для мира, то уж непременно выход откроется для индивидуальной судьбы, а ведь она тоже относится к ведомству эсхатологии.
И когда в поздние годы Соловьев ощутит трагический баланс сил добра и зла и увидит конец истории в свете евангельских про рочеств, где эсхатология обретает черты апокалипсиса, то и это не девальвирует ценности той социальной этики, которой Соловьев служил всю жизнь, и не отменит правды условно-эсхатологических чаяний, принципиально неотменимых нашим нерадением. Пусть срыв их будет адресован человечеству. Но ведь истина не утратит своей универсальности, даже если в фактической истории ее теснит антихристова ложь. «Очевидно, – пишет Соловьев Е. Тавернье, – Христос чтобы восторжествовать разумно над антихристом, нуждается в нашем сотрудничестве». Такое эсхатологическое устремление подготовит человечество к последнему противостоянию добра и зла так, чтобы каждый человек сознательно и свободно мог совершить свой выбор за или против Христа. А это все та же работа по осуществлению «христианской политики», по утверждению Благой вести в сфере общественного сознания и бытия, или, как выражается Соловьев, – по «концентрации христианства». В прежней конкретно-стратегической установке христианского философа ничего не изменилось, ибо она есть установка последовательного христианина.
Всем, кто стремится видеть в «Краткой повести об антихристе» разрыв с заветами «христианской политики» и отказ от участия в истории, надо бы учесть, что эта повесть входит в «Три разговора», где обсуждаются вполне земные дела и проблемы международной политики, что было бы неуместным, если бы автор не ставил развязку истории в зависимость от нашего человеческого участия в текущем.
Какие бы историософские предвидения Соловьева ни оказались оправданными, стратегия, указанная им, осталась не только не опровергнутой, но, может, единственно реальной и спасительной для мира и для России, которая три четверти века жила в утопическом пространстве насильственной секулярной эсхатологии, обличаемой Соловьевым, а теперь ей грозит окунуться в хаос неразличения добра и зла, от которого он не менее настойчиво предостерегал.
Между тем освободившаяся от стального обруча российская жизнь неизмеримо больше, чем когда-либо, нуждается сегодня в тех «духовных основах жизни», на необходимости которых для «русского общества» после «высвобождения его из внешних рамок крепостного строя»326 так взволнованно настаивал «отец наш» Соловьев.
И. Роднянская
Конец истории и «окончательный взгляд на церковый вопрос»
К строению «Трех разговоров»327
Если «некалендарный двадцатый век» начался в России с 1914 года, то в русской мысли он повел отсчет с годичным опережением календаря – когда Владимир Соловьев выступил в 1900 году в Петербургской городской думе с чтением «Краткой повести об антихристе» и параллельно полностью опубликовал свое последнее творение в печати.
Спустя четверть столетия Георгий Федотов в знаменитой статье «Об антихристовом добре» (1926)328 в обстановке взлета коммунизма, фашизма и отчасти уже нацизма, то есть как бы неприкрытого зла, пытался доказать, что не изведавший такого зла Соловьев, с его образом антихриста-«филантропа», – дитя XIX гуманного века О. Конта и Дж. Милля и что его предвидения и обличения побиваются людоедским опытом последующих десятилетий. У Федотова в его тенденциозном разборе «Трех разговоров» была своя заветная цель: он лелеял идею «нового града» христианской культуры, противостоящего открывшему забрало антикультурному злу, а нарисованное Соловьевым предконечное состояние европейской цивилизации, лживо-благополучной и лицемерно-имморальной, подрезáло крылья этой мечте. Кроме того, Федотов дорожил представлением об условности пророчеств Священного Писания насчет финальной мировой катастрофы («аще не покаетесь…»), а Соловьев, знакомый с этой мыслью из учения Н.Ф. Федорова, в предсмертном сочинении недвусмысленно настаивал на их, пророчеств, безусловности.
Однако хорошо смеется (да и к месту плачет) тот, кто делает то и другое последним. В завершающий год ХХ века можно констатировать, что Соловьев по очкам выигрывает футурологический спор у Федотова, хотя в будущем они снова могут поменяться местами. Я уж не говорю о тех пронзительных ассоциациях, которых еще не могло быть у Федотова и которые возникают три четверти века спустя у современного читателя. Поражает прямо-таки прагматическая трезвость, с какой «безумный пророк» (прозванный так Д.С. Мережковским) судит о вполне земных геополитических материях: о том, что неизбежная глобализация истории свершится вместе со вступлением на ее арену огромных человеческих масс Дальней Азии и с освоением ими западных технологий и идеологем; что панисламистские движения, имея локальный характер, ослабят тем не менее условно-христианскую цивилизацию перед лицом нового вызова; что сепаратистские мятежи, будь то буров или этносов Австро-Венгерской империи, деструктивны по своей природе и сентиментальная их поддержка к добру не ведет (за столь нелиберальную позицию в вопросе англо-бурской войны Соловьев даже заслужил осуждение своей Прекрасной дамы, Софьи Петровны Хитрово329, – злободневная параллель напрашивается); что перед лицом общего противника европейские страны, скажем, Англия, будут вести ту трусливую политику, которая впоследствии получила название мюнхенской, и т. д. Все это лишь детали, но свидетельствующие о том, что на умудренного годами Соловьева уже нельзя смотреть как на наивного юношу, когда-то неудачливым военкором прибывшего на русско-турецкий фронт.
Важнее другое. Всего через шесть лет после статьи Федотова с ее преждевременными надеждами на то, что «европейская культура, в своих духовных вершинах, опять готова, как спелый плод, упасть к ногам Христа»330, выходит в свет антиутопия О. Хаксли «О дивный новый мир». Ироничный и чуждый христианской эсхатологии автор, как бы мысленно перешагивая через назревавшую вторую мировую войну (впрочем, ведь и в Евангелии сказано, что войны и стихийные бедствия – «это еще не конец»), рисует цивилизацию, по существу близкую той, в лоно которой соловьевский антихрист будет принят, ибо будет ей приятен. С этой точки зрения «Краткую повесть об антихристе» можно счесть первой русской сюжетной антиутопией331, опережающей и по времени и по полету мысли замятинское «Мы», а в своих линиях «антихристова добра» получившей тридцать лет спустя косвенную поддержку с Британских островов. На мой взгляд, из числа широко известных только эти два неожиданно сближающихся сочинения, – Соловьева и Хаксли – на пороге XXI века, обещающего стать веком политкорректности и тяготения к мировому правительству, не растратили еще свой порох, не потеряли прогностический потенциал…
В обширной литературе о «Трех разговорах», куда вошла «Краткая повесть…», единодушно признается обозначившийся здесь перелом в умственном творчестве и воззрениях философа. Так вот, что именно переломилось, что отпало и что укрепилось? Попытаемся ответить, не минуя строя и образов этого сочинения.
Говоря о смене ориентиров, обычно цитируют слова Соловьева из предисловия к переводившимся им «Творениям Платона»: «С нарастанием жизненного опыта без всякой перемены в существе своих убеждений я все более и более сомневался в полезности и исполнимости тех внешних замыслов, которым были отданы мои так называемые “лучшие годы”»332. Е.Н. Трубецкой справедливо предлагает разуметь под «внешними замыслами» не только немыслимую организацию троицы в лице римского папы, русского царя и пророка-общественника – возглавителей обновленного человечества, но шире – всю мечту Соловьева о вселенской теократии как Царстве Божием на земле333. В этот верный диагноз текст «Трех разговоров» позволяет внести уточнения.
В приведенных словах Соловьев неспроста выражает сомнение не только в «исполнимости», но и в «полезности» внешних замыслов – замыслов, опиравшихся на идею общечеловеческой солидарности. В 1894 году философ еще писал: «Несмотря на все колебания и зигзаги прогресса, несмотря на нынешнее обострение милитаризма, национализма, антисемитизма, динамитизма и проч., и проч., все-таки остается несомненным, что равнодействующая истории идет от людоедства к человеколюбию, от бесправия к справедливости и от враждебного разобщения частных групп к всеобщей солидарности». И эти позитивные тенденции исторического развития, продолжает Соловьев, «не будут поколеблены по крайней мере до пришествия антихриста и его пророка с ложными чудесами»334. То есть – так это здесь звучит – до времен баснословно далеких и не совсем достоверных. Такие слова спустя несколько лет Соловьев мог бы вложить – да собственно он это и делает – в уста Политика из «Трех разговоров», проповедника прогресса и мира во всем мире, основанного на вежливости (на плюрализме, сказали бы мы сегодня). В ответ этот тогдашний Френсис Фукуяма слышит от г-на Z, рупора автора, что «прогресс – это симптом» (с. 705), а ускоренный прогресс – симптом в квадрате. Симптом того, что быстрыми темпами готовится почва для произрастания беспримесного, хотя и замаскированного зла. Ревизия здесь еще глубже, чем полагал Трубецкой, сам кадет-прогрессист, стремившийся перевести прогресс (отбросив его абсолютизацию) в разряд относительных благ. Когда на открытии созванного императором-антихристом лжесобора оркестр играет «марш единого человечества» (с. 751), это означает только одно: идея прогрессирующей всеобщей солидарности видится Соловьеву как фальсификация и уловка.
За этим ни в коем случае не стоит отречение Соловьева от веры в ноуменальное единство человечества; с прежней страстью такая вера выражена в работе «Идея человечества у Августа Конта», создававшейся одновременно с подступами к «Трем разговорам». Но это единство, таинственное, мистериальное, не реализуется внешним ходом истории. «Смысл исторического процесса, или всемирного суда», – так формулирует Соловьев в одном из «пасхальных писем», ставших приложением к отдельному прижизненному изданию «Трех разговоров»335, – и это по-новому понятый смысл. Соловьев – как, видимо, суждено каждому христианину, если он хочет быть последовательным, – приходит к концепции «двух градов». Внешняя история и интраистория движутся параллельно, но разнонаправлено, до времени находясь в трудноразличимом смешении, но приходя к окончательному разделению, каковое и тождественно суду. От августинианства мысль Соловьева отличается тем, что он не отождествляет интраисторию с историей Церкви в ее внешней атрибутике336. Как не мной замечено, у каждого христианского вероисповедания, по Соловьеву, обнаруживается собственный «антихрист», разделение проходит по церковному телу, при конце собираются два собора – разбойничий и истинный.
Соловьеву не медля стали пенять на то, что в «Трех разговорах» он отказался от задачи положительного исторического творчества и впал в эсхатологический пессимизм, отвергнув тем весь пафос своей прежней деятельности. Это неверно – Соловьев, в свете изменившейся историософии, попросту сместил акценты активизма. «Очевидно, Иисус Христос, чтобы восторжествовать истинно и разумно над антихристом, нуждается в нашем сотрудничестве», – пишет он своему католическому корреспонденту Евгению Тавернье в середине 1896 года337, когда тема антихриста, тема реальной силы зла, впервые встала перед ним как рабочая. Это – сотрудничество в копилку интраистории, – хоть бы и затем, чтобы те «сорок пять миллионов христиан» (с. 746), что останутся верными в эпоху квазирелигиозного синкретизма и оккультного блуда, не сбились с пути, составив ядро Богочеловечества338. И такая работа не сводится исключительно к церковному или даже философско-богословскому просвещению – это и злободневный «мониторинг», слежение за политической и культурной симптоматикой текущего дня, применение к ней того же меча, отсекающего зло от добра. «Моя задача здесь скорее апологетическая и полемическая», – пишет Соловьев в предисловии к «Трем разговорам» (с. 646), и он исполняет эту двуединую задачу, не брезгуя той санитарной работой (напоминающей некоторые страницы «Дневника писателя» Достоевского), которая была бы нелогична, когда б философ отрекся от соработничества с Богом в историческом настоящем. «Замыслы смелые крепнут в груди»339, – скажет он, как духовный воин, даже на пороге предчувствуемой «бледной смерти».
Поскольку «Краткую повесть об антихристе» следует читать в контексте трех диалогов (о чем нередко забывают340), при охвате того и другого натыкаешься на вопрос о соотнесенности с диалогами Платона, над переводом и изданием которых философ работал до конца дней. Не силясь поднять эту тему, ограничусь принципиальным сомнением в однозначном выводе биографа, Соловьева-младшего. Тот пишет: «Если занятия Платоном в 1875 г. вдохновили Соловьева на сочинение маленького диалога “Вечера в Каире”, то теперь, окунувшись снова и глубже прежнего в вечно свежий поток Платонова творчества, Соловьев задумывает изложить свои воззрения в трех диалогах, построенных по образцу Платона…»341. Мне кажется, однако, что Соловьев столько же подражал этому образцу, сколько отталкивался от него. Об этом, в частности, позволяет догадываться лукаво-двусмысленная реплика, открывающая «Разговор первый»: «Сочинять из своей головы по образцу Платона и его подражателей я не решился…» (с. 645). Этой ремаркой автор и отсылает к образчику (точнее, дает понять, что такое сравнение не может не прийти в голову), и сигнализирует о нежелании во всем ему следовать.
Суть же в том, что умственный стиль диалогов Соловьева отличен от Платоновых. В них, конечно, есть элементы сократической иронии и сократической майевтики – там, где г-н Z методично загоняет в угол толстовца Князя (точно так, как в «Вечерах в Каире» г-н NN припирал к стенке позитивиста доктора342). Но в целом г-н Z не выступает в качестве «Сократа» этих диалогов, то есть лица, всегда получающего возможность путем рационального расщепления волоса доказать свою правоту перед вынужденным поддакивать или капитулировать собеседником. Г-н Z (а не любопытствующая Дама, как думал племянник-биограф343) – вот кто шут в среде собеседников, шут в высоком смысле этого слова, человек без места и занятий, со странным не то светским, не то семинарско-академическим прошлым, друг юродивых и прозорливцев. Шут, – а точнее, парадоксалист. Своими замечаниями он не столько руководит собеседником, сколько ставит его внезапно в тупик, схлопывает его рассуждение, показывая, что оно не объемное, а плоское. Больше того, парадоксалистами оказываются в той или иной мере и другие участники диалогов, не чуждые автору: боевой Генерал, аттестующий свое христолюбивое (без кавычек) воинство как сущих разбойников, и даже Политик, негаданно ставящий вежливость выше десяти заповедей344; лишен этих движений ума лишь «отпетый тип» (с. 639), Князь, чей рассудок всегда следует по спрямленной колее, не выкидывая ни одного коленца. Этот парадоксализм, свойственный великим христианским апологетам Нового времени (обращавшимся к светской публике), А.К. Толстому, Достоевскому, Соловьеву, Г.К. Честертону, – имеет корни в парадоксализме и антиномизме евангельском и отличен от, так сказать, методик античной мудрости: «эллинам безумие…».
Можно утверждать, что, описав жизненную драму Платона, Соловьев следующим шагом противопоставляет его Государству свой взгляд на этот круг тем, а, воспользовавшись Платоновым приемом – сменой диалога вставным монологическим рассказом-легендой, – Платонову этиологическому мифу в «Тимее» сополагает эсхатологический миф «Краткой повести…».
Но нельзя пройти мимо еще одной, косвенной ссылки на Платона в разбираемом сочинении. Диавол обращается к будущему антихристу с посвятительной формулой: «Как прежде мой дух родил тебя в красоте, так теперь он рождает тебя в силе» (с. 743). Напомню, что «рождение в красоте» – платоническая философема, вдохновлявшая соловьевскую теорию эроса. Теперь она (с авторским выделением слова «красота») вложена в уста злого духа. Не берусь комментировать это поразительное обстоятельство345. Единственно, оно наводит на мысль, что перелом, приведший к «Трем разговорам», имел поводы не исключительно идейные, связанные с крахом «внешних замыслов». В самом деле, в авторском предисловии Соловьев говорит об «особой перемене в душевном настроении, о которой здесь нет надобности распространяться» (с. 636). Я бы посмела предположить интимное и впрямую не зависящее от внешних фактов вступление души философа в область покаяния.
Дело в том, что об образе своего антихриста Соловьев мог бы сказать словами Достоевского о Ставрогине: «Я из сердца взял его», – и эта аналогия будет точной, потому что и там, и здесь речь идет о выявленном саморефлексией уклонении сердца, а не о деянии воли346. Давно замечено, что универсалистское сочинение «грядущего человека» (с.745) – антихриста – несет печать автопародии. Но суть не только в ревизии идей. Тот, кто припомнит окрыленные разговоры юного Соловьева с Катей Поливановой347, кто заглядывал в его мистико-теософский трактат «La Sophie», не сможет уйти от мысли: были у Соловьева моменты, когда он в глубине души считал Христа Альфой, а себя – Омегой, Христа – Первым, а себя – последним, завершителем Христова дела. Это именно тот пункт, с которого начинает свое падение во глубины адовы гениальный апостат в «Краткой повести об антихристе»348. «Вечный завет», о коем говорит Философ (персонаж диалога) в этом трактате, должен был стать усовершением и завершением Нового Завета349.
Любовь ко Христу удержала Соловьева на душеопасной грани – и удерживала всю жизнь. Не соглашусь поэтому с мнением (в частности моего покойного коллеги, замечательного исследователя наследия Соловьева, А.А. Носова), что христианская проповедь, эту жизнь сопровождавшая, была лишь внешним одеянием «вселенской религии», камуфляжем, вынуждаемым строгостями духовной цензуры. Но темная точка в душе оставалась и время от времени давала о себе знать заносчивыми утопическими протуберанцами. В «Трех разговорах», принося личную жертву Христу, Соловьев отсекает эту часть своей души. Он раскрывает глаголанную апостолом Павлом «тайну беззакония» (2 Фес. 2:7) со стороны экзистенциальной психологии «человека греха» (2 Фес. 2:3), изнутри духовных искушений «горделивого праведника» (с. 742) – и дает художественный пассаж, сопоставимый по выразительности с Поэмой о великом инквизиторе. Как всегда бывает после акта очищения, грех, уходящий из души, овнешняется и предстает как сторонний факт. Таково было явление ему Анны Шмидт с седьмым членом ее кредо, где Соловьев объявлялся вторым воплощением Логоса350.
Можно констатировать, что «Три разговора» совмещают в себе черты историософского трактата, приуроченного к злобе дня, антиутопии с профетическим финалом и покаянной исповеди, объективированной художественным вымыслом. И все это – при удивительном искусстве переходов от ракурса к ракурсу, от стиля к стилю, от общих планов к средним и крупным, сохраняя заявленную раму «случайного светского разговора» (с. 636).
Аналитики находили внутри этой рамы резкие нестыковки. И Г.П. Федотов, и Е.Н. Трубецкой спрашивали, почему в диалогах такое большое, а в предисловии – даже преобладающее внимание уделено разоблачению толстовской проповеди, между тем как антигерой «Краткой повести…», сверхчеловек с ницшеанским гибрисом, властелин, тиран и насильник, вовсе не похож на анархиста-непротивленца графа. Если Трубецкой все-таки считал, что неувязка здесь мнимая, ибо обе персоны объединяет подделка христианства, христианство без Христа, то Федотов в алогичном будто бы преувеличении роли толстовства видел старозаветную недальновидность Соловьева, не дожившего до чудовищ ХХ века.
Между тем диалоги соединяет со вставной повестью ряд сквозных линий. Даже детали резонируют: так, сообщение повести о том, что в последние времена произошло объединение твердых православных с лучшей частью староверов, предварено рассказом генерала о начетчике-старообрядце, отпевшем убиенных солдат. Но что, безусловно, пронизывает весь массив текста, включая повесть, так это вопрос о государстве.
По преобладающему мнению, когда Соловьев говорит в предисловии о своем существенном следовании «Слову Божию» и «древнейшему преданию» (с. 641), он имеет в виду в первую очередь Откровение Иоанна Богослова. На деле не совсем так. Данные Иоаннова Откровения стали у Соловьева объектом свободной импровизации, а там, где он желает построже воспроизвести церковные представления об этом таинственном предмете, он обращается, наряду с толкованиями Отцов Церкви, к евангельскому так называемому «малому Апокалипсису» (Мф. 24; Мр. 13)), к 1-му Посланию ап. Иоанна (оно Соловьевым цитируется) и 2-му Посланию ап. Павла фессалоникийцам. Знаменитый текст из его 2-й главы гласит: «…день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога <…>. И ныне вы знаете, чтó не допускает ему открыться в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь, – и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет дыханием уст своих и истребит явлением пришествия своего…» (ст. 3-8).
Вокруг «удерживающего теперь» шла и идет напряженная богословская пря. Два главных толкования таковы: либо это внешняя власть, имперская или какая-то еще, либо благодатная власть Св. Духа, которая за грехи будет отъята от человеческого общежития. Соловьев скорее склонялся к первому. Он был среди тех, кто «под удерживающим как силою, препятствующей явлению антихриста, разумеют политическое или государственное устройство общества, основанное на законах, порядок и строй политической, государственной и общественной жизни». Формулировка, приведенная в цитате, заимствована из труда «О безбожии и антихристе», принадлежащего профессору Московской духовной академии А.Д. Беляеву, изданного как раз в 1898 году и вряд ли прошедшего мимо внимания Соловьева351. (Вообще, в ознаменование конца века, богословской и церковно-исторической литературы на тему вышло предостаточно352, но публика, хлопавшая глазами на лекции Соловьева, была отделена от этой субкультуры китайской стеной.)
Так вот, все тематическое развертывание трех диалогов и затем вводный очерк повести об антихристе – это не последним образом рассказ о том, как «удерживающий», или «удерживающее», или «держай» (каким бы переводом ни воспользоваться) – изымается из среды общежития. Ведь яростная атака на Толстого, триумфально завершающаяся опровержением его лже-евангелия: «Воскресение – вот документ истинного Бога» (с. 733), – начинается именно с критики его антиэтатизма и анархизма. Критики, пускающей в ход не только логику, но и эмоциональную патетику (рассказ генерала об истязаниях, учиненных над армянами, и справедливой кары за них). Соловьев увидел в Толстом зеркало русской революции задолго до Ленина, как зеркало еще одной революции он углядел в Ницше353.
В статье Соловьева «Византизм и Россия» (1896) Трубецкой находит «торжественное исповедание идеала неограниченной монархии»354 – это и год приступа к теме антихриста. Но дело не собственно в монархии. Устойчивое государство с его неотъемлемым атрибутом – армией, имеющей, как и оно само, религиозную или по крайней мере идеальную санкцию, – вот что с сердечной страстью защищает Генерал в «Разговоре первом». Этот тип прошлого государства обречен пасть под ударами «панмонгольского» нашествия, свидетельствует повесть. На смену ему приходят государства либерально-секулярного типа, признающие в армии атавистическую необходимость, улаживающие противоречия средствами дипломатической вежливости и тяготеющие к слиянию. Тут – идеал Политика из «Разговора второго»: власть в роли лишенного харизмы наемного «ночного сторожа», как сказали бы сегодня. Это – в повести – этап «европейских соединенных штатов», когда государственность уже не обладает внутренней верой в себя, «удерживающий» слабеет и под конец мирно самоупраздняется, уступая дорогу антихристову вселенскому империализму. Трубецкой комментирует сие следующим образом: «В том будущем, которое провидят Z и отец Пансофий, государство перестает служить добру и окончательно становится орудием зла»355. Комментарий неточен, ибо сделан до исторического опыта тоталитаризма. Царство антихриста уже не есть государство, то есть правовой страж человеческого общежития. Оно имеет целью власть над личностью и совестью человека в масштабах, немыслимых ни при каком авторитаризме и византизме. «Царствование, или, вернее, тирания», – многозначительно уточняет св. Иоанн Дамаскин356 вид правления антихриста. Тирания – своего рода упразднение государства как власти, как бы ни устроенной, но идущей от Бога; это нелегитимность и, соответственно, аномия (по-русски объединенные одним понятием: «беззаконие).
В тотальной антихристовой империи – предельном концентрате зла – находит свой финал внешняя история человечества. Но в этой империи сохраняется очаг инакомыслия: это оставшиеся верными христиане, агенты интраистории, дающей всей трагедии человечества смысл и исход. К их судьбе как к своей кульминации устремляется соловьевский текст.
Г. Федотов, желая «деканонизировать» повесть об антихристе как опус, понапрасну принимаемый за пророческий и на пророчества не опирающийся, отметил отступления Соловьева от церковного предания. Отметил не все, но мы должны быть благодарны ему за постановку вопроса, поскольку центральная «весть» сочинения связана с этими отступлениями не в меньшей мере, чем с его «традиционностью». Два «свидетеля», умерщвленные зверем-антихристом, в Откровении Иоанна не поименованы, но церковная традиция предлагает видеть в них воскресших для новой проповеди ветхозаветных пророков. Чаще всего в одном из них признают Илию357. Отвращение народа еврейского от антихриста и обращение ко Христу традиция связывала именно с проповедью этих пророков. У Соловьева «свидетелями» выступают предстоятели Восточной и Западной Церквей Иоанн и Петр, а евреи, в обращение которых Соловьев горячо веровал, восстают на антихриста, проведав, что он не обрезан: остроумный выход из затруднения, которое Соловьев сам создал своим сценарием.
Наконец, и это принципиально, антихрист у Соловьева сбрасывает маску и приступает к человекоубийству только после того, как он публично уличен в своей ненависти к Спасителю мира и изобличен как лжемессия еврейством. Согласно церковным экзегетам он действительно должен носить христоподобную маску добродетели и святости до прихода к власти, но, достигнув могущества, он не может не обнаружить всю безбожность и бесчеловечность своей тирании. Между тем царство антихриста выглядит в повести Соловьева, повторю, как некое мирное и сонное царство мнимого благополучия и загипнотизированности народных масс, чей голод и праздное любопытство прочно удовлетворены. Анафематствование антихриста ведет к пробуждению от чар и становится кличем к последнему бою. Это то главное деяние человеческой воли в богочеловеческой синергии, без которого действие воли Божественной – поглощение антихристова войска огненным озером – осталось бы, по Соловьеву, событием чисто внешним, стало быть, недостаточным для подлинной победы Добра над Злом.
Как видим, Соловьев сгруппировал традиционные элементы церковной апокалиптики по-своему – так, чтобы они, втянутые в новую художественную логику, окружали площадку, расчищенную для центрального события не только «Краткой повести…», но и всего сочинения, – события соединения Церквей. «Так совершилось соединение церквей среди темной ночи на высоком и уединенном месте» (с. 759) – в мистериальном пространстве интраистории, – сопровождаемое и утверждаемое видением облеченной в солнце Жены, то есть ноуменального человечества в его лично-собирательной сущности, «простейшее имя» которого «по-христиански есть Церковь», как написал философ в «Идее человечества у Августа Конта»358.
В этом месте автор искусно прерывает чтение г-ном Z рукописи Пансофия, чтобы стало ясно, что точка, а верней – восклицательный знак, поставлены именно здесь, а дальнейший беглый пересказ апокалиптических событий имеет функцию не более чем эпилога. Притом специально подчеркнуто, что повесть «имеет предметом не всеобщую катастрофу мироздания, а лишь развязку нашего исторического процесса» (с. 761). Иначе говоря, Соловьев совершенно отказался от превосходного повода начертать преображение космоса в красоте, от темы «нового неба и новой земли», которая руководила его мистико-эволюционной космологией и его эстетикой на протяжении целой жизни. Может быть, это самоограничение – наибольшая жертва в его последней творческой акции.
Что касается самого акта соединения церквей, как он здесь изображен, дополню многократно откомментированное несколькими чертами. Принято утверждать, что Соловьев отказался от мечты о преодолении церковной схизмы в ходе человеческой истории и вынес в воображении своем это событие за пределы исторического времени. Тут вкралась аберрация. Последний вселенский собор, где истинное соединение совершается, – это смысл и зрелый плод истории человечества, ее телос и результат. Он принадлежит времени и вместе с тем являет исход из прежнего течения времени. Первое пришествие Христово и основание Его Церкви по церковному учению понимается уже как начало последних времен. И вот в эти «последние времена» история, по Соловьеву, как бы описывает концентрические круги все большего радиуса, захватывая в свои пределы весь земной шар, чтобы конец последних времен расширенным образом совпал с их началом. Апостол Петр, Симон сын Ионин, возрождается в лице Петра II, Симоне Барионини359, а апостол Иоанн, по преданию предположительно не вкусивший смерти, объявляется среди верных вторично.
В изображении предстоятелей Церквей Соловьев, несомненно, продумывал каждую деталь, действительно стремясь выразить свой окончательный взгляд. Знаменательно подчеркивается их иерархическое равенство: Иоанн – не просто старец, а «епископ на покое» (с. 750), ну а Петр, в прошлом «архиепископ могилевский» (там же; знак сочувствия автора униатам?), ставший папой, – тем не менее тот же епископ: Церковь знает лишь три степени священства. И первый, обнимая второго, называет его братом. Профессор же Паули, этот добросовестный наследник пауликианской теологии, окликает обоих «батюшки» (Väterchen), не претендуя на церковный сан.
Биографические данные Иоанна намечены с удивительным художественно-символическим тактом. Автор понуждает нас с равной вероятностью предполагать и то, что это не увидевший смерти патмосский отшельник, и то, что это русский наставник святости. Его неведомое прошлое и непрерывное странничество можно равно принимать за черты мистического жития и за свойства именно русского благочестия. Обращение «детушки» – столь же коренным образом евангельское, сколько русифицированное. И лишь словечко «напоследях» вносит в его облик и речи народно-русскую черту. Короче, Соловьев рисует православного вождя, который может оказаться русским человеком. Те, кто с умилением переводят эту возможность в действительность, упрощают соловьевский рисунок360.
Не могу не присоединиться к тому, что уже сказано соловьевскими толкователями. Иоанн воплощает всю полноту духовного ясновидения, сохраненную церковным Востоком. Он опознает антихриста. Петру дана власть ключей: он антихриста анафематствует. Паули, евангелически преданный писанному слову, закрепляет проклятие письменным вердиктом. Иоанн – дивная белая свеча духа, рассеивающая обман, Петр – энергическое пламя этой свечи, духовно сожигающее обманщика361. Соловьев так и читал в кругу семьи это средоточное патетическое место – читал, приподымаясь из кресла вместе с прозорливцем Иоанном и яростно выкрикивая троекратную анафему вместе с Петром362.
Добавлю, что Соловьев в своей повести счел нужным указать календарную дату открытия псевдособора – 14 сентября. По юлианскому календарю, от которого Соловьев, вероятно, здесь не отступил, – это праздник Крестовоздвижения. День, избранный богоотступником, надо думать, со злобной иронией, становится днем его духовного низвержения силою хоругви, незримо воздвигнутой посреди «мерзости запустения», – силою Честнаго и Животворящего Креста.
Еще добавлю, что Соловьев испустил дух в час начала другого церковного праздника – Происхождения древ Честнаго и Животворящего Креста Господня, в народе именуемого первым Спасом.
Р. Гальцева
Николай Бердяев
Вступительный портрет363
Bрусской культуре существует что-то вроде литературно-философской эстафеты, а, быть может, и шире – эстафеты искусства и философии. Они не текут здесь по отдельным рукавам, но, объединившись, переливаются, на крутых поворотах, из одного русла в другое, перенося набранную мощь из художественного созерцания в область философского рассуждения и наоборот. Об изначальной сращенности умозрения с искусством в отечественной культурной традиции напоминает нам замечательный мыслитель Е.Н. Трубецкой: «Отдаленные наши предки мысли свои» о прекрасном прообразе вселенной и о высшем смысле жизни «передавали не в словах, а в красках» икон и в храмовых архитектурных формах; и та же вдохновенная настроенность народной души «впоследствии явилась миру и в классических произведениях русской литературы». Русская классика родилась в результате сшибки традиционной культуры с западной цивилизацией, когда, по летучей формуле А.И. Герцена, «на вызов Петра Россия ответила явлением Пушкина». Вобрав в себя, частично преоборов и по-своему переплавив плоды обмирщенной европейской образованности, национальный гений России расцвел, открыв «золотой век» русской литературы. Затем настал черед ей, «святой русской литературе» (как назвал ее Т. Манн), питать отечественную философскую мысль, которая подвела ей итоги и явилась творческим преодолением очередного искуса со стороны нигилистического «духа времени» – родился русский религиозно-культурный ренессанс конца XIX – начала ХХ века. Правда, в нем была огромная доля, принадлежащая чистой словесности, потому время это зовется также литературным Серебряным веком.
Но Серебряный век русской литературы – по ее наклону к моральной двусмысленности и дионисийскому заигрыванию с без днами – не дотягивал до нравственной высоты современного ему «золотого века» русской философии, потому, вероятно, и влекущего к себе сегодня умы больше и прежде всего. Надо, конечно, признать, что в «перестроечном» философском буме действует и фактор внезапного разрешения «запретного плода», срывания печатей с сундуков и незамедлительной отправки прежде опечатанного в печать, – чего не скажешь все же о давно и постепенно просачивающейся в нее поэзии и прозы Серебряного века. С другой стороны, не будем представлять дело так, что, распечатывая творчество русских мыслителей, мы рождаем их на свет. Если все это время от периодических философских изданий нельзя было добиться правдивого слова об этих узниках, то это не значит, что в нашей стране не существовало, пусть неширокой, но непрерывающейся в течение десятилетий струи, неискаженно отражающей их облик. Загляните в 5 (да и в 4-ый) том «Философской энциклопедии», в «Краткую литературную энциклопедию», перелистайте некоторые номера «Вопросов литературы» прошлых лет, а также и несколько малотиражных сборников… Но вернемся к существу дела.
У истоков «золотого века» русской философии стоял Владимир Соловьев, так же как у истоков «золотого века» русской литературы – Пушкин. Сравнение двух зачинателей по их месту в отечественной культуре приходило на ум и раньше. Но можно добавить: и тот, и другой оказался не только истоком, но и вершиной порожденного им движения. Обоим был присущ тот универсализм духа, которому доступен прекрасный прообраз мира как всеединства: отдельные начала – разум и воля, личное и всечеловеческое, истина и свобода – находят тут свое место, гармонически восполняя друг друга; эту же панораму открывала их собственная душа. Меж тем можно заметить, как среди блестящей плеяды идущих вслед и Пушкину, и Соловьеву универсализм сменяется не только определенной «специализацией», но и упором на одном начале, извлеченном из равновесия с противоположным.
Именно таковым наследником оказался Н.А. Бердяев, родственный Соловьеву в его рыцарственной защите христианского гуманизма. Но есть и существенные различия. Если Соловьев, обеспокоенный тем, что интеллектуальное просвещение разошлось с верой в безусловные основы бытия, ставит своей задачей ввести истину христианства «в новую соответствующую ему, т.е. разумную <…> форму», охватив ею тем самым всю человеческую жизнь, то следующий за ним Бердяев стремится ввести в сознание идею примата человеческой свободы перед всем остальным, видя в ней самодовлеющую истину. Контраст в подходах вовсе не значит, что у Соловьева свобода была какой-то золушкой, – напротив, теоретическому и практическому отстаиванию свободы совести и вообще индивидуальной свободы он пожертвовал часть своей жизни. Однако в мысли Соловьева свобода занимает место, которое положено ей в большом и богатом хозяйстве всеединого целого, и выходит на сцену тогда, когда оказывается, что без признания личной независимости гибнет и сама истина, поскольку свобода входит неотъемлемой частью в ее состав. Бердяев же, настаивая на безграничных прерогативах человеческой личности, по сути нарушает соловьевский баланс между личной свободой и истиной.
Формально баланс этот у Бердяева сохранялся в самой его позиции христианского экзистенциалиста, заключающей в себе фундаментальную двойственность: между утверждением сверхличной нравственной истины и, пафосом ничем не ограниченной, «шипучей» игры человеческих сил, между признанием божественного всемогущества и ограничением его со стороны «ничто», или Ungrund, между христианским «мир во зле лежит» и его надо спасать и романтически-гностическим «мир есть зло» и его надо упразднить, между призывом хранить «благородную верность» высоким ценностям культуры и жаждой революционистской расправы с воплощенными формами мирового бытия. Однако ясно, что равновесие подобных антитез лишь видимое, и заветная идея Бердяева о не знающем границ, «дерзновенном» творчестве, к которому призван человек, не может не нарушать кажущуюся гармонию, не оставляя места для истины. Ведь бердяевский апофеоз творчества требует разрыва творческого акта с внеположными творцу смысловыми абсолютами. «Творческий акт, – заявляет мыслитель, – есть самооткровение, не знающее над собой внешнего суда», «гений не заинтересован в спасении», а сам спасает своей гениальностью от гибели весь мир. Объявленная Бердяевым теургическая задача, то есть содействие человека божественному творению, находится, таким образом, в русле идей Вл. Соловьева и шире – в русле вообще всей русской культуры, чувствующей себя ответственной за состояние мира. Однако в философии творчества задание это приобретает апокалиптические черты. Программ-но выраженная в «покорительно талантливой», но «опрометчиво своевольной», по характеристике Вяч. Иванова, книге «Смысл творчества» (1916), захватывающей с первых же строк: «Дух человеческий – в плену. Плен этот я называю “миром”, мировой данностью, необходимостью», – она объявляет о титаническом прорыве к созиданию «нового бытия», свободного от земных законов «тяжести и рабства» у необходимости, и тем самым превращает освобождение мира в освобождение от мира, в результате сводя творческий акт к переживанию экстаза и парения нестесненного духа (судьбе утопического замысла Бердяева о сверхкультурном творчестве посвящен мой обзор «Sub specie finis» – под знаком конца, – помещенный в настоящей книге).
Односторонний акцент бердяевской мысли, выявившийся уже в первые годы столетия, мог бы показаться (и поначалу многим казался) просто модернистской причудой, если бы не ближайшие исторические события, положившие конец довоенным допотопным временам. Как экзистенциальный мыслитель, впрочем, как и вся «философия существования», сейсмографически регистрирующая глубинные сдвиги в человеческой судьбе, Бердяев своим отчаянным будированием метафизических прав и абсолютной автономии личности готовил ее к абсолютной стойкости, как бы предчувствуя с самого начала, что вскоре ей предстоит небывалое испытание – встреча с невиданным врагом. И действительно, этому новому врагу, тоталитаризму, нацеленному на тотальный захват и поглощение самих недр человеческой души, не сможет противостоять тот, кто не постигнет всем своим существом не только евангельское: что душа дороже всего мира, но и, как не без вызова формулирует философ, что «весь мир ничто по сравнению с человеческой личностью, с единственным лицом человека, с единственной его судьбой». Тот избыточный упор, который делает Бердяев на угрозе, исходящей для личности буквально от всех вещей (среди прочего он говорит о «рабстве у Бога» и «у самой себя»), раскрывается перед лицом нового порабощения как подготовка к ее самостоянию. Он чувствует, что идет сдача человеческого духа. «Человек как будто устал от духовной свободы и готов отказаться от нее во имя силы, которая устроит его жизнь внутренне и внешне», – со скорбью подытоживает он свои давние раздумья, обозревая «духовное состояние современного мира» в докладе 1931 года. Закалку личности в свободе экзистенциальный мыслитель демонстрировал в своем творческом и жизненном стиле, явившись в мир как принципиальный оппонент и оппозиционер.
Свою правду он лучше всего выяснял в отталкиваниях от чужого заблуждения («мысль моя зреет в полемике», – подчеркивал он), свое политическое местонахождение определял прежде всего через отказ присоединяться к окружению. «Я всегда разрывал со всякой средой, всегда уходил <…> Я всегда был ничьим человеком, был лишь своим собственным человеком», – вспоминает Бердяев в философской автобиографии «Самопознание» (1949). При всем том человеческая свобода, будучи центром притяжения его мысли, не является единственной ее сферой, – иначе Бердяев оказался бы философом в духе Льва Шестова, любопытным, интересным, но вовсе не столь существенным и влиятельным мыслителем, каким на самом деле он был.
В интеллектуальных кругах и идеологических сферах – по ту и по эту сторону границы – имя Н.А. Бердяева всегда занимало стабильное место среди наиболее упоминаемых имен мыслитлей XX столетия.
Бердяев родился в 1874 году в Киеве в семье, принадлежавшей к «старой военно-монашеской России» Юго-западного края. По линии отца, кавалергардского офицера, предводителя дворянства и почетного мирового судьи, предки его – генералы и георгиевские кавалеры (о которых сообщает Брокгауз в т. 6); дед, М.Н. Бердяев, – атаман войска Донского, защитник казачьих вольностей, герой Отечественной войны; прадед, генерал-аншеф Н.М. Бердяев, – новороссийский военный губернатор (его переписка с Павлом I публиковалась в «Русской старине»). По материнской линии – члены княжеских и графских домов: Кудашевых, де Шуазель, Потоцких, Баратовых, Красинских, Браницких, Лопухиных-Демидовых, Мусиных-Пушкиных. Атмосфера в семье, где доминировал французский язык, а воспитательницей служила бывшая крепостная, была смешанной: культ военной героики сочетался с духом старинной православной истовости, а также с идущими от матери западническо-католическими, а от деда отца – еще и либеральными веяниями. Но выходец из аристократической семьи военных, ученик кадетского корпуса, Бердяев не любил военного сословия и уже в пятнадцать лет внутренне порвал с высшим светом. Воинственность предков он целиком перенес на поле борьбы идей, аристократизм же сохранил в области вкусов. Увлечение марксизмом, который импонировал Бердяеву-студенту глобальным размахом, обещающим радикальные перемены, участие в революционных демонстрациях вынудили его оставить Киевский университет и отбыть ссылку, после чего он погрузился в идейную публицистическую борьбу, а затем и в философские писания. Бердяев проделал банальный для российских интеллектуалов первого десятилетия путь – «от марксизма к идеализму», а от него к «новому религиозному сознанию» («Новое религиозное сознание и общественность», 1907), прилагающему христианство к общественным вопросам таким образом, что решения их в виде «свободной теократии» направлены и против старого мира с его религиозным традиционализмом, и против атеистической «социал-демократической лжерелигии», опору в борьбе с которой Бердяев находил у Достоевского в Поэме о великом инквизиторе. Пересмотр марксистского мировоззрения сопровождался у неустанного искателя истины критикой, прежде всего в сб. «Вехи» (1909), по адресу радикальной, социалистической интеллигенции за измену «метафизическому духу» великих русских писателей и за подчинение личности общественно-утилитарным целям. В 1910-х годах произошло окончательное творческое самоопределение – «новое религиозное сознание» Бердяева как бы расщепилось надвое: основная философская интуиция вылилась в метафизику свободы, в духе Я. Бёме и немецких мистиков («Философия свободы», 1911, а затем «Философия свободного духа», 1927, «О рабстве и свободе человека», 1939 и др.); его социальное реформаторство на религиозной почве переплавилось как раз в мистическую утопию творчества. Позже, живя за границей, философ вернул себе и социалистический идеал своей молодости, только уже в версии «персоналистического социализма», который, по сути, представлял собой лишенный правовых гарантий корпоративный строй. Из-за расхождений с господствующей советской идеологией Бердяев вместе с большой группой культурных деятелей был выслан в 1922 году из России; он попал сначала в Берлин, а с 1924 года жил в Париже до самой смерти в 1948 году.
На Западе Бердяев оказался наиболее известным из русских мыслителей, будучи воспринят одновременно как живое олицетворение русского духовного мира и как блестящий провозвестник увлекающего в XX веке умы трагического настроения. Его называли «русским Гегелем XX века», «одним из величайших философов и пророков нашего времени», «одним из универсальных людей нашей эпохи», «великим мыслителем, чей труд явился связующим звеном между Востоком и Западом, между христианами разных исповеданий, между христианами и нехристианами, между нациями, между прошлым и будущим, между философией и теологией и между видимым и невидимым».
Он вывез из России и новый опыт, и вместе с тем старые духовные ориентиры. Обозревая свое прошлое, Бердяев пишет: «Я принес эсхатологическое чувство судеб истории», «мысли, рожденные в катастрофе русской революции, о конечности и запретительности русского коммунизма, поставившего проблему, не решенную христианством», «сознание кризиса исторического христианства», «сознание конфликта личности и мировой гармонии, индивидуального и общего»; «принес также русскую критику рационализма, изначальную русскую экзистенциальность мышления <…> Я принес с собой также своеобразный русский анархизм на религиозной почве, отрицание религиозного смысла принципа власти и верховной ценности государства. Русским я считаю также понимание христианства как религии Богочеловечества».
