Читать онлайн Эволюция эстетических взглядов Варлама Шаламова и русский литературный процесс 1950 – 1970-х годов бесплатно
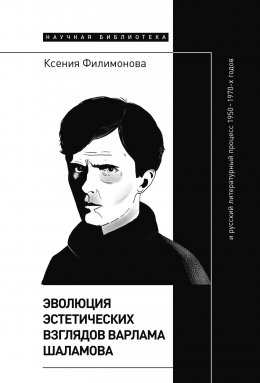
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Научное приложение. Вып. CCXLV
В оформлении обложки использован портрет В. Шаламова, художник К. Чарыева.
© К. Филимонова, 2023
© И. Дик, дизайн обложки, 2023
© OOO «Новое литературное обозрение», 2023
* * *
Введение
В 2022 году исполнилось сто пятнадцать лет со дня рождения Варлама Тихоновича Шаламова и сорок лет со дня его смерти. Это вряд ли будет большим праздником на государственном уровне с торжественными речами, чтениями и обсуждениями. Так складывается посмертная судьба Шаламова – он всегда в стороне, отдельно от потока, на периферии «лагерной» прозы. Его рассказов, и тем более стихов, нет в школьной программе, да и не в каждой вузовской они есть.
Значительная часть произведений Варлама Шаламова (1907–1982), а именно «Колымские рассказы» и большая часть стихотворений, были опубликованы в Советском Союзе только после его смерти[1]. Трагизм судьбы писателя, масштаб и исключительность его прозы до сих пор, к сожалению, не получили должного признания у читателей. Можно сказать о том, что интерес к фигуре Варлама Шаламова неизменно высок в профессиональных кругах, о чем свидетельствуют новые издания и переводы его произведений, периодически появляющиеся публикации исследователей, регулярно проходящие в Москве и Вологде Шаламовские чтения, посвященный писателю фестиваль «Четвертая Вологда», экранизации и театральные постановки его произведений.
Однако дискуссии, которые происходят вокруг творчества писателя, в значительной степени вызваны односторонним пониманием его места в литературе – как «летописца Колымы», стоящего в стороне от литературной и культурной жизни эпохи.
С таким пониманием творчества В. Шаламова не согласны ни наследники, ни исследователи архива писателя. Этому есть несколько причин. «Колымская часть» прозаического наследия Шаламова относительно невелика, а за пределами внимания ученых и читателей часто остается значительный объем других тем и смыслов, важных для писателя. В существующих публикациях, как зарубежных, так и российских, не всегда учтены интеллектуальные ориентиры, эстетические, литературоведческие и критические взгляды Варлама Шаламова, а также его активная включенность в литературный процесс своего времени. Нередко отдельным эпизодам биографии и деятельности дана негативная оценка, основанная либо на позднейших записях Шаламова (середина и конец 1970-х), либо на субъективном отношении исследователей к тому или иному сюжету или личности.
Будучи поэтом и прозаиком, Шаламов на протяжении всей жизни выступал как исследователь и историк литературы, наблюдатель и критик, рефлексировавший не только над собственным опытом. Он внимательно следил за литературным процессом, обсуждал проблемы творчества с авторитетными для него современниками, дискутировал с теми, кого считал равными оппонентами и интересными собеседниками.
Эта книга – попытка определить место и значение В. Шаламова в литературном процессе 1950–1970-х годов, свести автора и его время, преодолеть стереотип восприятия Шаламова исключительно как автора мемуаров о репрессиях. Для понимания его прозы и стихов историко-культурный контекст, а также его включенность в литературную жизнь и участие в современных культурных процессах на протяжении «послеколымской» части биографии играют ключевую роль. Немаловажными для исследования представляются круг чтения Шаламова, его воззрения на современную литературу и высказывания о ней – иногда довольно резкие и саркастические, реже доброжелательные и иронические. Здесь, скорее, важно другое – Шаламов не был выключен из культуры, он много читал и смотрел, активно анализировал, высказывался, писал письма. В работу включен ряд не опубликованных до настоящего времени документов, которые дополняют представление об этом.
Вместе с этими наблюдениями формировалась и укреплялась собственная эстетическая концепция В. Шаламова, выражающая его позицию, принципы и подходы к художественной прозе и поэзии. «Новая проза» кристаллизовалась не только как преодоление лагерного опыта, но и как реакция на современную литературу, которая этот опыт не учла.
В этой работе рассматривается достаточно долгий – около тридцати лет – период эстетической эволюции писателя, условно разделенный на три этапа, определенных историей страны.
Первый из них – это период от возвращения с Колымы в 1953 году до публикации рассказа А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» в журнале «Новый мир» в 1962 году. Первые возвращения из лагерей, XX съезд, первые реабилитации. Для Варлама Шаламова это этап нового вхождения в литературную жизнь Москвы, начала активного записывания всего, что обдумывалось им долгие годы на Колыме, первых зафиксированных теоретических размышлений о литературе, подходов к описанию собственной эстетической позиции. Именно в 1953 году Шаламов обрел возможность относительно свободно читать, общаться со все более широким кругом людей, вступать в литературные дискуссии (хотя и по переписке). Это послужило катализатором его собственного творчества: в это время он очень много пишет.
1962 год стал рубежным в связи с первой публикацией в СССР художественного произведения на тему репрессий. Для Шаламова этот момент был ключевым: появилась надежда на то, что у писателя с «лагерным прошлым» есть шанс на публикацию. Вместе с тем, по мнению Шаламова, публикация А. Солженицына могла стать (и в конечном счете стала) одним из немногих дозволенных публичных заявлений о том, что в СССР существовали репрессии. Этот момент «перепутья» было важно зафиксировать.
Второй этап – 1960-е годы. Период 1962–1968 годов – переходный от оттепели к застою. Для Шаламова это время окончательного формулирования и постепенной радикализации взглядов на творческий метод в литературе «после позора Колымы». Это этап активного сотрудничества в разных качествах с литературными журналами и постепенного разрыва с ними, дружбы и полемики с А. И. Солженицыным, активной переписки с множеством знакомых, друзей и значимых для Шаламова людей.
Представляется важным сделать одну оговорку. В книге намеренно не рассматривается роль А. И. Солженицына и его влияние на писательскую судьбу Шаламова. Мы сознательно отказываемся от принятого в российском шаламоведении обвинения Солженицына, сталкивания двух писателей, их позиций и взглядов, избегая субъективных оценок. Сопоставляя разные документы, письма, дневниковые записи, мы предоставим читателю выводы сделать самостоятельно.
Третий этап – 1970-е годы. Период с 1968 по 1979 год, эпоха застоя, от ввода войск в Чехословакию и полного прекращения «оттепельных» послаблений в культуре и литературе до начала войны в Афганистане. Это совпало и со временем, когда Варлам Шаламов почти полностью утратил способность писать и был помещен в пансионат для престарелых и инвалидов. Этот этап в литературном и культурном процессе связан с расцветом подпольной, параллельной государственному официозу творческой деятельности, которая не могла не касаться В. Шаламова. Для него самого это время постепенного отхода от «колымской» проблематики, работа над мемуарами, биографическими очерками, историческими сочинениями, например об А. К. Воронском и Ф. Раскольникове, время размышлений о науке и экспериментов с жанрами: написание фантастической пьесы «Вечерние беседы».
Целостное восприятие наследия Варлама Шаламова невозможно без рассмотрения трех пограничных зон: художественное – документальное, проза – поэзия, практика – теория. Именно поэтому в книге уделено большое внимание записям дневникового характера 1950–1970-х годов, переписке этого периода, очеркам и отрывкам, посвященным размышлениям о литературе и выражающим эстетическую позицию писателя (черновики эссе, статьи, опубликованные и подготовленные к публикации), рецензиям на рукописи самодеятельных авторов.
Проблема исследовательской и популярной литературы о Шаламове существует. С одной стороны, проза и поэзия Варлама Шаламова достаточно широко исследованы как в России, так и за рубежом, сборники рассказов активно переводятся на иностранные языки, что дает возможность обратиться к ним не только славистам и не только исследователям проблематики лагеря. С другой, круг исследователей неширок и достаточно замкнут.
В России наиболее известны труды И. П. Сиротинской, биографа и хранителя наследия писателя. И. П. Сиротинская систематизировала архив писателя, подготовила несколько собраний сочинений и отдельных изданий, включающих поэзию и художественную прозу, переписку, записные книжки, воспоминания, материалы следственных дел и документов, касающихся жизни и творчества Шаламова.
Жизни и творчеству Шаламова посвящена книга В. В. Есипова, вышедшая в серии «Жизнь замечательных людей» в 2012 году (переиздана в 2019). С 1994 по 2017 год Есипов в качестве редактора-составителя выпустил пять «Шаламовских сборников», включающих материалы конференций, актуальные исследования, архивные находки и неопубликованные тексты В. Шаламова. Текстологии и истории публикаций В. Шаламова посвящены работы филолога, сотрудницы РГАЛИ А. П. Гавриловой и историка С. М. Соловьева, эстетике и поэтике прозы Шаламова – монография Л. Жаравиной.
Необходимо также отметить сборник Пражской шаламовской конференции 2013 года «Закон сопротивления распаду: Особенности прозы и поэзии Варлама Шаламова и их восприятие в начале XXI века», который представляет и зарубежные исследования Шаламова, а именно проблему архива, перевода и публикаций Шаламова за рубежом. Среди наиболее известных исследователей – Ф. Тун-Хоэнштайн, доктор философии, литературовед, ответственный редактор немецкоязычного собрания сочинений Шаламова, представляющая Центр исследований литературы и культуры (Берлин). Среди зарубежных исследований также необходимо отметить труды Ф. Апановича (Польша), Я. Махонина (Чехия), М. Берютти (Франция), Л. Токер (Израиль), П. Синатти (Италия). Работы переводчика А. Гунин (Великобритания) посвящены подходам к переводу «Колымских рассказов». Поэтике Шаламова, его эстетической концепции посвящен ряд исследований филолога, профессора университета Нового Южного Уэльса Е. Михайлик.
Большинство работ о Шаламове исследуют поэтику и эстетику его художественного творчества. Меньше представлены исследования литературной биографии Шаламова, документов, связанных с его литературными связями и эстетическими воззрениями. Наша работа отчасти восполняет этот пробел, восстанавливая круг чтения Шаламова в разные годы, его литературные связи, восприятие современной литературы, контакты с литературными журналами и издательствами. Среди исследований этого направления можно отметить работу Б. Я. Фрезинского, посвященную взаимоотношениям В. Шаламова и И. Эренбурга, статью Я. Клоца «Варлам Шаламов между тамиздатом и Союзом советских писателей», работу М. Берютти «Антитолстовец». Проблеме самиздата посвящена работа Л. Токер «Самиздат и проблема авторского контроля в судьбе Варлама Шаламова».
Изучение и популяризация наследия Варлама Шаламова связаны с проблемой сохранности, доступности и исследованности его архива. Доколымское творчество писателя сохранилось фрагментарно. Из автобиографии «Несколько моих жизней» (1964) следует, что между двумя лагерными сроками в 1932–1937 годах Шаламов занимался литературным творчеством всерьез. Насегда утрачены стихи и проза:
Написал 150 сюжетов рассказов, неиспользованных еще. Написал 200 стихотворений. В трех тетрадях их берег. Увы, жена тогдашняя моя мало понимала в стихах и рассказах и сберегла напечатанное и не сберегла написанное, пока я был на Колыме [Шаламов 2013: IV, 197].
В мемуарном тексте «Большие пожары» (1970-е годы[2]) Шаламов также упоминает о неоднократном уничтожении архивов – писем, произведений, сначала его сестрой, позже женой:
В конце концов, родные есть истинный источник всякого сожжения. Жгут же ради детей или руками сестер, матерей. В 1927 году, когда я жил в университете, родная моя сестра сожгла все до последней бумаги, письма – Асеева, Третьякова… Все просто потому, что я некоторое время был там, у нее, прописан.
Отношение моей семьи не отличалось ничем от этой шумной паники. Жена сохранила напечатанное и уничтожила все написанное. Кто уж так рассудил… Сто рассказов исчезли. Дерьмо, которое было сосредоточено в архиве «Октября», сохранилось, а сто неопубликованных рассказов (вроде «Доктора Аустино») исчезли [Шаламов 2013: IV, 557].
Стихи, сочиненные во время первого лагерного срока, на Вишере, сгорели. Уезжая в 1953 году с Колымы на материк, Шаламов взял с собой несколько тетрадей с переписанными набело стихами, остальное сжег в дезкамере. От семнадцати лет лагерной жизни сохранились только немногие записи, несколько фотографий Шаламова-фельдшера в больнице и копии следственных дел.
Что касается колымского периода писателя, то он сам сообщает в воспоминаниях следующее:
На Колыме стихи не уничтожали, не жгли как некие жертвы, а хранили бережно, чтобы исказить, дать ложное толкование и овеществить самым зловещим образом. В тех миллионах обысков, «сухих бань», по выражению Бутырской тюрьмы, стихов не находили никогда. Да я их и не писал. А если и писал, то уничтожал в каком-то ближайшем просвете разума [Там же: 553].
После возвращения Шаламов старался записать все, что невозможно было зафиксировать, находясь в лагере, поскольку это было строго запрещено. От трех последующих лет жизни на так называемом 101-м километре сохранились тонкие тетради и отдельные листы, на которых Шаламов записывал «Колымские рассказы», «Артиста лопаты» и «Очерки преступного мира» (7 единиц хранения) и стихи (18 тетрадей).
Редактор немецкого собрания сочинений Шаламова Франциска Тун-Хоэнштайн отмечает сложности издания его творческого наследия, связанные именно с архивом:
Академическое издание Шаламова пока невозможно. Вчера много говорили о том, в каком состоянии архив сейчас, и я, имея доступ к части архива, понимала, что работать над ним надо здесь, в России. Эта работа должна быть проделана российскими филологами, текстологами, это задача на годы, без такой работы над освоением архивных материалов заявка на академичность невозможна [Калашникова 2019].
В. Шаламов начал передавать свой архив в ЦГАЛИ еще в 1966 году, позже И. П. Сиротинской были переданы и авторские права на произведения. Это было связано, среди прочего, с проблемой хищения рукописей из дома писателя. И. П. Сиротинская в воспоминаниях «Мой друг Варлам Шаламов» описывает эти хищения в последние годы его жизни, когда он уже физически не мог следить за их сохранностью из-за ухудшения здоровья:
В апреле 1979 года он срочно вызвал меня, сказал, что собирается в пансионат, и попросил взять весь архив, который оставался. «Воруют», – сказал он. Я взяла все. <…> Я обратилась 17 мая 1979 года к тем, кто изъял часть архива В. Т., и они после переговоров 8 октября 1979 года вернули рукописи четырех сборников «Колымских рассказов» (все это было документировано). Лишь много позднее, когда я закончила разборку и описание большого архива В. Т., я поняла, что возращено не все. Но В. Т. уже не было в живых. Похищены были и мои письма к В. Т., к счастью, только письма 70-х годов. Конечно, похищена незначительная по сравнению с основным фондом часть архива, в основном машинописные экземпляры рукописей. Однако возможно, что исчезли и варианты с какими-то разночтениями, которые необходимо изучать в процессе текстологической работы. Пропали также и некоторые толстые тетради со стихами, где заключались первоначальные варианты стихов. Запись стихотворения в такую тетрадь Варлам Тихонович считал истинной датой стихотворения. Утрату этих тетрадей Варлам Тихонович считал невосполнимой. И я, конечно, виновата в том, что не обнаружила ее сразу же, не разобрала архив сразу [Сиротинская 1998: 73].
Документы Шаламова, а также документы, связанные с Шаламовым, находятся не только в его архиве, что довольно часто исследователи упускают из виду. Так, вся работа Шаламова в журнале «Новый мир», а именно рецензии на рукописи самодеятельных авторов, а также рукописи самого Шаламова, не принятые редакцией, находятся в фонде «Нового мира». Несколько важных писем, процитированных в данной работе, найдены в архиве О. С. Неклюдовой. Рецензии на «Колымские рассказы», представляющие большой интерес, находятся в фонде издательства «Советский писатель». Работа Шаламова в журнале «Москва» отражена в соответствующем фонде. Часть документов (рукописи) есть в архиве журнала «Знамя». Переписка Шаламова хранится также в фондах Б. Пастернака, А. Солженицына, И. Эренбурга, К. Симонова, Л. Копелева. Дело Шаламова в архиве Союза писателей СССР закрыто для доступа.
В «деле Шаламова» вопросов и белых пятен пока больше, чем ответов. Периодически находятся разрозненные фрагменты его рукописей, появляются новые подробности западных публикаций, свидетельства жизни и судьбы писателя. Все это требует серьезного разговора чуть более широкого круга участников, чем сейчас. Надеемся, что такой разговор начнется.
Глава 1
Двадцатые годы: рождение писателя
Литературные сражения и «люди-универститеты»
Варлам Шаламов как литератор (в первую очередь поэт, потом прозаик), по его собственному мнению, появился и состоялся под влиянием культуры и литературы модернизма и авангарда 1920-х годов. Это первое, самое яркое впечатление Шаламова отразилось на всей его литературной деятельности. Изучение трудов формалистов, литературные дискуссии, участие в литературных кружках определили творческий метод Шаламова, заложили основы его эстетической концепции. Литераторам двадцатых годов посвящено множество эссе, заметок и воспоминаний писателя[3]. Это свидетельствует о том, что творческая уникальность Шаламова – поэта, прозаика и исследователя литературы – выходит далеко за пределы «лагерной» темы. Уже его первые литературные опыты сопровождались глубокой рефлексией о природе литературы и поэзии как ее высшей формы.
Шаламов приехал в Москву из Вологды в 1924 году. Послереволюционные годы ощущались молодыми людьми как время больших возможностей, особенно в больших городах, куда тянулись провинциальные юноши и девушки – за новой жизнью, подвигами, будущим. М. О. Чудакова в работе «Литература советского прошлого» отмечает, что Москва в начале 1920-х годов стала центром притяжения для литераторов из разных концов страны. Так менялись города, формировалось новое культурное пространство:
В 1921–22 гг. после того, как в 1920 г. полностью прояснился исход гражданской войны и в то же время еще не прояснилось ближайшее и дальнейшее будущее России, в Москву из разных концов страны съехались литераторы.
Среди них были и те, кто в 1910-е гг. составляли пеструю, «разноэтажную» городскую литературную среду. Эта среда за годы революции и войны распалась, рассеялась по стране и сейчас собиралась заново, сильно разреженная и теперь обновляющаяся – главным образом за счет петербуржцев и жителей других российских городов [Чудакова: 292].
Для поступления в университет Шаламову было необходимо приобрести рабочий стаж – только так можно было нивелировать вопрос происхождения из семьи духовенства. Работая дубильщиком на кожевенном заводе, Шаламов одновременно был ликвидатором неграмотности, учил санитарок в больнице. В воспоминаниях «Москва 20–30-х годов», написанных в 1972 году, он заметил, что занимался ликвидацией безграмотности с большим энтузиазмом, так как был убежден в неизбежности мировой революции, а для этого людей надо было просвещать и обучать. Но не только. Сам Шаламов рано научился читать, и книги, литература были если не главным, то, безусловно, важнейшим смыслом его жизни. При этом он понимал нереалистичность поставленной задачи – не только из-за масштабов неграмотности, но и из-за того, что процесс был обратимым[4]:
С неграмотностью действительно боролись, самодеятельно и добровольно, и платные учителя, как я, но результатов это не могло дать за десять лет и не только потому, что Новогородская губерния или Чердынский уезд – не Москва, а из-за гораздо более коварного обстоятельства – так называемых рецидивов неграмотности [Шаламов 2013: IV, 422].
По-видимому, эта деятельность все же вдохновляла Шаламова. В 1970 году он написал стихотворение «Воспоминание о ликбезе», которое заканчивалось строками:
- Себе я ставлю «уд.» и «плюс»
- Хотя бы потому,
- Что силой вдохновенья муз
- Разрушу эту тьму.
- Людей из вековой тюрьмы
- Веду лучом к лучу
- «Мы – не рабы. Рабы – не мы» —
- Вот все, что я хочу
К первым ярким московским впечатлениям Шаламова относятся также смерти Сергея Есенина (1925) и Ларисы Рейснер (1926). Есенину посвящено несколько послелагерных записей[5], Шаламов писал о нем неоднократно и в 1960-е, и позднее, в 1970-е годы. При всей противоречивости отношения к Есенину, эстетических, концептуальных и идеологических несовпадениях, какие только могли быть у двух литераторов[6], Шаламов считал Есенина большим поэтом, профессионалом и образованным человеком. Он ценил есенинскую искренность, непосредственность и лиризм:
У Есенина было необычайно чистое поэтическое горло, лирический голос удивительной чистоты. Трудно сказать, кого из русских поэтов можно поставить рядом по непосредственности, безыскусственности, искренности, правдивости лирического тона. Песенность была даром Есенина. Его стихотворные строфы всегда делятся на отдельные строки по смыслу, как в песне, – то самое качество, от которого уходила Цветаева [Шаламов 1965].
Д. Неустроев в статье «В. Т. Шаламов о С. А. Есенине», анализируя творчество обоих поэтов, приводит ряд пересечений и делает вывод:
Для Шаламова истинный поэт – тот, у кого «выстраданное собственной кровью выходит на бумагу как документ души, преображенное и освещенное огнем таланта», чьи произведения искренни и исповедальны. Это критерий настоящей поэзии, настоящей литературы. Для Есенина настоящий поэт – это значит «кровью чувств ласкать чужие души», «рубцевать себя по нежной коже». Здесь формулы творчества Шаламова и Есенина совпадают. Шаламовские строки – это строки о поэте – поэте с большой буквы, каким и был Есенин [Неустроев].
Подробнее записи о С. Есенине проанализированы нами в четвертой главе. Подчеркнем, что уже в 1920-е годы Есенин был важной фигурой для В. Шаламова, он обращался к его наследию на протяжении всей жизни.
Еще более трагическим событием стала для Шаламова смерть Ларисы Рейснер. В книге «Дом правительства» Ю. Слезкин упоминает о присутствии Шаламова на похоронах Рейснер:
Карл оказался в опале, а три года спустя Лариса умерла в кремлевской больнице от брюшного тифа. Ей было тридцать лет. «Ослепив многих, эта прекрасная молодая женщина пронеслась горячим метеором на фоне революции», – писал Троцкий.
Гроб несли Бабель, Пильняк, Всеволод Иванов, Борис Волин (шурин Бориса Ефимова) «и др.». В толпе был Варлам Шаламов, которого «очищала и подымала» «мальчишеская влюбленность» в Ларису [Слезкин: 232].
Об особых чувствах к Л. Рейснер Шаламов писал и в 1953 году Б. Пастернаку:
Имя Вы ей дали очень хорошее. Это лучшее русское женское имя. Для меня оно звучит особенно и не только потому, что я очень люблю «Бесприданницу» – героиню этой удивительной пьесы, необычной для Островского. А еще и потому, что это имя женщины, в которую я романтически, издали, видев раза два в жизни на улице, не будучи знакомым, был влюблен в юности моей, сотни раз перечитывал книги, которые она написала, и все, что писалось о ней [Шаламов 2013: VI, 37].
В воспоминаниях «Двадцатые годы» Шаламов назвал Рейснер надеждой литературы. Позднее, в других записях, можно встретить более сдержанные и даже критические высказывания в ее адрес, однако ближе к середине семидесятых годов Шаламов изменил свои суждения о многих, даже о Пастернаке. Но в воспоминаниях он пишет о Рейснер как об очень значимой фигуре для литературы двадцатых годов.
Если Есенин и Соболь покидали жизнь из-за конфликта со временем, он был у Есенина мельче, у Соболя глубже, то смерть Рейснер была вовсе бессмысленна.
Молодая женщина, надежда литературы, красавица, героиня Гражданской войны, двадцати девяти лет от роду умерла от брюшного тифа. Бред какой-то.
Никто не верил. Но Рейснер умерла. Я видел ее несколько раз в редакциях журнала, на улице. На литературных диспутах она не бывала.
Я был на ее похоронах. Гроб стоял в Доме Печати на Никитском бульваре.
Двор был весь забит народом – военными, дипломатами, писателями. Вынесли гроб, и последний раз мелькнули каштановые волосы, кольцами уложенные вокруг головы [Шаламов 2013: IV, 333].
После увольнения с завода Шаламов прописался у сестры и стал регулярно ходить в Ленинскую библиотеку и читальню МОСПС в Доме союзов. Заведующий читальней Модестов, видя прилежание Шаламова, допустил его к полкам с литературой, которая была изъята из обращения:
Это был не то, что спецфонд, а просто полки, где ставили книги, снятые с выдачи по циркулярам Наркомпроса: по черным спискам (как в Ватикане)…
Там, с этих полок, я и прочел «Новый мир» с «Повестью непогашенной луны» Пильняка, «Белую гвардию» Булгакова в журнале «Россия», «Ленин» Маяковского – поэма «Ленин» стояла на этих ссыльных полках года три [Там же: 423].
Библиотека принесла ему не только удовольствие от чтения, но и острое сожаление о потерянных на заводе годах – для поступления пришлось заново осваивать школьную программу. Но занятия в библиотеке и на подготовительных курсах привели к новым знакомствам, изменили темп и наполнение жизни молодого Шаламова. Москва 1920-х для него была университетом культуры.
В воспоминаниях он описывал феерически-утопический дух двадцатых годов, называл это время «штурмом неба», часто упоминал об ожидавшейся всеми мировой революции. Но самым важным для Шаламова в Москве этого периода было кипение жизни. Это кипение выражалось, прежде всего, в ожесточенных спорах и дискуссиях:
Эти споры велись буквально обо всем: и о том, будут ли духи при коммунизме – фабрика Брокара стояла с революции, и работники не были уверены, что ее пустят. И о том, существует ли общность жен в фаланге Фурье, и о воспитании детей. Обсуждали не формы брака, обсуждался сам брак, сама семья – нужна ли она. Или детей должно воспитывать государство и только государство. Нужны ли адвокаты при новом праве. Нужна ли литература, поэзия, живопись, скульптура… И если нужны, то в какой форме, не в форме же старой [Там же: 434].
Эту особенность московской жизни отмечает в своем «Московском дневнике» и немецкий философ Вальтер Беньямин, оказавшийся в советской России в декабре 1926 – январе 1927 года:
Дни каждого московского жителя насыщены до предела. Заседания. Комиссии каждый час проходят в конторах, клубах, на фабриках; для них часто не хватает места, их проводят в углу шумных редакций, за убранным столом в заводской столовой [Беньямин: 226].
Двадцатые годы – время ораторов: Шаламов вспоминал, что более тридцати раз слушал Луначарского[7], которого называл человеком-университетом.
Варлам Шаламов принимал в кипящей культурной жизни самое активное участие. Он дискутировал, писал стихи, посещал литературные кружки, бывал на занятиях у Осипа Брика, диспутах Маяковского, встречался с Сергеем Третьяковым, ненадолго вошел в «Молодой ЛЕФ», несколько раз был в «Красном студенчестве» поэта-конструктивиста Ильи Сельвинского. Возможность существования множества мнений, относительная (в сравнении с тридцатыми и последующими годами) свобода дискуссий, различные литературные группы и взгляды – это то, что Шаламов вспоминал всю жизнь:
Двадцатые годы – это время литературных сражений, поэтических битв на семи московских холмах: в Политехническом музее, в Коммунистической аудитории 1-го МГУ, в Клубе Университета, в Колонном зале Дома Союзов. Интерес к выступлению поэтов, писателей был неизменно велик. Даже такие клубы, как Госбанковский на Неглинном, собирали на литературные вечера полные залы.
Имажинисты, комфуты, ничевоки, крестьянские поэты; «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», РАПП, конструктивисты, оригиналисты-фразари и прочие, им же имя легион [Шаламов 2013: IV, 319].
Дискуссии кипели недолго: Шаламов был арестован 19 февраля 1929 года в засаде в подпольной типографии, где печатались «Завещание В. И. Ленина» и другие документы оппозиции. Ордер на его арест подписан Г. Ягодой 1 марта 1929 года.
Двадцатые годы стали для Шаламова эталоном, с которым он сверял литературу пятидесятых-семидесятых, и чаще всего сравнение было не в пользу последней. Свидетели отмечают, что, вернувшись с Колымы, Шаламов так и остался «человеком двадцатых годов», и с этим связано его во многом критическое отношение к современному литературному и культурному процессу.
После возвращения из лагеря Шаламов устроился на работу внештатным корреспондентом в журнал «Москва» и добивался публикаций статей именно о двадцатых: о «Красной нови», «Синей блузе», А. К. Воронском. Тема двадцатых годов цензурировалась государством долгие годы, Шаламов же настаивал на публикации правды.
Варлам Шаламов и «Новый ЛЕФ»
Шаламов быстро включился в литературный процесс. Он интересовался идеями ЛЕФа, некоторое время посещал кружок Осипа Брика, общался с Сергеем Третьяковым. Он активно и внимательно изучал труды формалистов, но при этом отделял литературную теорию от московской литературной жизни, которая «создавала факты» и была очень насыщенной:
ЛЕФ опирался на «формалистов». Шкловский – крупная фигура ЛЕФа, был тем человеком, который выдумывал порох, и для формалистов был признанным вождем этого течения. Ленинградцы – Тынянов, Томашевский, Эйхенбаум – все это были эрудиты, величины солидные, недавние участники тоненьких сборничков ОПОЯЗа. Пока в Ленинграде формалисты корпели над собиранием литературных фактов, Москва создавала эти литературные факты [Шаламов 2013: IV, 319].
Несмотря на такой скептицизм, Шаламову идеи формализма были близки. В его архивах мы находим стихотворение «В защиту формализма»[8]. Невозможно точно сказать, было ли оно воспоминаниями о дискуссиях вокруг «формального метода» или откликом на борьбу с «формализмом в искусстве» в СССР. Скорее, это размышление о поэзии, но в советском языке эта омонимия превратилась в синонимию:
- Не упрекай их в формализме,
- В любви к уловкам ремесла.
- Двояковыпуклая линза
- Чудес немало принесла.
- И их игрушечные стекла,
- Ребячий тот калейдоскоп —
- Соединял в одном бинокле
- И телескоп, и микроскоп.
- И их юродство – не уродство,
- А только сердца прямота,
- И на родство, и на господство
- Рассвирепевшая мечта.
- Отлично знает вся отчизна,
- Что ни один еще поэт
- Не умирал от формализма —
- Таких примеров вовсе нет
Но при всей увлеченности революционными идеями разочарование в этих объединениях наступило довольно быстро. Шаламов обладал собственным видением и интересами, сформировавшимися еще в школьные годы и получившими развитие после переезда в Москву и погружения в ее культурную жизнь, поступления в Московский университет. Точнее было бы сказать, что это было разочарование не в идеях и теориях, а в том, какие темы обсуждались участниками ЛЕФа, как они относились к другим литераторам и какие человеческие качества демонстрировались ими. К некоторым проявлениям участников объединения Шаламов относился негативно. В воспоминаниях «Двадцатые годы» Шаламов внезапно выступил с резкой критикой ЛЕФа:
Большая часть литературных споров, в которых участвовали «лефы», уходили на выяснение, кто у кого украл метафору, интонацию, образ. Чей, например, приоритет в слове «земшар». Кто первый придумал это изящное слово? Безыменский или Маяковский? Кто у кого украл? <…>
Крайне неприятной была какая-то звериная ненависть к Блоку, пренебрежительный, издевательский тон по отношению к нему, усвоенный всеми лефовцами. <…>
Изобретательство вымученных острот, пустые разговоры, которыми занимались в лефовском окружении Маяковского, Брика, пугали меня. Поэзия, по моему глубокому внутреннему чутью, там жить не могла [Шаламов 2013: IV, 342].
В письме Людмиле Ивановне Скорино от 12 января 1962 года Шаламов также рассказывал о постигшем его разочаровании в участниках ЛЕФа:
Литературного тут не было ничего, кроме сплетен и вышучивания всех возможных лефовских врагов. Нарочитое умничанье, кокетничанье испытанных остряков с психологией футбольных болельщиков производило на меня прямо-таки угнетающее, отталкивающее впечатление. Поэзия, которую я искал, жила не здесь. Разочарование было столь сильным, что во время распада ЛЕФа, когда Маяковский был отстранен от журнала, мои симпатии оказались на стороне фактографии, на стороне Сергея Михайловича Третьякова, сменившего Маяковского за редакторским креслом «Нового ЛЕФа» [Там же: VI, 320].
Разрыв с «Новым ЛЕФом» Шаламов объяснял своей строптивостью и нежеланием писать на предлагаемые темы:
На Малую Бронную ходил я недолго из-за своей строптивости и из-за того, что мне жалко было стихов, не чьих-нибудь стихов, а стихов вообще. Стихам не было место в «литературе факта» – меня крайне интересовал тогда (интересует и сейчас) вопрос – как такие разные люди уживаются под лефовской и новолефовской кровлей.
У меня были кой-какие соображения на этот счет.
Я работал тогда в радиогазете «Рабочий полдень».
– Вот, – сказал Сергей Михайлович, – напишите для «Нового Лефа» заметку «Язык радиорепортера». Я слышал, что надо избегать шипящих и так далее. Напишете?
– Я, Сергей Михайлович, хотел бы написать по общим вопросам, – робко забормотал я.
Узкое лицо Третьякова передернулось, а голос его зазвенел:
– По общим вопросам мы сами пишем.
Больше я на Малой Бронной не бывал. Избавленный от духовного гнета «литературных фактов», я яростно писал стихи – о дожде, о солнце, о всем, что в ЛЕФе запрещалось [Там же: IV, 318].
Тем не менее разрыв с ЛЕФом не означал полного отрицания этого опыта. Шаламов всю жизнь спорил с лефовцами, но впоследствии их метод окажется для него одним из немногих возможных способов фиксации травматического опыта. Елена Михайлик указывает на противоречивость отношения Шаламова к нему:
Все многообразные позиции – в области эстетики, политики и теории литературы, – которые в то время существовали в рамках Левого фронта искусств, казались Шаламову догматическими, узкими и плохо согласующимися друг с другом.
Шаламова одновременно привлекала – и отталкивала – жесткая ориентация на «литературу факта», апелляция к документу, представление о том, что форму произведения должны диктовать свойства материала, а автор важен ровно в той мере, в которой отсутствует в тексте. С точки зрения Шаламова, эта позиция не оставляла места для поэзии [Михайлик 2009: 180].
Вероятнее всего, Шаламова оттолкнули и скрытая иерархичность «Нового ЛЕФа», и жесткий формальный и идеологический диктат объединения в целом. Шаламов искал свою интонацию и стремился самостоятельно находить темы для литературных сочинений, что не поощрялось Третьяковым. Тогда же Шаламов проявил склонность к резким разрывам, которая сохранилась на всю жизнь, – таким резким будет разрыв с Борисом Пастернаком, Надеждой Мандельштам, некоторыми друзьями и соратниками.
Много лет спустя, в 1971 году, в записных книжках писатель назовет себя последователем русского модернизма:
Я – прямой наследник русского модернизма – Белого и Ремизова. Я учился не у Толстого, а у Белого, и в любом моем рассказе есть следы этой учебы.
С Пастернаком, Эренбургом, с Мандельштам мне было легко говорить потому, что они хорошо понимали, в чем тут дело [Шаламов 2013: V, 322].
Андрей Белый и Алексей Ремизов – предшественники Шаламова
Утверждение о том, что он является наследником Белого и Ремизова, Шаламов более нигде не раскрывает и не комментирует. Несмотря на то что обоим писателям посвящен ряд высказываний и записей Шаламова, они содержат в основном впечатления от прочитанного. Возможно, Шаламов имел в виду принцип документальности у А. Ремизова и ритм прозы А. Белого, чей роман «Петербург» считал последним романом в русской литературе[9]. Оба этих явления характерны для прозы Шаламова, как и бессюжетность, фрагментарность, пристальное внимание к деталям быта, эпизодам. Но убедительного доказательства этого предположения в высказываниях Шаламова нет.
Об Алексее Ремизове он пишет в 1964 году:
Ремизов. «Мышкина дудочка. Подстриженными глазами».
Лучшая русская книга, которую я читал за последние тридцать лет, необычайная, замечательная книга. Рассказ «Мышкина дудочка», где сапогом давят мышку, беззащитную, лучший рассказ. До слез.
Грусть необычайная. Вера в призвание, героизм, сила. Урок мужества, героической жизни, нищей жизни без скидок [Шаламов 2013: VII, 399].
Эмоциональность прозы Ремизова отмечена Шаламовым, который свою прозу называл «эмоционально окрашенным документом»[10]. Есть еще один важный сюжет, который связывает В. Шаламова и А. Ремизова. В 1926 году А. Ремизов в Париже опубликовал «Житие протопопа Аввакума» (фактически – ремизовский текст, выстроенный на основе разных списков оригинального сочинения старообрядцев), который был значимой фигурой для Шаламова, посвятившего ему стихотворение «Аввакум в Пустозерске»[11]:
- Не в бревнах, а в ребрах
- Церковь моя.
- В усмешке недоброй
- Лицо бытия.
- Сложеньем двуперстным
- Поднялся мой крест,
- Горя в Пустозерске,
- Блистая окрест.
- Я всюду прославлен,
- Везде заклеймен,
- Легендою давней
- В сердцах утвержден.
- <…>
- Пускай я осмеян
- И предан костру,
- Пусть прах мой развеян
- На горном ветру.
- Нет участи слаще,
- Желанней конца,
- Чем пепел, стучащий
- В людские сердца
Фигура Аввакума актуализировалась в Серебряном веке и, что особенно важно для Шаламова, была значима для народовольцев, историей которых он интересовался. Отмечая темы духовного подвига, совмещение элементов жития Аввакума и биографии Шаламова, культуролог Валерий Петроченков высказывает предположение о том, чем является Аввакум для Шаламова:
Фигура протопопа Аввакума неоднократно привлекала внимание русских писателей. Для некоторых из них обращение к судьбе вождя старообрядчества было попыткой проверки на прочность своего душевного и духовного опыта.
Но Шаламов единственный, кто выбрал протопопа Аввакума своим архетипом и в определенном смысле – двойником [Петроченков].
Тема жития протопопа Аввакума в творчестве Шаламова заслуживает отдельного исследования. В контексте нашей работы необходимо отметить, что личность Аввакума была важна и для Ремизова. Частые упоминания Аввакума в статьях и беседах, выступления с публичными чтениями «Жития» вызывали в среде русского зарубежья мнение о том, что Ремизов был учеником и последователем протопопа.
Юрий Розанов указывает на то, что Шаламов, по всей видимости, был знаком с книгой Ремизова «Россия в письменах», целиком построенной на исторических документах, отмечает значимость канона модернистской литературы для прозы Шаламова:
В металитературном дискурсе Шаламова совершенно четко обозначены некоторые составляющие того «канона» модернистской литературы, на которой он ориентировался: фонетическое отношение к слову («проверка на звук»), полисемантичность («многоплановость»), символизация и особый, доведенный до «крайней степени художественной» документализм. Ремизов, проповедовавший среди молодых писателей подобную поэтику, называл ее «природным русским ладом», наиболее полным выразителем которого он считал протопопа Аввакума [Розанов].
О том, что связывает В. Шаламова и А. Белого, размышляет переводчик Шаламова Габриэле Лойпольд в статье «Анатомия сдержанности. Переводя Варлама Шаламова». Она отмечает музыкальную структуру, ритмизацию прозы:
Ритмизация текста вследствие варьирующих повторений фраз, ключевых предложений и полуабзацев, лейтмотивов, перекочевывающих из рассказов в письма, эссе и заметки в записных книжках, а к тому же структурирующее значение числа «два» – пар синонимов, – это музыкальные средства, образующие ткань прозы Шаламова и составляющие, вместе с вышеназванными нюансами «интонировки», те «цепочки», на которых вынужден «плясать» переводчик. И которые уводят его взгляд от лагеря [Лойпольд].
Глава 2
Начало оттепели: назад в литературу
Советская литература после смерти Сталина: обстоятельства появления «Колымских рассказов»
Вторая половина пятидесятых годов для Шаламова стала его лучшим временем. Время, когда закончился сталинский режим и массовые репрессии, развернулась хрущевская оттепель, давшая новый импульс, новые надежды и новое «оттепельное» искусство, сложно было представить в колымских бараках. А вторая половина пятидесятых и начало шестидесятых[12] – время молодой поэзии, постепенного оживления литературных журналов и надежд на обновление политической и культурной повестки – дали возможность думать, что процесс необратим. Но, как покажет история, ненадолго.
Срок лагерного заключения Варлама Шаламова истек в октябре 1951 года. Еще два года – до сентября 1953-го – он был вынужден работать на Колыме, чтобы накопить денег на отъезд на «большую землю». В это время и сразу после возвращения Шаламов много писал, в основном стихи, торопясь записать то, что накопилось за долгие годы лагеря и ссылки:
В 1951 году я освободился из заключения, но выехать с Колымы не смог. Я работал фельдшером близ Оймякона, в верховьях Индигирки, на тогдашнем полюсе холода и писал день и ночь – на самодельных тетрадях.
В 1953 году уехал с Колымы, поселился в Калининской области, на небольшом торфопредприятии, работал там два с половиной года агентом по техническому снабжению. Торфяные разработки с сезонницами-«торфушками» были местом, где крестьянин становился рабочим, впервые приобщался к рабочей психологии. Там было немало интересного, но у меня не было времени – мне было больше 45 лет, я старался обогнать время и писал день и ночь – стихи и рассказы. Каждый день я боялся, что силы кончатся, что я уже не напишу ни строчки, не сумею написать всего, что хотел [Шаламов 2013: IV, 312].
