Читать онлайн Исповедь бесплатно
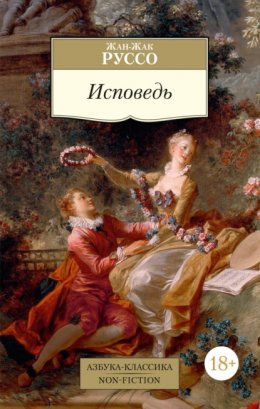
Азбука-классика. Non-Fiction
Jean-Jacques Rousseau
LES CONFESSIONS
Перевод с французского Дмитрия Горбова, Матвея Розанова
© Д. А. Горбов (наследник), перевод, комментарии, 2024
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024 Издательство Азбука®
Часть первая
Книга первая
(1712–1728)
Intus et in cute
Я предпринимаю дело беспримерное, которое не найдет подражателя. Я хочу показать своим собратьям одного человека во всей правде его природы, – и этим человеком буду я.
Я один. Я знаю свое сердце и знаю людей. Я создан иначе, чем кто-либо из виденных мною; осмеливаюсь думать, что я не похож ни на кого на свете. Если я не лучше других, то по крайней мере не такой, как они. Хорошо или дурно сделала природа, разбив форму, в которую она меня отлила, об этом можно судить, только прочтя мою исповедь.
Пусть трубный глас Страшного суда раздастся когда угодно – я предстану пред Верховным судией с этой книгой в руках. Я громко скажу: «Вот что я делал, что думал, чем был. С одинаковой откровенностью рассказал я о хорошем и о дурном. Дурного ничего не утаил, хорошего ничего не прибавил; и если что-либо слегка приукрасил, то лишь для того, чтобы заполнить пробелы моей памяти. Может быть, мне случилось выдавать за правду то, что мне казалось правдой, но никогда не выдавал я за правду заведомую ложь. Я показал себя таким, каким был в действительности: презренным и низким, когда им был, добрым, благородным, возвышенным, когда был им. Я обнажил всю свою душу и показал ее такою, какою ты видел ее сам, Всемогущий. Собери вокруг меня неисчислимую толпу подобных мне: пусть они слушают мою исповедь, пусть краснеют за мою низость, пусть сокрушаются о моих злополучиях. Пусть каждый из них у подножия твоего престола в свою очередь с такой же искренностью раскроет сердце свое, и пусть потом хоть один из них, если осмелится, скажет тебе: «Я был лучше этого человека».
Я родился в Женеве в 1712 году, от гражданина Исаака Руссо и гражданки Сюзанны Бернар. Так как из весьма незначительного состояния, разделенного между пятнадцатью детьми, отец мой получил ничтожную долю, то существовал он исключительно ремеслом часовщика, в котором был очень искусен. Богаче была моя мать, дочь пастора Бернара. Она была одарена умом и красотой. Не без труда добился отец мой ее руки. Они полюбили друг друга чуть ли не со дня рождения; детьми восьми-девяти лет они каждый вечер гуляли по Трейлю; в десять лет они уже не могли расстаться. Чувство, порожденное привычкой, было укреплено в них симпатией, согласием душ. Оба от природы нежные и чувствительные, они ожидали только мгновения, когда им откроется их склонность друг к другу, или, лучше сказать, это мгновение поджидало их, и каждый из них бросил свое сердце в раскрывшееся сердце другого. Судьба, которая, казалось, шла наперекор их страсти, только еще более разжигала ее. Влюбленный юноша, не имея возможности добиться своей возлюбленной, изнывал от горя; она посоветовала ему отправиться в путешествие, чтобы забыть ее. Он странствовал напрасно и вернулся еще более влюбленным, чем раньше. Ту, которую любил, он нашел нежной и верной. После этого испытания им оставалось только любить друг друга всю жизнь; они поклялись в этом, и небо благословило их клятву.
Габриэль Бернар, брат моей матери, влюбился в одну из сестер моего отца; но та соглашалась выйти за него замуж только при том условии, чтобы брат ее женился на его сестре. Любовь уладила все, и обе свадьбы состоялись в один и тот же день. Таким образом, мой дядя оказался мужем моей тетки, и дети их приходились мне двоюродными братьями и сестрами вдвойне. В конце года у каждой четы родился ребенок. Потом им пришлось расстаться.
Мой дядя Бернар был инженером; он отправился служить в Империю, и в Венгрии, под начальством принца Евгения, отличился при осаде Белграда и в сражении под его стенами. Отец после рождения моего единственного брата уехал в Константинополь, куда его пригласили, и сделался там часовщиком при серале. В его отсутствие красота моей матери, ее ум, ее таланты[1] привлекли поклонников. Самым ревностным из них был г-н де Клозюр, французский резидент. Верно, страсть его была сильна, если по прошествии тридцати лет я видел, что он растроган, говоря со мною о ней. Моей матери защитой служила не только добродетель – она нежно любила мужа; она попросила его скорей вернуться. Он бросил все и вернулся. Я был печальным плодом этого возвращения: я родился через десять месяцев, слабый и хворый. Я стоил жизни моей матери, и мое рождение было первым из моих несчастий.
Мне осталось неизвестным, как отец мой перенес эту потерю, но я знаю, что он остался безутешен. Он думал снова увидеть ее во мне, будучи не в силах забыть, что я отнял ее у него; когда он целовал меня, то по его вздохам, по его судорожным объятьям я чувствовал, что к его ласкам примешивается горькое сожаление, но от этого они становились еще нежней. Когда он говорил мне: «Жан-Жак, поговорим о твоей матери», я отвечал ему: «Значит, мы будем плакать, отец», и эти слова вызывали у него слезы. «Ах! – говорил он со стоном, – верни ее мне, утешь меня, заполни пустоту, которую она оставила в моей душе. Любил ли бы я тебя так сильно, будь ты только моим сыном?» Через сорок лет после ее смерти он скончался на руках второй жены, но с именем первой на устах и с ее образом в сердце.
Таковы были творцы моих дней. Из всех даров, которыми наделило их небо, они оставили мне только чувствительное сердце; оно принесло им счастье и вызвало все несчастья моей жизни.
Я родился почти умирающим; было мало надежды на то, что удастся сохранить меня. Я нес в себе зародыш недуга, который усилили годы и который теперь иногда дает мне передышку только затем, чтобы заставить меня страдать еще более жестоко другим образом. Одна из сестер моего отца, добрая и умная девушка, своим заботливым уходом спасла меня. В настоящее время, когда я пишу эти строки, она еще жива и в восемьдесят лет ухаживает за мужем, который моложе ее, но истощен пьянством. Дорогая тетушка, я прощаю вас за то, что вы заставили меня жить, и скорблю о том, что в конце вашей жизни я не могу окружить вас такими же нежными заботами, какими вы осыпали меня в начале моей.
Моя кормилица Жаклина тоже еще жива, здорова и крепка. Руки, открывшие мне глаза при рождении, закроют их после моей смерти.
Чувствовать я начал прежде, чем мыслить; это общий удел человечества. Я испытал его в большей мере, чем всякий другой. Не знаю, как я научился читать; помню только свои первые чтения и то впечатление, которое они на меня производили; с этого времени тянется непрерывная нить моих воспоминаний. От моей матери остались романы. Мы с отцом стали читать их после ужина. Сначала речь шла о том, чтобы мне упражняться в чтении по занимательным книжкам; но вскоре интерес стал таким живым, что мы читали по очереди без перерыва и проводили за этим занятием ночи напролет. Мы никогда не могли оставить книгу, не дочитав ее до конца. Иногда мой отец, услышав утренний щебет ласточек, говорил смущенно: «Идем спать. Я больше ребенок, чем ты».
В короткое время при помощи такого опасного метода я не только с чрезвычайной легкостью научился читать и понимать прочитанное, но и приобрел исключительное для своего возраста знание страстей. У меня еще не было ни малейшего представления о вещах, а уже все чувства были мне знакомы. Я еще ничего не постиг – и уже все перечувствовал. Волнения, испытываемые мною одно за другим, не извращали разума, которого у меня еще не было; но они образовали его на особый лад и дали мне о человеческой жизни понятия самые странные и романтические; ни опыт, ни размышления никогда не могли как следует излечить меня от них.
Романы кончились вместе с летом 1719 года. Следующей зимой пошло другое. Исчерпав библиотеку моей матери, мы прибегли к доставшейся нам части библиотеки ее отца. По счастью, там нашлись хорошие книги; впрочем, иначе и быть не могло, потому что библиотека была составлена, правда, священником и даже ученым, что тогда было в моде, но человеком со вкусом и с умом. «История церкви и империи» Лесюэра, «Рассуждение о всемирной истории» Боссюэ, «Знаменитые люди» Плутарха, «История Венеции» Нани, «Метаморфозы» Овидия, Лабрюйер, «Миры» Фонтенеля, его же «Диалоги мертвых» и несколько томов Мольера были перенесены в мастерскую моего отца, и я читал их ему каждый день, пока он работал. Я получил к чтению редкое, а в моем возрасте, быть может, исключительное пристрастие. Любимым моим автором стал Плутарх. Удовольствие, которое я испытывал, постоянно перечитывая его, немного излечило меня от моей страсти к романам; скоро я стал предпочитать Агесилая, Брута, Аристида – Орондату, Артамену и Юбе. Интересное чтение, разговоры, которые оно порождало между отцом и мной, воспитали тот свободный и республиканский дух, тот неукротимый и гордый характер, не терпящий ярма и рабства, который мучил меня в продолжение всей моей жизни, проявляясь в положениях, менее всего подходящих для этого. Беспрестанно занятый Римом и Афинами, живя как бы одной жизнью с их великими людьми, сам родившись гражданином республики и сыном отца, самою сильною страстью которого была любовь к родине, – я пламенел ею по его примеру, воображал себя греком или римлянином, становился лицом, жизнеописание которого читал; рассказы о проявлениях стойкости и бесстрашия захватывали меня, глаза мои сверкали, и голос мой звучал громко. Однажды, когда я рассказывал за столом историю Сцеволы, все перепугались, видя, как я подошел к жаровне и протянул над нею руку, чтобы воспроизвести его подвиг.
У меня был брат, старше меня на семь лет. Он обучался ремеслу отца. Чрезмерная любовь ко мне приводила к тому, что на него меньше обращали внимания, чего я совершенно не могу одобрить. Это пренебрежение сказалось на его воспитании. Он начал вести распутную жизнь, не достигнув еще возраста, когда можно стать настоящим распутником. Его устроили к другому хозяину, но он продолжал потихоньку исчезать, как это было и в отцовском доме. Я его почти не видел и, можно сказать, едва был с ним знаком; тем не менее я любил его нежно, и он меня любил, насколько может любить кого-нибудь такой повеса. Помню, как один раз, когда разгневанный отец беспощадно его наказывал, я стремительно бросился на выручку и крепко обнял брата. Я укрыл его своим телом, получая удары, предназначенные ему, и так настойчиво подставлял свою спину, что отец наконец сжалился, оттого ли, что был обезоружен моими криками и слезами, или оттого, что не хотел наказывать меня больше, чем его. В конце концов мой брат совсем сбился с пути: убежал из дому и совершенно исчез. Через некоторое время мы узнали, что он в Германии. Он ни разу не написал. С тех пор о нем не было никаких вестей, и вот каким образом я стал единственным сыном.
Если этого бедного мальчика воспитывали небрежно, то нельзя сказать того же обо мне; за детьми короля не могли бы ухаживать с большим усердием, чем ухаживали за мной в первые годы моей жизни, когда все окружающие обожали меня и, что случается гораздо реже, обращались со мной, как с ребенком любимым, но отнюдь не балуемым. Никогда, ни разу до моего ухода из родительского дома, не позволили мне бегать по улице с другими детьми; никогда не приходилось подавлять во мне или удовлетворять ни одной из тех вздорных причуд, в которых обвиняют природу, но которые порождает воспитание. У меня были недостатки моего возраста: я был болтун, лакомка, иногда лгун. Я мог стащить фрукты, конфеты, снедь, но никогда мне не доставляло удовольствия делать зло, вред, огорчать окружающих, мучить бедных животных. Вспоминаю, однако, что я помочился однажды в кастрюлю одной из наших соседок, мадам Кло, в то время, как она была на проповеди. Признаюсь даже, что это воспоминание до сих пор вызывает у меня смех, потому что мадам Кло, женщина, в сущности, добрая, была все-таки самая ворчливая старуха, какую я только знал. Вот краткая и правдивая история всех моих детских проступков.
Как мог бы я сделаться злым, имея перед глазами только примеры нежности и видя лучших людей на свете вокруг себя? Мой отец, моя тетка, моя кормилица, мои родственники, наши друзья, наши соседи – все окружавшие меня, по правде говоря, не потакали мне, но любили меня, и я тоже любил их. Для моих капризов было так мало поводов, и так редко им давали отпор, что они и не приходили мне в голову. Могу поклясться, что до моего порабощения хозяину я не знал, что такое прихоть. Кроме того времени, когда я читал или писал возле отца, и того, когда няня водила меня гулять, я был постоянно с тетей, глядел, как она вышивает, слушал, как она поет, сидя или стоя подле нее; и я был доволен. Ее веселость, ее нежность, ее приятное лицо оставили во мне такое сильное впечатление, что я и теперь вижу выражение ее лица, взгляд, фигуру, помню ее ласковые слова; я мог бы описать, как она была одета и причесана, не забыв даже двух черных локонов на висках, по моде того времени.
Я уверен, что ей обязан я склонностью или, вернее, страстью к музыке – страстью, вполне развившейся во мне только значительно позже. Она знала невероятное количество арий и песен и напевала их очень нежным голосом. Ясность души этой превосходной девушки отгоняла от нее и от всех, кто ее окружал, задумчивость и грусть. Прелесть ее пения была так сильна, что несколько ее песен навсегда остались у меня в памяти, а некоторые, совершенно забытые с самого детства, теперь, когда я потерял ее, по мере того как я старею, возникают вновь с невыразимым очарованием. Кто сказал бы, что я, старый ворчун, снедаемый заботами и огорчениями, иной раз ловлю себя на том, что плачу, как ребенок, бормоча эти песенки голосом уже разбитым и дрожащим? Особенно ясно вспоминается мне мотив одной из песен, но половина слов упорно отказывается уступить усилиям моей памяти, хотя я смутно припоминаю рифмы. Вот начало и то, что я мог припомнить из остального:
Тирсис, свирелью Не зови меня под вяз В поздний час, – Ведь звонкой трелью В селе ты выдал нас. . . . . похмелью. . . . . греха. . . . . пастуха. Горести влечет за собой веселье[2].
Я стараюсь постичь, в чем заключается для меня нежное очарование этой песни; странно и непонятно, но я не в силах допеть ее до конца без того, чтобы слезы не остановили меня. Сотни раз я собирался написать в Париж и попросить, чтобы отыскали остальные слова, если есть еще кто-нибудь, кто их помнит. Но я почти уверен, что удовольствие, которое я испытываю, вспоминая эту песню, отчасти поблекнет, если у меня будут доказательства, что и другие, кроме тети Сюзон, пели ее.
Таковы были первые мои привязанности на пороге жизни, так начало складываться и проявляться мое сердце, в одно и то же время такое гордое и такое нежное, мой характер, женственный, но тем не менее неукротимый, который всегда склонялся то к слабости, то к мужеству, то к мягкости, то к стойкости, до конца моей жизни ставил меня в противоречия с самим собой и приводил к тому, что воздержание и наслаждение, удовольствие и благоразумие одинаково ускользали от меня.
Это воспитание было прервано случаем, последствия которого повлияли на всю мою жизнь. У моего отца произошло столкновение с некиим господином Готье, французским капитаном, имевшим родственников среди членов совета. У этого Готье, человека наглого и подлого, пошла носом кровь, и он из мести обвинил моего отца, будто тот обнажил шпагу в пределах города. Отца хотели посадить в тюрьму, но он заупрямился, требуя, чтобы обвинитель, согласно закону, был заключен вместе с ним; не добившись этого, он предпочел уехать из Женевы и на всю жизнь оставить родину, чем уступить в таком деле, в котором, как ему казалось, были затронуты его честь и свобода.
Я остался под опекой моего дяди Бернара, служившего тогда в Женевской крепости. Старшая дочь его умерла, но у него был сын одних лет со мной. Обоих нас отдали в Боссе, на пансион к священнику Ламберсье, чтобы обучить там, наряду с латынью, всякой ненужной дребедени, присоединяемой к ней под названием образования.
Два года, проведенные в деревне, немного смягчили мою римскую суровость и вернули меня к детству. В Женеве, где меня ни к чему не принуждали, я любил занятия; чтение было почти единственным моим развлечением; в Боссе работа заставила меня полюбить игры, служившие отдыхом от нее. Деревенская жизнь была так нова для меня, что я не уставал наслаждаться ею. Я почувствовал такое сильное расположение к ней, что оно уже никогда не могло угаснуть. Воспоминание о счастливых днях сельской жизни всегда заставляло меня жалеть о ее удовольствиях вплоть до того времени, когда я вернулся к ней. Г-н Ламберсье был человек очень разумный; не пренебрегая нашим образованием, он вместе с тем не обременял нас чрезмерными занятиями. Доказательством его умелого руководства служит то, что, несмотря на мою нелюбовь к принуждению, я никогда не вспоминал с отвращением о часах моих занятий, и если я усвоил у него не особенно много, то усвоенному научился без труда и ничего из этого не забыл.
Простота этой сельской жизни принесла мне неоценимое благо, открыв мое сердце дружбе. До сих пор мне были знакомы только чувства возвышенные, но воображаемые. Привычка жить мирно бок о бок тесно связала меня с моим двоюродным братом Бернаром. Вскоре я стал питать к нему чувства более нежные, чем к своему брату, и сохранил их навсегда. Это был высокий мальчик, очень худой, очень хилый и настолько же добрый сердцем, насколько слабый телом; он не слишком злоупотреблял предпочтением, которое оказывали ему в доме как сыну моего опекуна. Наши занятия, развлечения, вкусы были одни и те же; мы были одиноки, одного возраста, каждый из нас нуждался в товарище, разлучить нас – значило бы, в известном смысле, нас уничтожить. Хотя у нас было мало поводов для доказательства взаимной привязанности, она достигала крайних пределов, и мы не только не могли прожить ни одной минуты врозь, но не представляли себе, что это когда-нибудь может случиться. Оба с характером, легко уступающим ласке, услужливые, когда нас не принуждали к этому, мы всегда были во всем согласны между собой. Если благодаря благосклонности к Бернару наших воспитателей он в их присутствии имел некоторое преимущество передо мной, то, когда мы оставались одни, преимущество было на моей стороне, и равновесие восстанавливалось. Во время наших занятий, когда он запинался, я подсказывал ему; когда моя задача была решена, я помогал решать ему; а в наших играх мой характер, более деятельный, всегда служил ему путеводителем. Словом, наши характеры так хорошо подходили друг к другу и дружба, соединявшая нас, была так искренна, что в течение более пяти лет, которые мы прожили, почти не разлучаясь, как в Боссе, так и в Женеве, мы, признаюсь, хотя и часто дрались, но никогда нас не приходилось разнимать, никогда наша ссора не продолжалась более четверти часа, и ни разу мы не пожаловались друг на друга. Подробности эти наивны, если угодно, но из них складывается образец отношений, быть может единственный, с тех пор как существуют дети.
Образ жизни в Боссе так подходил для меня, что если б он продлился дольше, то окончательно определил бы мой характер. Чувства нежные, благожелательные, мирные составляли его основу. Думаю, что никогда ни одно человеческое существо не было от природы менее тщеславно, чем я. Я поднимался порывами до возвышенных движений души, но тотчас же снова впадал в обычную вялость. Быть любимым всеми близкими было моим живейшим желанием. Я был кроток; мой двоюродный брат тоже; наши воспитатели сами были такими же. За целые два года я не стал ни свидетелем, ни жертвой каких-либо злобных чувств. Все питало в моем сердце склонности, заложенные природой. Самой большой радостью для меня было видеть, что все довольны мной и всем вокруг. Я всегда буду помнить, что в храме, когда я запинался, отвечая по катехизису, ничто так не смущало меня, как признаки беспокойства и огорчения на лице мадемуазель Ламберсье. Одно это удручало меня больше, чем стыд публичного промаха, хотя и это до крайности волновало меня; и я могу здесь сказать, что ожидание выговора от мадемуазель Ламберсье тревожило меня гораздо меньше, чем боязнь огорчить ее.
Однако она, как и ее брат, не упускала случая, когда это было необходимо, проявить строгость, но строгость эта, почти всегда справедливая, никогда не переходила границ и поэтому только огорчала, но не возмущала меня. Я больше боялся не угодить, чем понести за это кару, и признак неудовольствия был для меня тягостней телесного наказания. Мне неудобно высказаться яснее, однако нужно сделать это. Как поспешили бы изменить методу обращения с детьми, если бы лучше видели отдаленные последствия той методы, которую постоянно применяют без разбора и часто безрассудно! Великий урок, который можно извлечь из примера, столь же обычного, сколь пагубного, вынуждает меня привести его.
Так как мадемуазель Ламберсье любила нас как мать, она пользовалась и материнской властью, простирая ее до того, что подвергала нас порой, когда мы этого заслуживали, наказанию, обычному для детей. Довольно долго она ограничивалась лишь угрозой, и эта угроза наказанием, для меня совершенно новым, казалась мне очень страшной, но после того, как она была приведена в исполнение, я нашел, что само наказание не так ужасно, как ожидание его. И вот что самое странное: это наказание заставило меня еще больше полюбить ту, которая подвергла меня ему. Понадобилась вся моя искренняя привязанность, вся моя природная мягкость, чтобы помешать мне искать случая снова пережить то же обращение с собой, заслужив его; потому что я обнаружил в боли и даже в самом стыде примесь чувственности, вызывавшую во мне больше желания, чем боязни снова испытать это от той же руки. Правда, к этому, несомненно, примешивалась некоторая доля преждевременно развившегося полового инстинкта, и то же наказание, полученное от ее брата, вовсе не показалось бы мне приятным. Впрочем, зная его характер, мне нечего было опасаться такой замены; и если я не старался заслужить наказание, то исключительно из боязни рассердить мадемуазель Ламберсье; ибо так сильна надо мной власть доброжелательности, даже той, которая порождена чувственностью, что она всегда повелевала в моем сердце.
Повторение, которое я отдалял, боясь его, произошло без моей вины, то есть помимо моей воли, и я им воспользовался, могу сказать, с чистой совестью. Но этот второй раз был и последним: мадемуазель Ламберсье, несомненно заметив по какому-то признаку, что это наказание не достигает цели, объявила, что она от него отказывается, так как оно слишком утомляет ее. До тех пор мы спали в ее комнате, а зимой иногда даже в ее постели. Через два дня нас перевели в другую комнату, и с тех пор я удостоился чести, без которой прекрасно обошелся бы: она стала обращаться со мной как с большим мальчиком.
Кто бы мог подумать, что это наказание, которому подвергла восьмилетнего ребенка девушка тридцати лет, определило мои вкусы, мои желания, мои страсти, меня самого на всю остальную жизнь, и как раз в направлении, обратном тому, что должно было произойти естественным путем? В то время как во мне зажглась чувственность, желания мои так изменились, что, ограничившись испытанным, я не стал искать ничего другого. Хотя чуть ли не с самого рождения кровь моя была полна чувственного огня, я сохранил себя чистым и незапятнанным до того возраста, когда развиваются самые холодные и самые медлительные темпераменты. Мучаясь долго, сам не зная отчего, я пожирал пламенным взглядом красивых женщин; мое воображение беспрестанно напоминало их мне только для того, чтобы распорядиться ими по-своему и сделать их всех девицами Ламберсье.
Даже по достижении возмужалости этот странный вкус, по-прежнему упорный и доведенный до извращенности, до безумия, сохранил во мне благонравие, хотя, казалось бы, должен был лишить меня его. Если когда-нибудь воспитание было скромным и целомудренным, то именно такое воспитание я и получил. Три мои тетки отличались не только примерной рассудительностью, но и сдержанностью, давно уже незнакомой женщинам. Отец мой, охотник до наслаждений, но любезничавший по старой моде, никогда не заводил с женщинами, которых он любил, разговоров, способных заставить покраснеть девушку, и нигде уважение к детям не шло так далеко, как в моей семье; не менее внимательным ко мне в этом отношении был и г-н Ламберсье; одна очень хорошая служанка была выставлена им за дверь за какое-то немного вольное слово, сказанное при нас.
До своей юности я не только не имел ясного понятия о близости полов, но никогда смутное представление об этом не возникало у меня иначе, как в отталкивающем и противном виде. К публичным женщинам я чувствовал гадливость, которая осталась во мне навсегда; я не мог видеть развратника без чувства презрения, даже без ужаса; мое омерзение достигло высшей степени после того, как однажды, идя в Малый Сакконе по выбитой в горах дороге, я заметил по обеим ее сторонам углубления в земле, в которых, как мне говорили, эти люди совершали свои совокупления. То, что я наблюдал у собак, тоже всегда приходило мне на ум, когда я думал об этом, и от одного этого воспоминания меня начинало тошнить.
Эти предрассудки воспитания, сами по себе способные сдержать первые вспышки пылкого темперамента, как я сказал, получили поддержку в уклонении, которое вызвали у меня первые проявления чувственности. Рисуя в воображении лишь то, что перечувствовал, я, несмотря на кипение крови, причинявшее мне сильное беспокойство, мог устремлять свои желания только к известному мне виду сладострастья, никогда не доходя до другого, который мне сделался ненавистным и который был так близок к первому, хотя я об этом и не подозревал. В своих глупых фантазиях, в своих эротических исступлениях я прибегал к воображаемой помощи другого пола, не подозревая, что он пригоден к иному обращению, чем то, к которому я пламенно стремился.
Таким образом, обладая темпераментом очень пылким, очень сладострастным, очень рано пробудившимся, я тем не менее прошел возраст возмужалости, не желая и не зная других чувственных удовольствий, кроме тех, с какими познакомила меня, совершенно невинно, мадемуазель Ламберсье, а когда время сделало меня наконец мужчиной, случилось так, что меня опять спасло то самое, что должно было бы погубить. Моя прежняя детская склонность, вместо того чтобы исчезнуть, до такой степени соединилась с другой, что я никогда не мог отделить ее от желаний, зажженных чувственностью. И это безумие, в сочетании с моей природной робостью, делало меня всегда очень непредприимчивым с женщинами; у меня не было смелости все сказать или возможности все сделать, ибо тот род наслаждения, по отношению к которому другое было для меня лишь последним пределом, не мог быть самостоятельно осуществлен тем, кто его желал, ни отгадан той, которая могла его доставить. Всю жизнь я вожделел и безмолвствовал перед женщинами, которых больше всего любил. Никогда не смея признаться в своей склонности, я по крайней мере тешил себя отношениями, сохранявшими хотя бы представление о ней. Быть у ног надменной возлюбленной, повиноваться ее приказаниям, иметь повод просить у нее прощения – все это доставляло мне очень нежные радости; и чем больше мое живое воображение воспламеняло мне кровь, тем больше я походил на охваченного страстью любовника. Понятно, что этот способ ухаживания не ведет к особенно быстрым успехам и не слишком опасен для добродетели тех, кто является их предметом.
Таким образом, я очень мало обладал, но это не мешало мне наслаждаться по-своему, то есть в воображении. Вот каким образом мои чувственные стремления, в согласии с моим робким характером и романтическим складом ума, сохранили в чистоте мои чувства и мою нравственность; но те же самые наклонности, возможно, погрузили бы меня в самое грубое сладострастие, будь у меня больше бесстыдства.
Я сделал первый и самый тягостный шаг в темном и грязном лабиринте моих признаний. Трудней всего признаваться не в том, что преступно, а в том, что смешно и постыдно. Отныне я уверен в себе; после того, что я только что осмелился сообщить, ничто уже не может остановить меня. Чего стоят мне подобные признания, можно судить по тому, что в течение всей моей жизни меня не раз увлекало безумие страсти возле тех, кого я любил, лишая меня способности видеть и слышать, пронизывая все мое тело судорожным трепетом возбуждения, но никогда не мог я отважиться признаться в моем безумии, не мог даже в самых интимных отношениях умолять о единственной милости, которой мне недоставало. Это случилось со мной только раз, в детстве, с девочкой моих лет, да и то предложение исходило от нее.
Восходя таким образом к первым проявлениям моих чувствований, я нахожу в них элементы, кажущиеся иной раз несовместимыми, но тем не менее соединившиеся, чтобы с силой произвести действие однородное и простое; и нахожу также другие, с виду тождественные, но образовавшие благодаря стечению известных обстоятельств столь различные сочетания, что трудно представить себе, чтобы между ними была какая-нибудь связь. Кто подумал бы, например, что один из самых могущественных двигателей моей души исходил из того же источника, из которого в мою кровь лились изнеженность и сладострастье? Не покидая предмета, о котором только что шла речь, я покажу, сколь несходное впечатление произвел он в другом случае.
Как-то раз, оставшись один, я учил урок в комнате, смежной с кухней; служанка положила сушить на плиту гребенки мадемуазель Ламберсье. Когда она вернулась за ними, оказалось, что у одной гребенки половина зубьев сломана. Кто виновник этого? Никто, кроме меня, не входил в комнату. Меня допрашивают; я утверждаю, что не трогал гребенки. Г-н Ламберсье и его сестра убеждают меня, угрожают мне, наступают на меня – я упрямо стою на своем; но улика была слишком очевидна, она пересилила все мои возражения, хотя впервые было замечено, что я лгу так дерзко. К делу отнеслись серьезно: оно того стоило. Злость, ложь, упорство казались одинаково заслуживающими наказания; но, на беду, уже не мадемуазель Ламберсье произвела его надо мной. Написали моему дяде Бернару; он приехал. Мой бедный двоюродный брат был обвинен в другом, не менее тяжком проступке, и мы оба подверглись одному наказанию. Оно было ужасно. Если бы, ища лекарства в самой болезни, пожелали навсегда подавить мои извращенные чувства, то и тогда не могли бы лучше взяться за дело. И нужно сказать, что чувства эти надолго оставили меня в покое.
У меня не удалось вырвать требуемое признание. Меня призывали к ответу много раз, довели до ужасного состояния, но я был непоколебим. Мне легче было умереть, и я решился на это. Самой силе пришлось сдаться перед дьявольским упрямством ребенка – так называли мою стойкость. Наконец я вышел из этого ужасного испытания, истерзанный, но торжествующий.
Прошло почти пятьдесят лет со времени этого происшествия, теперь мне нечего бояться наказания за тот случай, и вот я объявляю перед лицом неба, что я был в нем неповинен, что я не ломал и не трогал гребня, не подходил к плите и даже не думал об этом. Пусть меня не спрашивают, как сломался гребень, – я этого не знаю и не могу понять; знаю одно только, что в этом я был неповинен.
Пусть представят себе характер, робкий и покорный в повседневной жизни, но пламенный, гордый, неукротимый в страстях, характер ребенка, всегда повиновавшегося голосу рассудка, всегда встречавшего обращение ласковое, ровное, приветливое, не имевшего даже понятия о несправедливости и в первый раз испытавшего столь ужасную несправедливость со стороны людей, которых он любил и уважал больше всего. Какое крушение понятий! Какое смятение чувств! Какой переворот в сердце, в мыслях, во всем его духовном, нравственном существе! Я говорю: пусть представят себе все это, если возможно, а я совершенно не способен разобрать и проследить во всех мелочах то, что происходило тогда во мне.
У меня еще недоставало разума, чтобы понять, насколько видимость обличает меня, и поставить себя на место других. Я стоял на своем и чувствовал только суровость страшного возмездия за преступление, которого я не совершил. Телесная боль, хотя и сильная, была для меня мало чувствительна; я испытывал только негодование, бешенство, отчаяние. Мой двоюродный брат, находясь приблизительно в том же положении, будучи наказан за невольную ошибку, как за умышленный проступок, приходил в ярость по моему примеру и, так сказать, настраивал себя на один лад со мной. Лежа в одной постели, мы судорожно сжимали друг друга в объятиях, мы задыхались, и когда наши юные сердца, немного успокоившись, были в состоянии излить свой гнев, мы поднимались на нашем ложе и изо всех сил кричали: «Carnifex! Carnifex! Carnifex!»[3]
И сейчас еще, когда пишу эти строки, я чувствую, как учащается мой пульс; эти минуты будут всегда у меня в памяти, хотя бы я прожил сто тысяч лет. Первое ощущение насилия и несправедливости так глубоко запечатлелось в моей душе, что все мысли, связанные с ним, будят во мне и прежнее волнение; и это чувство, в своем истоке относившееся лично ко мне, так упрочилось и так отрешилось от всего личного, что при виде любого несправедливого поступка или даже при рассказе о несправедливости, над кем бы и где бы ее ни совершили, мое сердце так горит негодованием, как будто я сам являюсь жертвой. Когда я читаю о жестокостях свирепого тирана, об изощренном коварстве лицемера-священника, я охотно пустился бы в путь, чтобы заколоть этих презренных, хотя бы при этом мне пришлось сто раз погибнуть. Я часто вгонял себя в пот, стараясь догнать или попасть камнем в петуха, корову, собаку, всякое животное, на моих глазах мучившее другое животное единственно потому, что было сильнее. Это чувство, возможно, у меня врожденное, и думаю, что это так; но впечатление от первой несправедливости, испытанной мною, было столь долго и крепко с ним связано, что значительно усилило его.
И вот пришел конец моей ясной детской жизни. С этого момента я перестал наслаждаться невозмутимым счастьем и даже теперь чувствую, что воспоминания о прелестях моего детства на этом кончаются. Мы оставались в Боссе еще несколько месяцев. Мы переживали то, что переживал первый человек, еще не изгнанный из рая, но уже переставший наслаждаться им: все было как будто прежним, но на деле жизнь пошла совсем по-другому. Привязанность, дружба, уважение, доверие уже не соединяли больше учеников и воспитателей; мы уже не смотрели на них как на богов, читающих в наших сердцах; мы уже меньше стыдились дурных поступков и больше боялись быть уличенными; мы стали скрываться, противоречить, лгать. Все пороки, свойственные нашему возрасту, развращали нашу невинность и безобразили наши игры. Даже сельская жизнь утратила в наших глазах обаяние сладостного покоя и простоты, идущих прямо к сердцу; она казалась нам теперь пустынной и мрачной; она как бы покрылась пеленой, скрывавшей от нас ее красоту. Мы перестали ухаживать за своими садиками, за цветами и травами. Мы уже не копались в земле и не вскрикивали от радости, видя, что брошенное в нее зерно дало росток. Нам надоела эта жизнь, и мы надоели воспитателям; мой дядя взял нас, и мы расстались с г-ном и с мадемуазель Ламберсье, пресыщенные друг другом и мало сожалея о разлуке.
Почти тридцать лет прошло со времени моего отъезда из Боссе, и я ни разу не вспомнил о пребывании там с удовольствием и сколько-нибудь связно. Но с тех пор как, перейдя зрелый возраст, я стал клониться к старости, я замечаю, что эти воспоминания возникают вновь, вытесняя все другие, и запечатлеваются в моей памяти в образах, очарование и сила которых растет с каждым днем; как будто я уже чувствую, что жизнь ускользает, и стараюсь поймать ее у самого начала. Мельчайшие события того времени милы мне единственно потому, что они относятся именно к тому времени. Я вспоминаю во всех подробностях все места, всех людей, часы дня. Вижу служанку и лакея, убирающих комнату; ласточку, влетающую в окно; муху, садящуюся мне на руку, в то время как я отвечаю урок; вижу убранство комнаты, где мы находились: шкаф г-на Ламберсье по правую руку, гравюру, изображающую всех пап, барометр, большой календарь, кусты малины, которые затеняли окно и порой тянулись в комнату из сада, расположенного выше, нежели наш дом, выходивший в него задним крыльцом. Я хорошо понимаю, что читателю не очень нужно все это знать, но мне-то очень нужно рассказать ему об этом. Отчего мне не решиться поведать все маленькие происшествия того счастливого возраста, заставляющие меня еще и сейчас вздрагивать от радости, когда я вспоминаю их? Среди них есть пять или шесть, о которых мне особенно хотелось бы упомянуть. Договоримся. Я избавлю вас от пяти, но хочу сообщить об одном-единственном – при условии, что мне позволят рассказывать как можно дольше, чтобы продлить мое удовольствие.
Если б я думал только о вашем удовольствии, я мог бы выбрать происшествия с мадемуазель Ламберсье, зад которой, вследствие ее неудачного падения на покатом лугу, предстал во всей красе перед сардинским королем во время его проезда; но происшествие с ореховым деревом на площадке для меня более занимательно, так как тут я был действующим лицом, а при падении мадемуазель Ламберсье – только зрителем; и, признаться, мне ничуть не хотелось смеяться над этим случаем, хотя и комичным самим по себе, но огорчившим меня, так как он произошел с особой, которую я любил как мать, а может быть, и больше.
О вы, читатели, жаждущие услышать великую повесть об ореховом дереве на площадке, выслушайте эту ужасную трагедию без содрогания, если можете!
Возле двора, слева от ворот, была площадка со скамейкой, на которой часто сидели днем, но в этом месте совсем не было тени. Чтобы создать ее, г-н Ламберсье посадил там ореховое дерево. Посадка была произведена торжественно: оба питомца были восприемниками, и, пока закапывали яму, мы держали дерево каждый одной рукой, распевая победные песни. Для поливки вокруг дерева устроили нечто вроде бассейна. Каждый день, жадно созерцая эту поливку, мы с двоюродным братом все более укреплялись в очень естественной мысли, что гораздо лучше посадить дерево на площадке, чем водрузить знамя на вражеской крепости, и мы решили добыть себе эту славу, не разделяя ее ни с кем.
Для этого мы срезали черенок молодой ивы и посадили его на площадке, в восьми или десяти шагах от величественного орехового дерева. Мы не забыли также сделать углубление вокруг нашей ивы; трудность заключалась в том, чтобы наполнить это углубление, так как вода была далеко, а нам не позволяли за ней бегать. Между тем она была совершенно необходима для нашего черенка. В течение нескольких дней мы пускались на всевозможные хитрости, чтобы добывать воду; и нам это так хорошо удавалось, что мы вскоре увидели, как на иве набухают почки и распускаются маленькие листья, рост которых мы измеряли каждый час, уверенные, что ива, хотя и не достигавшая фута над землей, скоро будет давать нам тень.
Наше дерево, поглощая нас целиком, делало нас совершенно неспособными к прилежанию в учении; мы были как в бреду. Не понимая, что с нами творится, нам стали давать меньше воли, чем раньше, и мы уже предвидели приближение роковой минуты, когда наше дерево останется без воды, и приходили в отчаяние, ожидая, что оно засохнет и погибнет. Наконец нужда – мать изобретательности – подсказала нам способ спасти и себя и дерево от верной гибели: он заключался в том, чтобы провести под землей канавку, которая тайно подводила бы к иве часть воды, предназначавшейся для поливки орехового дерева. Это предприятие, выполненное с увлечением, удалось, однако, не сразу. Мы сделали такой неудачный наклон, что вода совсем не текла, земля обваливалась и засыпала канавку, вход наполнялся грязью; все шло вкривь и вкось. Но мы не падали духом: Omnia vincit labor improbus[4].
Мы углубили и канавку, и наш бассейн, чтобы дать воде свободное течение; разрезали днища от ящиков на узкие дощечки, укрепили эти планочки – одни плашмя друг за другом, другие по обеим сторонам первых и под углом к ним, сделав из них трехугольный желоб для нашего канала. При входе в него мы установили узкие щепочки, переплели их, и они, образуя нечто вроде решетки или сетки, задерживали грязь и камни, не закрывая прохода для воды. Мы заботливо прикрыли наше сооружение землей, хорошо утоптали ее; и в день, когда все было готово, обуреваемые надеждой и страхом, ждали часа поливки. После бесконечного ожидания этот час наконец настал; г-н Ламберсье, по обыкновению, пришел, чтобы присутствовать при этой операции, во время которой мы оба держались позади него, чтобы скрыть наше дерево, но он, по счастью, стоял к нему спиной.
Едва успели вылить первое ведро воды, как мы увидели, что она течет в наш бассейн. При этом зрелище благоразумие оставило нас, и мы так закричали от радости, что г-н Ламберсье обернулся; это было очень печально, потому что ему доставляло огромное удовольствие видеть, как хороша земля у его орехового дерева и как она жадно пьет воду. Увидя, что вода растекается на два бассейна, он, пораженный, в свою очередь испускает крик, озирается, замечает жульничество, резко приказывает принести себе заступ, наносит такой удар, что щепки от наших досок летят в воздух, и, крича во все горло: «Водопровод! Водопровод!» – сокрушает все безжалостными ударами, из которых каждый разил нас в самое сердце. В одно мгновенье доски, канал, бассейн, ива – все было разрушено, все было срыто, и во время этого ужасного разгрома не было произнесено ни одного слова, кроме восклицания, которое он повторял без конца. «Водопровод! – кричал он, уничтожая наше сооружение. – Водопровод! Водопровод!»
Подумают, что приключение имело плохие последствия для маленьких архитекторов. Ошибутся: все кончилось на этом. Г-н Ламберсье не сказал нам ни слова упрека, не смотрел на нас сердито и больше не говорил с нами об этом; мы даже услышали через некоторое время, как он смеялся со своей сестрой во все горло, – потому что смех его был слышен издалека; и – что еще удивительней – мы сами, когда прошло первое потрясение, не были слишком огорчены. Мы посадили другое дерево в другом месте и, часто вспоминая катастрофу, погубившую первое дерево, повторяли с пафосом: «Водопровод! Водопровод!» До этого у меня временами бывали приступы гордости, когда я воображал себя Аристидом или Брутом. А здесь во мне впервые заговорило явное тщеславие. Построить собственными руками водопровод, заставить черенок соперничать с большим деревом казалось мне деянием, достойным высшей славы. В десять лет я судил об этом лучше, чем Цезарь в тридцать.
Мысль об этом ореховом дереве и маленькая история, с ним связанная, так хорошо сохранились у меня в памяти или снова возникли в ней, что одним из приятнейших для меня замыслов во время моего путешествия в Женеву в 1754 году было отправиться в Боссе, чтобы вновь увидеть памятники моих детских игр и особенно – милое ореховое дерево, которому в то время должно было исполниться уже треть века. Но меня непрерывно осаждали, я так мало мог располагать собой, что у меня не нашлось времени удовлетворить свое желание. Маловероятно, чтобы такой случай когда-либо снова представился мне. Однако я не теряю ни желания, ни надежды и почти уверен, что, если когда-нибудь вернусь в эти дорогие места и найду мое милое ореховое дерево еще в живых, – я орошу его слезами.
По возвращении в Женеву я провел около трех лет у моего дяди, ожидая, когда решат, что со мною делать. Так как дядя предназначал своего сына в инженеры, он немного выучил его рисовать и познакомил с «Элементами» Эвклида. Я учился за компанию и пристрастился к занятиям, особенно к рисованию. Между тем обсуждали вопрос – сделать ли из меня часовщика, адвоката или священника. Я предпочитал стать священником, потому что говорить проповедь казалось мне прекрасным. Но доход от имения моей матери, который еще надо было поделить между мной и братом, был слишком мал, чтобы я мог продолжать учение. Мой возраст позволял не слишком спешить с выбором, и я оставался пока что у дяди, почти ничего не делая и не переставая платить, как и подобало, порядочную сумму за свое содержание.
Дядя, подобно моему отцу, был любителем удовольствий, но не умел подчиняться своим обязанностям, как это делал отец, и довольно мало заботился о нас. Моя тетка была женщина набожная, немного пиетистка и больше любила распевать псалмы, чем заниматься нашим воспитанием. Нам была предоставлена почти полная свобода, которой мы, однако, никогда не злоупотребляли. Всегда неразлучные, мы довольствовались обществом друг друга; не имея охоты водиться с сорванцами нашего возраста, мы не переняли ни одной из разнузданных привычек, которые могла бы нам внушить праздность. Я даже не прав, изображая нас праздными, так как мы были ими менее чем когда-либо, и, что было особенным счастьем – все забавы, которыми мы последовательно увлекались, удерживали нас обоих дома, так что у нас даже не было соблазна выйти на улицу. Мы мастерили клетки, дудки, воланы, барабаны, дома, лодочки, самострелы. Мы портили инструменты моего доброго старого деда, стараясь сделать, по его примеру, часы. Особенно же мы любили марать бумагу, рисовать, раскрашивать, расцвечивать, изводить краски. В Женеву приехал итальянский шарлатан по фамилии Гамба-Корта; раз мы пошли посмотреть на него и больше не захотели ходить. Но у него были марионетки, и мы принялись за изготовление марионеток; его марионетки разыгрывали нечто вроде комедий, и мы принялись сочинять комедии для наших. За неимением пищика мы подражали голосу Полишинеля горлом, разыгрывая эти прелестные комедии перед нашими несчастными добрыми родственниками, у которых хватало терпения смотреть их и слушать. Но после того как мой дядя Бернар прочитал в семейном кругу отличную проповедь своего сочинения, мы бросили комедии и принялись составлять проповеди. Сознаю, что все эти подробности не слишком интересны, но они показывают, насколько хорошо было наше первоначальное воспитание, если и в таком нежном возрасте, предоставленные самим себе, мы никогда не пытались злоупотреблять своей свободой. Потребность в товарищах была у нас так мала, что мы пренебрегали представлявшимися случаями приобрести их. Гуляя, мы смотрели мимоходом на игры других мальчиков без зависти, даже не помышляя принять в них участие. Взаимная дружба так наполняла наши сердца, что нам было достаточно быть вместе, чтобы самые простые забавы становились для нас наслаждением.
Видя нас неразлучными, на нас обратили внимание, тем более что мой двоюродный брат Бернар был очень высокого роста, а я – очень маленького, так что получалась довольно смешная пара. Его длинная, тонкая фигура, маленькое, как печеное яблоко, лицо, хилый вид, небрежная походка давали детям повод для насмешек. На местном наречии ему дали прозвище «Барнá Бреданнá», и стоило нам выйти на улицу, мы только и слышали вокруг: «Барна Бреданна!» Он переносил это спокойней, чем я. Я сердился, лез в драку; а маленьким плутам только этого и надо было. Я бил и бывал битым. Мой бедный брат помогал мне как мог, но он был слаб: его сбивали с ног одним ударом кулака. Тогда я приходил в ярость. Однако, хотя мне и всыпáли тумаков, предметом неприязни был не я, а «Барна Бреданна»; но я так ухудшил дело своим неукротимым бешенством, что вскоре мы решались выходить из дому только в часы занятий, боясь травли и преследования со стороны школьников.
Вот я уже защитник угнетенных. Чтобы стать рыцарем по всем правилам, мне недоставало только дамы – у меня их оказалось две. Время от времени я отправлялся повидаться с отцом в Нион, маленький городок в кантоне Во, где он поселился. Моего отца очень любили, и это отражалось на сыне. Во время моего краткого пребывания у него меня угощали наперебой; некая г-жа де Вюльсон осыпала меня ласками, и в довершение всего дочь ее избрала меня своим кавалером. Понятно, что значит одиннадцатилетний кавалер для девушки двадцати двух лет. Все эти плутовки так любят выдвигать вперед маленьких кукол, чтобы прикрывать ими больших или заманивать последних игрою, которую они умеют сделать привлекательной! Что касается меня, то я не замечал никакого несоответствия между нею и мной и принял дело всерьез. Я предался всем сердцем – вернее, всей головою, так как был влюблен только головой, хоть и до безумия, – и мои восторги, волнения, неистовые вспышки гнева порождали сцены, от которых можно было умереть со смеху.
Мне известны два вида любви, очень определенных, очень реальных и не имеющих между собой почти ничего общего, хотя тот и другой пылки и оба не похожи на нежную дружбу. Вся моя жизнь разделилась между двумя этими видами любви, столь различными по природе, и порою я переживал их даже одновременно. Так, например, в тот период, о котором я говорю, увлекаясь мадемуазель де Вюльсон так открыто и деспотически, что не терпел, чтобы кто-либо из мужчин к ней приближался, я имел краткие, но довольно оживленные свидания с некоей маленькой мадемуазель Готон, во время которых она благосклонно брала на себя роль школьной учительницы, и это было все; но это «все» было действительно всем для меня и казалось мне высшим счастьем; и, уже понимая цену тайны, хотя и пользуясь ею как ребенок, я отплачивал ничего не подозревавшей мадемуазель де Вюльсон за то, что она так усердно пользовалась мною для прикрытия своих увлечений. Но, к моему великому огорчению, моя тайна была раскрыта, или, может быть, моя маленькая учительница не хранила ее так, как я, потому что нас не замедлили разлучить, и через некоторое время, после того как я вернулся в Женеву, я слышал, проходя через Кутанс, как девочки вполголоса кричали мне: «Готон тик-так Руссо».
Странным созданием, по правде говоря, была эта маленькая мадемуазель Готон. Она не была красива, но ее лицо трудно забыть, и я еще теперь вспоминаю его, даже слишком часто для старого безумца. В особенности глаза у нее были недетские, а также стан и манера держаться. У нее был милый, внушительный и гордый вид, очень подходящий для роли учительницы, что и вызвало у нас с ней первую мысль об этой игре. Но самым странным в ней было сочетание смелости и сдержанности, которое трудно было понять. Она позволяла себе со мной самые большие вольности, никогда не допуская ничего подобного с моей стороны; она обращалась со мной буквально как с ребенком, и это заставляет меня думать, что она уже перестала быть им или, наоборот, еще оставалась им настолько, что видела лишь забаву в опасности, которой себя подвергала.
Я, если можно так выразиться, всецело принадлежал каждой из этих двух особ, и так безраздельно, что мне никогда не случалось в обществе одной из них думать о другой. Впрочем, не было ничего сходного в том чувстве, которое они вызывали во мне. Я провел бы всю жизнь с мадемуазель де Вюльсон, не помышляя ее покинуть, но, когда я приближался к ней, моя радость была спокойна, и я не ощущал волненья. Особенно любил я ее в большом обществе: шутки, поддразнивание, даже ревность привлекали, занимали меня; я гордился и торжествовал, видя, что она предпочитает меня взрослым соперникам, с которыми, казалось, обходится дурно. Меня мучили, но я любил это мучение. Похвала, одобрение, смех возбуждали и оживляли меня. Я горячился, острил; я пылал любовью на людях; с глазу на глаз я был бы натянут, холоден, быть может скучал бы. Между тем я принимал в ней нежное участие; я страдал, когда она была больна; я отдал бы свое здоровье, чтобы она поправилась; и заметьте, что я по опыту прекрасно знал, что такое болезнь и что такое здоровье. Вдали от нее я думал о ней, мне недоставало ее; но ее ласки были приятны сердцу, а не чувствам. Близкое общение с ней было для меня безопасно; мое воображение требовало лишь того, что она мне давала; однако я не вынес бы, если бы видел, что она обращается с другими так же. Я любил ее, как брат, но ревновал, как любовник.
Я ревновал бы и маленькую Готон, как турок, как бешеный, как тигр, если б только мог представить себе, что с кем-нибудь другим она обращается, как со мной, – ведь это было милостью, о которой нужно просить на коленях. К мадемуазель де Вюльсон я подходил с живым удовольствием, но без смущенья, меж тем как при появлении маленькой Готон я больше уже ничего не видел; все чувства мои приходили в смятение. Я был близок с первой без всяких вольностей, а перед второй я столько же трепетал, сколько возбуждался, даже при самых больших вольностях. Думаю, что, если б я слишком долго оставался с ней, я не выжил бы: сердцебиение задушило бы меня. Обеим одинаково я боялся не угодить, но был услужливее с одной и покорней с другой. Ни за что на свете не хотел бы я рассердить мадемуазель де Вюльсон, но, если бы маленькая Готон приказала мне броситься в огонь, думаю, что я тотчас же повиновался бы ей.
Моя любовь или, верней, мои встречи с маленькой Готон продолжались недолго, к счастью для нее и для меня. Мои отношения с мадемуазель де Вюльсон не были столь опасны, но и они кончились катастрофой, хотя продолжались дольше. Конец подобных отношений, наверно, всегда имеет несколько романтический вид и дает повод к пересудам. Хотя чувство мое к мадемуазель де Вюльсон было менее пылко, в нем, может быть, было больше привязанности. Мы никогда не расставались без слез, и трудно представить себе, в какую гнетущую пустоту ввергла меня разлука с ней. Я мог говорить и думать только о ней; мои сожаления были неподдельны и живы; но я подозреваю, что, в сущности, не все эти страстные сожаления относились к ней, и, хотя я сам не замечал этого, развлечения, центром которых она являлась, играли тут большую роль. Чтобы умерить горечь разлуки, мы писали друг другу письма, пафос которых был способен сокрушить скалы. Наконец, к моему величайшему торжеству, она не выдержала и приехала повидаться со мной в Женеву. Тут голова моя окончательно закружилась; я был точно пьян и безумствовал в течение двух дней, которые она провела здесь. Когда она уезжала, я хотел броситься вслед за ней вплавь по озеру и долго оглашал воздух своими криками. Через неделю она прислала мне конфет и перчатки, что показалось бы мне очень любезным, не узнай я в то же время, что она вышла замуж и что путешествие, которым ей угодно было почтить меня, имело целью покупку подвенечного платья.
Я не стану описывать свое бешенство: оно понятно само собой. В своем благородном гневе я поклялся никогда не встречаться с коварной, так как не в состоянии был представить себе более ужасного для нее наказания. Но она от этого не умерла; двадцать лет спустя, приехав навестить отца и катаясь с ним по озеру, я спросил, кто эти дамы в лодке невдалеке от нас. «Как! – сказал мне отец, улыбаясь. – Разве сердце тебе ничего не подсказывает? Это твоя прежняя любовь: госпожа Кристен, мадемуазель де Вюльсон». Я вздрогнул, услышав это почти забытое имя, но попросил лодочников повернуть в сторону; хотя мне теперь и легко было отомстить, я не думал, чтобы стоило труда нарушать клятву и возобновлять ссору двадцатилетней давности с женщиной сорока лет.
Так тратилось на пустяки самое драгоценное время моего детства, прежде чем решена была моя участь. После долгого обсуждения моих природных склонностей остановились наконец на том, к чему я меньше всего был способен, и устроили меня к Массерону, городскому протоколисту, чтобы я научился под его руководством полезному ремеслу судебного крючкотвора, как говорил г-н Бернар. Прозвище это очень не нравилось мне; надежда заработать кучу денег неблагородным путем мало льстила моему гордому нраву; занятие казалось мне скучным, невыносимым; кропотливость работы, подчинение окончательно меня от него отвратили, и я всегда входил в канцелярию с тайным ужасом, возраставшим день ото дня. Массерон, со своей стороны не слишком довольный мною, относился ко мне презрительно, непрерывно упрекал за вялость, глупость и повторял ежедневно, что дядя уверял его, будто я знаю, будто я знаю, а на деле я ровно ничего не знаю; что ему обещали славного мальчика, а дали просто осла. Наконец я был с позором изгнан из канцелярии за неспособность, и конторщики Массерона решили, что я гожусь только на то, чтобы орудовать напильником.
Когда, таким образом, мое призвание определилось, меня отдали в учение, однако не к часовщику, а к граверу. Презрение протоколиста очень меня удручало, и я безропотно повиновался. Мой хозяин Дюкоммен был молодой человек, грубый и резкий; и ему в очень короткий срок удалось омрачить мое радостное детство, огрубить мой ласковый, живой характер и низвести меня в умственном отношении, как я уже был низведен и в своем положении, до уровня настоящего подмастерья. Латинский язык, античный мир, история – все было забыто надолго; я даже не вспоминал о том, что на свете существовали римляне. Мой отец, когда я навещал его, более не находил во мне своего кумира; я перестал быть для дам любезным Жан-Жаком и сам так хорошо понимал, что г-н и мадемуазель Ламберсье не узнали бы во мне своего ученика, что мне стыдно было показаться им на глаза, и с тех пор я больше не видал их. Самые низкие наклонности, самое гнусное озорство заняли место милых забав, не оставив о них даже воспоминания. Видимо, несмотря на самое благопристойное воспитание, у меня была большая склонность к нравственному падению, так как оно совершилось очень быстро, без малейшего затруднения, и, верно, никогда такой скороспелый Цезарь не превращался так быстро в Ларидона.
Ремесло само по себе нравилось мне: я очень любил рисовать, работа гравировальным резцом меня занимала; а так как в часовом деле от гравера не требуется слишком многого, я надеялся скоро достигнуть в этом искусстве совершенства. Быть может, я добился б этого, если бы грубость моего хозяина и чрезвычайное притеснение не отвратили меня от работы. Я крал у нее время для занятий того же рода, но имевших для меня прелесть свободы. Я гравировал нечто вроде медалей, которые должны были служить мне и моим товарищам рыцарскими орденами. Застав меня за этой контрабандной работой, хозяин исколотил меня, говоря, что я упражняюсь в ремесле фальшивомонетчика, так как на наших медалях был герб республики. Могу поклясться, что у меня не было ни малейшего представления о фальшивых деньгах и очень слабое о настоящих. Я лучше знал, как делаются римские ассы, чем наши монеты в три су.
Тирания хозяина в конце концов сделала работу, которую я мог бы полюбить, невыносимой и породила во мне пороки, которые могли бы стать для меня ненавистными: ложь, безделье, воровство. Ничто так ясно не показало мне разницу между сыновней зависимостью и рабским подчинением, как воспоминание о происшедших во мне за это время переменах. От природы робкий и застенчивый, я из всех недостатков всего более был далек от бесстыдства. Но ведь я наслаждался разумной свободой, которая с тех пор постепенно ограничивалась и наконец совсем исчезла. Я был смел у своего отца, свободен у г-на Ламберсье, скромен у своего дяди; я сделался запуганным у своего хозяина и стал потерянным ребенком. Привыкнув быть равным со старшими в образе жизни, не знать удовольствий, в которых мне нельзя было бы принять участия, не видеть кушаний, в которых не было бы и моей доли, не испытывать желаний, которых я не мог бы высказать, и, наконец, переносить все движенья сердца на уста, – во что я должен был превратиться в доме, где не смел раскрыть рот, где надо было вставать из-за обеденного стола после первого блюда, уходить из комнаты, как только мне там нечего было делать; где, постоянно прикованный к работе, я видел возможность удовольствия только для других, а для себя самого – одни лишения; где зрелище свободы хозяина и мастеров увеличивало тяжесть моей зависимости; где во время разговоров о том, что я знал лучше всего, я не смел и заикнуться; где, наконец, все, что я видел, становилось предметом алчных желаний моего сердца единственно потому, что я был всего лишен. Прощай, довольство, веселье, удачные словечки, которые, бывало, нередко избавляли меня от наказанья! Не могу вспомнить без смеха, как дома меня однажды вечером за какую-то шалость отправили спать без ужина; проходя через кухню с одним жалким кусочком хлеба, я увидел вращающееся на вертеле жаркое и услышал его запах. Все мои близкие сидели вокруг очага: нужно было проститься с каждым. Когда я обошел всех, поглядывая одним глазом на жаркое, имевшее такой заманчивый вид и такой вкусный запах, я не мог удержаться, чтобы не попрощаться и с ним, и сказал ему жалобным тоном: «Прощай, жаркое!» Эта наивная выходка показалась всем такой забавной, что меня оставили ужинать. Может быть, она имела бы успех и у моего хозяина, но, уж конечно, здесь она не пришла бы мне в голову, а если бы и пришла, я не решился бы привести ее в исполнение.
Вот так привык я таить свои желания, скрываться, притворствовать, лгать и, наконец, красть – склонность, раньше несвойственная мне, но от которой с тех пор я не мог полностью излечиться. Желание и невозможность его удовлетворить всегда ведут к этому. Вот почему все лакеи – воры, и все ремесленные ученики тоже вынуждены воровать; но последние, вырастая, оказавшись в положении равенства и спокойствия, при котором все, что они видят, доступно им, теряют эту постыдную склонность. Не достигнув подобного благополучия, я не мог извлечь из него и эту пользу.
Почти всегда именно хорошие, но плохо направленные чувства заставляют детей делать первый шаг к дурному. Несмотря на постоянные лишения и соблазны, я прожил у хозяина больше года, не решаясь что-нибудь взять хотя бы из съестного. Первое мое воровство было делом услужливости, но оно открыло дорогу другим кражам, не имевшим столь похвальной цели.
У моего хозяина был компаньон по имени Верра; дом его находился по соседству, при нем был довольно обширный сад, где разводили прекрасную спаржу. Г-н Верра нуждался в деньгах, и ему пришла в голову мысль украсть у своей матери молодую спаржу и продать ее, чтобы устроить несколько хороших завтраков. Будучи не слишком проворным и не желая подвергаться опасности, он выбрал для этого похода меня. После нескольких предварительных любезностей, подкупивших меня тем скорей, что я не знал их цели, он предложил мне совершить эту кражу, и с таким видом, будто мысль о ней пришла ему внезапно. Я долго отказывался – он настаивал. Я никогда не мог противиться ласкам – я сдался. Я ходил каждое утро собирать самую лучшую спаржу и относил ее на Молар, где какая-нибудь тетенька, хорошо понимая, что спаржу я только что украл, говорила мне это, чтобы купить ее подешевле. В страхе я брал то, что ей угодно было дать мне, и относил деньги г-ну Верра. Они быстро превращались в завтрак, который я же и добывал и который он разделял с одним из своих товарищей; что же касается меня, то, довольный какими-нибудь объедками, я не притрагивался даже к их вину.
Проделки эти продолжались несколько дней, и ни разу мне не пришло в голову обокрасть вора – взыскать десятину с доходов г-на Верра от спаржи. Я был необыкновенно честным жуликом; единственным моим побуждением было услужить тому, кто заставлял меня это делать. Между тем, если б меня поймали, сколько побоев, сколько оскорблений, какое жестокое обращение пришлось бы мне перенести; тогда как негодяю, отрекись он от меня, поверили бы на слово, и я был бы наказан вдвойне за то, что осмелился его обвинять, ибо он был компаньоном, а я только учеником. Вот как во всех состояниях за сильного всегда отвечает бессильный.
Так я узнал, что воровать совсем не столь ужасно, как мне казалось, и вскоре так хорошо воспользовался этим знанием, что все, чего бы я ни пожелал, будучи мне доступным, не было в безопасности. У моего хозяина кормили не так уж плохо, и умеренность была мне тяжела только потому, что я видел, как она плохо соблюдалась другими. Обычай заставлять детей вставать из-за стола, когда подают самые соблазнительные для них блюда, кажется мне лучшим способом делать из них лакомок и воришек. Вскоре я стал тем и другим; и обычно я чувствовал себя при этом прекрасно, – плохо было лишь тогда, когда меня накрывали.
Воспоминание, до сих пор заставляющее меня и дрожать и смеяться, – это охота за яблоками, дорого мне обошедшаяся. Яблоки находились в углу кладовой, в которую свет проникал из кухни через решетчатое окно, прорезанное высоко в стене. Однажды, оставшись один дома, я залез на ларь, чтобы заглянуть в сад Гесперид и полюбоваться на драгоценные плоды, к которым не мог приблизиться. Я пошел за вертелом, чтобы попробовать, не достанет ли он до яблок; он оказался слишком коротким. Я удлинил его при помощи другого, маленького вертела, употреблявшегося для мелкой дичи, так как мой хозяин любил охоту. Несколько раз я безуспешно просовывал вертел и наконец с восторгом почувствовал, что тащу яблоко. Я тянул очень осторожно: яблоко уже коснулось окна; я готов был схватить его. Кто опишет мое горе! Яблоко было слишком велико и не проходило в отверстие. Сколько изобретательности пустил я в ход, чтобы протащить его! Надо было найти подпорку, чтобы удержать вертел в нужном положении, нож, достаточно длинный, чтобы разрезать яблоко, дранку, чтобы помешать ему упасть. Затратив немало ловкости и времени, я все-таки разрезал яблоко, надеясь, что вытяну один кусок за другим; но, как только яблоко распалось на половинки, обе они упали в кладовую. Сострадательный читатель, посочувствуйте моей скорби.
Я не пал духом, но потерял много времени. Боясь, что меня накроют, я решил отложить свою затею до завтра, надеясь, что мне больше посчастливится, и, вернувшись в мастерскую, принялся за работу так спокойно, будто ничего не сделал, не помышляя о двух нескромных, обличавших меня свидетелях в кладовой.
На другой день, улучив удобный момент, я делаю новую попытку. Лезу на свои подмостки, удлиняю вертел, нацеливаюсь, вот уже готов наколоть яблоко… К несчастью, дракон не дремал. Дверь кладовой отворяется – мой хозяин выходит оттуда, скрещивает на груди руки, смотрит на меня и говорит: «Смелей!..» Перо выпадает у меня из рук…
Вскоре, привыкнув к плохому обращению, я сделался менее чувствителен к нему, и оно стало казаться мне в конце концов чем-то вроде естественного возмездия за воровство – возмездия, дававшего мне право продолжать свои проделки. Вместо того чтобы оглянуться назад и вспомнить о наказании, я глядел вперед и видел мщение. Я считал, что, раз меня бьют, как воришку, это дает мне право воровать. Я находил, что воровство и побои связаны друг с другом, составляют в некотором роде одно целое и что, исполняя ту часть, которая зависит от меня, я могу предоставить другую заботам хозяина. Усвоив эту идею, я стал воровать спокойнее, чем раньше. Я говорил себе: «Что же случится в конце концов? Меня побьют. Пускай: я для этого и создан».
Я люблю поесть, но не жаден; падок на все вкусное, но не лакомка. Слишком много других склонностей отвлекают меня от этого. Я уделял внимание своему желудку, только когда сердце мое было свободно; но это случалось в моей жизни так редко, что у меня не было времени мечтать о лакомых кусочках. Вот почему я недолго ограничивался воровством съедобного и вскоре стал брать все, что меня соблазняло; и если я не сделался настоящим вором, то лишь потому, что деньги меня никогда особенно не прельщали. В мастерской у моего хозяина было особое отделение, запиравшееся на ключ; я нашел способ открывать дверь и закрывать ее так, что это было незаметно. Там я брал прекрасные инструменты хозяина, его лучшие рисунки, его оттиски, все, что вызывало во мне зависть и что он так старательно прятал от меня. В сущности, эти кражи были очень невинны, так как все, что я таскал у хозяина, употреблялось мною для работы на него же; но я был в восторге, имея эти пустяки в своем распоряжении; мне казалось, что я краду его талант вместе с его произведениями. Впрочем, там был золотой и серебряный лом, мелкие драгоценности, ценные вещи, деньги. Я считал себя богачом, когда у меня в кармане было четыре-пять су; тем не менее я не только был очень далек от желания притронуться к какому-нибудь из этих предметов, но даже не помню, чтобы бросил на них алчный взгляд. Я смотрел на это скорей с ужасом, чем с удовольствием. Думаю, что отвращение к краже денег и всего, что их приносит, было заложено во мне воспитанием. Сюда примешивалось смутное опасение бесчестья, тюрьмы, наказания, виселицы, которое заставило бы меня содрогнуться, поддайся я искушению, тогда как мои проделки казались мне только шалостями и действительно не были ничем иным. Все это могло кончиться лишь порядочной трепкой со стороны хозяина, и я уже заранее был готов к ней.
Но, повторяю еще раз, мое вожделение не шло настолько далеко, чтобы была необходимость его превозмогать; мне нечего было подавлять в себе. Листок хорошей бумаги для рисования больше соблазнял меня, чем деньги, на которые можно купить целую стопу. Эта странность проистекала из одной особенности моего характера, имевшей такое сильное влияние на мое поведение, что необходимо ее объяснить.
У меня очень пылкие страсти, и, если они волнуют меня, ничто не может сравниться с моей горячностью: тогда для меня не существует ни осторожности, ни уважения, ни страха, ни приличия; я становлюсь циничным, наглым, неистовым, неустрашимым; стыд не останавливает меня, опасность не пугает; кроме предмета, который меня увлекает, весь мир для меня ничто. Но все это длится только мгновенье, и вслед за тем я впадаю в оцепенение. Застаньте меня в спокойном состоянии, я – воплощенная вялость, даже робость; все меня тревожит, все отталкивает; пролетающая муха пугает меня; сказать слово, сделать движение – мысль об этом приводит в ужас мою лень; боязнь и стыд до того порабощают меня, что я хотел бы исчезнуть с глаз людских. Если надо действовать, я не знаю, что делать; если надо говорить, не знаю, что сказать; если на меня смотрят, я смущаюсь. Когда я охвачен страстью, я иной раз нахожу что сказать, но в обычных разговорах не нахожу ничего, совершенно ничего; они несносны для меня уже тем, что я обязан говорить.
Прибавьте к этому, что ни одна из моих преобладающих склонностей не обращена на то, что можно купить. Мне нужны только чистые наслаждения, а деньги отравляют все. Я люблю, например, хороший стол, но, не вынося ни чопорности избранного общества, ни кабацкого беспутства, я могу предаваться этому удовольствию лишь с приятелем, ибо, когда я один, мое воображение занято другими предметами и я уже не ощущаю никакого удовольствия от еды. Порою моя разгоревшаяся кровь требует женщин, но взволнованное сердце еще больше требует любви. Женщины, купленные за деньги, потеряли бы для меня всякое очарование; сомневаюсь даже, чтоб я мог пользоваться ими. И так бывает со всеми доступными мне удовольствиями: раз они не достались мне даром, я нахожу их бессмысленными. Я люблю лишь те блага, которые принадлежат только первому, умеющему их вкусить.
Никогда деньги не казались мне таким драгоценным предметом, каким их считают. Больше того, они никогда не казались мне большим удобством: сами по себе они ни на что не годны, их надо сначала превратить во что-нибудь, чтобы извлечь из них удовольствие; надо покупать, торговаться, нередко быть обманутым, дорого заплатить и получить плохой товар. Я хочу получить нечто, хорошее по своему качеству, и уверен, что за деньги получу плохое. Я плачу дорого за свежее яйцо, а оно лежалое; за зрелый плод – он зелен; за девушку – она порочна. Я люблю хорошее вино, но где его достать? У виноторговца? Как бы я ни изощрялся, он может отравить меня. Я хочу во что бы то ни стало достать хорошего вина. Сколько забот, сколько затруднений! Надо иметь друзей, корреспондентов, давать поручения, писать, ездить, возвращаться, ждать и нередко под конец быть опять обманутым. Сколько хлопот с деньгами! Я боюсь их больше, чем люблю хорошее вино.
Тысячу раз во время моего ученичества и позже я выходил из дому с намерением купить себе какое-нибудь лакомство. Приближаюсь к лавке пирожника, вижу женщин за прилавком; мне уже кажется, что они пересмеиваются и издеваются над маленьким лакомкой. Прохожу мимо торговки фруктами, искоса поглядывая на прекрасные груши, – их аромат соблазняет меня, но какие-то молодые люди поблизости глядят на меня; торговец, который знает меня, стоит перед своей лавкой; вижу вдалеке девушку, не наша ли это служанка? Мои близорукие глаза вводят меня в тысячи заблуждений. Я принимаю всех проходящих за своих знакомых; все меня смущает, всюду передо мной встает какое-нибудь препятствие; желание мое растет, но растет и стыд, и я возвращаюсь наконец как дурак, снедаемый желанием, имея в кармане деньги, для того чтобы удовлетворить его, и не осмелившись ничего купить.
Мне пришлось бы войти в самые скучные подробности, если б я захотел рассказать об употреблении, которое делали из моих денег я сам или другие, о затруднениях, стыде, отвращении, неудобствах, всякого рода неприятностях, которые я всегда при этом испытывал. По мере того как читатель, углубляясь в мою жизнь, будет знакомиться с моим характером, он сам все это почувствует и без моих объяснений.
Поняв это, он без труда поймет и одно из моих мнимых противоречий: соединение почти скаредной скупости с величайшим презрением к деньгам. Деньги для меня – имущество настолько неудобное, что мне даже в голову никогда не приходит желать их, раз их у меня нет, но, когда они у меня имеются, я долго берегу их, не тратя, так как не знаю, на что их употребить; но только подвернется удобный и приятный случай, я так хорошо пользуюсь ими, что кошелек мой опустеет, прежде чем я это замечу. Впрочем, не ищите у меня мании скупых: тратить деньги напоказ. Как раз наоборот, я трачу их тайно и для собственного удовольствия; далекий от того, чтобы кичиться своими тратами, я скрываю их. Я так хорошо понимаю, что деньги созданы не для меня, что почти стыжусь иметь их, а тем более пользоваться ими. Если б у меня когда-нибудь был определенный и достаточный для жизни доход, мне не грозила бы опасность стать скупцом, твердо уверен в этом; я тратил бы весь свой доход, не стараясь его увеличить; но необеспеченность держит меня в страхе. Я обожаю свободу, ненавижу стеснение, нужду, подчинение. Пока есть деньги в моем кошельке, они обеспечивают мне независимость, избавляют меня от необходимости изощряться, чтобы добыть их вновь, а необходимость эта всегда приводила меня в ужас; я берегу их из боязни, что они придут к концу. Деньги, которыми обладаешь, – орудие свободы; деньги, за которыми гонишься, – орудие рабства. Вот почему я хорошо прячу их и никогда не стремлюсь приобрести.
Мое бескорыстие, следовательно, не что иное, как леность: удовольствие иметь не стоит труда приобретения; и моя расточительность опять-таки не что иное, как леность: когда представляется случай приятно истратить, трудно не воспользоваться им как можно лучше. Меня меньше прельщают деньги, чем вещи, потому что между деньгами и желанием обладать вещью всегда есть посредствующее звено, тогда как вещью можно наслаждаться непосредственно. Я вижу вещь, она соблазняет меня; если я вижу только средство ее приобрести, она перестает меня соблазнять. Итак, я был воришкой, иногда бываю им и теперь, таская соблазняющие меня мелочи, которые я предпочитаю взять без спросу. Но ни в детстве, ни в зрелом возрасте я не помню, чтобы когда-нибудь украл у кого-либо хотя бы ливр, за одним исключением, когда без малого пятнадцать лет тому назад украл семь ливров и десять су.
Случай заслуживает того, чтобы рассказать о нем, так как представляет собой такое изумительное сочетание наглости и глупости, что мне самому было бы трудно поверить, если бы речь шла о ком-нибудь другом, а не обо мне.
Это было в Париже. Я прогуливался с г-ном Франкеем в Пале-Рояле около пяти часов дня. Он вынимает часы, смотрит и говорит мне: «Пойдем в Оперу». Я соглашаюсь, мы отправляемся. Он берет два билета в амфитеатр, один из них дает мне и первый проходит к своему месту; я следую за ним. Входя, я замечаю, что в дверях толпится народ. Осматриваюсь и вижу, что все стоят; я решаю, что легко мог бы затеряться в этой толпе или по крайней мере заставить г-на Франкея подумать это. Выхожу, беру свою контрамарку и, получив за нее деньги, ухожу, не помышляя о том, что, не успею я дойти до двери, все уже будут сидеть и г-н Франкей отлично увидит, что меня нет.
Ничто так не противоречит моему характеру, как это происшествие, и я отмечаю его, чтобы показать, что бывают минуты какого-то бреда, когда не следует судить о человеке по его поступку. Собственно говоря, тут были украдены не деньги, а их употребление. Здесь было не столько воровство, сколько подлость.
Я не покончил бы с этими подробностями, если б захотел проследить все пути, по которым в годы своего ученичества спускался с высоты героизма к низости негодяя. Тем не менее, усваивая пороки своей среды, я был не в состоянии до конца примириться с ней. Мне были скучны развлечения товарищей, а когда чрезмерные притеснения отвратили меня и от работы, мне наскучило все. Ко мне вернулась склонность к чтению, давно уже мною утраченная. Чтение, которому я предавался в ущерб работе, стало новым преступлением и навлекло на меня новые наказания. Склонность эта, раздраженная противодействием, превратилась в страсть, а вскоре в исступление. Известная Латрибю, дававшая книги напрокат, снабжала меня ими, и самыми разнообразными. Хорошие и плохие – все шли в дело; я совершенно не выбирал: я читал все с одинаковой жадностью. Читал за рабочим столом, читал на ходу, когда меня посылали с поручением, читал в уборной, в самозабвении проводя там целые часы; голова моя шла кругом от чтения; я только и делал, что читал. Хозяин подкарауливал меня, настигал, бил, отнимал книги. Сколько их было разорвано, сожжено, выброшено за окно! Сколько сочинений осталось у Латрибю разрозненными! Когда мне нечем было платить, я отдавал ей в залог свои рубашки, галстуки, старое платье; три су, которые я получал по воскресеньям, регулярно относились к ней.
Вот, скажут мне, пригодились и деньги. Правда, но это произошло, когда чтение отбило у меня охоту ко всякой деятельности. Всецело предавшись своей новой страсти, я только и делал, что читал, и уже не воровал больше. Вот еще одна из моих характерных особенностей. В самый разгар какого-нибудь увлечения безделица отвлекает меня, изменяет мои привычки, привязывает, наконец, возбуждает во мне страсть; и тогда уже все забыто, я думаю только о новом предмете, занимающем меня. Сердце мое билось – так хотелось мне поскорее перелистать новую книгу, лежавшую у меня в кармане; я вынимал ее, как только оставался один, и уже вовсе не стремился рыться в каморке хозяина. Мне даже трудно представить себе, чтобы я стал воровать и в том случае, если б у меня появились страсти, требующие более крупных издержек. Живя только настоящим, я по самому складу своей натуры не мог бы прибегнуть к этому способу для устройства своих дел в будущем. Латрибю оказывала мне кредит; задатки были маленькие; и, когда книга была у меня в кармане, я больше ни о чем не думал. Деньги, которые я получал обычным путем, тоже переходили в руки этой женщины; а когда она становилась настойчивой, у меня всегда под рукой были мои собственные пожитки. Воровать на всякий случай – для этого надо быть слишком предусмотрительным, а воровать ради уплаты долга даже не представлялось соблазном.
От брани, побоев, чтения украдкой и без разбора я сделался молчаливым и угрюмым; рассудок мой начал мутиться, и я стал жить, как настоящий бирюк. Однако если пристрастие к чтению не уберегло меня от пошлых и безвкусных книг, то счастье уберегло от книг грязных и непристойных. Не то чтобы Латрибю – женщина во всех отношениях очень покладистая – совестилась снабжать меня ими, но, для того чтобы придать им большую цену, она называла их мне с таким таинственным видом, что именно поэтому я отказывался от них, – столько же из отвращения, сколько от стыда. И случай так благоприятствовал моему стыдливому характеру, что до тридцатилетнего возраста я ни разу не заглянул ни в одну из тех опасных книг, в которых прекрасная светская дама видит лишь то неудобство, что их можно читать только тайком.
Менее чем в год я исчерпал скудную лавку Латрибю и тогда почувствовал весь ужас ничем не заполненного досуга. Я излечился от наклонностей, свойственных шалуну-ребенку, благодаря пристрастию к чтению и даже благодаря самому чтению, которое, хотя и шло без выбора и было часто плохим, все же пробудило в моем сердце чувства более благородные, чем те, что порождало в нем мое зависимое положение; но я смотрел с отвращением на все, что было мне доступно, чувствовал слишком недоступным все, что меня привлекало, и не видел ничего, что могло бы усладить мое сердце. Мои взволнованные чувства уже давно требовали удовлетворения, о котором я не имел даже понятия, и я был так далек от этого, как будто у меня не было пола; уже возмужалый и чувственный, я думал иногда о своих безумствах, но дальше их не видел ничего. В этих странных обстоятельствах мое беспокойное воображение избрало путь, который спас меня от самого себя и успокоил зарождавшуюся чувственность. Он заключался в том, чтобы переноситься в положения, которые заинтересовали меня в книгах, вспоминать, изменять прочитанное, приноравливать его к самому себе, превращаться в одно из действующих лиц, видеть себя в положениях, наиболее отвечающих моим вкусам, и тогда воображаемое состояние, в которое я наконец приходил, заставляло меня забывать о действительности, которой я был так недоволен. Любовь к воображаемым предметам и легкость, с которой я заполнял ими свой внутренний мир, окончательно отвратили меня от всего окружающего и определили мою склонность к одиночеству, оставшуюся у меня с этих пор навсегда. В дальнейшем не раз обнаружатся странные результаты этого умонастроения: с виду столь мизантропическое и мрачное, оно в действительности проистекает от слишком благожелательного, слишком любящего, слишком нежного сердца, которое, за отсутствием существ, похожих на него, вынуждено питаться воображением. Пока достаточно отметить источник и первую причину той склонности, что изменила все мои страсти, сдерживала их при помощи их самих и вместе с тем всегда делала меня ленивым в осуществлении своих желаний, именно потому, что они были слишком пламенны.
Так достиг я шестнадцати лет, беспокойный, недовольный всем и собой, без расположения к своему ремеслу, без развлечений, свойственных юности, снедаемый смутными желаниями, плача без причины, вздыхая неведомо отчего и нежно лелея свои химеры, ибо вокруг я не видел ничего равноценного им. По воскресеньям, после проповеди, товарищи приходили за мной и звали порезвиться с ними. Я с удовольствием скрылся бы от них, если б мог, но, вовлеченный в игру, играл с большей горячностью и заходил дальше всякого другого, так что меня трудно было утихомирить и сдержать. Таков был мой характер всегда. Во время прогулок за город я постоянно шел впереди всех и не думал о возвращении, если только другие не думали об этом за меня. Из-за этого я два раза попался: городские ворота оказались запертыми, прежде чем я успел вернуться. Можно себе представить, как досталось мне на другой день; а во второй раз мне был обещан такой прием, если я опоздаю и в третий, что я решил больше не рисковать. Но этот третий раз, которого я так боялся, все-таки наступил. Моя бдительность была обманута одним проклятым капитаном по фамилии Минутоли, который, когда бывал в карауле, закрывал ворота всегда на полчаса раньше других. Я возвращался с двумя товарищами. В полумиле от города слышу вечернюю зорю; ускоряю шаг; слышу, как бьют в барабан; пускаюсь бежать со всех ног; прибегаю запыхавшись, весь в поту; мое сердце колотится; издали вижу часовых, – я бегу, кричу сдавленным голосом. Но слишком поздно. Мне оставалось еще сделать двадцать шагов, как подняли первый мост. Я содрогнулся, увидев в воздухе его ужасные рога – мрачное и роковое знамение неотвратимой судьбы, которую открывало передо мной это мгновенье.
В первом порыве горя я бросился на откос, кусая землю. Мои товарищи, смеясь над своим несчастьем, тотчас же приняли решенье. Я тоже принял свое, но оно было иным. Тут же на месте я поклялся никогда больше не возвращаться к хозяину; и когда на следующий день, в час открытия ворот, мои товарищи вернулись в город, я простился с ними навсегда, прося их только предупредить потихоньку моего двоюродного брата Бернара о принятом мною решении и о месте, где он мог бы еще раз повидаться со мной.
С тех пор как я поступил в учение, я, живя отдельно от Бернара, виделся с ним реже; в течение некоторого времени мы с ним встречались по воскресеньям; но постепенно у каждого из нас появились свои интересы, и мы почти перестали встречаться. Я убежден, что его мать много содействовала этому. Он был мальчиком из «верхнего квартала», а я – жалкий подмастерье и всего-навсего мальчишка из Сен-Жерве. Мы не были равны, несмотря на родство; часто видеться со мной значило ронять себя. Однако связь между нами прекратилась не совсем; по природе он был добрый малый и, вопреки наставлениям матери, следовал иногда своему сердцу. Узнав о моем решении, он прибежал не для того, чтобы разубедить меня или разделить мою участь, а чтобы облегчить положение беглеца небольшими подарками, так как с моими собственными средствами я не мог бы уйти далеко. Он подарил мне между прочим маленькую шпагу; она мне страшно понравилась, и я не снимал ее до самого Турина, где только необходимость заставила меня с ней расстаться и где я, как говорится, оплакал ее горькими слезами. Чем больше я размышляю о его поведении в ту решительную минуту, тем более убеждаюсь, что он следовал наставлениям своей матери, а быть может, и отца, так как совершенно невозможно, чтобы, действуя по собственному почину, он не сделал никаких попыток удержать меня или не соблазнился мыслью последовать за мной; но этого не было. Он скорей поддерживал меня в моем намерении уйти, чем отговаривал от него; потом, увидев, что я окончательно решился, покинул меня без лишних слез. Мы никогда не писали друг другу и не виделись. Это жаль: он был добр по природе; мы были созданы, чтобы любить друг друга.
Прежде чем предоставить меня моей злополучной судьбе, пусть разрешат мне бросить взгляд на ту участь, которая, естественно, ожидала бы меня, попади я в руки лучшему хозяину. Ничто так не подходило к моему характеру и не могло сделать меня более счастливым, чем спокойное и скромное положение хорошего ремесленника, особенно такого, как, например, гравер в Женеве. Это занятие достаточно прибыльное, чтобы дать безбедное существование, но не настолько доходное, чтобы привести к богатству, ограничило бы мое честолюбие до конца жизни и, давая мне заслуженный досуг для удовлетворения моих скромных потребностей, удержало бы меня в моей среде, не давая никакой возможности ее покинуть. Обладая воображением, достаточно богатым, чтобы украсить мечтами любое состояние, достаточно могущественным для того, чтобы переносить меня, так сказать, из одного состояния в другое, я не придавал бы значения тому, в каком нахожусь на самом деле.
Между местом, в котором я находился бы, и любым воздушным замком для меня не могло быть непреодолимого расстояния. Из одного этого следовало, что самое скромное положение, связанное с наименьшими беспокойствами и заботами, всего более оставлявшее ум свободным, подходило мне больше всего, но как раз таким и было бы мое положение. В лоне своей религии, своей родины, своей семьи и друзей провел бы я жизнь мирную и тихую, вполне отвечающую моему характеру, сочетавшую в себе труд по вкусу и общество по сердцу. Я был бы хорошим христианином, хорошим гражданином, хорошим отцом семейства, хорошим другом, хорошим ремесленником, во всех отношениях хорошим человеком. Я любил бы свое ремесло, быть может, прославил бы его и, прожив жизнь незаметную и простую, но ровную и тихую, спокойно умер бы на руках у своих близких. Скоро забытый, конечно, я был бы по крайней мере оплакиваем то время, пока меня помнили бы.
Вместо этого… какую картину я нарисую! Ах! Не будем предвосхищать несчастий моей жизни; и без того слишком много буду я занимать читателей этой грустной темой.
Книга вторая
(1728)
Насколько печальной казалась мне минута, когда ужас внушил мне мысль о бегстве, настолько же очаровательной показалась мне та, когда я привел свою мысль в исполнение. Еще ребенком покинуть родину, близких, лишиться опоры, поддержки, бросить ученье на полдороге, не зная ремесла настолько, чтобы существовать при помощи него, обречь себя всем ужасам нищеты, не видя никакого средства выйти из нее; в возрасте слабом и невинном подвергнуться всем искушениям порока и отчаяния, идти вдаль навстречу страданиям, заблуждениям, козням, рабству и смерти, подпасть под иго гораздо более тяжкое, чем то, которого я не смог вынести, – вот на что я решился, вот будущность, в лицо которой я должен был бы глядеть. Как не похожа она была на ту, что я рисовал себе! Чувство независимости, казалось мной достигнутой, было единственным, которое овладело мной. Свободный и сам себе господин, я воображал, что могу все сделать, всего добиться: стоит мне только броситься вперед, и я взлечу и буду парить в воздухе. Уверенно вступал я в широкий мир; я полагал, что мои достоинства наполнят его; на каждом шагу я буду встречать пиры, сокровища, приключения, друзей, готовых мне служить, любовниц, озабоченных тем, чтобы нравиться мне; стоит мне появиться, и вся вселенная займется мною; правда, не вся целиком: от этого я некоторым образом ее избавлял – столько мне не было нужно. С меня было довольно милого сердцу общества – до остального мне не было дела. Моя умеренность рисовала мне тесный, но восхитительно подобранный круг, где, как я был уверен, мне предстояло царствовать. Честолюбие мое довольствовалось одним только замком; любимец сеньора и его супруги, возлюбленный дочери, друг ее брата и покровитель соседей – я был доволен; большего я не требовал.
В ожидании этого скромного будущего я бродил несколько дней по окрестностям города, ночуя у знакомых крестьян, встречавших меня радушнее, чем это сделали бы городские жители. Они принимали меня, давали мне кров, кормили и были слишком простодушны, чтобы видеть в этом заслугу. Нельзя было назвать это милостыней: они не выказывали при этом достаточного чувства превосходства.
Путешествуя и скитаясь по свету, я дошел до Конфиньона в Савойе, находящегося в двух лье от Женевы. Местного кюре звали де Понвером. Это имя, знаменитое в истории Швейцарской республики, поразило меня. Мне любопытно было поглядеть, что представляют собой потомки дворян Ложки. Я пошел к де Понверу; он принял меня хорошо, говорил со мной о женевской ереси, об авторитете святой матери-церкви и угостил меня обедом. Я не мог ничего возразить против рассуждений, кончившихся таким образом, и решил, что кюре, у которых можно так плотно пообедать, во всяком случае стóят наших пасторов. Конечно, я был ученее де Понвера, несмотря на все его дворянство; но я был слишком добрым сотрапезником, чтобы быть неуступчивым богословом, а вино из Франжи, показавшееся мне превосходным, так победоносно аргументировало в пользу кюре, что я покраснел бы от стыда, если б мне довелось заткнуть рот столь гостеприимному хозяину. Итак, я уступал или по крайней мере не возражал прямо. При виде моих уловок меня сочли бы двоедушным. Но это было бы ошибкой: я был только любезен, об этом не может быть спору. Лесть или, скорей, уступчивость, – не всегда порок, чаще она – добродетель, особенно в молодых людях. Доброта, с которой человек относится к нам, привлекает нас к нему; ему уступают не для того, чтоб обмануть, а чтобы не огорчить, не отплатить злом за добро. Какую выгоду преследовал де Понвер, принимая меня, угощая и стремясь убедить? Никакой, кроме моей собственной. Мое юное сердце подсказывало мне это. Я был полон признательности и уважения к доброму священнику. Я чувствовал свое превосходство, но не хотел показывать его в отплату за гостеприимство. В этом не было никаких лицемерных побуждений; я совсем не собирался менять религию, и, очень далекий от того, чтобы быстро свыкнуться с мыслью об этом, я смотрел на нее с ужасом, который должен был надолго удалить ее от меня; мне только не хотелось огорчать тех, кто меня ласкал с этой целью; я хотел поддерживать в них хорошее расположение ко мне и подавать им надежду на успех, прикидываясь менее вооруженным, чем был на самом деле. Моя вина в этом случае очень походила на кокетство честных женщин, которые иногда, чтобы добиться своих целей, умеют, ничего не позволяя и ничего не обещая, возбуждать бóльшие надежды, чем намерены оправдать.
Разум, сострадание, любовь к порядку, конечно, требовали, чтобы, отнюдь не потакая моему безумству, меня удержали от грозившей мне гибели, возвратив меня в семью. Вот что сделал или постарался бы сделать всякий действительно добродетельный человек. Но хотя де Понвер был человек хороший, он, конечно, не был человеком добродетельным; напротив, будучи набожным, он не знал иной добродетели, как поклонение иконам и чтение молитв, – это был особого рода миссионер, который не мог представить себе ничего лучшего для дела веры, как писать пасквили на женевских пасторов. Далекий от мысли отправить меня к отцу, он воспользовался моим желанием быть подальше от Женевы, чтобы поставить меня в такое положение, при котором я уже не мог бы туда вернуться, если б даже и захотел. Можно было побиться об заклад, что при этом я должен был либо погибнуть от нищеты, либо превратиться в негодяя. Но об этом он совсем не беспокоился: он мечтал спасти мою душу от ереси и возвратить ее в лоно церкви. Честный я человек или бездельник, какое ему было до этого дело, раз я хожу к обедне! Впрочем, не надо думать, что такой образ мыслей присущ только католикам: он свойствен всем догматическим религиям, где главное значение придается не делам, а вере.
«Бог призывает вас, – сказал мне де Понвер, – идите в Аннеси; там вы найдете добрую, милосердную даму, которой благодеяния короля дают возможность отвращать другие души от заблуждения, уже отвергнутого ею самой». Речь шла о г-же де Варанс, новообращенной, которую священники принуждали делиться со всяким торгующим своей верой сбродом пенсией в две тысячи франков, назначенной ей сардинским королем. Я чувствовал себя униженным тем, что нуждался в доброй и милосердной даме. Я хотел, чтобы мне предоставляли все необходимое, но не из милосердия. Тем не менее, побуждаемый де Понвером, голодом, следовавшим за мной по пятам, а также приятной перспективой совершить путешествие, имея при этом определенную цель, я принимаю решение, хотя и с трудом, и отправляюсь в Аннеси. Я мог бы свободно дойти туда за один день, но я не спешил и потратил на это три дня. Как только я замечал справа или слева замок, я тотчас же направлялся туда в поисках приключения, которое, как я был уверен, меня там ожидало. Я не смел войти или постучаться, потому что был очень робок, но я пел под окном, самым лучшим на вид, и, порядком охрипнув, очень удивлялся, не заметив ни дам, ни девиц, которых привлекла бы красота моего голоса или прелесть моих песен; а я ведь знал прекрасные песни, которым выучился у товарищей, и восхитительно пел их.
Наконец я прихожу – вижу г-жу де Варанс. Эта эпоха моей жизни определила мой характер, и я не решусь обойти ее молчанием. Мне шел шестнадцатый год. Я не был, что называется, красивым малым и не отличался высоким ростом, но был хорошо сложен, у меня были красивые стройные ноги, непринужденный вид, выразительное лицо, маленький рот, черные брови и волосы; глаза, небольшие и даже впалые, горели огнем, пламеневшим в моей крови. К сожалению, ничего этого я не знал, и за всю мою жизнь мне случилось подумать о своей наружности лишь тогда, когда было уже поздно рассчитывать на нее. Застенчивость, свойственная моему возрасту, усугублялась робостью любящей натуры, которую постоянно волновала боязнь не понравиться. К тому же, хотя мой ум был довольно развит, я никогда не бывал в обществе, не имел хороших манер, а мои познания, нисколько не заменяя их, только смущали меня, заставляя сильнее чувствовать отсутствие воспитания.
Итак, опасаясь, что мой вид не говорит в мою пользу, я решил показать свои достоинства иначе и составил прекрасное письмо в ораторском стиле, где, мешая книжные фразы с выражениями подмастерья, излил все свое красноречие, чтобы привлечь расположение г-жи де Варанс. Я вложил письмо г-на де Понвера в свое и отправился на эту страшную аудиенцию. Я не застал г-жи де Варанс; мне сказали, что она только что пошла в церковь. Было вербное воскресенье 1729 года. Я бегу за ней; вижу ее, догоняю, обращаюсь к ней… Как не помнить мне это место! С тех пор я часто орошал его слезами и покрывал поцелуями! Отчего не могу я окружить это счастливое место золотой балюстрадой! Отчего не могу привлечь к нему поклонение всей земли! Всякий, кто привык чтить памятники человеческого спасения, должен был бы приближаться к нему не иначе, как на коленях.
То был проход позади ее дома, между ручьем по правую руку, отделявшим его от сада, и стеной, ограждавшей двор по левую, – проход, который вел через потайную дверь в церковь кордельеров. Собираясь войти в эту церковь, г-жа де Варанс оборачивается на мой голос. Что сталось тогда со мной! Я представлял себе хмурую, набожную старуху: добрая дама, о которой толковал де Понвер, на мой взгляд, не могла быть никем иным. Я вижу исполненное прелести лицо, прекрасные, полные нежности голубые глаза, ослепительный цвет кожи, очертания обольстительной груди. Ничто не ускользнуло от быстрого взгляда молодого прозелита, так как я тотчас же обратился в ее веру, убежденный, что религия, проповедуемая подобными миссионерами, может вести только в рай. Улыбаясь, она берет письмо, которое я подаю ей дрожащей рукой, распечатывает его, бросает беглый взгляд на письмо де Понвера, возвращается к моему, прочитывает его все до конца и хочет перечесть еще раз, но лакей напоминает, что пора идти в церковь. «Ах, дитя мое, – говорит она голосом, который привел меня в трепет, – вы так молоды и уже скитаетесь по свету; право, это жаль». Потом, не дожидаясь моего ответа, прибавляет: «Ступайте ко мне и ждите меня; скажите, чтобы вам дали позавтракать; после обедни я приду побеседовать с вами».
Луиза-Элеонора де Варанс была урожденная девица де ла Тур де Пиль из старинной дворянской фамилии в Веве, городе кантона Во. Очень молодой она вышла замуж за г-на де Варанс из дома де Луа, старшего сына г-на Вильярдена из Лозанны. Этот брак, оказавшийся бездетным, был не слишком удачным, и г-жа де Варанс, под влиянием какого-то семейного огорчения, решила уйти от мужа и воспользовалась для этого пребыванием короля Виктора-Амедея в Эвиане; переправившись через озеро, она бросилась к ногам этого государя, оставив, таким образом, семью и родину по легкомыслию, довольно сходному с моим и которое ей тоже пришлось впоследствии оплакивать. Король, любивший представляться ревностным католиком, принял ее под свое покровительство, назначил ей пенсию в тысячу пятьсот пьемонтских ливров, что было много для такого бережливого монарха, и, заметив, что вследствие такого радушного приема его стали считать влюбленным в г-жу де Варанс, отправил ее под охраной своих гвардейцев в Аннеси, где она под духовным руководством Мишеля-Габриэля де Берне, епископа женевского, отреклась от прежней веры в монастыре визитандинок!
Г-жа де Варанс жила в Аннеси уже пять или шесть лет, когда я впервые увидал ее, и ей было тогда двадцать восемь, так как она родилась вместе с веком. Она одарена была той красотой, которая сохраняется долго, потому что заключается более в выражении, нежели в чертах, и эта красота находилась еще в первом своем расцвете. У нее был вид нежный и ласковый, взгляд очень мягкий, ангельская улыбка, рот одного размера с моим, пепельные волосы редкой красоты, которые она причесывала небрежно, что придавало ей особую привлекательность. Она была маленького роста, даже приземиста и чуть коренаста, но не безобразно; невозможно было найти более прекрасную голову, более прекрасную грудь, более прекрасные плечи и более прекрасные руки.
Воспитание ее было очень беспорядочно; подобно мне, она лишилась матери с самого рождения и, усваивая знания, – безразлично, откуда бы они ни исходили, – кое-чему научилась у гувернантки, кое-чему у своего отца, кое-чему у учителей и очень многому у любовников, особенно у одного из них, некоего де Тавеля, который, обладая вкусом и познаниями, украсил ими любимую женщину. Но слишком разнообразные познания вредили друг другу, а неуменье их упорядочить помешало ей развить природную остроту ума. Так, располагая некоторыми сведениями по философии и физике, она все же переняла от своего отца вкус к практической медицине и алхимии: приготовляла эликсиры, тинктуры, бальзамы, минеральные порошки и считала, что обладает секретами. Шарлатаны, пользуясь ее слабостью, завладели ею, подчинили ее своим замыслам, разорили и, если можно так выразиться, растворили в химических печах и лекарствах ее ум, ее таланты, ее прелесть, которые могли бы быть отрадой самого избранного общества.
Низкие мошенники воспользовались ее беспорядочным образованием, чтобы ложно направить ее ум, но ее превосходное сердце выдержало испытание и навсегда осталось неизменным: ее любящий и кроткий характер, ее сострадательность, ее неисчерпаемая доброта, ее нрав, веселый, открытый, искренний, никогда не изменялись; и даже с приближением старости, среди нищеты, болезней, разных бедствий, ясность ее прекрасной души сохранила ей до конца жизни всю безмятежность лучших дней.
Ее заблуждения происходили от неисчерпаемой потребности действовать, ищущей непрестанного применения. Не к женским интригам стремилась она, а к предприятиям, которые нужно было создавать и направлять. Она была рождена для великих дел. На ее месте г-жа де Лонгвиль только подняла бы сумятицу, а она на месте г-жи де Лонгвиль управляла бы государством. Ее таланты пропадали зря, и то самое, что в других обстоятельствах создало бы ей славу, при том положении, которое она занимала, привело ее к гибели. В вопросах, ей доступных, она всегда создавала обширные планы и старалась поставить дело на широкую ногу. Поэтому, употребляя средства, соразмерные скорее ее намерениям, чем силам, она терпела неудачу по вине других; а когда ее проект не удавался, она разорялась там, где другие почти ничего не потеряли бы. Эта страсть к деловым предприятиям, навлекшая на нее столько несчастий, принесла ей по крайней мере одну пользу: помешала ей остаться в монастырском уединении до конца дней, к чему ее склоняли. Однообразная и простая жизнь монахинь, их мелочная болтовня в приемной не могли удовлетворить столь деятельный ум, строивший каждый день новые планы и нуждавшийся в свободе, чтобы отдаться им. Добрый епископ Берне, не обладая умом Франциска Сальского, во многих отношениях был похож на него; и г-жа де Варанс, которую он называл своей дочерью и которая походила на г-жу де Шанталь во многом, могла бы стать похожей на нее и своим уходом от мира, если бы природные наклонности не отвратили ее от монастырской праздности. Не по недостатку усердия эта милая женщина не предалась мелочным обрядам благочестия, что, казалось бы, так подобало новообращенной, живущей под руководством прелата. Каковы бы ни были причины, побудившие ее переменить религию, она искренне исповедовала свою новую веру. Она могла раскаиваться в совершенной ошибке, но у нее не было желания ее исправить. Она не только умерла доброй католичкой, она была ею в жизни от чистого сердца; и я, уверенный, что читал в тайниках ее души, смею утверждать, что единственно из отвращения к ханжеству она не выказывала своей набожности публично: ее благочестие было слишком глубоким, ей не было нужды выставлять его напоказ. Но здесь не место распространяться о ее принципах; у меня еще будут поводы говорить о них.
Пусть те, кто отрицает симпатию душ, объяснят, если могут, каким образом с первой встречи, с первого слова, с первого взгляда г-жа де Варанс внушила мне не только самую пылкую привязанность, но и полное доверие, которое никогда не было обмануто. Предположим, что мое чувство к ней было действительно любовью, – это покажется по меньшей мере сомнительным всякому, кто проследит историю наших отношений, – но каким образом эта страсть с самого ее зарождения сопровождалась чувствами, которые она менее всего способна возбуждать: душевным спокойствием, ясностью, чувством твердости и уверенности; каким образом, встретив впервые женщину изящную, прелестную, ослепительную, даму более высокого положения, чем мое, подобную которой я никогда не встречал, приближаясь к той, чье внимание определяло в некоторой степени мою судьбу, – каким образом, говорю я, несмотря на все это, я сразу же почувствовал себя так свободно, так непринужденно, словно я был совершенно уверен, что понравлюсь ей? Как могло случиться, что не было у меня ни минуты замешательства, застенчивости, робости? От природы стыдливый, смущающийся, никогда не видевший светских людей, каким образом с первого же дня, с первого же мгновения усвоил я с ней то простое обращение, тот нежный язык, тот дружеский тон, которые остались такими же и через десять лет, когда самая интимная близость сделала все это вполне естественным? Существует ли любовь, – не говорю без желаний: они у меня были, – но без тревоги, без ревности? Не стараемся ли мы по крайней мере узнать от предмета страсти, любимы ли мы им? Но мне ни разу за всю жизнь не пришло в голову спросить ее об этом – это было бы все равно как если бы я задал себе вопрос, люблю ли я самого себя; и она никогда не старалась выяснить, как я отношусь к ней. Несомненно, было что-то необычное в моих чувствах к этой очаровательной женщине, и впоследствии читатели найдут в них такие странности, каких не ожидают.
Вопрос был в том, как поступить со мной; и, чтобы на досуге поговорить об этом, она оставила меня обедать. В моей жизни это был первый обед, когда я так мало ел, и даже горничная, прислуживавшая за столом, сказала, что впервые видит путешественника моего возраста и склада с таким отсутствием аппетита. Замечание это, не повредив мне в глазах ее госпожи, полностью могло быть отнесено к обедавшему с нами толстому мужлану, который в одиночку сожрал обед, достаточный для шестерых. Что касается меня, я был в таком восхищении, что не мог есть. Мое сердце питалось совершенно новым для меня чувством, овладевшим всем моим существом; я потерял способность думать о чем-либо другом.
Г-жа де Варанс захотела узнать подробности моей незатейливой истории; во время рассказа ко мне вернулся весь жар, утраченный мною у моего хозяина-гравера. Чем больше располагал я в свою пользу эту превосходную душу, тем более сожалела она о той участи, которой я готов был подвергнуться. Ее нежное участие проявлялось в выражении лица, во взгляде, в жестах. Она не смела уговаривать меня вернуться в Женеву: в ее положении это было бы преступным оскорблением католичества, а она хорошо знала, как за ней следили и как взвешивали все ее слова. Но она говорила таким трогательным тоном об огорчении моего отца, что нельзя было сомневаться в ее одобрении, если бы я вернулся его утешить. Сама того не подозревая, она говорила против самой себя: решение мое было уже принято, как я, кажется, уже сказал, а чем красноречивее, убедительнее становились ее речи, тем больше проникали они в мое сердце, тем менее мог я решиться покинуть ее. Я чувствовал, что, вернувшись в Женеву, воздвигну почти непреодолимую преграду между нею и собой, если только не повторю вновь уже сделанного мною шага. Следовательно, лучше было вовсе не отступать от него. И я не отступил. Г-жа де Варанс, видя бесполезность своих усилий, не стала доводить их до того, чтобы компрометировать себя, но сказала мне, со взглядом, полным сочувствия: «Бедняжка, ты должен идти, куда призывает тебя Господь, но, когда станешь взрослым, ты вспомнишь обо мне». Думаю, она сама не предполагала, как жестоко исполнится ее предсказание.
Затруднения оставались в полной силе. Как просуществовать в такие молодые годы на чужбине? Пройдя обучение едва ли до половины, я знал свое ремесло далеко не достаточно. А если б даже и знал его, то не мог бы просуществовать на него в Савойе – стране, слишком бедной для процветания искусств. Мужлан, обедавший за нас двоих, почувствовал необходимость дать отдых своим челюстям и сделал нам тогда предложение, которое, по его словам, шло от неба, хотя, судя по последствиям, оно шло скорее с противоположной стороны; это предложение заключалось в том, чтобы я отправился в Турин и прожил там некоторое время в приюте для новообращенных, пользуясь, по его выражению, земными и духовными благами, а затем, принятый в лоно церкви, получил бы при помощи сострадательных душ подходящее место. «Что касается расходов на путешествие, – продолжал наш собеседник, – то его высокопреподобие монсеньор епископ, конечно, не откажет в поддержке, если сударыня (г-жа де Варанс) попросит его сделать это святое дело; а г-жа баронесса, которая так сострадательна, – прибавил он, наклоняясь над своей тарелкой, – не замедлит, конечно, помочь со своей стороны».
Вся эта благотворительность показалась мне очень тяжелой; сердце мое сжалось, я не проронил ни слова; г-жа де Варанс, не приняв этого проекта с тем пылом, с каким он был предложен, удовольствовалась замечанием, что каждый должен способствовать доброму делу соразмерно со своими возможностями и что она поговорит с монсеньором. Но этот дьявол в человеческом образе, боясь, что она будет говорить не так, как ему желательно, и преследуя свой интерес, побежал предупредить священников; он так ловко настроил этих добрых пастырей, что, когда г-жа де Варанс, опасаясь за меня, захотела поговорить об этом путешествии с епископом, оказалось, что все уже устроено, и он тут же вручил ей небольшую сумму, предназначенную для моих путевых издержек. Она не осмелилась настаивать, чтобы я остался: я приближался к тому возрасту, когда женщине ее лет было неприлично удерживать молодого человека при себе.
Мое путешествие было, таким образом, подготовлено лицами, которые обо мне заботились; мне оставалось только подчиниться, что я и сделал без особого неудовольствия. Хотя Турин был дальше Женевы, я считал, что, будучи столицей, он поддерживает с Аннеси сношения более тесные, чем город другого государства и другой религии; кроме того, отправляясь туда из повиновения г-же де Варанс, я считал, что как бы продолжаю жить под ее руководством; это было больше, чем жить с ней по соседству. Наконец, перспектива большого путешествия отвечала моей мании к бродяжничеству, уже тогда начавшей проявляться. Мне казалось заманчивым перейти горы в моем возрасте и подняться над моими товарищами на всю высоту Альп. Видеть новую страну – искушение, от которого женевец не может отказаться. Я дал согласие. Мой мужлан должен был отправиться через два дня со своей женой. Я был им вверен и поручен. Им передали мой кошелек, наполненный г-жой де Варанс, и, сверх того, она тайком дала мне немного денег, сопроводив этот дар обильными наставлениями; и в страстную среду мы отправились.
На другой день после моего ухода из Аннеси туда явился мой отец, следовавший за мной по пятам с некиим Ривалем, своим другом, таким же часовщиком, как и он, человеком умным и даже остроумным, сочинявшим стихи лучше Ламотта и говорившим почти так же хорошо, как он; кроме того, человеком абсолютной честности, но литературное дарование которого оказалось без применения и имело лишь тот результат, что один из его сыновей стал актером.
Друзья повидали г-жу де Варанс и удовольствовались тем, что поплакали вместе с ней над моей участью, вместо того чтобы следовать за мной и нагнать меня, что им было очень легко сделать, так как они ехали на лошади, а я шел пешком. Та же история вышла и с моим дядей Бернаром. Он прибыл в Конфиньон и, узнав, что я уже в Аннеси, вернулся в Женеву. Казалось, мои близкие сговорились с моей звездой, чтобы предоставить меня судьбе, ожидавшей меня. Мой брат пропал вследствие подобной же небрежности, и так основательно, что никто никогда не узнал, что с ним сталось.
Отец мой был не только человеком вполне порядочным: это был человек непоколебимой честности; он наделен был душою сильной, способной породить великие добродетели; сверх того, он был отличным отцом, особенно для меня. Он любил меня очень нежно, но любил также удовольствия, а с тех пор как я стал жить вдали от него, другие интересы немного охладили его отцовскую привязанность. В Нионе он снова женился, жена его была уже не в таком возрасте, чтобы дать мне братьев, но у нее были родственники; и это создавало новую семью, новую обстановку, новый строй жизни, отвлекавший от частых воспоминаний обо мне. Мой отец старел, и у него не было никаких средств для поддержки своей старости. Мне с братом досталось от матери кое-какое имущество, доход с которого должен был идти отцу, пока мы находились в отсутствии. Эта мысль не вставала перед ним прямо и не мешала исполнению его долга, но действовала скрытно, незаметно для него самого и порой сдерживала его рвение, иначе он действовал бы более решительно. Вот почему, думается мне, добравшись до Аннеси по моим следам, отец не последовал за мной в Шамбери, где настиг бы меня, в чем в глубине души был уверен. Вот почему опять-таки, когда я после своего бегства часто приезжал к нему, он расточал мне отеческие ласки, но не делал больших усилий, чтобы удержать меня.
Нежность и добродетели отца были мне хорошо известны, и такое его поведение заставило меня поразмыслить о самом себе, и это помогло мне сохранить чистоту сердца. Я вывел отсюда великое нравственное правило – единственное, быть может, которое применил на деле: избегать таких положений, которые ставят наши обязанности в противоречие с нашими интересами и заставляют видеть наше счастье в чужом несчастье, – ибо в подобных положениях, как бы ни была искрения любовь к добродетели, рано или поздно всякий делается менее стойким, сам того не замечая, и становится несправедливым и дурным на деле, не переставая оставаться справедливым и добрым в душе.
Это правило, крепко запечатленное в глубине моего сердца и осуществляемое мною – хотя и с некоторым запозданием – во всем моем поведении, принадлежит к числу тех, которые придают мне на людях вид самый странный и глупый, особенно среди моих знакомых. Меня обвиняли в желании быть оригинальным и не поступать, как другие. А на самом деле я вовсе не думал ни о том, чтобы поступать, как другие, ни о том, чтобы поступать иначе, чем они. Я искренне желал поступать хорошо. Я изо всех сил старался избегать положений, в которых мои интересы были бы противоположны интересам другого лица и оттого внушали бы мне тайное, хотя и невольное желание зла этому человеку.
Два года тому назад милорд маршал хотел включить меня в свое завещание. Я воспротивился этому изо всех сил. Я объяснил ему, что ни за что на свете не желал бы быть упомянутым в чьем бы то ни было завещании, а тем более в его собственном. Он сдался; теперь он хочет назначить мне пожизненную пенсию, и я не противлюсь этому. Скажут, что я выигрываю от такой перемены, – это возможно. Но, мой благодетель и отец! Если я, к несчастью, переживу вас, то буду знать, что, потеряв вас, я потерял все и ничего не выиграл.
Вот, по-моему, хорошая философия, единственно подобающая человеческому сердцу. С каждым днем я все больше и больше проникаюсь сознанием, что она глубоко основательна; и во всех последних своих сочинениях я рассматривал ее на разные лады, но легкомысленная публика не заметила ее там. Если я проживу достаточно, чтобы, закончив это сочинение, взяться за другое, я предполагаю в продолжение к «Эмилю» дать такой прекрасный и убедительный пример этого правила, что мой читатель будет вынужден обратить на него внимание. Но для путешественника довольно размышлений: пора продолжать путь.
Я совершил его приятнее, чем предполагал, и мой деревенщина оказался не таким неотесанным, как можно было ожидать по его виду. Это был человек в летах, с заплетенными в косу черными седеющими волосами, с осанкой гренадера, с громким голосом и довольно веселый; он хорошо шагал, еще лучше поглощал еду; он занимался всевозможными ремеслами, потому что ни одного не знал как следует. Кажется, он предложил устроить в Аннеси какую-то фабрику. Г-жа де Варанс не преминула присоединиться к этому проекту, и вот теперь, чтобы заручиться согласием министра, он отправлялся на чужой счет в Турин. Этот человек, все время вертясь среди священников и делая вид, что готов им услужить, умел ловко интриговать; он перенял от них особый набожный жаргон и пользовался им постоянно, воображая себя великим проповедником. Он даже знал латинский отрывок из Библии, причем получалось так, будто он знает их тысячу, так как повторял его тысячу раз в день. Он редко нуждался в деньгах, когда знал, что они имеются в кошельке у другого; впрочем, он был скорее хитрец, чем плут, и, произнося свои плоские поучения тоном вербовщика, походил на отшельника Петра, который проповедует крестовый поход, опоясавшись саблей.
Его супруга, г-жа Сабран, была довольно добрая женщина, более спокойная днем, чем ночью. Так как я всегда спал с ними в одной комнате, то ее бурная бессонница часто будила меня, – она будила бы меня еще чаще, если б я понимал ее причину. Но я даже не подозревал, в чем дело, – по этой части я был так глуп, что всю заботу о моем обучении пришлось взять на себя самой природе.
Я весело шагал со своим набожным проводником и его резвой подругой. Ни одно происшествие не омрачало моего пути, и телесно и душевно я чувствовал себя лучше, чем когда-либо. Молодой, сильный, полный здоровья, спокойствия, уверенности в себе и в других, я находился в том кратком, но драгоценном периоде жизни, когда ее выступающая из берегов полнота, так сказать, расширяет наше существо при помощи всех наших ощущений и украшает в наших глазах всю природу прелестью нашего существования. Мое сладкое волнение имело предмет, что делало его менее бесцельным и давало направление моему воображению. Я смотрел на себя как на создание, ученика, друга, почти возлюбленного г-жи де Варанс. Ее приятные речи, ее милые ласки, нежное участие, которое она, видимо, приняла во мне, ее очаровательные взгляды, казавшиеся мне полными любви, потому что они вызывали ее во мне, – все это давало пищу моим мыслям в пути и порождало восхитительные мечтанья. Ни малейшая боязнь, ни малейшее сомнение в своей судьбе не смущали этих мечтаний. Отправить меня в Турин – это значило, на мой взгляд, принять на себя обязанность дать мне средства к жизни, прилично устроить меня там. Мне больше не надо было хлопотать о себе – другие приняли заботу об этом на себя. Итак, я шел налегке, освобожденный от этого груза; юные желания, обольстительные надежды, блестящие планы наполняли мою душу. Все, что я видел вокруг, казалось мне порукой моего близкого счастья. В каждом доме грезилась мне сельская пирушка, в полях – веселые игры, у рек и озер – купанье, прогулки, рыбная ловля, на деревьях – чудесные плоды, под их тенью – страстные свиданья, на горах – чаны с молоком и сливками; очаровательный досуг, мир, простота, наслаждение брести сам не зная куда. Наконец, все, что ни попадалось мне на глаза, дарило моему сердцу какую-то радость и наслаждение. Величие, разнообразие, подлинная красота всего окружающего делали это очарование достойным разума; даже тщеславие имело здесь свою долю. Таким молодым отправиться в Италию, увидеть столько стран, перейти Альпы по стопам Ганнибала – казалось мне славой выше моего возраста. Прибавьте ко всему этому частые и удобные остановки, большой аппетит и возможность его удовлетворить; ибо, говоря по правде, это мне было нетрудно, так как сравнительно с обедом г-на Сабрана мой обед был очень скромен.
Не помню, чтобы когда-либо в течение всей моей жизни у меня был период, столь же чуждый всяких забот и огорчений, как семь-восемь дней, потраченных на это путешествие; тем более что шаг г-жи Сабран, по которому нам приходилось равняться, превратил это путешествие в длительную прогулку. Воспоминание об этом пути оставило во мне живейшую любовь ко всему, что с ним было связано, особенно же к горам и к самим переходам. Я путешествовал пешком только в мои счастливые дни, и всегда с наслаждением. Вскоре обязанности, дела, необходимость брать с собою вещи принудили меня изображать из себя барина и нанимать экипаж; снедающие сердце заботы, хлопоты, тревоги уселись туда рядом со мной; и с тех пор, вместо того чтобы, как в прежних моих путешествиях, чувствовать удовольствие от самого передвижения, я уже испытывал только желание поскорее прибыть на место. Я долго искал в Париже двух товарищей, которые, разделяя мою склонность, согласились бы пожертвовать каждый по пятьдесят луидоров из своего кошелька и по одному году жизни, чтобы вместе со мной обойти пешком Италию в сопровождении слуги, который заменял бы экипаж и нес бы наши спальные мешки. Многие, казалось, приходили в восторг от этого проекта, но в глубине души считали его просто воздушным замком, о котором только говорят, вовсе не собираясь осуществить свой замысел на деле. Помню, что, говоря с увлечением об этом проекте Дидро и Гримму, я наконец вдохновил их. Я думал, что на этот раз дело сделано; но все свелось к решению ограничиться путешествием на бумаге, причем Гримм не нашел ничего более забавного, как толкнуть Дидро на всякие богохульства, а меня бросить вместо него в объятия инквизиции.
Мое сожаление по поводу слишком быстрого прихода в Турин умерялось удовольствием видеть большой город и надеждой, что скоро я займу там достойное место, так как угар честолюбия начал уже кружить мне голову; я уже смотрел на себя как на человека, стоящего несравненно выше своего прежнего положения подмастерья, – не предвидя того, что скоро я опущусь значительно ниже.
Прежде чем продолжать повествование, я должен извиниться и оправдаться перед читателем, ибо я вошел в мелочные подробности, в которые буду входить и в дальнейшем, хотя они не представляют для него никакого интереса. Чтобы осуществить задуманное мной – то есть показать людям всего себя целиком, – надо сделать так, чтобы ничто, меня касающееся, не осталось для читателя неясным или скрытым. Надо, чтобы я беспрестанно был у него перед глазами, чтобы он следовал за мной во всех заблуждениях моего сердца, проникал во все закоулки моей жизни, чтобы он ни на минуту не терял меня из виду; в противном случае я боюсь, что, найдя в моем рассказе малейший пропуск, малейший пробел и спрашивая себя: «Что же он делал в это время?» – читатель станет обвинять меня, будто я не хотел говорить все. Я дал человеческому коварству довольно пищи своими рассказами, чтобы еще увеличивать ее своим молчанием.
Мой небольшой денежный запас исчез: я проболтался, и мои спутники не упустили случая воспользоваться этим. Г-жа Сабран нашла средства выманить у меня все, вплоть до небольшой посеребренной ленточки, подаренной мне г-жой де Варанс для маленькой шпаги. Этой ленточки мне было жаль больше всего; да и шпага осталась бы в их руках, если б я не заупрямился. В дороге они добросовестно содержали меня, но зато ничего мне не оставили. Я пришел в Турин без одежды, без денег, без белья, возлагая исключительно на свои собственные заслуги всю честь завоевания тех успехов, которые ждали меня впереди.
У меня были письма, я отнес их, и меня тотчас отвели в убежище для новообращенных, чтобы наставить там в той религии, за которую я получал свое пропитание. При входе я увидел тяжелую дверь с железными засовами, и лишь только я вошел, ее заперли на двойной поворот ключа. Такое начало показалось мне более внушительным, чем приятным, но не успел я над этим задуматься, как меня уже ввели в довольно обширную комнату. Там я вместо всякой мебели увидел в самой глубине деревянный алтарь с возвышающимся над ним распятием, а вокруг четыре или пять, тоже деревянных, стульев, которые казались натертыми воском, – так они лоснились от долгого употребления.
В этом зале для собраний находилось четверо или пятеро ужасных бандитов, моих товарищей по обучению, походивших скорее на воинов сатаны, чем на людей, взыскующих стать детьми Божьими. Двое из этих негодяев, выдававшие себя то за евреев, то за мавров, признались мне, что проводят свою жизнь в странствиях по Испании и Италии и переходят в христианскую веру всюду, где это выгодно. Потом открылась другая железная дверь, которая разделяла на две части большой балкон, возвышающийся над двором. Вошли наши новообращенные сестры, которые, подобно мне, были на пути к возрождению не посредством крещения, а посредством торжественного отречения. Это были отъявленные распутницы, самые отвратительные потаскухи, какие когда-либо оскверняли своим непотребством лоно церкви Господней. Только одна из них показалась мне хорошенькой и довольно привлекательной. Она была приблизительно моих лет, может быть – на год или на два старше. У нее были плутовские глаза, и они встречались иногда с моими. Это внушало мне желание с ней познакомиться, но в течение почти двух месяцев, которые она еще пробыла в этом доме, где до меня уже находилась целых три месяца, у меня не было никакой возможности к ней приблизиться: так строго наблюдала за ней наша старая надзирательница и так осаждал ее святой миссионер, хлопотавший о ее обращении с большим рвением, но не особенно ловко. Надо полагать, что она была до крайности тупа, хоть и не производила такого впечатления, – потому что никогда обучение не продолжалось так долго. Святой человек все не признавал ее достаточно подготовленной к отречению. Однако ей надоело заключение, и она объявила, что христианкой или нехристианкой, но она хочет выйти из этого убежища. Пришлось ловить ее на слове, пока она еще соглашалась перейти в другую веру, из боязни, что она взбунтуется и не захочет креститься.
Маленькая община была собрана в честь вновь прибывшего. Нам прочли краткое поучение: меня призывали возблагодарить Бога за милость, которую он мне оказывает; остальных пригласили присоединить свои молитвы к моим и наставлять меня своими примерами; затем наши девственницы вернулись в свое заточение, а у меня осталось достаточно времени удивляться, сколько мне угодно, тому, что я сам очутился под замком.
На следующий день нас опять собрали для поучения, и только тут я в первый раз начал раздумывать о том шаге, который собирался сделать, и об обстоятельствах, побудивших меня к этому.
Я говорил, повторяю и буду, может быть, еще повторять то, в чем с каждым днем все больше и больше убеждаюсь: что если когда-либо ребенок получил разумное и здоровое воспитание, то это я. Родившись в семье, выделявшейся среди других своими добрыми правилами, я получил от всех своих родственников лишь уроки благонравия и примеры порядочности. Отец мой, хотя и любил житейские удовольствия, был человек не только твердой и безукоризненной честности, но и очень религиозный. Безупречный в глазах окружающих и христианин душой, он с ранних лет внушил мне чувства, которыми сам был проникнут. Из трех моих теток, скромных и добродетельных, две старшие были очень набожны, а третья, девушка, исполненная прелести, ума и чувства, была, может быть, еще более набожной, хотя меньше это показывала. Из лона этой уважаемой семьи я попал к г-ну Ламберсье. Духовное лицо и проповедник, он тем не менее был глубоко верующим и поступал почти так же хорошо, как проповедовал. Его сестра и он сам своими мягкими и разумными наставлениями укрепили в моем сердце уже заложенные в нем основы благочестия. Эти достойные люди прибегали к таким верным, таким осторожным, таким разумным приемам, что я не только не скучал на проповеди, но уходил оттуда всегда глубоко тронутый, с решением вести хорошую жизнь, и нарушал его очень редко, постоянно думая об этом. Набожность моей тетки Бернар больше надоедала мне, потому что она превращала ее в ремесло. У своего хозяина я над этим не задумывался, хоть и не изменил своего образа мыслей. Мне не попадались молодые люди, которые могли бы меня совратить. Я стал шалуном, но не вольнодумцем.
Итак, из религии я усвоил все, что доступно ребенку моих лет. Даже больше, потому что – зачем мне утаивать свою мысль? – детство мое вовсе не было детством в собственном смысле слова: я всегда чувствовал и мыслил, как взрослый человек. Только вырастая, вернулся я к общему уровню; родившись же, я был далек от него. Надо мной будут смеяться, что я с таким скромным видом выдаю себя за чудо. Пусть, но, насмеявшись вдоволь, пусть попробуют найти ребенка, которого бы в шесть лет интересовали, увлекали и приводили в восторг романы, так чтобы он плакал от них горячими слезами; тогда я пойму смехотворность своего тщеславия и признаю, что не прав.
Так, когда я высказывал мысль, что совсем не надо говорить детям о религии, если хотят, чтобы она когда-нибудь у них была, и что дети не способны познать Бога хотя бы так, как мы, я исходил в своем чувстве из своих наблюдений, а не из собственного опыта; я знал, что на основании его нельзя делать выводы о других. Найдите шестилетних Жан-Жаков Руссо и в семь лет начните говорить им о Боге – ручаюсь, что вы ничем не рискуете.
Каждому, я думаю, понятно, что для ребенка и даже для взрослого иметь религию – значит следовать той, в которой он родился. Иногда от нее что-нибудь отнимают, но прибавляют к ней редко: догматическая вера есть результат воспитания. По этому общему правилу я был привязан к вере моих отцов, а кроме того, питал в то время характерное для нашего города отвращение к католицизму, который нам изображали как ужасное идолопоклонство, а его духовенство рисовали в самых черных красках. Доходило до того, что я не мог заглянуть внутрь церкви, встретить священника в стихаре, услышать колокольчик процессии, не содрогнувшись от ужаса и страха, которые скоро перестали овладевать мною в городах, но еще долго охватывали меня в деревенских приходах, более похожих на те, где я эти чувства впервые испытал. Правда, этому впечатлению странным образом противоречило воспоминание о ласках – священники в окрестностях Женевы охотно расточают их городским детям. В то время как колокольчик процессии пугал меня, – звон к обедне и к вечерне напоминал мне о завтраке, закуске, свежем масле, плодах, молочных продуктах. Прекрасный обед г-на де Понвера тоже произвел большое впечатление. Вот почему я стал легко относиться ко всему этому. Думал я о папизме лишь в связи с удовольствиями и лакомством и без труда свыкся с необходимостью жить в его окружении, но мысль о том, чтобы торжественно вступить в него, являлась мне лишь мимолетно и относилась к далекому будущему. А теперь ничего уже нельзя было изменить: я смотрел с самым неподдельным ужасом на своего рода обязательство, принятое мною, и на его неизбежное следствие. Будущие новообращенные, окружавшие меня, были не способны укрепить мое мужество своим примером; и я не мог скрыть от себя, что святое дело, которое я собирался совершить, было, в сущности, не чем иным, как поступком бандита. Хотя я был очень молод, я чувствовал, что, какая бы религия ни была истинной, свою я собираюсь продать и что, если даже мой выбор удачен, я солгу в глубине сердца Святому Духу и заслужу презрение людей. Чем больше я об этом думал, тем больше негодовал на самого себя и стенал о своей судьбе, которая довела меня до этого, как будто эта самая судьба не была делом моих рук. Бывали минуты, когда эти размышления приобретали такую силу, что, если бы дверь хоть на мгновение оказалась открытой, я бы, конечно, сбежал, – но это было невозможно, да и решимости моей хватило ненадолго.
Слишком много тайных желаний боролось с нею, чтобы не победить ее. К тому же упорство в принятом решении не возвращаться в Женеву, стыд, самая трудность обратного перехода через Альпы, затруднительность моего положения вдали от родины, без поддержки, без средств к существованию – все это, вместе взятое, заставляло меня смотреть на угрызения своей совести как на раскаяние запоздалое; я преувеличивал, упрекая себя в том, что сделал, чтобы оправдать то, что собирался сделать. Отягчая заблуждения прошлого, я смотрел на будущее как на их неизбежное следствие. Я не говорил себе: «Еще ничего не сделано, и ты можешь остаться невинным, если захочешь», а говорил: «Сокрушайся о преступлении, в котором ты виновен и которое вынужден довести до конца».
В самом деле, какая редкая сила духа нужна была мне в моем возрасте, чтобы отказаться от всего, что я до тех пор обещал или на что дал повод рассчитывать, и, разрывая цепи, которыми сам себя сковал, бесстрашно объявить, что хочу остаться верным религии своих отцов, принимая все возможные последствия! Эта сила не свойственна юному возрасту, да и маловероятно, чтобы она дала нужные результаты. Дело зашло слишком далеко, от него не захотели бы отказаться, и чем больше росло бы мое сопротивление, тем с большей силой и всевозможными способами постарались бы его подавить.
Меня погубил тот же самый софизм, к которому прибегает большинство людей, жалуясь на недостаток сил, когда уже слишком поздно ими воспользоваться. Добродетель имеет для нас цену лишь вследствие нашей ошибки, и, если бы мы захотели всегда быть благоразумными, нам редко представлялась бы необходимость быть добродетельными. Но легко преодолимые наклонности увлекают нас, не вызывая сопротивленья; мы поддаемся легким искушениям, презирая их опасность. Нечувствительно мы попадаем в гибельные положения, которых легко могли бы избежать, но выйти из которых уже не можем без героических усилий, пугающих нас, – и наконец падаем в пропасть, взывая к Богу: «Зачем ты создал меня таким слабым?» Но, вопреки нам, он отвечает нашей совести: «Я создал тебя слишком слабым, чтобы выйти из пропасти, оттого что создал тебя достаточно сильным, чтобы туда не попасть».
Собственно, я еще не принял окончательного решения стать католиком; но, видя, что срок пока далек, постепенно приучал себя к этой мысли и, находясь в ожидании, надеялся, что какое-нибудь непредвиденное событие выведет меня из затруднения. Чтобы выиграть время, я решил энергично защищаться, насколько это было для меня возможно. Вскоре тщеславие заставило меня забыть о моем решении, и, как только я заметил, что иногда сам ставлю в затруднительное положение тех, которые собирались меня поучать, я тотчас переходил в наступление, пытаясь окончательно их разбить. Я даже проявил в этом деле чрезвычайно глупое рвение, и, в то время как мои наставники обрабатывали меня, я старался обработать их. Я самым искренним образом полагал, что, стоит мне только убедить их, они неизбежно станут протестантами.
Таким образом, они совсем не нашли во мне той податливости, которой ожидали, – ни со стороны моих познаний, ни со стороны воли. Протестанты обычно более образованны, чем католики. Это и понятно: учение первых требует обсуждения, учение вторых – подчинения. Католик должен подчиняться решениям, которые ему сообщают, протестант должен научиться решать сам. Это было известно, но ни мой возраст, ни мое положение не давали оснований ждать особых затруднений для опытных людей. К тому же я еще не был у первого причастия и не получил тех наставлений, которые ему предшествуют; это тоже было известно, но никто не знал, как хорошо зато я был обучен у г-на Ламберсье, ни того, что у меня под рукой имеется небольшой и весьма неприятный для этих господ запас сведений в виде «Истории церкви и государства», которую я выучил чуть не наизусть у отца и с тех пор почти забыл, но которая восстанавливалась в моей памяти, по мере того как спор разгорался.
Первое собеседование вел с нами старый священник, низенький, но довольно почтенный. Для моих товарищей собеседование это было скорее уроком катехизиса, чем богословским спором о вере, и священнику больше приходилось поучать их, чем отвечать на их возражения. Но со мной дело обстояло иначе. Когда очередь дошла до меня, я то и дело прерывал его, не упуская случая поставить его в затрудненье. От этого собеседование сильно затянулось и стало очень скучным для присутствующих. Старый священник много говорил, горячился, молол вздор и выходил из трудных положений, отговариваясь, что плохо понимает по-французски. На другой день, опасаясь, как бы мои нескромные возражения не посеяли соблазна среди моих товарищей, меня поместили отдельно, в другую комнату, с другим священником, помоложе, – очень красноречивым, то есть любителем пышных фраз, и самодовольным превыше всех ученых в мире. Однако я не позволил ему слишком подавить меня своим внушительным видом и, чувствуя, что в конце концов только исполняю свою обязанность, стал отвечать ему довольно уверенно, донимая его, как только мог, то тем то другим. Он думал побить меня св. Августином, св. Григорием и другими отцами церкви, но, к своему великому удивлению, обнаружил, что я управляюсь со всеми этими отцами почти так же легко, как он сам, и не потому, чтобы когда-нибудь читал их, – как и он сам, может быть, – но потому, что запомнил много отрывков, приведенных у Лесюэра; и как только он мне цитировал кого-нибудь из них, я, не оспаривая этой цитаты, приводил ему из того же отца церкви другую, чем неоднократно ставил его в тупик. Но в конце концов он одержал верх надо мной по двум причинам: во-первых, сила была на его стороне, и я, чувствуя себя, так сказать, в его полной власти, – как ни был молод, хорошо понимал, что не надо выводить его из терпения, так как заметил, что и моя эрудиция, и я сам очень не понравились маленькому старику-священнику; во-вторых, молодой священник был человек образованный, а я нет. Поэтому в своих доказательствах он пользовался методом, который был мне недоступен; когда же он чувствовал, что прижат к стене неожиданным возражением, он откладывал ответ до другого дня, заявляя, что я отклоняюсь от темы. Иногда он даже отвергал все мои цитаты, утверждая, что они фальшивы, и предлагал мне пойти за книгой, уверенный, что я их там не найду. Он знал, что ничем не рискует и что, несмотря на мою показную ученость, я слишком неопытен в обращении с книгой и слишком плохой латинист, чтобы отыскать в толстом томе отрывок, даже зная наверное, что он находится там. Я даже подозреваю его самого в подделке, в которой он обвинял пасторов, – в том, что он присочинил отдельные места, чтобы увильнуть от неудобных для него возражений.
Пока продолжались эти пустые споры и дни проходили в диспутах, бормотании молитв и ничегонеделании, со мной случилось скверное происшествие, чуть не окончившееся для меня очень плохо.
Нет такой низкой души и такого варварского сердца, которые были бы совершенно не способны к какой-либо привязанности. Один из двух бандитов, выдававших себя за мавров, полюбил меня. Он часто подходил ко мне, болтал со мной на своем ломаном франкском наречии, оказывал мне мелкие услуги, иногда делился со мной за столом своей порцией и то и дело целовал меня с пылкостью, очень меня тяготившей. Несмотря на вполне понятный ужас, который внушало мне его лицо, похожее цветом на коврижку, украшенное длинным шрамом, и его горящий взгляд, казавшийся скорее свирепым, чем нежным, я терпел его поцелуи, говоря себе: «Бедняга почувствовал ко мне большую привязанность, – я не должен его отталкивать!» Мало-помалу его обращение становилось все более вольным, и он стал заводить со мной такие странные речи, что мне казалось, он сошел с ума. Однажды вечером он захотел лечь спать со мной; я воспротивился, говоря, что моя кровать слишком узка. Он стал уговаривать меня, чтобы я лег на его постель; я опять отказался, потому что этот несчастный был так нечистоплотен и от него так несло жевательным табаком, что меня тошнило.
На другой день, довольно рано утром, мы были с ним вдвоем в зале собраний; он возобновил свои ласки, причем движения его стали такими неистовыми, что он сделался страшным. Наконец он дошел до самых непристойных вольностей. Я бросился на балкон, взволнованный, смущенный, даже испуганный, как ни разу в жизни, и близкий к обмороку.
Я не мог понять, что было с этим несчастным; я думал, что у него припадок падучей или какого-нибудь другого еще более ужасного исступления; и, право, я не могу представить себе ничего более отвратительного для спокойного наблюдения, чем такое бесстыдное, гнусное поведение и такое ужасное, воспламененное самой грубой похотью лицо. Я никогда не видал другого мужчины в подобном состоянии, но, если мы бываем такими с женщинами, они должны быть очень ослеплены, чтобы не прийти от нас в ужас.
Я поспешил как можно скорее рассказать всем о том, что произошло. Старуха-начальница велела мне молчать; но я видел, что это происшествие ее сильно взволновало, и слышал, как она ворчала сквозь зубы: «Can maledet! brutta bestia!»[5]
Так как я не понимал, почему должен молчать, я продолжал болтать, несмотря на запрещение, и доболтался до того, что на другой день один из наставников сделал мне строгий выговор, обвиняя меня в том, что я порочу честь святого дома и подымаю шум из-за пустяков.
Он продолжал свое внушение, объяснив мне многое, чего я не знал, и не подозревая при этом, что просвещает меня, так как был уверен, что я защищался, зная, чего от меня требуют, и не соглашаясь на это. В своем бесстыдстве он зашел так далеко, что стал называть вещи своими именами и, воображая, что причиной моего сопротивления была боязнь боли, уверял меня, что эта боязнь неосновательна и мне нечего было тревожиться.
Я слушал этого мерзавца с тем бóльшим удивлением, что он действовал бескорыстно, он поучал меня как будто для моего собственного блага. То, о чем он говорил, представлялось ему настолько обыденным, что он даже не постарался остаться со мной с глазу на глаз; в качестве третьего лица с нами был церковник, которого все это тоже нисколько не пугало. Непринужденность беседы так подействовала на меня, что я пришел к мысли, будто это обычай, принятый всеми, и я только не имел случая раньше с ним познакомиться. Поэтому я слушал без гнева, но с омерзением. Впечатление от пережитого и в особенности от того, что я видел, так сильно запечатлелось в моей памяти, что при одной мысли об этом меня начинало тошнить. Хотя я ничего больше не узнал, отвращение к происшествию распространилось на его защитника, и я не мог настолько сдержать себя, чтобы он не заметил плохого действия своих уроков. Он бросил на меня неласковый взгляд и с тех пор не щадил усилий, чтобы сделать мне пребывание в убежище как можно более неприятным. И настолько в этом преуспел, что я, понимая всю невозможность выйти отсюда иным путем, поспешил вступить на единственный путь, ведущий к выходу, хотя раньше старался отдалить это мгновение.
Этот случай послужил мне в дальнейшем защитой от предприимчивости подобных проходимцев; люди, слывшие такими, видом своим и жестами всегда напоминали мне моего страшного мавра и внушали такой ужас, что мне было трудно его скрыть. Напротив, женщины от этого сравнения очень выиграли в моих глазах, мне стало казаться, что я обязан вознаградить их нежностью чувств, своей личной почтительностью за оскорбления со стороны моего пола, и самая безобразная дурнушка при воспоминании об этом лжеафриканце становилась в моих глазах существом, достойным обожания.
Что сказали ему самому, я не знаю, но, за исключением матушки Лоренцы, никто как будто не стал относиться к нему хуже, чем раньше. Как бы то ни было, он больше ко мне не подходил и не заговаривал со мной. Через неделю его с большой торжественностью окрестили, одев в белое с ног до головы, чтобы изобразить чистоту его возродившейся души. На другой день он вышел из убежища, и я больше никогда его не видал.
До меня дошла очередь через месяц: столько времени потребовалось на то, чтобы моим наставникам досталась честь такого трудного обращения, причем, пользуясь теперешней моей покорностью, меня подвергли проверке по всем догматам. Наконец, когда мои руководители нашли, что я достойно обучен и подготовлен к повиновению, меня отвели в процессии в соборную церковь Св. Иоанна, где я должен был торжественно отречься и принять все аксессуары крещения, хотя в действительности меня не крестили. Однако обряды при этом установлены почти такие же, как при крещении, для того чтобы внушить народу убеждение, что протестанты не христиане. Меня одели в серое платье особого покроя, с белыми нашивками, специально предназначенное для такого рода случаев. Два человека, впереди и позади меня, несли медные чаши, ударяя по ним ключом; каждый присутствующий клал туда милостыню сообразно со своим благочестием или участием к новообращенному. Одним словом, ничто из католической пышности не было упущено, чтобы сделать торжество более поучительным для публики и более унизительным для меня. Недоставало только белой одежды, которая была бы мне очень кстати, но мне ее не дали, в отличие от мавра, – ввиду того, что я не имел чести быть неверным.
Этим дело не кончилось: пришлось потом идти в инквизицию получить там отпущение в грехе ереси и вступить в лоно церкви с той же церемонией, которой был подвергнут Генрих IV в лице своего посла. Вид и манеры высокопреподобного отца инквизитора отнюдь не рассеяли тайного ужаса, охватившего меня при входе в этот дом. После целого ряда вопросов о моей вере, о моем положении, о моей семье он вдруг спросил меня, не осуждена ли моя мать на вечную муку. Ужас подавил первое движение моего негодования, и в ответ я лишь выразил надежду, что она не осуждена и что Бог просветил ее в последний час. Монах замолчал, но сделал гримасу, которая показалась мне мало похожей на знак одобрения.
Когда со всем этим было покончено и я уже думал, что устроюсь наконец согласно своим надеждам, меня выставили за дверь, вручив на двадцать с лишним франков мелкой монеты, собранной в мою пользу. Мне посоветовали жить, как подобает доброму христианину, оставаясь верным благодати, пожелали мне успехов, захлопнули за мной дверь – и все исчезло.
Так в один миг померкли все мои великие надежды, и от своекорыстного шага, который я только что совершил, у меня осталось лишь воспоминание, что я превратился в отступника и попал впросак. Нетрудно вообразить, какой резкий переворот произошел в моих взглядах, когда после всех проектов блестящего будущего оказалось, что мне грозит полная нищета, и после того, как утром я думал о выборе дворца, в котором буду жить, а вечером увидел, что принужден ночевать на улице. Могут подумать, что я сразу впал в отчаяние тем более жестокое, что, сожалея о своих ошибках, должен был горько укорять себя и видеть, что все мое несчастье – дело моих собственных рук. Однако ничего этого не было. Впервые в жизни я более двух месяцев подряд провел взаперти, и первым чувством, которое я испытал, было чувство вновь обретенной свободы. После долгого рабства я вновь сделался хозяином самого себя и своих действий, очутился в большом городе, изобилующем всякими возможностями, в городе, где жило много состоятельных людей, которые, конечно, не преминут принять меня к себе, как только им станут известны мои таланты и достоинства. К тому же у меня было время, чтобы ждать, а двадцать франков в кармане казались мне неисчерпаемым сокровищем. Я мог располагать им по своему желанию, не давая никому никакого отчета. Впервые я чувствовал себя таким богатым. Далекий от мысли предаваться отчаянию и слезам, я только сменил одни надежды другими, без всякого ущерба для своего самолюбия. Никогда не был я так уверен в себе и так спокоен; мне казалось, что моя карьера уже сделана, и я радовался, что обязан этим только самому себе.
Прежде всего я обегал весь город, торопясь удовлетворить свое любопытство и проявить свою свободу. Я ходил смотреть, как сменяется караул; военная музыка мне очень понравилась. Я следовал за процессиями, с удовольствием слушая монотонное пенье священников. Я ходил смотреть королевский дворец; я приближался к нему с опаской, но, видя, что другие входят туда, последовал за ними; меня пропустили. Может быть, я был обязан этой милостью маленькому свертку, который был у меня под мышкой. Как бы там ни было, попав во дворец, я высоко возомнил о себе и уже смотрел на себя почти как на его обитателя. Наконец я устал шататься взад и вперед и почувствовал голод; было жарко; я зашел к торговке молочными продуктами; мне дали джунки, простокваши и пару продолговатых пьемонтских хлебцев, которые я предпочитаю всякому другому хлебу, – за пять-шесть су я пообедал так, как мне редко случалось обедать за всю мою жизнь.
Нужно было отыскать себе пристанище. Я уже знал по-пьемонтски достаточно, чтобы меня могли понять, поэтому мне нетрудно было его найти; и у меня хватило благоразумия выбирать скорее по состоянию своего кошелька, чем по своему вкусу. Мне указали на одну солдатку с улицы По: за одно су она давала на ночь приют безработной прислуге. Я нашел там пустую койку и занял ее. Хозяйка была молодая женщина, недавно вышедшая замуж, хотя у нее было уже пять или шесть человек детей. Мы спали все в одной комнате – мать, дети и постояльцы; так было все время, пока я у нее жил. В общем, это была славная женщина, ругавшаяся как извозчик, вечно растрепанная и кое-как одетая, но с добрым сердцем и услужливая; она относилась ко мне дружелюбно и бывала мне даже полезна.
Я провел много дней, предаваясь наслаждению независимости и удовлетворяя свое любопытство. Я бродил по городу и за городом, разыскивал и посещал все места, казавшиеся мне любопытными и новыми, а для молодого человека, только что вылетевшего из своего гнезда и никогда не видавшего столицы, все было любопытно и ново. С особой неукоснительностью бывал я в дворцовой церкви, каждое утро присутствуя на королевской обедне. Мне казалось прекрасным находиться в одной часовне с королем и его свитой; но уже начавшая проявляться страсть к музыке влекла меня туда больше, чем пышность двора, которая, оставаясь всегда одинаковой, очень скоро перестает поражать. В то время у короля Сардинии был лучший в Европе симфонический оркестр: Соми, Дежарден, Безуцци блистали там один за другим. Но молодому человеку, приходившему в восторг при звуках самого простого инструмента, если только он не фальшивил, этого даже и не нужно было. Вообще все это великолепие, поражая мое зрение, вызывало во мне лишь тупое восхищение, без всякой зависти. Единственное, что меня влекло к дворцовому блеску, – это желание посмотреть, не найдется ли там какой-нибудь юной принцессы, достойной моего поклонения, с которой у меня завязался бы роман.
И у меня в самом деле чуть не завязался роман, – правда, в менее блестящем обществе, но, будь он доведен до конца, я почерпнул бы в нем в тысячу раз более восхитительные наслаждения.
Хотя я был очень бережлив, мой кошелек становился все более тощим. Бережливость моя происходила не от благоразумия, а скорей от простоты моих вкусов, которые и до сих пор остались у меня неизменными, несмотря на привычку к роскошным обедам. Я раньше не знал, не знаю и теперь ничего лучше деревенского обеда. Молочными продуктами, яйцами, овощами, сыром, пеклеванным хлебом и сносным вином меня можно всегда хорошо употчевать, мой отличный аппетит довершит остальное, если только дворецкий и лакеи, снующие около меня, не раздражают меня своей назойливостью. Когда-то я обедал за шесть или семь су гораздо лучше, чем обедаю теперь за шесть или семь франков. Итак, я был умерен в пище: ничто не соблазняло меня отступить от этого; пожалуй, я не прав, называя это умеренностью, так как я насыщался с великим сластолюбием. Груши, джунка, сыр, пьемонтский хлеб и несколько стаканов монфератского вина, до того густого, что хоть ломтями режь, делали меня счастливейшим из лакомок. Однако можно было ожидать, что мои двадцать франков скоро иссякнут. Это становилось со дня на день очевиднее, и, несмотря на легкомыслие, свойственное моему возрасту, беспокойство о будущем скоро перешло у меня в настоящий страх. Из всех моих воздушных замков остался только один: надежда найти себе занятие, которое дало бы мне средства к существованию; но и это было не особенно легко осуществить. Я подумал о своем прежнем ремесле; однако я знал его недостаточно, чтобы работать у мастера, да и мастеров-то в ту пору было в Турине не слишком много. Поэтому я решил в ожидании лучшего ходить из лавки в лавку и гравировать монограммы или гербы на посуде, в надежде соблазнить людей дешевизной, предоставляя им платить мне по собственному желанию. Почти всюду я получал отказ, а то, что мне приходилось делать, были такие пустяки, что я с трудом зарабатывал себе на несколько обедов. Но однажды, проходя рано утром по Contra nova, я увидел в окне одного магазина молодую хозяйку, такую миловидную и привлекательную, что, несмотря на свою застенчивость с дамами, не колеблясь, вошел и предложил свой скромный талант к ее услугам. Она не прогнала меня, напротив – усадила, заставила рассказать мою незатейливую историю, пожалела, сказала, что я должен быть мужественным и что добрые христиане меня не оставят; потом, послав к находившемуся по соседству золотых дел мастеру за инструментами, которые были мне нужны, поднялась на кухню и сама принесла мне завтрак. Такое начало показалось мне хорошим предзнаменованием, и то, что последовало, не опровергло его. Она, по-видимому, осталась довольна моей работой, а еще больше моей болтовней, когда я почувствовал себя немного уверенней; она была блистательна и нарядна, и, несмотря на ее ласковый вид, блеск ее внушал мне почтительность. Но ее доброта, радушный прием, участливость и ласковое обращение привели к тому, что я почувствовал себя свободнее. Я заметил, что имею успех, и мне захотелось его увеличить; но, хотя она была итальянкой и слишком хорошенькой, чтобы не быть немного кокетливой, она вместе с тем была так скромна, а я так робок, что трудно было ожидать, чтобы дело скоро наладилось. Нам не дали времени окончить начатое. Тем с бóльшим очарованием вспоминаются мне краткие мгновения, которые я провел с ней; могу сказать, что в это время я вкусил во всей их новизне самые нежные и чистые наслаждения любви.
Это была чрезвычайно пикантная брюнетка, но природная доброта, написанная на ее красивом еще лице, делала живость ее трогательной. Ее фамилия была Базиль. Муж был значительно старше ее и довольно ревнив; на время своих путешествий он оставлял ее под присмотром приказчика, слишком хмурого и скучного, чтобы оказаться соблазнителем, который, однако, не преминул предъявить на нее притязания, но они проявлялись у него только в дурном расположении духа.
Он очень меня невзлюбил, хотя я с удовольствием слушал его игру на флейте, на которой он играл довольно хорошо. Этот Эгист всегда ворчал, когда я приближался к его даме. Он обращался со мной с таким же пренебрежением, с каким она обращалась с ним. Казалось даже, что ей приятно помучить его, обходясь со мной ласково в его присутствии, и такая месть, хотя и была очень мне по душе, понравилась бы мне гораздо больше, если б это было наедине. Но до этого она не доводила или, во всяком случае, держалась при этом иначе. Оттого ли, что она находила, что я слишком молод, или не знала сама, как начать, или оттого, что действительно хотела быть добродетельной, но в ней замечалась сдержанность, которая не отталкивала, но смущала меня, сам не знаю почему. Я не питал к ней того уважения, столь же искреннего, сколь и нежного, какое внушала мне г-жа де Варанс, но с ней я был более робок и чувствовал себя не так непринужденно. Я смущался, трепетал, не смел на нее взглянуть, не смел дышать в ее присутствии; я пожирал жадным взглядом все, на что мог глядеть, не привлекая внимания: цветы на ее платье, кончик ее хорошенькой ножки, ее крепкую белую руку в промежутке между перчаткой и рукавом и то, что порой виднелось у нее из-под косынки. Каждая подробность усиливала действие остальных. От созерцания всего, что я мог видеть, и даже многого другого у меня мутилось в глазах, я чувствовал стеснение в груди; дыхание, с минуты на минуту становясь все более затрудненным, плохо слушалось меня, и мне оставалось только потихоньку испускать вздохи, очень неловкие среди той тишины, которая нередко наступала у нас. К счастью, г-жа Базиль, занятая своей работой, как будто ничего не замечала. Тем не менее я видел иногда, как в силу особого рода симпатии вздымалась ее косынка на груди. Это опасное зрелище окончательно меня губило, но, когда я уже готов был отдаться своему порыву, она обращалась ко мне с каким-нибудь словом, сказанным таким спокойным тоном, что я мгновенно приходил в себя.
Я много раз оставался с нею наедине, но никогда ни слово, ни жест, ни слишком выразительный взгляд не устанавливали между нами ни малейшей близости. Это состояние, чрезвычайно для меня мучительное, тем не менее доставляло мне величайшее наслаждение, и в простоте сердца я с трудом понимал, отчего так страдаю. По-видимому, и ей эти краткие свидания с глазу на глаз тоже не были неприятны; во всяком случае, она довольно часто выискивала для них удобный предлог, – старание весьма бескорыстное с ее стороны, принимая во внимание, как она использовала эти встречи и как позволяла мне их использовать.
