Читать онлайн Искаженная демократия. Мнение, истина и народ бесплатно
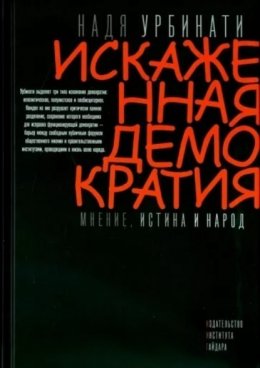
Nadia Urbinati
Democracy Disfigured. Opinion, Truth, and the People
© Издательство Института Гайдара, 2016
© 2014 by the President and Fellows of Harvard College
* * *
Посвящается моим студентам
Введение
Облик – это внешне узнаваемая форма, совокупность наблюдаемых характеристик, отличительные черты лица, которые позволяют его узнать. У каждого из нас есть свой фенотип, по которому другие нас узнают. Наш облик, таким образом, важен для нас, поскольку наша внешность уникальна именно благодаря чертам, его составляющим. В этой книге я использую аналогию с телесным обликом для изучения некоторых типов искажения демократии. В политической мысли аналогия с «телом» использовалась с самых первых размышлений о политике. В теориях политической легитимности главным вопросом выступала сущность политического тела, то, что определяет его в качестве политического. Так, Жан-Жак Руссо доказывал, что если граждане подчиняются законам, которые не сами они устанавливают, система, при которой они живут, не является политической, хотя они и могут так ее называть, поскольку автономия их суверенной воли – вот сущность, составляющая политическое тело. Но я буду следовать не этому образцу. Я не буду изучать сущность политического суверенитета. Скорее я использую «облик» или видимые очертания в качестве указания на политический порядок, то есть в качестве своеобразного фенотипа, по которому мы распознаем тот или иной порядок в его отличии от других систем. Тиранический режим характеризуется определенными чертами, то есть имеет такой облик, по которому наблюдатель может уверенно судить о природе этого режима; к его чертам относится отсутствие регулярных выборов, разделения власти и билля о права. Точно так же демократическое общество обладает определенными признаками, принадлежащими только ему и позволяющими его опознать. И в том облике, который демократия являет миру, я обнаруживаю определенные искажения. Вот в каком смысле я использую эту аналогию в данной книге. В первой главе я дам портрет основных черт, составляющих облик демократии, то есть процедур, институтов и публичного форума мнений. В последующих главах я займусь выявлением и анализом некоторых типов искажения, которые, пусть они и не меняют формы правления, могут считаться заметными изменениями во внешне наблюдаемых качествах демократии. Слово «искажение» предполагает негативную оценку, а не только описание. Три типа искажения, которые я описываю в этой книге, представляются весьма тревожными переменами. Выявляя и анализируя их, я намереваюсь привлечь внимание читателей к этим нарушениям, чтобы как-то исправить их, а в заключении я предлагаю несколько правовых нововведений.
Предлагаемое мной исследование вращается вокруг идеи демократии как правления посредством мнения. В частности, как я объясняю в первой главе, оно опирается на посылку, согласно которой представительная демократия является диархической системой, в которой «воля» (под которой я имею в виду право голосовать, а также процедуры и институты, которые регулируют формирование правомочных решений) и «мнение» (под которым я подразумеваю внеконституционную область политических мнений) влияют друг на друга и действуют совместно, не сливаясь при этом друг с другом[1]. Общества, в которых мы живем, являются демократическими не только потому, что в них есть свободные выборы и несколько политических партий, конкурирующих друг с другом, но и потому что они допускают эффективную политическую борьбу и столкновения различных соперничающих друг с другом мнений; они обещают, что выборы и форум мнений сделают институты местом легитимной власти, выступающей одновременно объектом контроля и проверки. Концептуальное описание представительной демократии в качестве диархии включает два тезиса: во-первых, воля и мнение – это две сферы власти суверенных граждан; во-вторых, они различны и должны оставаться обособленными, хотя и нуждаются в постоянной коммуникации. Основываясь на этой посылке, я предлагаю теоретико-критическое исследование трех наблюдаемых черт, которые в недавнее время проявились в современных демократических странах и стали предметом исследования политологов, исследований, призванных решить проблему неудовлетворительности результатов, порождаемых демократическими процедурами. К этим чертам относятся эпистемические и неполитические искажения делиберации, а также реакция популизма и плебисцита зрителей, выступающих против представительной демократии. Эпистемические воззрения, популизм и плебисцит зрителей, каковым бы ни были их различия, предполагают односторонний и выражающий презрение к диархической конфигурации демократии взгляд на форум мнения.
Конечно, неудовлетворенность демократией сама является частью истории демократии, в демократических обществах она постоянно воспроизводится, а право на свободу слова и свободу собраний, имеющееся у граждан, позволяет искренне и публично высказывать эту неудовлетворенность. Демосфен говорил, что Афины – это город, позволяющий своим гражданам ставить конституцию Спарты выше афинской, Николло Макиавелли возражал критикам народного правления, указывая на то, что «о нем всякий может злословить свободно», а Александр Майклджон во время холодной войны заявил, что в США следует позволить критикам-коммунистам свободно высказываться, поскольку «бояться идей, любой идеи, – значит быть не готовым к самоуправлению»[2]. Терпимость и свобода слова позволили афинской демократии развиваться вместе с ее «врагами», олигархами, и это доказало либеральный характер афинского общества, которое не отказывало ни своим противникам, ни иностранцам в свободе выражения, поэтому у Еврипида Федра желает, чтобы ее дети жили там «свободные и гордые»[3]. Что касается современных демократий, где свободы защищаются биллями о правах и писаными конституциями, на процесс их стабилизации в последние два с половиной века важное влияние оказывали противники демократии, которые временами даже приостанавливали его. Однако с завершением холодной войны эта форма правления смогла завоевать всемирное признание. Сегодня у демократии нет легитимного конкурента; трудно представить какой-то другой тип правления, который бы относился к гражданской и политической свободе с бо́льшим уважением.
Однако планетарное одиночество демократии не делает ее неуязвимой. Недавно теоретики политики стали указывать на возникновение двух сопутствующих друг другу феноменов, выступающих поводом для беспокойства: с одной стороны, это приватизация и концентрация власти в сфере формирования политического мнения, а с другой – рост демагогических и поляризованных форм консенсуса, которые раскалывают политическую арену на узкопартийные, враждебные друг другу группы. И это не какие-то случайные характеристики, а признаки преобразования публичной сферы в массовых демократиях, вызванные столь разными явлениями, как упадок легитимности политических партий, выступающих инструментами представительства, и эскалация экономического неравенства. Оба феномена оказывают прямое воздействие на распределение «права голоса» и влияния в политике.
В середине XIX века Джон Стюарт Милль предположил, что газеты смогут воссоздать в больших обществах ту форму непосредственности и близости, которая была присуща общению в античных республиках, когда граждане собирались вместе на законодательном собрании, напрямую взаимодействуя друг с другом на агоре или форуме. По мысли Милля, современными средствами коммуникации будет построен нематериальный форум мнений, посредством которого общественно значимые вопросы будут выноситься на публичную арену, а политики и институты будут подчинены суждению публики, состоящей из писателей и читателей[4]. Плюрализм средств информации в таком случае отражал бы плюрализм идей и интересов, и оба они в равной мере выступали бы важными ограничениями, мешающими развитию новой тиранической формы власти, складывающейся как раз из общественного мнения. Через сто лет после Милля Юрген Хабермас также заявил, что публичный форум существенен для демократии при условии, что он остается публичным, плюралистическим и независимым от всевозможных частных интересов. Еще в 1962 году Хабермас прозорливо описал аккламацию как стиль, который способен исказить публичную сферу в массовой демократии[5].
Моим главным предметом выступает здесь «мнение», а не воля; я интересуюсь проблемами, которые возникают в границах области мнения, но при этом не обязательно принимают ту форму, которая бы заставила нас задавать базовый вопрос: «Как защитить свободу слова от власти государства?». Напротив, проблема в том, как публичный форум идей способен оставаться общественным благом и играть свою когнитивную, критическую и контрольную функцию, если информационная индустрия, сильнейшим образом влияющая на политику «во многих частях света принадлежит относительному небольшому числу частных лиц»[6]. На политической арене, где столь важным персонажем оказывается «видеовласть», а «склонность к аккламации», как указывали некоторые исследователи, приобретает все большее влияние, раздел собственности в сфере массмедиа должен помочь предотвратить «эффект Берлускони»[7], то есть плебисцитарное искажение, которое подтолкнуло меня к написанию этой книги[8]. Однако в других книгах высказывалась озабоченность тем, что распространение информации не может само по себе быть достаточным условием ограничения гомогенности. Интернет удивительно успешно распространяет информацию, но он же, как правило, сосредотачивает миллионы людей вокруг установок, которые, как замечает Касс Санстейн, основаны на подражании и стремлении к воспроизведению и радикализации старых форм лояльности, обусловленных предрассудком и предвзятостью[9]. Сетевое распространение информации склоняет граждан к воинственному сектантству, формированию гомогенных, автореферентных ниш одинаково настроенных активистов, причем даже в большей степени, чем концентрация средств информации [в руках немногих]. Снижение доли граждан, принимающих участие в выборах и фрагментация публики – два взаимосвязанных феномена, которые следует рассматривать в качестве указаний на метаморфозы представительной демократии или вызовы ее диархической структуре, брошенные изнутри. В этот современный сценарий, который в той или иной степени относится ко всем сложившимся демократиям, я вписываю теоретический анализ трех форм искажения демократической политики, то есть эпистемической, популистской и плебисцитарной форм, которые выступают либо как реакция на тот факт, что демократия – это правление мнения, осуществляющееся посредством мнения, либо как его инструментальное использование.
В последние десятилетия популистские и плебисцитарные формы демократии в основном обнаруживались в развивающихся демократических государствах, например, в Латинской Америке или в постсоветской России. Но потом они возникли и в сложившихся, то есть западных демократиях. В некоторых европейских странах мы наблюдали за появлением различных форм плебисцитарной идентификации с публично известными лидерами, которые благодаря своей популярности и харизме словно бы получили прямой мандат от своей аудитории; и точно так же мы стали свидетелями некоторых популистских заявлений, нацеленных на представление всего народа в целом или истинного значения ценностей и истории нации. Для осмысления этой новой формы популистской политики медиакратического толка некоторые исследователи стали применять термин «видеократия»[10]. Другие скептически отнеслись к демократическому значению интернета и указали на «социальный каскад» и «групповую поляризацию» – два разных, но перекрывающихся процесса, которым, видимо, демократия не способна противостоять, не ограничивая свободу слова и коммуникации[11]. Третьи, наконец, предположили, что демократия деполитизирует сама себя, снижая роль как законотворчества (парламентов и голосования), так и медиа, но увеличивая эпистемическое применение делиберативных процедур для подготовки или продвижения неполитических, менее предвзятых и более компетентных решений[12]. Явления, критикуемые этими авторами, определяют весьма специфические, уникальные проблемы, если сравнивать их с прежними искажениями демократии, и они заставляют нас пересмотреть власть и роль форума. Задача демократических обществ состоит в разработке правовых и культурных стратегий, которые бы устранили угрозу демагогии в эпоху, когда «демагогия становится научной», не урезая при этом свободы и не уничтожая политическую природу делиберации, а также процедурную и представительную конфигурацию демократии[13]. В заключении я предлагаю некоторые общие соображения касательных этих стратегий, согласующиеся с диархической природой демократии.
Эпистемическая теория стремится привнести рациональность и знание в демократическую политику, чтобы изменить ее природу, основанную на мнении. Миф технического правления (то есть правления экспертов по финансам), набирающий сегодня силу в европейских странах, и пренебрежительное отношение к парламентской политике, им вызванное, – красноречивый пример этого эпистемического видоизменения. Как я объясняю во второй главе, распространение в последние годы эпистемических воззрений и практик свидетельствует о конфликтном отношении между «доксой» и «эпистемой». Защита истины от мнения приводит к односторонней интерпретации публичности как процесса просвещения, который должен очистить политику от идеологической конкуренции. Эпистемический поворот в публичной сфере, хотя он и преследует благородную цель, желая одарить толпу мудростью, способен исказить характерный для демократии какофонический, «случайностный» облик, который существенен для пользования политической свободой. На противоположной стороне находится популизм, который представляет собой ту общеполитическую трансформацию форума мнений, которая принижает диархию демократии. Как я намереваюсь доказать в третьей главе, популизм способствует поляризации и опрощению общественных интересов и политических идей, а потому использует мир мнения и критической оценки в качестве всего лишь инструмента по достижению единства народа, внеположного его частям и их превосходящего. Наконец, плебисцитарная демократия наделяет публичную сферу преимущественно эстетической функцией, и хотя она не отвергает диархии демократии, она сводит роль форума к формированию авторитета лидера. Как я покажу в четвертой главе, визуальный характер медийной коммуникации и информации облегчает формирование феномена вуайеризма, при котором публичная демонстрация жизни лидера должна вызывать зрительское наслаждение, не предполагая при этом контроля или проверки. Существование «на глазах у народа»[14] приводит к оказывающей глубокое воздействие на представительную демократию эстетической трансформации публичной сферы, поскольку она изменяет сами понятия гражданства и политического представительства.
Из того, что представительная демократия является правлением мнения, следует, что граждане участвуют в ней посредством голосования, зная и видя то, что делает правительство, и предлагая альтернативные программы действий. Публичный форум мнений означает, что государственная власть открыта для предложений и проверки, являясь действительно публичной – во-первых, потому что закон требует ее отправления на глазах у народа (то есть в соответствии с нормами и при условии открытости судебным органам и прессе, которые могут ее проверить), а во-вторых, потому что она никому не принадлежит, ведь выборное назначение на посты означает то, что суверенная власть утратила свое специфическое месторасположение и воплощение, перестав быть чьим-то исключительным владением. Соответственно, я выделяю три роли доксы в публичном форуме современной демократии – когнитивную, политическую и эстетическую. По отношению к ним можно выявить формы искажения, хотя точнее было бы говорить о «радикализации», поскольку они состоят в преувеличении или подчеркивании одного качества диархического порядка в ущерб остальным. Именно так я предлагаю интерпретировать эпистемическую, популистскую и плебисцитарную разновидности искажений: все они являются возможными радикализациями той или иной из трех ролей форума мнений, возникающими внутри представительной демократии и помечающими ее внутренние пределы. Хотя эти изменения не стремятся к какой-либо смене режима, поскольку не ставят под вопрос «волю» или демократическую систему как таковую, они заметно меняют внешний облик демократии[15].
Политические философы смотрят на представительную демократию с точки зрения демагогии как риска, заключенного в партийном политическом суждении. Они указывают на вызванное предвзятостью искажение политических вопросов, выталкиваемых на поверхность избирательной борьбой, и утверждают, что снижение роли демократических процедур, таких как голосование за представителей или на референдумах, могло бы освободить демократию от демагогии, неизбежно создаваемой политическими мнениями. Деполитизация демократии за счет расширения области беспристрастных решений, принимаемых судами, экспертными комиссиями, совещательными группами и неполитическими органами власти по таким ключевым вопросам, как национальный бюджет, – ответ, предлагаемый той концепцией, которую я буду называть «демократическим платонизмом», то есть философским снятием демократии, представляющим собой наиболее радикальный и настойчивый вызов, брошенный демократии, пусть даже во имя ее самой. Эпистемические и неполитические подходы, похоже, отождествляют демократию с популизмом, когда полагают, что на политические формы поиска согласия невозможно воздействовать беспристрастным знанием. Предсказуемый вывод из этого диагноза звучит так: для ограничения популизма потребовалось бы изменить облик демократии или освободить ее от «порока» политической партийности, неизбежно порождаемого избирательной борьбой и представительными институтами. Враг здесь – «докса». Однако усовершенствование политической природы демократии за счет ее превращения в процесс получения «верных результатов»[16], а не просто тех, что обоснованы процедурами и конституцией, ведет к сужению, а не спасению демократии. Вполне законная озабоченность демагогией выливается в этом случае в решения, которые, найди они практическое воплощение, могли бы поставить под вопрос обоснованность демократической политики мнениями и, по сути, исказить демократию. Вот что я предлагаю называть демократическим платонизмом, представляющим собой вечный миф о царе-философе, ныне облачаемый в коллективные и эгалитарные одежды. Толпа, состоящая из людей, которые, стоит только предоставить им определенные данные и техники обсуждения, достигнут правильного результата, все же не обязательно будет демократическим собранием, даже если оно эгалитарно. Равенство в чем-то, пусть и важном (например, знании), не имеет никакого отношения к демократии или политическому равенству[17].
На другом конце спектра находятся популизм и плебисцитаризм, которые предлагают не менее радикальную перелицовку, поскольку они рассматривают сферу общественного политического мнения в качестве территории, которую необходимо – при поддержке толпы зрителей – завоевать под руководством умелых лидеров и всеобъемлющих идеологий. В противоположность теории и практике представительной и конституционной демократии, в этих случаях мнение не является властью, которая нужна, чтобы оглашать гражданские требования, надзирать за институтами и разрабатывать альтернативные политические программы. Как мы увидим, популизм и плебисцитаризм – не тождественные феномены. Однако они сходятся в том, что бичуют институты-посредники, например политические партии и парламенты, а также продвигают персоналистские формы представительства, взывая к сильной исполнительной власти. И популизм, и плебисцитаризм превращают общественное мнение в игру слов и образов, которая сводит политику к процессу вертикализации, но при этом они утверждают, что намерены вернуть политику народу, а народ – политике.
Во всех этих трех случаях на первый план выходит тот факт, что демократия основана на мнении. Эти интерпретации акцентируют три разных отношения к доксе, которые могут использоваться в качестве ориентира при интерпретации того, как именно они выстраивают демократию. Если платоническая или эпистемическая теория предлагает вывести доксу за пределы демократической политики и сделать из последней диархию воли и разума, то популизм пользуется доксой как активной стратегией гегемонического объединения народа, которое претендует на тождество с волей суверена; тогда как плебисцитаризм, хотя он признает диархическую систему и сохраняет отделение электорального момента от мнений, превращает доксу в название для сфабрикованных видеорежиссерами образов, на которые реагирует народ. Пусть по разным причинам и с разными целями, но все эти решения – эпистемическое, популистское и плебисцитарное – искажают демократию, вторгаясь в природу одной из двух ее властей, то есть форума мнений, видоизменяя ее роль и применение. Кроме того, все они предлагают существенно пересмотреть или даже упразднить процедурный характер демократии, от которого зависит ее диархический облик.
В конечном счете я бы сказала, что есть два взгляда на демократию, которые сталкиваются друг с другом в современной политической теории и практике: один поддерживает политический процедурализм, считая его лучшей нормативной защитой демократии и, по сути, истинным обликом представительной демократии, поскольку он позволяет соблюдать диархический характер такого типа правления; другой же видит в делиберативных процедурах и политическом оспаривании инструмент для более высокой цели – истины, конструирования народа-гегемона или же создания граждан-зрителей. Эпистемическое, популистское и плебисцитарное мировоззрения, хотя они и различаются, представляют собой зеркальные отражения друг друга, сходящиеся в позиции, которая отрицает нормативный характер политических демократических процедур и той формы, которые они принимают в представительной демократии. Цель их критики заключается в перестройке демократической власти с ориентиром либо на процесс принятия решений, оцениваемый с точки зрения правильности производимого им результата, либо на однородный суверенный народ, чей голос довлеет над обычными правилами игры, либо, наконец, на «зрение», а не «голос», то есть на превращения публики в пассивную аудиторию, с неослабевающим любопытством взирающую на дела лидеров, но не стремящуюся принять в них участие. Три эти предложения по перестройке демократии соперничают с представительной демократией на территории представительства, поскольку оспаривают значение и функцию публики, которая и есть исконная область политического представительства.
В данной книге я разворачиваю эти интерпретации и утверждаю, что они намечаются всякий раз, когда мы истолковываем демократию в качестве правления посредством мнения, действующего за счет определенных процедур в рамках надежной системы прав и разделения государственных властей, то есть в рамках организации, которая должна распределять, контролировать и раздроблять, а не концентрировать или превозносить власть (а вместе с ней и мнение как форму власти). Эти рамки являются также посылкой, заставляющей меня признать нарушения и сбои в современной демократии, планетарный успех которой снижает ее защищенность от собственных проблем[18]. Все указанные типы искажения позволяют нам, пусть у них и не было такой цели, лучше распознать риски, угрожающие современной демократии. Более того, они заставляют нас осознать то, что, хотя демократические процедуры в конце XX века добились на практике полного признания, в теории демократии они были вытеснены на обочину, когда их посчитали функционалистским методом, лишенным нормативного значения. И то, что в то же самое время их атаковали сторонники эпистемических, популистских и плебисцитарных взглядов, говорит о невнимании к ним теории демократии, которая несет ответственность за их превращение в сферу, отданную на откуп реалистам, сомневающимся в их нормативном значении и природе. В заключении я, соответственно, предлагаю теории демократии заново утвердить нормативное значение демократического процедурализма как ответственного обещания соблюдать равные политические свободы граждан.
Облик, предъявляемый демократическим обществом миру и позволяющий, собственно, опознавать его в качестве демократического, – это, прежде всего, индивидуальное избирательное право, которое требует своего свободного, простого и необременительного осуществления, а также подсчета в соответствии с принципом большинства голосов, которым приписывается равный вес. Эти основополагающие характеристики согласуются с тем фактом, что все демократические решения могут быть изменены, поскольку они «не просто застывший результат» частных интересов граждан или «неполитических» аргументов, а выражение того политического образа действий, который присущ свободным и равным гражданам в публичном пространстве и который отождествляется с политическим обсуждением в его наиболее широком смысле[19]. Политические мнения наделяют смыслом тот факт, что демократические граждане свободны формировать и изменять свои взгляды, а также переставать поддерживать ранее принятые решения. Ценность и значение политического равенства и свободы покоятся на постоянстве этого процесса. За отправную точку мы должны взять мнение, если хотим ответить на угрозу демагогии и разобраться с дисфункциями сложившихся демократий. Следовательно, хотя философы настаивают на том, что мы должны истолковывать демократию в качестве доказательства того, что толпа (то есть неполитическое собрание), если она направляется правильными процедурами, способна достичь верных результатов, я, напротив, утверждаю, что деятелем демократии является не толпа, а граждане, которые существуют и действуют посредством процедур, предполагающих изменчивость их мнений, а не истину или добродетель. Говоря словами Джона Ролза, «политический либерализм полагает, что такое стремление к полной истине в политике несовместимо с демократическим гражданством и идеей легитимных законов»[20].
Свое рассуждение я развиваю через критический анализ основных современных возражений на политический демократический процедурализм, что позволяет выяснить, действительно ли они схватывают новые риски, возникающие в области формирования мнения. Философские попытки превратить демократию в процесс по достижению верных результатов обращаются к критике внутренне присущей демократии нехватки рациональности. Их диагноз предполагает ограничение демократической составляющей, даже если заявленное ими намерение состоит либо в создании процедур, которые бы позволяли большинству получать хорошие или правильные результаты, либо в доказательстве мудрости толпы. Ясно, что это новое платонистское возрождение не намерено противопоставить мудрость избранного меньшинства иррациональности большинства. Мы не должны пренебрегать тем, что сегодняшняя «эпистемическая демократия» коренится в традиции Просвещения, в движении, которое заставило философов мобилизовать разум на защиту коллектива как единственного легитимного политического суверена. Проблема демократического платонизма и идеи подобной нейтрализации ошибок, которая в то же время не представляла бы меньшинство единственным источником политической экспертизы, состоит в том, что благие намерения не являются достаточной гарантией соблюдения принципов демократии. Следует пересмотреть саму эпистемическую позицию и, по сути, отказаться от нее, поскольку «приверженность „истине“ в политике делает согласие избыточным»[21].
Выступая против подобной эпистемической позиции, я попытаюсь возродить максиму Алексиса де Токвиля, утверждающую, что демократия хороша не своими результатами, которые в некоторых случаях не лучше тех, что удается достичь недемократическим режимам. Ценность демократии опирается на то, что она позволяет гражданам менять свои решения и лидеров, не ставя под вопрос политический порядок. Это единственная политическая система, в которой ключевую роль играет согласование целей и средств. Демократия – это согласованность целей и средств, поскольку она является одновременно целью и процессом ее достижения. И она не допускает обходных путей именно потому, что не является всего лишь функциональным способом достижения некоей цели или какого-либо типа целей (пусть даже благих). Благо цели не оправдывают нарушения демократического процесса принятия решений. Из этого следует, что дуализм формального и содержательного является ложным, поскольку условия корректной работы процедур и сами процедуры всегда должны осмысляться вместе, если процесс принятия решений должен проходить демократически. Следовательно, эта система постоянного изменения предназначена не для достижения определенной истины, хотя граждане могут полагать, что именно в этом цель их политической деятельности, а кандидаты на выборах могут защищать свои программы, считая их самыми истинными или самыми лучшими. Скорее, она предназначена для принятия решений при участии всех граждан, тех, кто согласны, и тех, кто не согласны, причем результаты должны возникать из применения демократических процедур. Свобода участия и уверенность в том, что ни одно большинство никогда не станет окончательным, – вот те «блага», которые обеспечиваются демократическими процедурами. В этом смысле демократический процедурализм является нормативным, поскольку он удовлетворяет двум ключевым условиям – равной политической свободе и гражданскому миру (который предполагает, что граждане выражают несогласие в атмосфере «душевного спокойствия» и что они готовы повиноваться закону, даже когда не согласны с большинством, которое его поддержало).
На первый взгляд кажется, что популизм больше соответствует только что описанным мною характеристикам, поскольку он заявляет, что желает восстановить демократическую власть обычных граждан, отобрав ее у элит. «Ключевое понятие, составляющее ядро популистской идеологии, – это, несомненно, „народ“, за которым следует „демократия“, „суверенитет“ и „правление большинства“, причем каждое из этих понятий определяется через его связи с другими»[22]. Враг, против которого мобилизуется популистская идеология, – это правление, задаваемое электоральной цикличностью, поскольку выборами продвигаются партийные элиты, а не «воля народа». Конечно, популизм получил разные оценки в Европе, Латинской Америке и США, где язык популизма иногда отождествляется с верой в то, что «правление обычных людей» синонимично добродетели и отсутствию коррупции, как и с выражением более активного политического участия, способного ограничить власть элит, а потому сделать общество более, а не менее демократичным[23]. Я признаю эту специфику разных контекстов, но все-таки считаю популизм искажением демократии. В случае популизма выступления против политического истеблишмента происходят ради превращения мнения части народа (пусть и подавляющего большинства) в источник легитимности, последствием чего может стать искоренение инакомыслия и угроза плюрализму. Подъем популизма ведет к формированию основанного на нетерпимости утверждения «мы, народ», противопоставляемого меньшинствам в пределах этого народа и, неизбежно, партийному плюрализму и самой политической конкуренции. Подлинной мишенью в таком случае оказывается конституционная представительная демократия.
Что касается системы, основанной на плебисците зрителей, ее искажающее воздействие еще более серьезно, поскольку хотя она и не ставит под вопрос диархическую структуру представительной демократии, зато оспаривает саму идею гражданства как выражения политической автономии. И если исторически политическую автономию можно было приспособить к косвенному участию посредством представительства (этого результата современная демократия добилась, поставив во главу угла всеобщее и равное избирательное право), демократию трудно примирить с таким взглядом на политику, который из состояния «подчиненности» и наблюдения за действиями лидеров делает норму или саму фигуру «Народа». Когда ротация и лотерея больше не являются демократическими процедурами, «остается намного меньше причин обесценивать или игнорировать фигуру гражданина-как-подчиненного»[24]. Плебисцитарная демократия как демократия образов превращает данность в норму; она соглашается с подчинением граждан правящей креативности лидеров и медиаэкспертов, когда настаивает на том, что главная деятельность граждан должна быть визуальной и пассивной, а не ориентированной на обсуждение и участие. Можно считать, что такой взгляд на демократию доказывает от противного то, что защита диархии демократии проходит сегодня через освобождение процедурализма от пут шумпетерианства[25].
Проблемы, с которыми может столкнуться конституционная и представительная демократия, весьма значительны, и публичная сфера формирования мнений – вот область, на которую мы должны обратить внимание, чтобы увидеть их. И это главная задача данной книги, в основе которой лежит попытка дать ответ на два взаимосвязанных вопроса: какова природа сегодняшних дисфункций либеральной демократии и неудовлетворенности ею и какие из ее внутренних ресурсов могут сдерживать абсолютную власть мнения, не превращая политику в подраздел знания, а народ – в толпу активистов-последователей или же в пассивную аудиторию? Представительная демократия защищает сложность публичной сферы мнений и одновременно пользуется ею – ее критической и когнитивной функцией, ее политическим стилем и духом, ее склонностью выставлять власть напоказ, делая ее тем самым публичной. Однако ни одной из этих функций самой по себе недостаточно; в действительности, каждая из них по отдельности способна скомпрометировать диархическую конфигурацию демократии.
На протяжении своей долгой и славной истории демократия не раз доказывала свою удивительную изобретательность, разрабатывая институты и процедуры, которые могут решать проблемы, выдвигаемые демократическим политическим процессом принятия решений. Достаточно упомянуть несколько хорошо известных примеров: Афины справились с «тиранией собрания», регулируя процесс предложения и обнародования законов посредством некоторых сложных процедур, известных как graphe paranomon (жалоба на противозаконие); в XVIII веке американские колонии создали конституционные соглашения, чтобы установить для себя политический порядок, основанный на согласии и одобрении представителей, достигаемыми голосованием; в XIX веке европейские либеральные государства усовершенствовали представительное правление так, чтобы оно могло вобрать в себя демократическое преобразование суверенитета в крупных территориальных государствах; после разгула тоталитарных и диктаторских режимов, основанных на консенсусе, конституционные демократии после Второй мировой войны смогли ограничить власть выборных представителей большинства за счет разделения властей, верховенства закона и партийного плюрализма, то есть за счет применения комплексной стратегии институциональных инноваций, имевших как юридический, так и политический характер. Короче говоря, демократия пережила трудные времена и обстоятельства благодаря своему удивительно плодотворному воображению и способности к инновациям в сфере институтов и норм.
Сегодня гегемония homo videns (человека смотрящего) и радикализация демагогических мнений представляются симптомами дисфункции, которая распространяется телевидением и новой, более изощренной информационной технологией. Конечно, информационно-коммуникационные технологии дают обычным гражданам удивительные возможности, позволяющие получать больше знаний и больше участвовать в общественной жизни (один из современных мифов провозглашает существование виртуальной республики и интернет-агоры, подходящих для новых типов социальной драмы и критики)[26]. Однако нет добра без худа, и именно на это противоречие теория демократии должна обратить внимание. Сегодня опасности для демократии возникают в сложном мире формирования мнений, в универсуме средств, в которых заключена косвенная власть идей, создаваемых и воспроизводящихся свободой слова, свободой прессы и свободой собраний. Эти опасности, как мы уже говорили, возникают в форме плебисцитарной идентификации масс с публичным лидером и в форме популистских претензий на представление всего народа в качестве однородного единства ценностей и истории. Эти акты утверждения народного суверенитета, выглядящие весьма самоуверенно, в действительности являются тревожным феноменом политической пассивности и покорности граждан, меняющих физиогномику демократии.
Согласно плебисцитарной теории, пассивность большинства является фатальным следствием всех форм демократии, как прямой, так и представительной, поскольку демократия – это политическая система, которая на структурном уровне состоит из активного меньшинства и восприимчивого большинства, которое научается «повиноваться и соглашаться с благими намерениями ответственных лиц»[27]. Демократия становится апатичной не из-за выборов как таковых (собрания в античных демократиях управлялись немногочисленными риторами, а граждане в них часто не участвовали). Апатия или массовая пассивность свойственна этому режиму, выступая внутренне присущим ему качеством, поскольку, как утверждает железный закон олигархии, политика – это искусство меньшинства, а не большинства. Однако привычка людей к «подчиненности» доходит до крайности вместе с представительной демократией, поскольку в этой системе голос полностью вытесняется зрением и слухом, которые являются основными «пассивными органами чувств» и единственным способом выражения присутствия граждан в непрямой политике. Современные граждане – это аудитория, а представительная демократия – это демократия зрителей[28]. С точки зрения современных сторонников плебисцита, эта траектория говорит о достижении демократией совершенного состояния. Однако было бы странно утверждать, что эпоха Сильвио Берлускони соответствует полной реализации внутренней природы демократии, если только не считать последнюю тождественной зрительскому скудоумию большинства, завороженного зрелищем, разыгрываемым меньшинством. Прикрываясь обещанием объективного реализма и бесстрастного понимания, плебисцитарная теория демократии предлагает нам перевернутую логику, в которой то, что происходит, становится рациональным уже в силу того, что оно свершилось.
Этот взгляд, опирающийся на авторитетный корпус текстов по социологии и политической теории, ориентированных на работы Роберта Михельса, Вильфредо Парето, Макса Вебера и Карла Шмитта, указывает на то, что аккламацию и массовую демократию мы должны считать и описанием, и нормой. Это предумышленный вывод из определения парламентской или представительной демократии как выборной олигархии или смеси двух предзаданных и раздельных групп – активного меньшинства и пассивного большинства. За этим мнением, согласно которому демократия должна представляться грандиозной системой обмана, запускаемого доксой, мы можем расслышать отзвуки платоновского сарказма, обращенного на любителя демоса. С Платона и до наших времен этот взгляд никогда не терял привлекательности для философов, и периодически он возрождается с новыми аргументами, пытаясь оправдать себя плохой работой современных демократий и находя поддержку в коммуникационных и технологических новшествах. Такая реалистская трактовка выдает традиционное, но ничуть не ослабевшее отвращение мудрого меньшинства к правлению, которое смиренно, но неизменно опирается на мнение, то есть на подсчет голосов и правление большинства. Такая опора на правление большинства не предполагает достижения верных результатов, но зато отражает уверенность в том, что это единственный политический порядок, который уважает свободу не некоторых или лучших, а всех, и не потому, что у них есть какой-то особый потенциал, а просто потому что они существуют. В диархии «голосов» и «мнения» главное, следовательно, ценить демократию в качестве правления, которое основано на принципе равных свобод.
Мнение – это форма действия и форма власти, ядром которой является голос, а не зрение. Именно слишком активное меньшинство стремится быть на виду, желая сделать доксу вопросом исключительно зрения. Меньшинство желало бы превратить народ в гигантский глаз, лишенный голоса. Однако голос вместе со слухом, но не отдельно голос или слух, – вот два фундаментальных чувства и две способности, которые используются гражданами, когда они формируют свои взгляды, слушают других, меняют или выражают свои мнения и пытаются посредством этих мнений обрести политическое присутствие, наблюдая за выбранными ими политиками и вынося о них суждение. Невидимость граждан и их молчание не являются, следовательно, спонтанным или природным качеством демократии, они сфабрикованы и сконструированы распорядителями средств информации и коммуникации, они выступают целью политического класса, желающего существовать вне опасности проверок и перемен.
Следовательно, правильно будет сказать, что представительная демократия заключается в постоянной борьбе представительства, в обнародовании (making public), в публичных дебатах, темы которых граждане считают главными для своей жизни и своих интересов, а потому временами превращают их (когда голосуют) в правомочные решения. Вот что делает доксу властью, определяющей для демократии. В результате докса становится формой действия, которая отличается от воли или условий и процедур, организующих голосование и решения, но при этом остается связанной с ними. И именно по этой причине мнение становится постоянным объектом желания (или поношения) со стороны меньшинства, жаждущего быть окруженным народом, который готов лишь подчиняться и выступать объектом попечения, народом, который не выражает несогласия и в идеале вообще не считает мнение властью.
Глава 1. Диархия демократии
Отождествление демократии с «силой чисел» традиционно привлекало скептиков и разоблачителей демократии. Высмеяв идею, будто вопросы правления можно решать как чисто количественные задачи, Вильфредо Парето писал: «Нам больше не нужно возиться с вымыслом о „народном представительстве“ – от него нет никакого толка. Давайте пойдем дальше и рассмотрим, какая субстанция поддерживает различные формы власти правящих классов… Различия заключаются, в основном… в соотношении силы и согласия»[29]. С точки зрения Парето, число было попросту хитрым средством, позволяющим использовать силу, заручившись согласием, а демократия – это наиболее эффективный способ достичь той цели, к которой тщетно стремились все тираны, поскольку численный перевес был не на их стороне. Он, однако, не пояснил, почему же тиранам не удалось достичь численного перевеса, а потому его взгляд на демократию оказался, как и можно было предположить, ограниченным, не свободным от предрассудков и попросту ложным: числа работают потому, что в формировании согласия свою роль играет свобода. Чтобы у лидеров был численный перевес, у граждан должна быть свобода. Но какова же функция голосования?
Пересматривая логику рассуждений Парето, но не отказываясь при этом от его скептицизма по отношению к демократии, Джованни Сартори несколько лет назад заявил, что в демократии значимо именно голосование, хотя оно не может гарантировать качества решений, поскольку граждане, когда голосуют, не учатся тому, как голосовать. Открытая область обсуждений, какой бы богатой и развитой она ни была, не отменяет произвольности голосования, не повышает компетентности граждан или правильности их решений[30]. Демократия опирается на голосование, а также, если пользоваться классической формулировкой судьи Бреннана, «свободное, здравое и широкое»[31] публичное обсуждение не потому, что ей нужно достичь неких желательных результатов. Скорее, оно нужно для того, чтобы граждане могли пользоваться своей свободой и чтобы она была защищена. Оправдание политических прав с точки зрения их последствий – опасный путь, ведущий к обесцениванию демократии. У нас есть избирательное право не потому, что оно позволяет нам получать хорошие или правильные результаты (хотя мы и можем идти к избирательной урне с подобным желанием), а потому, что оно дает нам возможность осуществлять нашу политическую свободу и оставаться свободными и в том случае, когда мы подчиняемся, даже если результаты, которые приносят наши голоса, не столь хороши, как представлялось нам раньше или как бы нам хотелось. По этой причине Первая поправка «не признает такой сущности, как „ложная идея“» и «не может поддерживать или даже допускать дисциплинарные практики, необходимые для производства экспертного знания»[32]. Как я буду доказывать в этой главе и во всей книге, сила процедурной интерпретации демократии (то есть ее нормативная сила) покоится на этом простейшем утверждении, которое столь же старо, как и сама демократия.
Прежде чем перейти к центральной теме этой главы, то есть к характеристикам публичного форума (иначе говоря, к значениям, условиям и качеству доксы), в трех следующих разделах я постараюсь развернуть три взаимосвязанных аргумента, утверждающих, что признание роли мнения в процессе принятия решений является неотъемлемой составной частью процедурной демократии; что представительная демократия имеет диархическую структуру; наконец, что роль политического форума является основополагающей, а не вспомогательной. Это предварительное прояснение приведет к тому, что я должна буду поставить доксу в центр демократического процесса, продемонстрировав различные аспекты, приобретаемые ею, когда она становится частью демократического суверенитета в представительном правлении. Наконец, эта тема выведет меня к центральному политическому тезису этой главы, гласящему, что диархическая и одновременно процедурная позиция, определяющая облик представительной демократии, включает в себя нормативные аргументы, позволяющие нам сделать из форума мнений публичное благо, и одновременно вопрос политической свободы.
Значение и поддержание демократических процедур
Демократические процедуры не гарантируют улучшения способностей граждан принимать решения, как не обещают они и того, что приведут их к результатам, которые будут правильны с точки зрения определенного критерия, который превосходит сами эти процедуры. Как мне, возможно, удастся объяснить в следующей главе, они гарантируют лишь то, что граждане будут принимать решения таким образом, что те всегда будут открыты для пересмотра. Свободный и открытый форум сам по себе является признаком свободы и самодостаточным благом: во-первых, потому что возможность критики и контроля режима растет в той мере, в какой мнения граждан не ограничиваются их собственным сознанием и не считаются [исключительно] частным мнением[33]; во-вторых, потому что он согласуется с характером демократии как политической системы, которая основана на рассредоточении власти и которая осуществляет это рассредоточение; и в-третьих, потому что он определяет возможность формулировки множества политических мнений, соотносясь с которыми граждане делают свой выбор. «Принцип демократического распределения – это самодостаточная цель, а не средство, которое должно эмпирически привести к некоему желательному результату», и это верно как для функции принятия решений (голосования), так и для функции их формирования и критики[34]. Следовательно, хотя власть избирателей – это, несомненно, основное условие представительной демократии, «надежная гарантия обеспечивается условиями, в которых гражданин получает информацию и испытывает воздействие со стороны лиц, формирующих общественное мнение… Если так, выборы – это средство достижения определенной цели, поскольку целью является правление мнения, то есть правление, отвечающее общественному мнению и ответственное перед ним»[35]. Это главная идея, которой я буду руководствоваться.
Процедурализм в его стандартном определении достался нам в том виде, который ему придал автор, сделавший его известным, то есть в версии Йозефа А. Шумпетера, который не любил демократию и концептуально развил это понятие именно для того, чтобы сгладить демократическую составляющую (политическое равенство) и, прежде всего, отделить участие избирателей от достижения цели, которая выходит за пределы сложения индивидуальных интересов и претендует, напротив, на осуществление всеобщего интереса или на стремление к нему. Разведение процедурной демократии и шумпетерского процедурализма стало проектом нескольких поколений исследователей – в частности, если вспомнить наиболее известных из них, Ганса Кельзена, Роберта Даля и Норберто Боббио. Джерри Мэки недавно предложил следующую формулировку демократического процедурализма, она вносит некоторые поправки в определение Шумпетера: «В настоящей демократии избиратели обычно контролируют парламенты, а парламенты обычно контролируют руководителей – за счет проспективного голосования, публичного мнения между выборами и, наконец, ретроспективного голосования на регулярно проходящих выборах»[36]. В целом процедурная демократия означает не только подсчет голосов или институциональную правильность, но также использование свободы речи вместе со свободой прессы и собраний для того, чтобы неформальная, внеинституциональная сфера стала важным компонентом политической свободы. Демократия – это сочетание решений и суждений о решениях: разработка предложений и принятие решений по ним (или по тем, кто будет их принимать) в соответствии с правилом большинства. Демократия по своему характеру является диархической, а по природе – процедурной. Таков ее облик.
Если сделать еще один шаг, можно сказать, что демократический процедурализм служит равной политической свободе, поскольку предполагает и утверждает равное право и равные возможности граждан принимать участие в формировании взгляда большинства своими индивидуальными голосами и мнениями; именно он характеризует демократию как форму правления, при которой граждане подчиняются законам, в создание которых они прямо или косвенно вносят вклад. Демократия предоставляет всем гражданам правовые и политические условия, благодаря которым они способны, если на то будет их решение, принимать в политике участие, понимаемое в широком и сложном смысле, то есть за счет формирования, критики, оспаривания и изменения коллективных решений в обстановке «душевного спокойствия», если использовать удачное выражение Монтескье[37]. Нормативное значение демократических процедур заключается в том, что они создают возможность для включения граждан в политический процесс и для контроля этого процесса их силами. Голосование и форум идей – это взаимосвязанные силы и существенные условия демократической свободы. Они являются принципиальными факторами, а потому не нуждаются в эмпирическом подтверждении: равное избирательное право существенно, даже если мы не учимся голосовать, когда голосуем, а наши равные возможности принимать участие в широком и здравом общественном форуме существенны, даже если это не гарантирует того, что мы придем к хорошим, рациональным или верным решениям и что увеличение информации отразится в приросте знаний. В следующей главе я использую процедурную интерпретацию демократии в этой конкретной трактовке, чтобы выдвинуть ряд аргументов против эпистемической теории демократии, указав на то, что именно процедуры (правила игры), а не содержание или результаты, являются первичными благами, определяющими нормативный характер процедурной концепции демократии. Нормативная ценность демократии заключена в присущей ее процессам несравненной способности защищать и развивать равную политическую свободу. «Свобода и равенство – две ценности, лежащие в основе демократии… общества, которое регулируется так, что составляющие его индивиды более свободны и более равны, чем при любой иной форме сосуществования»[38].
Равная политическая свобода предполагает не только равное распределение базовых политических полномочий в принятии решений, но также и участие в политике посредством свободного выражения собственных мнений, которое должно осуществляться в условиях равных возможностей; защита гражданских, политических и базовых социальных прав имеет определяющее значение для осмысленного равного участия[39]. Демократия обещает, прежде всего, свободу и использует правовое и политическое равенство для защиты и исполнения этого обещания. Так было со времен ее изобретения в античности, и то же остается верным и сегодня, хотя достаточно сильная либеральная традиция, возникшая в антиякобинском контексте, развивала мысль, что демократия движима страстью к равенству, а не любовью к свободе, и что равенство враждебно свободе. Однако в Афинах демократия началась с isonomia или «равенства посредством закона», а также с isēgoria и parrhēsia или равного права на высказывание и голосование на собрании, на свободное и откровенное высказывание[40]. Равенство, поддерживаемое законом, означает как раз политическое равенство – равные и защищенные законом возможности всех граждан отправлять свою власть посредством участия в процессе принятия решений. Таким образом, Афины понимались в качестве politeia en logois (полиса, основанного на речи), а его граждане определялись как hoi boulomenoi («любой, кто желает так сделать», то есть обратиться к собранию)[41]. Электоральная трансформация современной демократии не изменила этот принцип.
Откровенная и свободная речь является условием участия потому, что демократия обещает социальную стабильность и мир, достигаемые за счет всеобщего (прямого или косвенного) участия в законотворчестве. Следовательно, свобода вместе с миром – это цели равного распределения политической власти, дающей возможности принимать правомочные решения, и на таком распределении покоится демократический процесс принятия решения. Именно этим определяется отличие демократического процедурализма и от гоббсовского минималистского определения, которым подчеркивается одна цель – мир, но не принимается во внимание вторая цель, то есть свобода[42], и от эпистемической интерпретации, которая постулирует благо в качестве чего-то трансцендентного самому процессу, например содержания результата, и порицает то, что «стремление опираться исключительно на процедурализм» в некоторой степени обесценивает демократическую власть[43].
Как будет показано в этой главе, процедурная интерпретация демократии, если она проводится с должной последовательностью, требует немалых усилий, хотя и по причинам, которые связаны с ее исполнением, а не с достижением определенных результатов. К числу этих непростых условий относится и открытый форум формирования мнения. Этот аргумент в 1945 году блестяще сформулировал Ганс Кельзен: «Демократия без общественного мнения является противоречием в определении. Поскольку общественное мнение может возникнуть только там, где гарантированы интеллектуальная свобода, свободы слова, прессы и религии, демократия совпадает с политическим, хотя и не обязательно экономическим, либерализмом»[44].
Пример древних Афин показывает, что демократия связана с возможностью заседать в собрании на равных со всеми остальными, каковое равенство должно быть закреплено законом, и одновременно высказывать свои мнения на публике[45]. Тем самым ясно, что процедуры отличны от результата, так что наличие равных возможностей участия и благоприятной среды само по себе представляет собой благо, поскольку такие возможности позволяют каждому гражданину внести свой ценный вклад[46]. Хорошие результаты в том случае, когда и если они достигаются, являются наградой за внимание к процедурам, но не тем, что определяет их нормативное значение. Действительно, афиняне обладали своим политическим правом высказываться на собрании и ценили его, даже если применяли его редко, далеко не все и не всегда во благо. Демократическая политика напоминала соревнование атлетов, в котором все должны начинать с одной отметки, а потому подразумевалось, что условия, позволяющие гражданам начинать с равных позиций, являются существенными для того, чтобы такой политический порядок признавался демократическим[47].
Что касается наших современных обществ, они являются демократическими по нескольким причинам: в них есть свободные выборы и возможность существования более одной конкурентной политической партии; они допускают эффективную политическую борьбу и столкновения различных взглядов, соперничающих друг с другом; наконец, благодаря выборам избранники становятся объектом контроля и проверок[48]. Соответственно, Бернар Манен связал тот факт, что представительное правление обосновано мнением, с его эгалитарной предпосылкой, поскольку из его процедур следует то, что расхождение между мнениями должно устраняться не «за счет вмешательства одной воли, превосходящей другую», а благодаря решению большинства, которое доступно для пересмотра[49]. Норберто Боббио, рассуждавший в похожем стиле, несколько лет назад пришел к выводу, что «демократия носит подрывной характер. Она выполняет подрывную работу в наиболее радикальном смысле этого слова, поскольку везде, где она распространяется, она подрывает традиционное представление о власти, настолько традиционное, что оно считается естественным, представление, будто власть – политическая, экономическая, отцовская или священная – спускается сверху вниз»[50].
Очевидно, институты и процедуры могут быть искажены; в демократическом обществе искажения возникают в результате нарушения принципа равенства или роста неравенства в условиях, которые определяют справедливое пользование этими институтами и правилами. «Вряд ли можно серьезно относиться к своему статусу равного гражданина, если, к примеру, в силу недостатка ресурсов нет возможности действительно излагать свои взгляды на публичном форуме»[51]. Для правильного функционирования процедур требуется, чтобы совокупная политическая система принимала во внимание не только свои формальные условия, но также и то, как граждане воспринимают ее эффективность и ценность. Внимание к демократическим процедурам требует постоянной работы по их поддержанию. Критерий, определяющий поддержание правильного функционирования процедур, должен согласовываться с процедурной интерпретацией демократии: он должен блокировать перевод социально-экономических видов неравенства в политическую власть[52]. Как мы увидим далее, эта задача весьма сложна, поскольку обособление политической системы должно быть выполнено без разрыва той коммуникации между обществом и институтами, которая является одной из важнейших черт представительного правления, как раз и определяющей его диархический характер.
Что такое демократическая диархия?
Диархия воли и мнения относится, в частности, к представительной демократии, системе, в которой собрание выборных представителей, а не сами граждане, наделяется обычной функцией законотворчества. Парламент, являющийся ключевым институтом выборной демократии, предполагает и поддерживает постоянное отношение с гражданами – как частными лицами, так и политическими группами или движениями, а мнения – это средство, благодаря которому это отношение развивается. Теоретическое представление современной демократии как диархии приводит к двум тезисам: во-первых, «воля» и «мнение» – это две власти демократического суверена, а во-вторых, они отличаются друг от друга и должны оставаться отличными, хотя им и нужна постоянная коммуникация. Используемая мной терминология является переложением языка суверенитета, который в его современной кодификации описывал власть государства как «волю», позволяющую принимать правомочные решения, в равной мере обязывающие всех подданных. С точки зрения Жана Бодена, Томаса Гоббса, Жана-Жака Руссо и теоретиков конституционного правления XIX и начала XX веков, «воля» означает процедуры, правила и институты, то есть нормализованную систему публичного поведения, которая порождает и исполняет закон.
Однако классическая теория суверенитета, которая была создана до того, как началось развитие представительной демократии, не рассматривала суждение или мнение подданных в качестве функции суверена[53]. Тогда как демократия, особенно если она осуществляется посредством выборов, не может игнорировать то, что граждане думают или говорят, когда действуют в качестве политических акторов, а не избирателей. Следовательно, в представительной демократии суверен – это не просто уполномоченная воля, заключенная в гражданском праве и осуществляемая государственными должностными лицами и институтами, но, по сути, двойственная сущность, в которой одним компонентом является решение, а другим – мнение тех, кто подчиняется и лишь косвенно участвует в правлении. Мнение причастно суверенитету, хотя у него нет никакой правомочной власти; его сила является внешней для институтов, а его авторитет – неформальным (поскольку оно не переводится напрямую в закон и не наделено признаками обязательности). Представительная демократическая система – «та, в которой высшая власть (высшая потому, что только она одна имеет право использовать силу в качестве последнего средства) исполняется во имя и от имени народа благодаря процедурам выборов»[54].
Мне важно с самого начала прояснить, что я использую слова «мнение» и «политическое суждение» в качестве синонимов. Как мы увидим в следующей главе, существуют разные виды суждений, и не все они относятся к области законотворчества. Суждение судов отличается от суждения граждан, прессы и представителей. Аристотелевская идея политики, формулируемая в его «Риторике», лучше всего подходит для того, чтобы схватить специфику политического суждения (и делиберативного дискурса) как мнения, которое производится на публичном форуме равными гражданами и которое в отличие от научного суждения и судебного приговора не нацелено на умозаключение, каковое можно было бы оценить как истинное или ложное. Если в нескольких словах попытаться заранее изложить то, что я буду развивать в следующей главе, нам важно отличать политическое суждение от других родов суждения, если мы желаем понять – политическое обсуждение состоит, собственно говоря, в том, что граждане формируют мнения относительно порядка действий, которого им стоит придерживаться или от которого, напротив, надо отказаться. Свободные граждане выдвигают политическое суждение с целью убедить друг друга принять решение по определенному вопросу, который относится к их будущему и обладает лишь правдоподобным или вероятностным характером.
С политическим суждением возникает не только согласие, но и разногласие; это процесс коллективного обсуждения, который нуждается в правовом и процедурном порядке, чтобы люди заранее знали, что они могут публично и безопасно изменить свое мнение. Вполне предсказуемыми оказываются интегративные и коммуникативные следствия политического суждения. В самом деле, граждане демократии используют все информационные и коммуникационные средства, доступные им, чтобы заявить о своем присутствии, выступить за или против определенного предложения и следить за власть имущими, причем они знают, что все это не менее ценно, чем процедуры и институты, производящие решения. Этот обширный круг действий в политической жизни демократического гражданского общества я отношу к категории политического суждения или мнения. Проблема, поджидающая представительную демократию, состоит в том, что, хотя «волю» и «суждение» нельзя по-настоящему отделить друг от друга, они должны работать раздельно, быть и оставаться различными. Конечно, здесь мы говорим о нормативном разделении: мы не хотим, чтобы мнение большинства стало тождественным «воле» суверена или чтобы наши мнения интерпретировались в качестве пассивных реакций на спектакль, поставленный на сцене нашими лидерами. Поскольку представительная демократия является правлением посредством мнения, публичный форум держит государственную власть под присмотром, сохраняя ее публичность, поскольку, с одной стороны, закон требует того, чтобы она отправлялась на глазах у народа, а с другой – потому что она никому не принадлежит (в соответствии с выборным назначением, постулирующим то, что политическая власть не относится к тому или иному роду владений). Критерий, вытекающий из парадигмы диархии, которой я буду пользоваться в этой главе, звучит так: к публичному форуму, поскольку он представляется двойственной властью, следует подходить с позиции «той самой эгалитарной ценности, что воплощена в равном праве людей на самоуправление»[55].
Представительная демократия
Прежде чем перейти к анализу доксы, я должна сделать еще одно пояснение. Демократическая диархия имеет существенное отношение к представительному правлению, в котором воля и суждение не сливаются в прямой власти голосования, имеющейся у каждого гражданина, а остаются раздельными модусами участия, так что только суждение постоянно находится в руках у всех граждан. Однако диархия – это не только дескриптивное понятие; наиболее важно то, что оно указывает на разделение функций и на принцип равных возможностей, полагая их в качестве условий, относящихся как к мнению, так и к голосованию. Действительно, диархия заключается в сохранении отличия решений и обсуждений, которые проходят в институтах, от неформального мира мнений, но при этом данное отличие не должно означать, что важны лишь решения и обсуждения, поскольку они могут быть выражены с математической точностью, или, напротив, что важны исключительно неформальные мнения, раз они понимаются в качестве подлинного голоса народа, сбрасывающего путы конституированной власти.
Идея демократии как диархии в равной мере далека как от чисто электоралистской концепции демократии (голосование как метод выбора тех, кто правит), так и от концепции, истолковывающей правление посредством мнения в том смысле, что суверенитет принадлежит большинству, проявляющему его аккламацией, внешней для избирательных процедур и их превосходящей. Соответственно, политическая свобода утверждается не только в правовой системе, но также и в восприятии граждан. Мы могли бы сказать, что мир мнения создает буферную зону или дистанцию между гражданами и политической властью и что эта дистанция открывает место, с одной стороны, для суждений граждан о власти, а с другой – защиты граждан от нее[56]. Одно из следствий диархической позиции, то есть одно из тех, что меня интересует, состоит в том, что право на свободу слова и свободу мнения – это существенный компонент политических прав гражданина, а не только частного лица. Право принимать участие в формировании мнений – это право, производящее власть, а не только право, защищающее от власти[57].
Неформальная природа власти, принадлежащей политическому мнению, требует некоторого уточнения. Верно то, что «публичное обсуждение само по себе ничего не решает»[58], что подготовка и формирование решений в процессе дискуссии не дает никакой гарантии того, что на избирателей повлияют верные доводы. Такой гарантии и не может быть, поскольку голосование является произвольным и не предполагает отчета (мы ни перед кем не отчитываемся, когда опускаем бюллетень в урну, и это условие нашей автономии) и поскольку неравенство между говорящими и слушающими является частью политической игры. Формальное равенство, делающее нас гражданами, не выравнивает данную нам речью власть влиять друг на друга[59]. Представительство не меняет того, что демократия основана на мнении; скорее даже, оно еще больше подчеркивает этот факт. По сути, представительная система наделяет форум определяющей ролью, поскольку она состоит в выведении политики на публику, ведь граждане должны судить о политиках и выбирать их в соответствии с тем, что они говорят и делают, а также выносить о них свое проспективное и ретроспективное суждение.
Следовательно, причастность сферы мнений к суверенитету зависит от того, какую форму принимает суверен. Голосование за представителя и его выбор – вот что позволяет форуму быть причастным к суверенитету, определяя ту точку отсчета, по отношению к которой мнение играет свою роль. Теоретики демократии справедливо утверждали, что, поскольку в политике основную роль играет решение, выборы являются единственным подлинно демократическим институтом[60]. Поданные голоса – это наиболее надежные публичные данные из всех, какие у нас только есть, а голосование – это единственный имеющийся у граждан формальный способ наказания и устрашения своих правителей. «Голосование – это навязывание одной воли другой», а не просто мнение; именно оно при отсутствии оснований для сомнения считается решением[61]. Однако многое значит и то, как одна воля навязывается другой, что показывают различия между прямой и представительной демократией. Современная демократия, поскольку она является косвенной (граждане позволяют законодателям принимать решения от их имени), отмечает собой завершение политики однозначных ответов в стиле «да или нет» и превращает политику в открытую арену конкурирующих мнений и решений, которые всегда можно пересмотреть. Поэтому, с точки зрения исследователей представительного правления, косвенная сила мнения характеризует современную демократию не меньше, чем избирательное право, причем характеризует во множестве отношений, которые мы не всегда сразу улавливаем, если сосредотачиваемся лишь на одной компоненте диархии, а именно на власти голосования.
Фактически представительная демократия способна заменить насилие подсчетом голосов (эту способность исследователи именовали «чудесной») лишь потому, что вес голосов превышает весомость числа. Когда политика структурируется избирательными циклами и политическими предложениями, воплощаемыми в кандидатах, мнения создают нарратив, развертывающийся во времени. Поэтому выборное назначение представителей становится плодородной почвой для идеологических описаний, которые выдают себя за взгляд на все общество в целом, на его устремления и проблемы, которые одновременно связывают и разделяют граждан. Именно этим объясняется то, что между кандидатами опознается разница, а благодаря такому опознанию они становятся предметом суждения избирателей. Основываясь на этом, я утверждаю, что политические мнения никогда не обладают равным весом, даже в гипотетическом случае двух разных мнений, получающих одно и то же количество голосов. Если бы вес голосов был равным, диалектика мнений и самого голосования не имела бы особого смысла. В представительной демократии голосование – это попытка наделить идеи весом, а не уравнять их вес[62].
Следовательно, в отличие от прямой демократии, в представительной демократии голосование побуждает граждан быть всегда не только избирателями, преодолевать границы акта голосования в попытке заново оценить отношение между весом своих идей и весом голосов в межвыборный период. Только в прямой демократии мнения тождественны воле, поскольку они непосредственно выражаются в решениях[63]. В прямой демократии суверенитет является моноархическим. Однако представительная демократия разбивает это единство, поскольку в ней мнения приобретают власть, независимую от акта голосования или воли.
Люди, выражающие свои мнения, стремятся к тому, чтобы эти мнения были замеченными и оказали влияние не только в день выборов, и хотя эти мнения не могут претендовать на какую-либо легитимную роль в принятии решений, они создают открытый публичный форум идей, который расширяет политическую деятельность, обусловливая то, что представительная демократия в определенном отношении больше выборной демократии и при этом отлична от прямой демократии. С другой стороны, хотя выборы (вместе с референдумами) стали единственной полномочной формой прямого присутствия граждан, выбираемые кандидаты не воспринимаются в качестве назначенных должностных лиц, правящих вместо народа, да и не должны ими быть. Они хотят поддерживать (и, по сути, должны, если желают переизбраться) коммуникацию со своими избирателями[64]. Эдмунд Берк, наиболее влиятельный теоретик политического представительства как свободного мандата, не сомневался в ценности такой коммуникации, которая, как он добавлял, должна быть откровенной и постоянной[65]. Еще более ясно высказывались американские отцы-основатели, которые ценность для свободы этой «цепочки общения» между гражданами и институтами выводили из опыта британского владычества, утверждая, что парламент относился к колонистам точно так же, как и к подавляющему большинству британского населения, поскольку его авторитет проистекал исключительно из представительства, но не из коммуникации[66].
Если следовать Берку и отцам-основателям, можно сказать, что именно потому, что представители не отвечают в юридическом смысле перед теми, кто выбрал их, они должны отвечать перед ними иными средствами. Свободный и непрерывно действующий канал коммуникации между ними и гражданами весьма важен для того, чтобы избиратели воспринимали их в качестве законных должностных лиц. Правовая легитимность – это лишь одна сторона медали. Мнения работают в качестве силы легитимности, связывая и объединяя людей внутри и вне институтов (в которых такая связь может также повлечь разногласия и утрату доверия). Они выполняют эту роль, поскольку предполагают не только то, что люди хотят высказываться свободно и открыто, но и то, что они хотят знать о происходящем в чертогах власти. Их значение в том, что для правительства они должны быть бременем, поскольку правление основано как раз на мнении.
Круговой характер наделения властью и проверки власти – вот причина, по которой власть мнения так сложно научно определить и нормативно регулировать, но именно это задает ее практическую необходимость. Эта сложность и уклончивость заставила Давида Юма определить «общественное мнение» как «силу», благодаря которой большинство легко управляется меньшинством, а меньшинство не может избежать контроля со стороны большинства[67]. После бросания «бумажных камней» именно круговое движение мнений связывает граждан друг с другом, соединяя государственные институты и общество[68]. Этим определяется смысл представительной демократии как диархии. Но этим же объясняются риски, заключенные в этой диархической структуре.
Взаимодействие народа и его кандидатов (и представителей) может заставить некоторых думать, будто самые шумные граждане или публичные дебаты на телевидении, а также лоббисты имеют законное право требовать суверенной власти. Феномены популизма и плебисцитаризма зародились в демократической диархии как желание преодолеть дистанцию между волей и мнением, достичь единодушия и однородности, каковые являются идеализацией, характеризовавшей демократические сообщества со времен античности[69].
С другой стороны, в силу своей диархической природы представительная демократия должна совершать дополнительное усилие ради сохранения имеющейся у граждан возможности участвовать в создании неформального суверена. Поскольку между общественным мнением и политическим решением существует обязательная связь, озабоченность теми непропорционально большими возможностями влияния на избирателей и правительства, которые есть у богатейших или могущественных в социальном отношении людей, является вполне обоснованной. Эмпирические исследования доказывают то, что эта обеспокоенность уместна, когда показывают, насколько экономическое и политическое неравенство «взаимно подкрепляют друг друга, так что в результате богатство с течением времени, скорее, накапливает власть, а не рассредотачивает ее»[70]. Теоретики демократии считают такие данные аргументом, подтверждающим то, что в представительной демократии граждане могут страдать от коррупции нового рода, а именно «лицемерной коррупции», заключающейся в недопущении тех, у кого есть равные гражданские права, к осмысленному участию в форуме, причем в таком случае они не могут доказать своего исключения, поскольку сохраняют за собой право бросить «бумажный камень» в избирательную урну, что является фактическим свидетельством их равного гражданского статуса[71].
Основной аргумент этой главы состоит, таким образом, в том, что, когда мнение включается в нашу концепцию демократического участия, политическое представительство должно связываться с вопросом обстоятельств формирования мнений, то есть проблемой, относящейся к области политической справедливости и равных возможностей осмысленно применять политические права, которые должны быть у граждан[72]. Равные права граждан на равное участие в определении политической воли (один человек – один голос) должны совмещаться с конкретными возможностями получать информацию, формировать, выражать, высказывать свои идеи, а также придавать им публичный вес и влияние. Хотя влияние вряд ли может быть равным и хотя его трудно точно подсчитать, может и должна быть возможность его осуществлять. И хотя мы вряд ли можем совершенно убедительно доказать, что существует причинная связь между медиаконтентом, общественным мнением и политическими результатами или решениями (никакие данные не способны доказать то, что Берлускони три раза выигрывал выборы благодаря своей телевизионной медиаимперии), барьеры, ограничивающие равные возможности участия в формировании политических мнений, следует удерживать на низком уровне, требующем постоянной проверки. Это наиболее важное значение политического равенства как средства защиты свободы, и его-то я и буду отстаивать в этой книге, подчеркивая ту мысль, что главное для демократии – включение в политический процесс, поскольку она озабочена «причинами исключения людей», а деньги – это сильная причина исключения, даже если последнее не принимает радикальной формы отмены избирательного права[73]. Принципиальное рассуждение, значимое для голосования, работает и для мнения, поскольку, хотя мы вряд ли может доказать, что голосование приводит к неким желательным результатам, мы не делаем отсюда вывод, что равное право на него бессмысленно. Как уже было сказано, нормативный характер демократических процедур покоится на том, что практика демократии является ее же ценностью[74].
Докса, политика и свобода
Греческое слово doxa и латинское opinio сочетают в себе два значения, которые стали представлять две важных традиции западной политической философии. С одной стороны, докса имеет философское значение – как идея, не восприимчивая к истине, а с другой – она имеет гражданское значение – как суждение особого рода, которое показывает, как чей-то взгляд или поступок принимается другими. В первом значении докса оценивается с точки зрения когнитивного результата. Во втором – с позиции разговора, который благодаря ей идет между людьми, которые взаимодействуют в общем публичном пространстве и, более того, создают законы. Две эти великие традиции мы можем возвести к двум величайшим философам античности – Платону и Аристотелю, выделив при этом промежуточную стратегию в прагматическом решении Цицерона, отделяющем философскую sermo (речь) от гражданского eloquentia (красноречия) в республике, дабы судить о них с точки зрения двух различных ценностей – истины в первом случае и свободы во втором[75]. Концепция политики как искусства, посредством которого разные, не знакомые друг другу люди, регулируют свое поведение и отношения за счет согласованных норм, относится к аристотелевской традиции. Именно в этой традиции политический дискурс ведет к стабильности и свободе.
Серая зона
Как писал Платон, мнение – это название для взгляда или убеждения, которые не могут пройти испытание философским анализом; докса не относится к «episteme» или области знания. Мнение живет в серой зоне между истиной и ложью, а потому, как несложно предсказать, в народных правлениях оно создает возможности для хитрых и амбициозных лидеров, которые фабрикуют доводы и идеи, чтобы с народного согласия заполучить власть, не обязательно преследуя интересы народа. Мнение, занимая промежуточное положение между знанием и невежеством, предполагает постоянное изменение, но не потому, что оно стремится к приблизительной истине, а потому, что в силу своей недостоверной и неустойчивой природы оно склоняет людей подхватывать различные взгляды и стили мышления, экспериментировать с ними, принимая или изменяя свои решения без гарантии того, что их поиск когда-нибудь завершится.
Мнение по самой своей сущности укоренено в эмоциях людей и состоит в прямой связи с действием. Поскольку оно выступает посредником между страстями и решением о поступке, Платон и его бесчисленные последователи считали, что оно опасно для политики. Мнение – это диспозиция нашего разума, которая заставляет нас смотреть на одни и те же вещи с разных точек зрения, осложняя познание истины этих вещей, поскольку чаще всего одни и те же вещи «окажутся в каком-то отношении прекрасными и в каком-то безобразными»[76]. Мнимое, следовательно, легко соединяется (прежде всего, философами) с предубеждениями и предрассудками; оно представляет собой «то, что колеблется в этом промежутке, улавливается промежуточной способностью»; это иррациональная область «неустановок», которой должно сопротивляться правление, опираясь на независимый класс экспертов или компетентные совещательные комиссии[77]. Мнимое невозможно исправить, как нельзя его и отобразить в истинном виде, а когда оно укореняется в народной культуре, то приобретает характер естественной данности, наделенной авторитетом нормы[78]. Мнение по этой причине может стать невидимым авторитетом («ярмом», если использовать термин Токвиля), которое заставляет людей нечто делать или от чего-то воздерживаться, поскольку на них действует сила принуждения, исходящая, как кажется, из них самих, от их предков и традиций[79]. Мнение делает людей одновременно деятелями и жертвами; оно создает конформизм или же, напротив, отказ от него, уклонение от форума и движение по «спирали молчания»[80]. Например, Марк Туллий Цицерон мыслил добродетели не столько качествами индивида, сколько качествами укорененного в обществе человека, которого формирует образование, вырабатывая в нем поведенческие привычки, о которых судят и которые оценивают другие люди[81]. Следовательно, репутация или отражение одной самости в сознании других, честь или наше желание соответствовать тому, что другие считают желательным, пристойным или правильным, – вот что превращает мнение в источник нового суверенитета, который соответствует характеру народного правления и может создать почву для новой формы деспотического господства, как доказывали Милль и Токвиль.
В целом мнение не может порождать истину, хотя оно может быть преодолено только истиной. И лишь просвещение рассеивает завесу предрассудков, которые представляются мнениями, повторение которых в течение какого-то времени привело к их сгущению и превращению в своеобразный осадок – именно так, как напластование, Парето будет определять тот набор мнений, который формирует всеобъемлющее повествование или идеологию. Поиск оснований вещей в области политики, а также философии и морали, требует достижения такого определения, которое схватывает «сами вещи, которые всегда одни и те же в каждом отношении»[82]. Очевидно, решения, относящиеся к вопросам правильности и неправильности, не могут быть предметом голосования, поэтому любители знания вряд ли могут быть любителями демократии. Как заметил Теренс Болл, авторитет, основанный на episteme, стирает различие между «обладать авторитетом» и «быть авторитетом», сводя первое ко второму[83]. Он связывает авторитет с качествами того или иного лица и отделяет его от институтов и процедур.
Демократия, как можно было бы заключить из посылок Платона, тяготеет к релятивизму, поскольку она основана на мнениях. Вывод из этой позиции, нацеленной против доксы, состоит в критике имманентности (то есть характеристики, которая, как я буду объяснять в следующей главе, вытекает непосредственно из процедурной интерпретации демократии), и ее претензия в том, что ради некоторых видов блага, таких как теологическая истина, философский разум, а также авторитет харизматического лидера, можно обратиться к трансцендентности. Независимо от рода блага, ради которого это делается, такая критика имманентности демонстрирует глубокую неудовлетворенность демократией, обусловленную не тем, что демократическая политика не оставляет места для эпистемических притязаний, а тем, что она угрожает им, относясь к ним так, словно бы у них не было ни особого авторитета, ни постоянного значения. С точки зрения того же Калликла, который в платоновском «Горгии» представляется образцовым примером ангажированного гражданина, практиковать риторику – значит жить ради политики или же иметь только одну идентичность – «общественного человека», у которого нет трансцендентной точки зрения, которая отделяла бы его от мнения форума[84]. Именно благодаря изменчивости или процедурной организации, нацеленной на возможность изменений, демократия становится правлением, основанным на мнении. Демократия – это правление посредством обсуждения, поскольку это правление мнения[85].
Публичное обсуждение в полисе
Несколько иная позиция была сформулирована через несколько лет после Платона Аристотелем, который встроил взгляд Платона в такое определение мнения, которое можно было примирить с коллективным обсуждением и свободой. Согласно Аристотелю, мнение в собрании равнозначно тому, что римляне называли «правдоподобием», которое выступало самостоятельной разновидностью истины (verum similes или тем, что похоже на правду), а не серой зоной, далекой от истины и постоянно грозящей превратиться в ложь; мнение представлялось процессом приобретения знаний, которые считаются «общим достоянием всех и каждого и которые не относятся к какой-либо отдельной науке»[86]. Еще более важно то, что мнение выступало синонимом конституционного политического порядка или республики (или, если использовать современный жаргон, легитимного правления), а потому и свободы. Оно использовалось, чтобы выделить саму политику в качестве «диалоговой деятельности, которой заняты граждане»[87]. Связь мнения и свободы – это основополагающая идея риторической традиции, открытой Аристотелем.
Аристотель различал три функции правления, с которыми он связывал три различных формы суждения. Работа «законодателя» (nomothéton) в существенном отношении отличалась от деятельности как «общественного собрания» (ekklesia), так и суда (dikastes). Законодатель (учредитель или, в современных условиях, конституционное собрание) применяет такое суждение, которое является «всеобщим и приложимым к будущему», то есть он создает условия для последующих суждений касательно того, что является «важным или неважным, справедливым или несправедливым» в конкретных случаях, становящихся предметом решения. Он задает критерии, правила и процедуры, каковые будут направлять законодателей (общественное собрание) и судебные органы (суд и судей), которые должны принимать решения по частным актуальным вопросам, прилагая к ним эти критерии или законы. В двух последних областях (собрания и суда) на сцену выходят страсти, поскольку обсуждаемые вопросы не записаны в законе (с которым, как предполагается, все единодушно согласны), а нуждаются в решении за счет применения закона, который, следовательно, выступает в качестве общей предпосылки суждения, а не вывода[88]. Такая «конституционная» концепция полиса предполагает, что «несогласие» устранить невозможно и что «когда условия верны, весь город может иметь общее правильное понимание того, в чем состоит благополучие человека», каковое базовый закон должен передавать из поколения в поколение, создавая тем самым этос полиса и позволяя людям принимать решение в рамках конституции[89].
Предположим, к примеру, что основной закон требует равного гражданского статуса для всех взрослых людей. Тогда нужны частные законы, которые бы позволяли реализовать данное положение и регулировали его применение, указывая, когда и при каких условиях этот общий критерий применяется – например, определяя возрастной порог. Решение, согласно которому частные лица должны получать избирательное право в возрасте восемнадцати лет, не является выводом, который можно было бы признать правильным или неправильным, поскольку он является результатом общепринятого взгляда или же правовой и моральной традиции (полагающей, что люди должны отвечать за свои поступки и соответственно нести наказание), с которой согласна большая часть общества: все это вместе (то есть общепринятый взгляд, правовая или моральная традиция и общее мнение) можно считать «доказательством» правдоподобия решения касательно возраста совершеннолетия. Однако было бы бессмысленно судить о возрастном пороге совершеннолетия, пытаясь выяснить, насколько он верен или неверен. Действительно, восемнадцатилетний порог не более «верен» сегодня, когда люди согласны с ним, чем в прошлом, когда считалось, что совершеннолетие должно наступать, скажем, в тридцать или сорок лет. Это не вечная истина, а правдоподобная, поскольку она предполагает контекстуально обоснованное представление о правильном и неправильном, соотносимое с основополагающим законом, требующим равного гражданского статуса.
То же самое можно сказать о вопросах, связанных с решениями о войне и мире, – это излюбленный пример Аристотеля, который пояснял им невозможность оценивать политическое обсуждение, применяя критерии философского обсуждения, хотя это и не означает, что политика является неразумным искусством. «Рассмотрение некоторых проблем полезно для выбора или для избегания, например желательно ли удовольствие или нет. Некоторые же проблемы полезны для одного только познания, например вечен ли мир или нет»; следовательно, вопрос «Надо ли идти на войну» – первого рода, требующего политического обсуждения, а не второго, требующего эпистемической истины[90]. В проблемах, касающихся «выбора» или «избегания», под которыми Аристотель имел в виду вопросы пользы и справедливости, вопросы правдоподобия не уравниваются с вопросами истины, и по этой причине мы взвешиваем все «за» и «против», выдвигаем аргументы касательно осторожности или удобства и в конечном счете нуждаемся в процедурах принятия решения, которые позволяют высказывать несогласие. Работа «ekklesia» и «dikastes» – это, следовательно, работа суждения. Однако они применяют разные виды суждения, что мы будем объяснять в следующей главе.
Конечно, дискуссия и несогласие – внутренние качества полиса, правление которого основано на мнениях. Оно требует атмосферы свободы и публичного представления идей и одновременно поддерживает ее. В «Никомаховой этике» Аристотель говорит, что, если бы в сообществе присутствовали герои, следовало бы позволить им править[91]. Но он тут же добавляет, что политическая ситуация, в которой живут люди, говорит о том, что в ней нет сверхчеловеков; следовательно полис должен строиться как наилучший из всех возможных полисов, учитывая то, что каждый человек может быть добродетельным, но многие на самом деле не добродетельны и при этом никто не богоподобен. Поскольку же полис состоит из обычных людей, отличных друг от друга, они должны принимать решения вместе; в силу своего несовершенства они нуждаются в сотрудничестве и общем включении в политическую жизнь. Следовательно, все они должны быть членами собрания и суда и должны искать то, что выгодно или справедливо для всех. Обсуждение – это стратегия коллективного принятия решений, которая требует признания неопределенности, с которой гражданам приходится иметь дело, и, с другой стороны, реальности их совместного существования; из нее вытекает то, что участники заранее знают, что решения не могут всегда быть единогласными и что такого единогласия вообще нельзя ожидать[92].
Из «Риторики» Аристотеля можно понять то, что политическое обсуждение имеет смысл именно потому, что вещи, о которых выносят решение, не являются предметом научного знания или философского обсуждения, и все решения (в том числе о конституционных законах) открыты для пересмотра[93]. Открытое испытание мнений и несогласие – это внутренние качества политической жизни в полисе. И по тому, что открыто для риторики или мнений, нам предлагается мерить политическую свободу и, следовательно, проводить различия между формами правления. Соответственно, демократия – это правление, наиболее благоприятное для публичного обсуждения[94].
Аристотель писал, что «в некоторых государствах, и преимущественно тех, что отличаются хорошим государственным устройством, эти риторы не могли бы сказать ни слова», а с другой стороны, есть государства, в которых запрещается говорить «о вещах, не относящихся к делу» в суде, где речь должна следовать процедурам, устроенным так, чтобы судьи устанавливали истину в рассматриваемых делах[95]. Здесь у нас две совершенно различные ситуации, в которых мнение неуместно. Это различие поможет нам оценить и лучше понять связь между доксой, политикой и свободой, а также то, почему свободное правление основано на мнении.
Полис с «хорошим государственным устройством», в котором «риторы не могли бы сказать ни слова», похож на просвещенный деспотизм или же эпистократию[96]. В государстве такого рода осуществляется радикальное отрицание политики (и свободы), поскольку для публичной речи не остается пространства, ведь все решения берет на себя правитель. Напротив, полис, в котором мнения исключаются из компетенции суда, похож на конституционное правление, в котором место политического мнения должно быть очерчено, и это ограничение выражается в защите свободы. В самом деле, в этом полисе мнения не должны проникать в суд потому, что они должны свободно циркулировать в публичной сфере. Следовательно, должны быть приняты законы, ограничивающие мнения «о вещах, не относящихся к делу» правосудия.
Мы называем конституционной демократией общество, в котором судья должен отвлекаться от своей религиозной веры или своих идеологических мнений, когда он выносит правомочное суждение или судебный вердикт. Но мы, соответственно, не имеем в виду, что это требование должно распространяться на граждан и на их представителей в собрании, хотя в их случае нужны определенные оговорки. Ключевой момент, выдвигаемый Аристотелем, состоит, следовательно, в наличии внутренней связи между правлением посредством мнения и свободой. Ограничение и сдерживание мнений (отделение правосудия от политики, а суда – от собрания) имеет смысл благодаря этой связи.
Мнения требуют поиска согласия, но причина их авторитетности – не один лишь разум и, главное, не солипсистский разум, а тот, что распространяется в обществе в форме согласия людей с тем, что они считают разумным соответственно обстоятельствам своей социальной и моральной жизни, своей этической культуре и идее счастья. Закон мнения и репутации, который Джон Локк обсуждал в «Опыте о человеческом разумении», считая его производным от способности суждения (дарованной Богом, чтобы было, чем «руководствоваться при отсутствии ясного и достоверного знания»), так же как и общее мнение или то, что Иммануил Кант называл «sensus communis», – это общая платформа для общества, опирающегося на базовые взгляды людей, руководящих ими в рассуждениях и выдвижении разумных доводов при принятии решений и оценке тех, кто был выбран для принятия решений[97]. Объединиться в политическое общество и располагать единой силой (законом) – не значит лишать индивидов их способности «быть хорошего или плохого мнения о действиях других людей», напротив, это значит наделять их способностью к моральным суждениям[98].
Мнения – это интерпретации отдельных фактов и событий, которые вытекают из применения идей или ценностей, уже разделяемых большинством людей в качестве их повседневных убеждений. Если при этом делается апелляция к основным принципам, ее цель, однако, не является эпистемической, а состоит, скорее, в преодолении несогласия и принятии решений, которые легитимны или приемлемы для тех, кто будет их исполнять. Доводы о политической легитимности выдвигаются для того, чтобы гарантировать принятие таких решений свободными гражданами и их повиновение[99]. Такие доводы во многом опираются на неявное общее мнение, с которым люди согласны настолько, что считают его принципиальной посылкой, поддерживающей умозаключения, признаваемые ими «истинными», «верными» или «здравыми». Позиция Аристотеля, которая нашла отклик в работах столь разных авторов, как Эдмунд Берк и Джон Ролз, указывает на такое понятие публичного или политического разума, которое поддерживает доводы в пользу политической легитимности, но не экспертного знания.
Здесь мы можем выделить следствия двух значений, содержащихся в doxa или opinio. Если судить с эпистемической точки зрения, мнение – это область недостоверного и предрассудочного, а потому оно является условием беспорядка и споров, которые приводят к дестабилизации власти. Цель знания – преодолеть его или перейти от того, что является предметом мнения, к тому, что является предметом доказанных и более не оспариваемых свидетельств. Либо докса преобразуется в эпистему, либо ее необходимо исключить из политической сферы, если последняя должна стать местом гармонии, чего хотели Платон и его последователи. Политическая свобода совершенно чужда этой концепции полиса и политики, чья главная цель – это порядок, а не свобода. Но если судить мнение по его социальному или коммуникативному значению, оно, как считалось в аристотелевской традиции, выступает средством, позволяющим создавать пространство обмена суждениями и идеями. В этом случае свобода выступает условием мира, а не гармонии. Она существенна для жизни полиса, и доказывается это тем, что политика – это дом мнений.
Однако разделение труда между доксой и истиной, при котором первая предназначается многим, а последняя – немногим, не оберегает мнение от критики; в действительности оно заставляет философов прийти к выводу, что ко всем мнениям следует относиться с величайшим подозрением, если только они сами не станут плодом их (то есть философов) критической работы и если только компетентная публика не будет диктовать верную интерпретацию политических вопросов. В следующих трех разделах я покажу, как классический дуализм эпистемы и доксы переходит в концептуализацию мнения в представительной демократии. Как мы выясним, мнению приписывалось три функции: функция социальной интеграции или консенсуса, которая унифицирует общественное поведение и ориентирует политические решения к общей для всех цели, функция выражения частных интересов и идей, создающих входные данные для политической системы, наконец, функция представления политиков и политических программ перед лицом общественного мнения. Форум мнений должен собирать и распространять информацию, стимулировать публичный разум, выражать политическое несогласие и критику, дабы политики и институты оставались на виду у людей.
Интеграция и консенсус
В «Структурной трансформации публичной сферы», являющейся, вероятно, наиболее влиятельным генеалогическим исследованием формирования и вырождения публичного духа в общественное мнение, а общего мнения – в своекорыстные мнения, Юрген Хабермас реконструировал то, как мнения в современном обществе приобретали уважение – в ходе формирования представительного правления и рыночной экономики. Эти институты нуждаются во мнении, чтобы работать в качестве средств обмена информацией и знаниями, благодаря чему продукты становятся товарами, а потребности определяются, рассчитываются и оцениваются. Следовательно, Локк был первым автором, который увидел в мире правдоподобия не только потенцию лжи и пороков, но также и условие для создания неформальной сети общественных отношений и коммуникации суждений. Локк различал три рода законов или источников власти – Бога, гражданское правление и мнение. Мнение для него было синонимом, с одной стороны, принуждения, поскольку оно представляется преходящими взглядами, которые подобно «моде» навязывают свой вердикт выбору частных лиц, а с другой – свободы, поскольку, естественно, мнение развивается и изменяется, когда частные лица могут свободно взаимодействовать и говорить. Следовательно, выступая местом суждения и чувства, мнение является локусом свободы от гражданского закона, но в то же время и источником непрямой, невидимой суверенной власти, которая одобряет или порицает «действия людей, среди которых живут и с которыми общаются»[100]. Мнению сопутствует согласие, а потому у него есть коннотация публичной договоренности и соглашения, но в то же время ему сопутствует и закон («закон мнения и репутации»), а потому оно обладает принудительным характером, хотя, что интересно, по мнению Локка, люди могут прислушиваться к общественному мнению в большей или меньшей степени, создавая определенную дистанцию между своими умами и общим разумом[101].
Кульминация исторической реконструкции Хабермаса приходится на времена Просвещения, когда общественное мнение приобрело благородную способность освобождать власть и от «auctoritas князя, независимой от убеждений и взглядов его подданных», и от пристрастного и предубежденного мира переменчивой толпы[102]. Именно Руссо первым представил разработанную концепцию общественного мнения как базовой формы власти, на которой основывается легитимность системы решения. В его «Общественном договоре» мнение выступает в качестве души общей воли, поскольку оно способно освободить закон от его механического принудительного характера и дать людям ощутить его в качестве их собственного голоса[103]. Функция общего мнения заключается в том, чтобы поддерживать применение права и даже создавать легитимность, поскольку оно выступает основой для различия между простым повиновением и повиновением с убеждением и даже энтузиазмом. Фактически внимание Руссо к повиновению, которое бы не просто следовало за решениями, принятыми в соответствии с установленными процедурами, но и было бы проникнуто воодушевлением, заставило его приписать мнению силу и всеобщность гражданской религии. Но для меня здесь важно подчеркнуть то, что, обсуждая процедуры и институты легитимного правления, Руссо чувствовал, что необходимо ввести власть, которая была бы внешней для воли и которая, однако, укрепляла бы последнюю. L’opinion – это позиция, необходимая Руссо, чтобы доказать то, что правление большинства является условием политической автономии всех граждан, включая тех, кто оказались в меньшинстве, или тех, кто не согласны с большинством. Это и есть вопрос легитимности, условие которой – не только la volonté générale (общая воля, то есть суверенная власть закона), но также и l’opinion générale, общее мнение.
Как объяснял Руссо, когда гражданин голосует в собрании, он должен прислушиваться к своей общественной воле (воле, которая у него есть, поскольку он сам является частью общей воли или гражданства), а не к частной воле. У каждого гражданина две самости (и воли), но только одна имеет право говорить (голосом разума, а не риторики) и быть выслушанной в публичных условиях (на собрании), где принимаются решения. Когда голосующий гражданин чувствует, что нет ничего сложного или проблематичного в том, чтобы дать слово своей публичной самости и не дать говорить самости частной, значит общая воля действует легко и почти автоматически, подобно интуиции (или естественной эмоции), которая руководит суждением таким образом, что гражданину нет нужды использовать свое чувство публичности, которое бы цензурировало его частную самость. Позиция Руссо вдохновила Джеймса Брайса, который заявил, что мера соответствия общей воли общему мнению публики является термометром, который измеряет силу и состояние политической свободы[104]. Чем глубже и проще соответствие, тем меньше разрыв между «легальной» страной и «реальной» страной, то есть между общей волей и общим мнением. Власть освобождается от своего проклятия – отождествления с отношением повеления и повиновения, в котором зреют конфликты и нестабильность, и связывается с согласием. «Соответственно, конфликтный аспект власти – тот факт, что она осуществляется над людьми – вообще исчезает из поля зрения»[105]. Эта протогегемоническая концепция мнения представляет высший уровень прочувствованной легитимности, хотя, в отличие от правовой или институциональной власти, она не всегда тождественна с собой и может испытывать взлеты и падения, а потому нуждается в постоянном подкреплении со стороны граждан и институтов (Руссо считал, что цензура играет центральную роль в стабильности и единстве республики). Оба этих проявления суверенитета существенны, причем они находятся в отношении взаимного притяжения и отвращения, акции и реакции. Их потребность во взаимном подкреплении указывает на то, что вопрос легитимности или политической свободы – вопрос динамического, а не статического условия. Оно напоминает эластичное отношение равновесия двух полюсов (общей воли и общего мнения) – от максимального перекрывания до минимального.
В двенадцатой главе второй книги «Общественного договора» Руссо перечисляет четыре рода законов (где «закон» является легитимной формой, которую может принимать воля суверена), три из которых относятся к одному типу, тогда как последний является уникальным. Три первых и являются, собственно говоря, законами, а именно судебный, формальный и процедурный (политический закон, гражданский закон и уголовный закон). Четвертый составляет свой собственный класс, являясь странным родом суверенного закона. «Я разумею нравы [moeurs], обычаи и, особенно, мнение общественное. Эта область неведома нашим политикам, но от нее зависит успех всего остального». Этот закон («наиболее важный из всех») – и есть то, что мы сегодня называем публикой или же общественным мнением. Он действует, скрываясь за нашим частным разумом, подобно невидимой силе (похожей на гравитационную силу у Ньютона) и косвенно влияет на решения, не властвуя над ними прямо. Это голос суверена (Руссо использует слово «закон», которым у него обозначается исключительно голос суверена), хотя он и не похож на волю и действует не в присутствии институционального суверена (собрания), а за ним посредством симпатизирующего воображения, а не рациональных умозаключений. Однако без него правовая система была бы чисто формальной нормой, сознательно никак не принимаемой гражданами; закон бы действовал де-юре, но де-факто не поддерживался бы народом в целом, а потому некоторые ощущали бы его как нечто подавляющее, то есть как незаконный закон. Чтобы правление большинства не противоречило политической автономии, два этих уровня законности всегда должны быть связаны друг с другом. Формальный суверен не восполняет отсутствие неформального, а общая воля – отсутствие общего мнения.
Диалектика большинства и меньшинства предполагает наличие как неформального, так и формального суверена, причем гражданин чувствует себя свободным и тогда, когда он подчиняется закону, и тогда, когда он не согласен с ним. Единство политического тела поддерживается тем, что все граждане согласны с целями политического порядка, с принципами, которые позволяют средствам действовать, а также с самими средствами, которыми оперирует правительство и на которых основаны совещательные процессы (мы можем назвать это базовым согласием по конституционному этосу). При наличии этого базового согласия политическое сообщество в целом, даже если превалирует мнение большинства, должно сохранять возможность представлять себя в качестве свободного сообщества, поскольку оно больше воли большинства и количественного согласия как такового[106].
Следовательно, l’opinion générale является чувством и видением единственного инклюзивного дискурса, который объединяет страну; хотя граждане могут не соглашаться по многим частным вопросам, по которым им надо вынести решение, такое единство Руссо в конце «Общественного договора» рассматривает в качестве некоего религиозно-этического единства, поскольку, если оно действует, оно способно требовать повиновения, не прибегая к рациональному убеждению. Именно потому, что гражданское общество является сложным, конфликтным и плюральным, политическому сообществу требуется общая грамматика. Мнение, как остроумно заметил Георг Вильгельм Фридрих Гегель, – это территория, на которой индивидуальная свобода суждений и мнения встречается и сталкивается с «абсолютным универсальным» благом (общим интересом государства). Это напряжение и конфликт – конститутивный характер мнения и одновременно оправдание свободы коммуникации и прессы; в этой динамике отображается различие между органическим единством древних городов-государств и неорганической общностью современных обществ, которая столь наглядно воплощается в представительстве. Следовательно, общественное мнение является современным феноменом, и, как пишет Гегель:
Поэтому общественное мнение содержит в себе вечные субстанциальные принципы справедливости, подлинное содержание и результат всего государственного строя, законодательства и всеобщего состояния вообще в форме здравого смысла людей как той нравственной основы, которая проходит через все, что принимает форму предрассудка, а также истинных потребностей и правильных тенденций действительности. Вместе с тем, когда эти внутренние моменты… становятся в общих положениях представлением… выступает вся случайность мнения, его невежество и извращенность, ложность знания и суждения… Поэтому общественное мнение заслуживает в одинаковой степени как уважения, так и презрения, презрения – из-за его конкретного сознания и внешнего выражения, уважения – из-за его существенной основы, которая, будучи более или менее замутненной, лишь светится в этом конкретном.
Гегель приходит к выводу, что свобода коммуникации и свобода прессы – это условия, которые наделяют смыслом двойственный характер мнения[107].
Ключевая проблема современных демократий заключается как раз в том, что акторы, поставляющие этот инклюзивный дискурс, являются, как правило, частными субъектами (классами, группами или медиаэкспертами), хотя они и осуществляют публичную функцию. Современные теоретики, размышляющие об этом затруднении, спорили о том, должна ли у демократий быть именно общественная система широкого вещания (вроде Би-Би-Си), целью которой была бы поддержка этой инклюзивной общности базового представления страны в целом, или же «ценность инклюзивного дискурса не имеет логического и уж точно – необходимого отношения к той или иной конкретной форме владения различными „медиаголосами“»[108]. Естественно, невозможно дать универсальное предписание или норму, поскольку ответ на этот вопрос очевидным образом зависит от политического и исторического контекста. Однако в качестве общей максимы я бы предложила считать, что «общественное мнение» (название объекта, которому политологи и социологи пока еще не смогли дать бесспорное определение)[109] – это множественное пространство, составленное из различных видов мнения. Эта множественность и многообразие сами играют роль объединяющего «инклюзивного дискурса», располагающегося под демократической политикой в качестве условия, соотносящего доксу и свободу.
Когнитивная роль мнения
Однако Руссо к своему анализу суверенной роли общего мнения добавил то, что нерефлексивное мнение общей воли не обладает компетенцией и не может выявлять и распознавать то, что нужно сделать, а потому должно опираться на мнение мудрого меньшинства, поскольку, хотя общее мнение всегда право, его суждение легко искажается невежеством и предрассудком[110]. Решение, предложенное Руссо, состояло, как мы знаем, в создании собрания граждан, которые непосредственно и молча голосовали бы «за» или «против» предложений, поступающих из совета или сената. Общественное мнение удерживалось в тайне (и в этом смысле оставалось частным), как рациональное умозаключение, не выходящее за пределы внутреннего сознания каждого гражданина, не вступающее во внешнюю коммуникацию или публичность. Оно было записано в сердцах и умах людей и тщательно охранялось, оберегалось от «зрения» и «голоса» – двух чувств, которые могли сделать мнение действительно публичным, но также мобилизовать эмоции и риторов, а потому исказить естественный разум и чувства[111]. «Бессловесные» недискурсивные события, такие как фестивали, парады или арифметическая гармония музыки, – вот публичные формы коммуникации и действия в республике Руссо. То есть они были скорее культурными, а не политическими. В противоположность зрелищам, основанным на подражательных чувствах, таким как театральное представление с персонажами и речами (представительное собрание относится именно к этому театральному жанру), они стимулировали ненаправленный поток идей и эмоций, конечной точкой которых выступал разум индивида. Неприемлемой альтернативой был бы бесконечный кругооборот и вечная изменчивость мнений, два необходимых фактора представительной политики, против которых Руссо, как мы знаем, решительно выступал. Публичная жизнь должна учить интроспективному рассуждению (основанному на том, «чем действительно являются вещи», а не на «мнениях других людей»), которое позволяет гражданам голосовать на собрании[112].
Чтобы включить в республику всех, Руссо пришлось заставить всех замолчать – это был компромисс, который он заключил с платоновским эпистемическим представлением об общей воле («l’opinion générale» должна опираться на мудрость и компетенцию меньшинства). Как мы увидим в следующей главе, предписание Руссо относительно молчания, которое на самом деле было топосом республиканской традиции до Просвещения, возвращается в современной эпистемической теории демократии, а также в неореспубликанской теории правления, пытающейся сузить роль представительных собраний по причине пристрастности рассуждений, которые в них проводятся, и заражения республиканского разума страстями и интересами[113].
Конечно, в картине Руссо «мнение» и «общее мнение» существенно отличались друг от друга: первое все так же несло на себе оставленное Платоном клеймо, изгладить которое могли только компетентность и знание (а потому граждане были лишены власти предлагать законы), тогда как последнее выступало в форме полноправной веры, убеждения или нерушимого мнения (квазирелигиозного по своему типу), настолько нерефлексивного, что только законодатель мог истолковать его, расшифровать и перевести в конституционные принципы[114]. Его нерефлексивный характер являлся условием его подлинности и всеобщности, но также и неспособности выявить проблемы, а потому такое мнение не подходило для подготовки законодательных предложений – эту задачу в собрании избирателей не решали. Люди «всегда любят благо», инстинктивно знают различие между правильным и неправильным, они могут правильно судить об общем интересе, но кто-то должен привлечь их внимание к тому, что нужен какой-то определенный закон или программа, поскольку «именно в этом суждении они [люди] совершают ошибки». Следовательно, разделение сердца и мозга наносит ущерб народу, а не должностным лицам или мудрому меньшинству, поскольку убеждение – это язык сердца, но убеждением намного проще манипулировать, чем разумом. В конце концов, правительство – это и есть «сердце политического организма», поскольку оно является его мозгом[115].
Это означает, что, хотя в теории Руссо общее мнение – это всё, на самом деле оно не правит. Doxa и episteme остались столь же далекими, как voluntas и ratio. В том, что Руссо отстранил l’opinion от публичных споров, в которых должны приниматься решения, мы находим доказательство его резкого неприятия политического представительства, которое является наиболее важным институтом создания публики и превращения политики в дело, которое совершается публикой и на публике, потому что граждане должны судить предложения своих представителей, выдвигаемые от имени граждан, то есть должны говорить и слушать, а не только голосовать. Представительная система преодолевает все пережитки платонизма в делиберации и узаконивает открытое и публичное оглашение мнений, и в то же время она использует компетенцию, не лишая обычных «некомпетентных» граждан их власти уполномочивания. Компетентные мнения, даже когда они нужны, не получают в таком случае особого веса в государстве, всегда оставаясь вспомогательными для политических мнений – и тогда, когда они обращены к законодательному собранию, и тогда, когда они свободно циркулируют в обществе. Речь, которую Руссо изгнал из пространства политических решений, должна получить свою полную власть. Общественное мнение, следовательно, является публичным не только потому, что относится к суждениям о «занимающих публичный пост», но и потому, что оно существует в открытом публичном пространстве, вне государства, и потому что оно, как отметил Гегель, взращивается свободной речью граждан, которая им по нраву.
Изменение источника власти, которым становится уже не компетентное мнение немногочисленного меньшинства, а политическое мнение, в формировании которого участвуют все без разбора, а также обогащение значения «публичного» как одновременно государственного (то есть относящегося к правовому и институциональному порядку) и открытого всем, а потому находящегося под присмотром публики, нашли свое полное выражение в представительном правлении. Оно несло в себе ряд позитивных и негативных качеств, поскольку, хотя, с одной стороны, публика может стать судом, контролирующим деятельность избранников и присматривающим за нею, с другой стороны, она неизбежно теряет свою критическую и бесстрастную позицию, которой Просвещение желало наделить публику, когда утверждало ее легитимность, противостоящую arcana imperii князя. Это именно тот момент, который порицают современные теоретики эпистемической демократии, когда указывают на партийную природу политики, порождаемую электоральной конкуренцией и представительной политикой.
Однако интересно отметить, что именно в те годы, когда идея необходимой связи между конституционным правлением, общественным мнением и принципом публичности получила распространение среди политических философов в континентальной Европе, в Великобритании, где представительная система уже устоялась, возник еще один образ мнения и публики, в котором подчеркивалось как раз благо «разделения» в политическом общественном мнении, то есть идея партийной политики.
Политические разделения и партийные мнения
Политические и партийные мнения начали приобретать легитимность в Великобритании вместе с защитой Парламента, «существа британской свободы… свободы выборов, периодической организации работы, целостности и независимости парламентов»[116]. Генри Сент-Джон Болингброк был активным защитником политических мнений как проявлений суждения (как хорошего, так и дурного) о деятельности правительства, каковое суждение должны выносить избиратели и члены парламента[117]. Он полагал, что существенно важно создать политическое мнение (и он сам участвовал в его создании) как оппозиционный и партийный вид публичного присутствия, целью которого была бы выработка политических программ, ориентация взглядов и решений граждан, а также оформление выборной борьбы. Болингброк освободил политическое разделение и партийность от традиционного неприятия, которое они встречали в политической мысли начиная с Аристотеля, который, как известно, в пристрастных расхождениях и фракциях видел наиболее важный фактор упадка конституционного правления, выступающий первым признаком неумеренности. В своем «Рассуждении о партиях» (A Dissertation upon Parties), которое на протяжении 1733–1734 гг. публиковалось по частям в еженедельном политическом журнале The Craftsman, основанном им же, Болингброк выделил три формы партийности или, как он сам называл их, «возможного разделения», которое может возникнуть в «свободном правлении» (или правлении, которое основано на согласии избирателей): первое – это разделение «людей, недовольных правительством, но при этом уверенных в необходимости сохранить конституцию», второе – «людей, настроенных против правительства, поскольку они против конституции», третье – «людей, привязанных к правительству, или, если говорить точнее, к лицам, которые правят, или, если еще точнее, к власти, прибыли и защите, получаемым ими благодаря расположению этих лиц, хотя сами они являются врагами конституций»[118]. Партийность была объявлена не только легитимной, но и, более того, положительной составляющей – при условии, что она не ставит под вопрос конституционный договор и не служит частным или классовым интересам. Причастность общей грамматике (поддержка конституции) стала условием критики политических решений и занятия политикой вне институтов, то есть на постоянном «суде», как через несколько десятилетий после Болингброка скажет Иеремия Бентам.
Итак, вместе с представительным правлением мнение приобретает дополнительное значение: оно отождествлялось уже не просто с тем, что людям казалось справедливым или хорошим (как у Руссо и Канта), но и с размышлениями и суждениями граждан о работе правительства, о своих социальных условиях, потребностях или бедах. Из предписания Болингброка, запрещавшего пристрастность, основанную на соображениях выгоды или расположения, следовало, что выборы заставляют граждан размышлять над интересами их страны с точки зрения их собственных проблем. В самом деле, Болингброк требовал не патриотизма без «разделений», а патриотизма с хорошими разделениями, которые бы «развивали свободу». В этот момент понятие мнения усложняется, поскольку в слове «мнение» мы теперь замечаем три значения: l’opinion générale как объединяющая сила в духе Руссо (или, как у Болингброка, мнение людей, «уверенных в необходимости сохранить конституцию»); политическое мнение или неизбежные «разделения» среди граждан ради создания политических программ, в которых их собственные интересы, обусловленные конкретным социальным местом, сочетаются с интересом страны; наконец, частные мнения или личные интересы, которые не утруждают себя согласованием с общим интересом, поскольку, напротив, желают подстроить его под себя. Как мы можем легко понять, частные мнения и интересы – это опасная ложь (по Аристотелю и Цицерону, они представляют собой источник смертельно опасного разделения на фракции), а если они претендуют на то, чтобы их услышали в правительстве, они становятся главными факторами коррупции («Частные мотивы никогда не должны влиять на массы»)[119].
Однако политическое мнение является хорошим «разделением», которое наделяет смыслом голосование, а суждение граждан – публичной легитимностью, не потому, что граждане являются «окультуренной публикой» или же обладают особой мудростью и знанием, а потому, что они избиратели. Как отмечает Хабермас, Болингброк использовал даже разные термины для обозначения двух легитимных видов мнения: «чувство народа», которое сохраняло характер всеобщности, и «общественный дух», который приобрел пристрастный характер политического/партийного мнения[120]. Как только институт выборов внедрен, отделить последнее от первого становится сложно. Эта трансформация, вызванная представительством, позднее будет отождествлена с упадком республиканского общественного духа и ростом, напротив, заинтересованного общественного мнения. Здесь стоит упомянуть критическую оценку буржуазной трансформации республики, превратившейся из полиса добродетели в полис интересов и подсчета предпочтений, – если следовать интерпретации Ханны Арендт (а вместе с ней и Хабермаса), которая, соответственно, весьма настороженно относилась к представительному правлению[121].
Эдмунд Берк – теоретик, которому удалось наиболее точно схватить сложность и неизбежно конфликтный характер композиции общественного мнения в представительном правлении: с одной стороны, это выражение общего чувства, которое объединяет всех управляемых на протяжении веков поколений вокруг неких общих ценностей (которые Руссо называл l’opinion générale), с другой – политическое мнение, которое через выборы просачивается из общества в законодательное собрание (и это позволяет нам понять, почему Руссо отвергал представительство или политическое мнение)[122].
Именно этот вид мнения – политического и общественного, хотя и не общего – современные политические теоретики списывают со счетов, когда выдвигают обвинения в пристрастности представительных собраний и в равной мере граждан, предлагая сузить область, в которой действуют демократические процедуры, чтобы расширить пространство для компетентного знания и беспристрастного рассуждения, которым заняты, к примеру, экспертные комиссии, собрания граждан, отобранных для достижения беспристрастных результатов, судебные органы, претендующие на некую власть, превосходящую авторитет избранных органов. Кроме того, именно на политическое мнение мы должны ссылаться, когда оцениваем популистские и плебисцитарные формы, которые может принимать демократия и которые представляют собой крайнее проявление свойственное здравому смыслу представления о том, что выборы привносят политическое суждение и пристрастность в законотворчество. Придерживающиеся этой точки зрения политические теоретики (Вебер, Моска, Парето) пришли к невыгодному для политики выводу, поскольку считали ее войной, ведущейся иными средствами, но при этом упустили из виду то, что как раз «иные средства» и имеют главное значение в мире, так что политика – это не война, и выигрыш в конкурентной борьбе посредством убеждения противоположен избавлению от врага. К этому аргументу я вернусь в следующей главе.
Обвинение, утверждающее, что представительная демократия не допускает к власти ни беспристрастных мнений, ни компетентного знания, созвучно с желанием современных философов освободить демократию от доксы, чтобы гармонизировать ее с истиной (согласно платонистской посылке, обнаруживаемой у Руссо)[123]. С одной стороны, как я буду объяснять в третьей и четвертой главах, реалистское заявление о том, что демократию нужно принимать такой, как есть (то есть в ее весьма несовершенном виде, запятнанном беспрестанной игрой интересов), побуждает нас видеть в политической конкуренции не выражение автономии или свободы, а зрелище, которое достойно римского форума или Колизея, телевизионную игру, разыгрываемую немногими для забавы многих и заканчивающуюся коронацией лидеров, завоевавших расположение аудитории[124]. Мнение в таком случае, хотя оно и освобождается от «власти князя», не смогло бы освободить себя от клейма непереводимости в истину. Платонистская и плебисцитарная идеи политики отражаются друг в друге и являются в каком-то смысле взаимодополнительными, поскольку эпистемическое искажение политики лишает диалог ценности, так как он лишен технических знаний, а в результате такого опустошения область мнения становится плодотворной почвой для демагогической риторики.
Из этого краткого обзора трех функций, которые докса приобретает в представительном правлении, можно сделать следующий вывод: чтобы реабилитировать доксу (и демократию) мы должны поставить под вопрос как эпистемическую амбицию превращения публичного обсуждения в территорию компетентного знания, чьи достижения должны оцениваться так же, как наука решает техническую задачу, так и реалистское искушение, превращающее политическое мнение в некую военную арену, на которой сила прокладывает себе путь посредством слов, образов и согласия масс. Короче говоря, задача в том, чтобы опровергнуть Парето.
Правление опирается на мнение
Суверенитет мнения обычно понимался как эвфемизм, поскольку в конечном счете иметь мнение – не то же самое, что хотеть. Мнение считалось не самостоятельной властью, а «негативной». То есть оно анализировалось и трактовалось в качестве прерогативы частного лица, позволяющей ему свободно оказывать давление на правительство и искать защиты от него (при посылке, что государство является обладателем неограниченного потенциала для произвольного вторжения в жизнь индивида). Его неформальная природа говорила в пользу частного характера свободы слова, поскольку пытаться влиять на политических деятелей – это в конечном счете не то же самое, что правомочно принуждать их к действию. Как уже отмечалось, сам этот факт подталкивал теоретиков представительного правления к тому, чтобы сузить участие [граждан в политической жизни] до одних лишь выборов, поскольку это единственный институт, который позволяет нам бесспорным образом «доказать» демократический характер политических решений. Но с этой точки зрения было бы сложно разработать критерии для выявления (и блокирования) угрозы, возникающей из-за сосредоточения в области формирования мнения экономической власти и коррумпирующих практик. Само предложение расширить значение демократического обсуждения, включив в него неформальный дискурсивный характер плюралистического форума ассоциаций, политических движений и мнений, рискует предстать неким идеологическим прикрытием, служащим новым коммуникативным стратегиям отбора элиты. Именно эта точка зрения заставила теоретиков плебисцитарной демократии усомниться в том, что мнение является формой контроля власти, пусть даже оно, бесспорно, является средством построения авторитета.
Конечно, свобода слова может оказывать неприглядное и даже разрушительное воздействие, особенно когда она вооружена мощью прессы: она способна распространять слухи и фабриковать факты, пользуясь недомолвками; она может нарушить право на неприкосновенность частной жизни и повредить чьей-то репутации. Кроме того, форум мнений, как раз потому, что он владеет умами людей, можно мобилизовать на объединение миллионов под одним флагом[125]. Поэтому-то Алексис Токвиль писал об этой свободе так: «Я люблю ее гораздо больше за то, что она мешает злу осуществляться, нежели за те блага, которые она приносит»[126]. Однако он тут же добавлял, что государственный контроль нельзя оправдать, поскольку власть, имеющая полномочия отделять плохую информацию от хорошей, неизбежно станет тиранической. Для обуздания свободы распространения новостей понадобился бы монопольный орган власти. Когда политическая власть ограничивает свободу слова и прессы, не остается пространства для умеренности, так что любое лекарство хуже болезни. Поэтому из своего анализа свободы прессы в США Токвиль сделал вывод, что единственная легитимная стратегия контроля власти прессы – это поддержка ее «невероятного распространения».
Следуя за Токвилем, в оставшейся части этой главы я буду руководствоваться такими критериями: плюрализм и широкий форум является условиями контроля правительства и в то же время защиты частного лица от «негативной» власти мнения; эти условия предполагают равное распределение среди граждан авторитета суждения и одновременно воли; наконец, свобода мнения не должна оправдываться своими результатами, сколь бы благими или желательными они ни были. Как и в случае защиты права, ее защита должна быть принципиальной, или за нее вообще не стоит браться. Это значит, что любое правовое вмешательство должно быть направлено на гарантию и, если нужно, восстановление условий плюрализма и равных возможностей граждан участвовать своими голосами и идеями в политической жизни своей страны. В последнем разделе главы я, соответственно, буду доказывать то, что процедурная интерпретация демократии содержит в себе нормативные условия, которые удовлетворяют этим критериям, а именно равной политической свободе, имманентности и самодостаточности.
Политическое гражданское право
Хотя отношение между представительной демократией и свободой мнения «не очевидно», эта форма правления показала наличие «внутренней связи между свободой мнения и политической ролью гражданина»[127]. Отправляясь от этой точки зрения, я буду доказывать то, что отождествление свободы слова и мнения с негативной свободой или свободой, не имеющей связи с характером правления, неудовлетворительно, поскольку оно ничего не говорит о том, что позволяет гражданам оказывать давление на правительство и контролировать его или призывать его к ответственности. Однако когда мы говорим, что представительная демократия – это правление, опирающееся на мнение, мы имеем в виду, что мнения играют политическую роль. Если парафразировать Макиавелли, князь должен «чувствовать», что на него воздействует народ, а народ должен «чувствовать» то, что он воздействует на князя[128].
Если проследить логику диархии, мы поймем, что, в противоположность другим негативным свободам, свобода слова – это та свобода, защита которой может потребовать наличия активного государства (разумеется, даже обычные негативные права, например, право на собственность, требуют государственного действия или «ощутимой поддержки налогоплательщиков», а также сложного институционального аппарата)[129]. Оуэн М. Фисс несколько лет назад написал, что невмешательство, возможно, не является лучшей стратегией в случае права, которое, несомненно, является индивидуальным, но при этом обладает прямым политическим значением: «Защищать автономию, выстраивая зону невмешательства вокруг индивида… – это примерно то же, что проводить публичный спор, в котором господствуют, а потому и ограничивают его некоторые силы, доминирующие в социальных структурах, так что такой спор не может быть „непринужденным, здравым и широким“»[130]. Следовательно, важное следствие диархического характера демократии в том, что свобода слова – это двойственное право, у которого, как у Януса, два лица – негативное и индивидуальное (защита от власти), а также позитивное и политическое (формирование политических мнений).
Конечно, призыв к свободе мнения первоначально был направлен на защиту индивидуальной свободы. В частности, он родился в качестве способа отстоять религиозную свободу или свободу совести перед лицом секулярной и церковной власти, выступая в качестве условия не только общественного мира, но также свободной и искренней религиозной или духовной практики[131]. К этому праву обращались, чтобы установить негативную свободу особого рода, которая бы ограничивала власть через утверждение того, что определенная часть жизни индивида относится исключительно к его частной юрисдикции или воле. Однако приобретение этой первой негативной свободы превратило общество в место различных мнений, религий и т. д. Технологическое изобретение – книгопечатание – усилило воздействие индивидуальной свободы, позволявшей формировать идеи по религиозным и иным вопросам, выражать их и обмениваться ими[132].
Мне не нужно заново излагать историю борьбы за свободу вероисповедания и свободу слова, чтобы доказать свой тезис. Достаточно напомнить о том, что с началом гражданской войны в Англии право на свободу слова и свободу прессы приобрело подлинное политическое значение – как раз в тот момент, когда эти свободы были утверждены в качестве гражданских прав. Республиканцы и революционеры придали этим правам смысл политического сопротивления официальной власти, представили их в качестве средства разоблачения и развенчания arcana imperii, а также инструмента исследования и поиска истины. Их негативный или защитный характер положил начало контролю над правительством и давлению на него, став политическим правом гражданина. Джон Мильтон, один из наиболее авторитетных участников ранних битв вокруг свободы мнения, защищал свободу нелицензированной печати во имя открытого процесса дискуссии, который должен изменить природу власти, как политической, так и религиозной, а также и саму природу свободы[133]. В «Ареопагитике» он включил аргумент о свободе слова в республиканскую парадигму, противопоставляющую свободу рабству: «Когда споры предаются свободной огласке, когда они всесторонне рассматриваются и быстро удовлетворяются, значит достигнут высший предел гражданской свободы, к которому стремятся разумные люди»; противоположностью является тирания, подавление голоса общественности[134]. Задачей Мильтона была защита гражданских свобод, и хотя его нарративная стратегия была классически республиканской, его предложение оказалось вполне современным – он требовал защищать динамику несогласия как условие и признак свободы и одновременно интеллектуального совершенствования как индивида, так и общества.
С тех пор гражданские права играют важную политическую роль, хотя они никогда напрямую не превращались в политическое участие[135]. Их косвенная или «негативная» власть с самого начала рассматривалась как качество, которое по своему характеру является антитираническим, поэтому с политической точки зрения они требовали отстаивать такое правление, которое должно проверяться и контролироваться – как институтами и правилами, так и силами граждан, его инспектирующих. Через несколько столетий после Мильтона Ганс Кельзен, а потом и Хабермас подчеркнули необходимую связь между негативной и политической свободой, доказывая наличие внутреннего отношения между индивидуальными правами и демократией[136]. Следовательно, классические гражданские свободы, от свободы религиозной совести до свободы речи и собраний, являются основанием для демократии, поскольку они существенны для формирования двух условий, без которых демократий не было бы, а именно: наличия у граждан доступа к политической информации и возможности всегда, а не только во время избирательной кампании или же в случайном совпадении с отправлением их суверенной воли, свободно выражать и распространять свои мнения о правительстве (то есть критиковать его и открыто выражать свое несогласие)[137].
Из того факта, что представительная демократия является правлением посредством мнения, вытекает два следствия, одно запрещающее, а другое утверждающее: мнение ограничивает правление и в то же время основывает его на свободе. Публичное обсуждение превращает общий интерес в коллективную конструкцию граждан, в результат непрерывного переубеждения и компромисса, который никогда не приводит к окончательному вердикту (неважно, насколько хорошему или правильному). В этом всеобщем процессе несогласие столь же важно, как согласие; критика действует в качестве стабилизирующей силы политической свободы не меньше, чем общая убежденность в некоторых базовых принципах, например тех, что были воплощены в Билле о правах или конституции. Следовательно, «негативную» власть мнения можно описать и как укрепляющую силу, и как индикатор положения «объединяющей силы», связывающей граждан с избранниками. Как говорит Бэйкер, функция публичного форума мнения в современной демократии – это «эгалитарное распределение» (которое выражает принцип плюрализма и антимонопольности) и в то же время «инклюзивный общий дискурс»[138]. Это посылка, на которую опирается двойное значение общественного мнения – с одной стороны, критической и контролирующей силы, а с другой – объединяющей силы легитимности. И это та самая посылка, которая оправдывает правовое вмешательство ради защиты равной свободы на форуме.
Барьеры, возможности и самоустранение
Демократия началась с заявления Солона о том, что побеждать следует посредством убеждения, а не денег, силы или семейных связей. «Граждане выходят на форум, не имея ничего, кроме своих аргументов»[139]. В современной устоявшейся демократии «мы можем считать само собой разумеющимся, что демократический режим предполагает свободу слова и собраний, а также свободу мысли и совести»[140]. Такое отношение к ним как к данности способно скрыть их силу и одновременно хрупкость. В считающемся сегодня классическом исследовании места единогласия и конфликта в функционировании небольших демократических организаций Джейн Дж. Мэнсбридж указала на то, что условия, в которых равная власть считается необходимостью, возникают тогда, когда ясно, что эти свободы отсутствуют или сокращаются и когда есть соответствующее их восприятие. Мэнсбридж добавляет к этому, что неравенства сами по себе не являются проблемой, если никто не воспринимает их в качестве проблемы и если у каждого есть возможность «осуществлять равную власть», то есть если все члены [организации] считают, что обладают «равной властью, которую они могут применить, „стоит им только захотеть“»[141]. Именно поэтому процедуры представляют ценность, а люди считают себя независимыми даже тогда, когда повинуются законам, которые были приняты большинством или выборным парламентом[142]. Я предлагаю применять различие между «равными возможностями» и «достижением» равенства к процессу формирования мнений. Как и в случае полномочного волеизъявления, чем слабее возможность граждан участвовать в форуме или чем более слабой она ощущается, тем важнее им эта возможность.
Проблема – не конфликт сам по себе или неравная власть как таковая. Гораздо более тревожная проблема – ощущение гражданами того, что у них нет «равных шансов направить движение своей организации в предпочтительную для них сторону», что у них нет власти или что их действия не влияют на публику в той же мере, что и действия других[143]. Снижение в устоявшихся демократиях доли граждан, принимающих участие в выборах, – тревожный сигнал: гражданам, вероятно, кажется, что у них нет шанса повлиять на политическую жизнь в своей стране; что они не равны в управлении властью мнения, хотя у них и есть равные избирательные права, а также свобода слова и печати; другими словами, что власть избирателя оказывается в любом случае пустой, если эта власть изолирована[144]. Они стремятся не к уравниванию социальных условий, но к блокированию их перевода в политический голос и власть. И это урок, который демократия преподнесла еще в самом начале, когда Солон, освободив задолжавших граждан своего города от власти кредиторов, попытался дать им равные шансы на участие в политической власти, поскольку полагал, что это лучший способ гарантировать то, что они не подпадут под владычество богачей. Следовательно, демократические решения должны воздействовать именно на препятствия, мешающие политическому равенству и участию, разоблачая их и стремясь их устранить. В своем обращении 1920 года о «Новом национализме» Теодор Рузвельт сформулировал похожие идеи, когда он, заметив, что право на собственность «не дает избирательного права какой бы то ни было корпорации», заявил: «Необходимо, чтобы были приняты законы, запрещающие прямое или косвенное использование корпоративных средств для политических целей… Если бы наши политические институты были совершенны, они бы вообще не допускали политического господства денег в любом из наших дел»[145].
Барьеры, мешающие участию, как прямые, так и косвенные, должны быть не слишком высокими, хотя их и не следует арифметически уравнивать; важно, чтобы люди знали и верили в то, что при некотором усилии они могут преодолеть их (именно это Руссо имел в виду, утверждая, что l’opinion, записанное в «сердцах» людей, является движущей энергией общей воли, записанной в институтах и процедурах). Добровольный характер участия в политической жизни должен работать в качестве стимула и напоминания об имеющейся у граждан власти, а не как фаталистическое препятствие действию. Конечно, неравенство в богатстве не должно быть слишком большим. Однако чтобы политическое равенство сохранялось, его не обязательно устранять, главное, чтобы люди знали и верили в то, что их неравные экономические силы не станут причиной того, что их политический голос не будет услышан. Не должно быть ощущения, что использовать процедуры бесполезно; самоустранение с форума и из процесса выборов не должно казаться удобным решением.
Превращение политики в форум мнений усиливает значение политического присутствия (или отсутствия) граждан. Поскольку мнения могут влиять на решения людей, они становятся весьма привлекательны для политических лидеров, которые пытаются использовать форум лишь для того, чтобы завоевать популярность, а не для обнародования собственных поступков: мир мнения может превратить публичность в стратегию сокрытия и в средство укрепления идеологического согласия, которым политики пользуются в обход электорального согласия. С другой стороны, он может стать привлекательной силой для социальных и экономических групп, которые надеются задать политическую повестку, повлиять на дискуссии в рамках институтов и на законодателей. Неизбежное расхождение, порождаемое тогда, когда присутствие определяется голосом, может значительно увеличиться вследствие неравных возможностей использовать средства информации и коммуникации. Рональд Дворкин придал этому аргументу элегантную форму, указав, что сегодня ключевой вопрос – уже не свобода слова как право частного лица, но свобода слова как участие в работе демократии. Если мы соглашаемся с тем, что демократия – это диархия, тогда следует предусмотреть правовое вмешательство, которое сократит влияние частных денег в политике и восстановит принцип равенства в политической свободе, помешав могущественным частным лицам и корпорациям приобретать слишком влиятельный голос[146].
Несбалансированная власть голоса
Существующие социально-экономические барьеры для диархического гражданства противоречат демократическому принципу равенства политической свободы, даже если мы не можем совершенно убедительно «доказать» то, что они так или иначе влияют на политические решения, поскольку именно «согласие большинства, а не дискуссия, определяет закон»[147]. Федералисты, несмотря на свое чрезмерное внимание к угрозе, которую для стабильности представляли неимущие, ясно понимали то, что различия в богатстве и культурное неравенство могут оказывать огромное влияние на положение дел в республике, поскольку представительство структурно опирается на различие или неравенство граждан в ораторских навыках и способностях. Джеймс Мэдисон высказывал озабоченность угрозой, исходящей от бедных, но он же упоминал и ту опасность для здоровья республики, которую представляют собой богатые[148]. Но поскольку он был республиканцем, больше всего его беспокоила коррупция, а не политическое неравенство.
Однако в демократии защита политических институтов от коррупции – это защита политического равенства, и отсюда вытекают два момента: защита «достоинства системы политического представительства» и гарантия «честного доступа к публичной арене на каждой стадии политической конкуренции, предоставляемая кандидатам, имеющим право участвовать на этой стадии»[149]. На эти моменты указывает озабоченность ходом споров вокруг реформы финансирования кампаний в США, заметная, когда Верховный суд и федеральные суды используют аргумент о коррупции для описания «разрушительного влияния корпоративного богатства» или «ненадлежащего влияния», которое может оказывать неравное «политическое присутствие» в форуме, пусть даже у корпораций нет явного плана или намерения использовать такое присутствие и даже если речь не равнозначна голосованию[150]. «Ненадлежащее влияние» обозначает диспропорциональное неравенство ресурсов, имеющихся у некоторых кандидатов вследствие диспропорционального неравенства ресурсов, которые есть у некоторых граждан. Ощущение бессмысленности демократических институтов, которое может появиться у ущемленных граждан, следует интерпретировать не как разоблачение дефицита демократии, но как признание нехватки власти или же как доказательство того, что социальное неравенство переводится в неравное политическое влияние[151]. Как показал Чарльз Бейц, вопрос о неравенстве политического влияния является сложным и открытым для различных интерпретаций, сталкивающихся друг с другом – во-первых, по причине сложности принципов «политического равенства» и «политического влияния», а во-вторых, потому, что он приобретает разный смысл в зависимости от того, как его рассматривать, в связи с гражданами, желающими выразить свое мнение, или же кандидатами, которые претендуют на равные конкурентные условия[152].
Если Верховный суд США использовал выражение «ненадлежащее влияние», значит предполагалось, что основание демократии – это политическое равенство, и не только в сфере голосования. Выражение «ненадлежащее влияние» указывает также на то, что должна существовать максима демократического влияния, ориентирующая политические суждения и решения. Опираясь на эти посылки, Ч. Эдвин Бэйкер предложил убедительный в теоретическом плане аргумент, оправдывающий защиту правительством плюрализма в области информации и коммуникации: «Та самая эгалитарная ценность, что воплощена в равном праве людей на самоуправление и… в урне для голосования, имеет значение также и для публичной сферы»[153]. Такова цель, которая задается максимой демократического влияния, которую можно расширить на оценку участия граждан в сфере формирования мнений в целом, ради защиты плюрализма медиа от концентрации собственности и одновременно ради защиты политического равенства от «ненадлежащего» влияния. «Медиа, как и выборы составляют главный шлюз между формированием общественного мнения и формированием „государственной воли“». По этой причине «страна является демократической только в той мере, в какой и медиа, и выборы являются структурно эгалитарными и политически значимыми»[154]. То же самое можно сказать о финансовом вкладе в политические кампании или о частных деньгах в политике, которые выступают попыткой монополизировать ресурсы мнения. Максима демократического влияния согласуется с диархическим характером представительной демократии, поскольку она обращает внимание на защиту «цепочки общения» между гражданами и институтами, создающей публичное и политическое мнение. Задача этой максимы – заставить граждан и законодателей признавать и разоблачать «ненадлежащее влияние»; она утверждает, что демократическое правление должно требовать равного внимания и уважения со стороны законов и должностных лиц, а также равного внимания к возможностям граждан оказывать «влияние» на политический процесс. В соответствии с предпосылкой о мнении как форме суверенитета, максима демократического влияния выступает руководящим принципом для суждений и решений по вопросам, которые относятся к обстоятельствам формирования мнения и являются вопросами политической справедливости.
У каждой страны есть своя история посягательств на равенство, которые нуждаются в выявлении, разоблачении и устранении. Применение максимы демократического влияния к США повлекло бы перемены в логике невмешательства, которая родилась из «романтического представления о Первой поправке» как условии «рынка идей»[155]. Этот вывод можно признать обоснованным, если рассмотреть вышеупомянутый аргумент Верховного суда о том, что «ненадлежащее влияние» – это причина коррупции, поскольку оно является нарушением равного «политического присутствия». И здесь выявляется и разоблачается та коррупция, что подрывает саму ценность равного гражданского участия, а не добродетель или какое-то иное благо, которое превосходит положение каждого гражданина в республике. В демократии коррупция – это, собственно говоря, нарушение принципа равенства политической свободы.
Кроме того, неравные возможности политической защиты интересов и идей должны оказать негативное влияние на убежденность граждан в равных возможностях участия. Это может привести к разрушению ценности демократии в мнениях граждан, а также убедить их в том, что бессмысленно идти на выборы, что, проголосовав за кандидата, они не почувствуют, что их взгляды стали более известными и более влиятельными. Подрыв доверия к работе институтов способен стать заметной угрозой представительной демократии, которая не может опираться на «глашатая» как средство информации и коммуникации, а должна, напротив, опираться на множество агентов-посредников. В силу косвенной формы политического неравенства (вытекающей из косвенной формы политической свободы), граждане, в социально-экономическом плане ущемленные и маргинализованные, порой лишаются того, что должно давать им голосование, а именно опоры в обществе и в институтах, в которых принимаются законы[156]. Сегодня количество людей, которые «вынужденно молчат», поскольку они «социально исключены» и лишены политического значения, достаточно велико, чтобы граждане начали беспокоиться о будущем демократии. То, что Роберт Э. Гудин написал об иммигрантах, лишенных избирательного права, можно распространить на бедных и беспомощных граждан, которые в своем собственном политическом мире находятся на той же дальней периферии, что и иммигранты в большом мире: «Те, кто больше всего нуждаются в праве на высказывание, на кого больше всего влияют наши действия и решения, слишком часто оказываются в положении, в котором им труднее всего донести до нас свои чаяния. Действие на расстоянии (вред, который мы им причиняем) оказывается в современном мире гораздо более простым, чем голос на расстоянии (жалобы на причиненный ущерб, с которыми они к нам обращаются)»[157]. Тревожный факт устоявшихся демократий состоит в том, что многие граждане похожи на бесправных иммигрантов, если говорить об эффективности их «голоса на расстояния», а также «действия на расстоянии».
Следовательно, в представительной демократии легко формируется политическое исключение: граждан не слышат, они на самом деле не представлены, хотя у них есть равное избирательное право, а силу влияния на законодателей едва ли можно «проверить»[158], притом что, как недавно заявил в своем мнении большинства по делу «SpeechNow.org v. Federal Election Commission» судья Верховного суда Энтони Кеннеди, нет доказательств того, что частные деньги в избирательных кампаниях «порождают коррупцию или видимость коррупции», поскольку «влияние на избранных официальных лиц или доступ к ним не означают, что эти лица коррумпированы»[159]. Однако «существует значительный объем систематических, хотя и косвенных данных, подтверждающих, что финансовая поддержка со стороны групп интересов связана с законодательными результатами, работающими на эти интересы»[160]. Кроме того, хотя судья Кеннеди ставит под вопрос причинно-следственную связь между влиянием и коррупцией, следует вспомнить о том, что замена добродетели и социально-исторической случайности нормативными принципами и процедурами была величайшим вкладом современного конституционализма в демократию, который противники регулирования финансирования кампаний в США, похоже, недооценивают, когда требуют, чтобы им предоставили эмпирические подтверждения коррупционного влияния этого финансирования на избранных официальных лиц. Средства post factum не были мудрой политикой, а потому были созданы процедуры, чтобы дать политической системе условия ex ante, позволяющие нейтрализовать дурное поведение. Однако эти противники – в показательном деле «Buckley v. Valeo» (1976), в котором рассматривалось финансирование кампаний, за которым последовали дела «Citizens United v. Federal Election Commission» (2010), а потом и «Speech Now.org v. Federal Election Commission» (2012) – постоянно отрицали то, что рассматриваемое поведение, связанное с деньгами и политической властью, ведет к коррупции.
Таков подход судьи Кеннеди в деле «Citizens United», но его утверждение, что значительные независимые расходы корпораций, создающие видимость особого доступа к официальным лицам, «не заставят избирателей потерять веру в нашу демократию», нисколько не убеждают[161]. Однако «угроза коррупции, проистекающая из зависимости от частных пожертвований, состоит именно в том, что выполнение важной представительной функции [законодательное обсуждение] будет нарушено. Тот факт (если он имеет место), что пожертвования влияют на голоса законодателей лишь частично, вряд ли может стать причиной для благодушия»[162]. Деннис Ф. Томпсон предложил поэтому понимать эти изощренные способы коррумпирования представителей без очевидных свидетельств коррупции, как «опосредованную коррупцию», при которой официальные политики не имеют личной выгоды, однако, будучи представителями нации, активно участвуют в обслуживании частных интересов. Такое участие наносит демократическому процессу вред как на стадии избирательной борьбы (поскольку оно создает условия для искажения результатов выборов), так и на стадии парламентского решения[163].
Судья Кеннеди не приводит никаких данных, которые были бы получены Конгрессом или другими источниками и подтверждали бы его заверения; тем не менее он приходит к выводу, что единственная причина, по которой корпорации или кто-либо другой готов тратить деньги, чтобы повлиять на публику, состоит в том, что последняя обладает «окончательным влиянием» на официальных политиков. Его вывод нацелен на уравнивание корпораций в гражданских и политических правах с гражданами как физическими лицами. Однако он не может доказать полное отсутствие данных о том, что американцы в последние годы потеряли веру в демократический потенциал своей политической системы и сомневаются в том, что их равные избирательные права дают им возможность сколь-нибудь ощутимо влиять на институты и представителей[164]. Кроме того, общеизвестным историческим фактом является то, что билли о правах и конституции были написаны и приняты, когда отношение между политической властью и гражданским обществом, наконец, укрепилось и устоялось, так что такие конституции были признаком появления у субъекта возможности свободно влиять на власть выборных должностных лиц и в то же время контролировать ее.
Отношение между решением и обсуждением, составляющее диархию демократии, достаточно очевидно указывает на то, что, хотя только голоса имеют значение, а «само по себе публичное обсуждение ничего не решает», законодатели и граждане могут найти немало исторических и эмпирических данных, если пожелают доказать наличие этой связи между социальной властью и политическим влиянием вне и за пределами формального события выборов. Решение Верховного суда США от 2003 года, одобряющее проводимую Конгрессом реформу финансирования кампаний, подтверждает идею диархической природы демократии и максиму демократического влияния. Если говорить словами верховных судей Стивенса и О’Коннора, хотя тайное голосование не позволяет нам получить «конкретные подтверждения» того, что «деньги покупают влияние», это голосование не является достаточным индикатором состояния демократии, поскольку, собственно, это не единственная форма, которую принимает голос народа. «Конгресс не обязан игнорировать исторические данные, относящиеся к той или иной особой практике, или рассматривать поведение отдельно от его контекста». Короче говоря, мнение – это власть и тогда, когда оно используется для продвижения политической программы или финансирования кандидата, и тогда, когда оно применяется гражданами для выражения своего несогласия с мнением большинства или для запроса более полной информации по деятельности правительства. В результате всего этого равные возможности участия в суверенитете мнения становятся щекотливым вопросом, хотя нет доказательств того, что влияние на мнение отражается в решениях.
Максима демократического влияния основывается на идее представительной демократии как диархии. Она признает то, что политическое участие в представительной демократии является комплексным и означает не только выбор законодателей, но и опору на эффективных представителей, выступающих проводниками интересов как вне, так и внутри государственных институтов; короче говоря, оно означает наличие равных возможностей участия в публичном форуме в роли избирателей и граждан[165]. Кроме того, она закрепляет нормативное значение демократического процедурализма в его безупречной способности опираться на равную свободу и воспроизводить ее. Наконец, она указывает на то, что демократическое правление должно ощущать ответственность за такое регулирование публичного форума мнений, которое наконец гарантировало бы всем равные возможности оказывать определенное влияние на политическую систему, даже если:
а) не все желают использовать эту возможность;
б) те, у кого больше материальных средств для оказания политического влияния, воздерживаются от их применения;
в) избранные политики достаточно добродетельны, чтобы не отвечать на давление влиятельных граждан.
Коммуникативная власть
«Для того чтобы общественный форум был свободен, открыт для всех и заседал постоянно, каждый должен иметь возможность получать от него пользу… Свободы, защищенные принципом участия [то есть всеобщим избирательным правом], теряют значительную часть своей ценности, когда тем, кто имеет бо́льшие личные средства, позволяется использовать свои преимущества для контроля над ходом общественного обсуждения. Дело в том, что в конце концов эти неравенства позволят людям, находящимся в лучшем положении, оказывать большее влияние на ход законодательного процесса»[166]. Этой чеканной формулировкой Джон Ролз в 1971 году определил идею политической справедливости. В рассуждении Ролза перефразирована мысль, которая была широко распространена в первые десятилетия после Второй мировой войны и которую можно заметить в обсуждавшемся у Роберта Даля условии, необходимом для достижения политического равенства, а еще раньше – в позиции Джерома Баррона, полагавшего, что «существует неравенство в способности сообщать свои идеи, точно так же как есть неравенство в экономической силе; признавать последнее и отрицать первое – попросту идеализм». Баррон развивал эту мысль так: если мы признаем то, что политическое участие в демократии включает в себя и «коммуникацию идей», а не только голосование, мы должны также признать, что «публичная информация жизненно важна для появления информированных граждан», а демократический подход к свободе информации и к силе влияния должен предполагать не невмешательство со стороны государства, а политику регулирования или вмешательство, нацеленное на устранение барьеров, закрывающих гражданам доступ к этим средствам. Применяя к медиакоммуникации или силе влияния принцип Ролза, согласно которому процедурные правила являются самостоятельной и независимой ценностью, поскольку в качестве «чистого процесса» они обеспечивают возможность равной свободы, Бэйкер разрабатывает принцип демократического рассредоточения для коммуникативной власти, требующий «максимального рассредоточения собственности на медиа»[167]. Это нормативное требование, которое не обязано обосновываться эмпирическими данными. Его оправдание «состоит в том, что оно допускает формирование публичного форума, на который опирается демократия, то есть в признании того, что власть денег – это фактор, который дает нечестное преимущество в отправлении политической власти, несмотря на то, что каждый голос формально обладает одним и тем же весом, а каждый гражданин формально может распоряжаться одним и только одним голосом. Демократический политический порядок отчасти предполагает борьбу разных групп, у каждой из которых свои проекты и интересы, свои нужды и своя концепция желательного общественного мира»[168]. Эгалитарные условия важны для того, чтобы у всех граждан была возможность участвовать в формировании, обнародовании и разработке этих взглядов.
Все теоретики демократии, какова бы ни была их концепция – чисто процедурная, конституциональная или партиципативная, утверждают, что конкуренция идей и политических взглядов является фундаментальным условием для формирования мнений граждан и их выбора. Поскольку демократическое государство не должно интересоваться регулировкой количества поданных голосов, оно должно быть заинтересовано в обеспечении того, что «в республике, где суверен – народ, главную роль будет играть способность граждан делать информированный выбор между кандидатами»[169]. То, что Уолтер Липпман неодобрительно именовал «псевдосредой», расположенной «между человеком и его средой»[170], в демократии является политическим благом, областью, в которой осуществляется политическое участие; также это парадигматическая территория конфликта между политикой и сферой публичного и частными интересами и сферой социального. Именно на этой территории в современной демократии идет борьба – скорее за политическое равенство, чем за избирательное право.
Цепочка косвенности
Таким образом, мы прояснили политическое значение свободы слова, причины, по которым мнение в современной демократии является политической силой, а правовое вмешательство ради равной свободы на форуме является оправданным. Теперь мы можем обратиться к вопросу о «качестве» доксы или средствах, на которые опираются, формируясь и сообщаясь, мнения. В противоположность родственной суверенной власти, а именно избирательному праву, для формирования и выражения мнений граждан необходимо нечто большее их решения действовать.
Хотя мнение отождествляется с голосом и решением индивида высказать то, что он думает, на самом деле оно опирается не только на голос и решение индивида его использовать. Права свободы слова и свободы мнения отправляются при помощи технических средств, и эти косвенные материальные средства способны стать новым источником неравенства[171]. В самом деле, чтобы мнения были услышаны и стали влиятельными, граждане должны сделать некоторое дополнительное усилие помимо решения отточить свои риторические способности, мыслить свободно и говорить честно и открыто. Традиционно эти индивидуальные качества считались доказательством существования определенных форм естественного неравенства, которые не только не устраняются равным правом на участие в политической жизни, но еще больше усиливаются, получая возможность проявить себя и даже развиться[172]. Классическое описание демократии как правления, в котором индивиды используют только аргументы, является, следовательно, неадекватным, поскольку, хотя граждане не могут использовать деньги напрямую, средства, необходимые, чтобы их мнения получили публичный отклик, довольно дороги и для них нужны деньги. Если следовать идее Ролза о том, что пользование свободой состоит в пользовании одновременно «основными свободами и ценностью этих свобод», мы можем сделать вывод, что «без финансовых средств для осуществления права на свободу слова это право, судя по всему, не будет иметь никакой действительной ценности»[173].
Неравные личные качества, такие как хорошие риторические способности и приобретенные обучением навыки политической игры, бледнеют в сравнении с неравной собственностью и контролем над средствами коммуникации. Хотя граждане демократии признают и приобретают равное право на политическое участие, это не гарантирует того, что они будут оказывать равное влияние на политическую повестку и лидеров, если их голоса не слышны за пределами узкого круга друзей и, кроме того, если у них нет сил выйти за этот круг[174]. Технологические средства, действующие между правом на свободу слова и действительной «заметностью» мнений, – это ключевой фактор, который дополняет уникальность представительной демократии как правления посредством мнения[175]. Вопрос о геополитическом размере современных государств – это важный фактор, который помогает объяснить эту уникальность: как известно, Аристотель полагал, что слишком большой полис не мог бы быть политическим сообществом, поскольку не бывает глашатая с таким громким голосом, чтобы его услышал весь народ. Но тот тип косвенности, о которым мы говорим, не связан с размером.
Высказать мнение – не то же самое, что сделать его коммуникативным. «Коммуникация, – писал Никлас Луман, – возникает лишь тогда, когда кто-то видит, слышит, читает и постольку понимает, что здесь могла бы последовать дальнейшая коммуникация. Одно только действие, передающее сообщение, следовательно, еще не является коммуникацией»[176]. Мнения, следовательно, связаны не только с самой речью, но и с совместной речью с другими, а когда сообщество достаточно широко, нам нужна кое-какая дополнительная помощь, чтобы сделать коммуникацию возможной. Как писал Кант: «Хотя и утверждается, что властями может быть отнята свобода говорить или писать, но не свобода мыслить, но только сколько и насколько правильно мы мыслили бы, если бы не думали как бы сообща с теми, с кем обмениваемся своими мыслями!»[177]. Кантовское обоснование коммуникации нашло дополнительную поддержку в словах судьи Верховного суда Таргуда Маршалла, который, выступая по делу «Kleindienst v. Mandel» (1972), заявил, что «свобода говорить и свобода слушать – неразделимы; это две стороны одной и той же медали… Но сама медаль – это процесс мышления и обсуждения. Деятельность, в которой говорящие становятся слушателями, а слушатели – говорящими в живом обмене мыслями, – это средство, необходимое для открытия и распространения политической мысли»[178]. Публичный форум – это такое средство коммуникации, и он предполагает не просто желание говорить и слушать. «Если людей не слышат и если они не говорят, и демократия, и дискуссия в опасности»[179].
Право на свободу слова требует некоторых внешних материальных условий, которые позволяют нашим мнениям быть переданными в коммуникации, если последняя – это то, что мы желаем достичь посредством речи, то есть если речь должна служить публичной цели, а не ограничиваться дружеским кругом. (Таков же был смысл использованного Цицероном различия между sermo и eloquentia.) Для существования публики в большом полисе нужны определенные технические инструменты. Но средства коммуникации, являясь техническими устройствами, приносят с собой немалое затруднение, поскольку они зависят от денег, технических знаний и материальных факторов, которые в значительной мере обуславливают принцип прав и возможностей. В ранее процитированном решении судья Маршалл предполагал, что в вопросе о коммуникации не следует упускать из виду то, что «возможно, является частными качествами, присущими последовательным, проходящим при личном участии спору, дискуссии, опросу»[180]. Никто лучше Аристотеля не поможет нам понять отношение между автономией суждения и «поведением», средствами коммуникации и конституционным правлением.
Аристотель, как известно, утверждал, что небольшой размер полиса и непосредственные отношения между гражданами в повседневной жизни – это ключевые условия политической свободы: «Государство с чрезмерно большим населением… скорее племенная единица, нежели государственная, так как ему нелегко иметь какое-либо правильное устройство. Действительно, кто станет военачальником такого до чрезвычайных размеров возросшего множества, кто будет глашатаем, если он не обладает голосом Стентора?». Глашатай считался ключевой фигурой, поскольку суждения граждан, не менее важные, зависели от него. Античная демократия отличалась не только тем, что ее граждане непосредственно участвовали в политике, но и тем, что они непосредственно судили и принимали решения в соответствии со своими «идеологическими предпосылками, стремясь к наиболее полному осуществлению своего собственного интереса и интереса государства»[181]. Технические средства не встревали между людьми и их мнениями. Если парафразировать заявление Верховного суда по делу «Miami Herald v. Tornillo», существовал «подлинный рынок идей» с «достаточно легким доступом к каналу коммуникации». В современной же демократии «рынок идей» не открыт и не является действительно свободным рынком. «Газеты стали крупным бизнесом, причем их количество сильно уменьшилось, тогда как количество грамотных людей увеличилось», так что эти «средства» – это уже не просто проводник, переносящий идеи и мнения, а силы, находящиеся «в руках у немногих», «информирующих» и «оформляющих общественное мнение» граждан. Вопрос теперь уже не просто в том, что не у всех есть равный доступ к «рынку идей», но в том, что у некоторых голос громче, чем у других, благодаря материальному богатству, которое у них есть и которое они могут использовать для усиления своих голосов и продвижения своей повестки. Равенство, таким образом, понесло существенный урон, и это вызов политической свободе[182].
Заявление Аристотеля о том, что население и территория должны быть ограниченными по размеру, проистекало из его требования социальной и политической самодостаточности граждан. Этим может объясняться то, почему isegoria, «всеобщее право говорить на собрании, иногда использовалось греческими авторами как синоним „демократии“»[183], поскольку и это право, и демократия должны были отправляться неопосредованно. Согласно Аристотелю, понятие самодостаточности относилось как к производству идей и мнений, так и к их выражению на собрании. Гражданам, чтобы действовать в качестве самодостаточных субъектов, нужно было как независимое суждение, так и экономическая независимость. Для свободного и ответственного выбора им были нужны как материальные блага, так и знание. По Аристотелю, в двух публичных сферах, для которых характерна власть выносить решения – распределение политических постов и применение законов – граждане должны были формулировать свои суждения в частном порядке, а не сообща. И распределение власти (при выборе гражданами должностных лиц), и отправление правосудия (когда судьи судили людей за их поступки) требовали непосредственного знания. Так же, как судьи в своих делах не могли работать с косвенными или полученными из вторых рук знаниями, граждане не могли выбрать достойных должностных лиц или принимать хорошие законы без знания качеств кандидатов.
Если в античных республиках единственным посредником между гражданами и институтами был глашатай, в современной демократии коммуникация и информация – это конструкция, создаваемая акторами-посредниками, которые также управляют системой выбора кандидатов, разработки политической повестки и формирования мнений по многим вопросам, которые могут стать предметом общественного суждения. В античной демократии граждане могли узнать о личных качествах лидеров или ораторов, самолично проверить их и вынести о них суждение. В современной демократии качества кандидатов и информация о действиях выборных официальных лиц искусственно конструируются и передаются гражданам. Более того, такая информация превращается в спектакль, который должен забавлять, отвлекать, провоцировать или успокаивать аудиторию, которая по этой причине превращается в реактивных, но пассивных граждан[184].
Следовательно, современные граждане более пассивны не просто потому, что выбирают политических лидеров, а не принимают решения непосредственно, но и потому, что они не имеют равных возможностей видеть и быть увиденными, выносить на обсуждение свои идеи и делать так, чтобы их услышали. Еще в 1861 году Милль сетовал на то, что в представительной демократии Фемистокл и Демосфен, чтобы их услышали, должны были бы победить на выборах в парламент, но чтобы стать кандидатами, им пришлось бы прибегнуть к помощи партии[185]. Более того, им понадобилась бы достаточно дружественная медиасистема, чтобы они могли понравиться аудитории или мощным лобби, финансирующим их избирательную кампанию в надежде на то, что они помогут принять выгодные тем законы. В современной демократии политическое суждение как самостоятельная косвенная власть является косвенным еще и в силу тех условий, которые делают его эффективным. Цепочка косвенности – вот что должно поддерживать внимание граждан к качеству их равных прав, когда они оценивают вопросы свободы мнения в публичной сфере информации и коммуникации.
Два понятия свободы
Если парафразировать Аристотеля, современным гражданам не хватает самодостаточности в сборе и интерпретации информации, в достижении эффективной коммуникации. Эта нехватка автономии значительно сокращает возможность принятия автономных политических решений и, более того, осуществления контроля над теми, кто был выбран править. То есть здесь страдает не только их участие в политике. Слабой и беззубой становится сама их свобода. Нарушение принципа равной свободы в области мнений – это нарушение системы сдержек и противовесов; оно выражается в концентрации власти на одной стороне, а на другой – в недостаточной силе противодействия, которая могла бы либо остановить деспотическую или чрезмерную власть, либо сопротивляться ей.
В демократии, в которой наиболее важная власть граждан является, по существу, «негативной», поскольку это в большей мере власть суждения и влияния, а не каких-либо действий, тот факт, что их косвенная власть осуществляется через сеть опосредования, которая в значительной мере опирается на деньги, а потому отличается структурным неравенством, означает то, что она, возможно, уже не является эффективной контролирующей силой. Скорее, косвенная власть представляется источником новой, вездесущей власти, неподконтрольной гражданам. В деле, которое было признано «поворотным» и стало прецедентом для политики государственного невмешательства как лучшего способа сдерживания монополизации в медиаиндустрии, судья Верховного суда Байрон Уайт заявил, что «самым главным является право зрителей и слушателей, а не право телеканалов. Цель Первой поправки – сохранить свободный рынок, не ограничиваемый ни государством, ни частными лицензиями»[186].
Хотя возможны аргументы в пользу ограничения монополии, которые бы защищали интервенционистскую стратегию законодательной власти, здесь мне важно привлечь внимание к тому важному признанию, что правило государства – защищать поток информации от концентрации власти и что свобода тех, кто находится в состоянии пассивности, например, аудитории, – это первейшее благо, которое должно защищаться правом. Косвенность, укрепляемая в политике технологиями и деньгами, усугубляет неравное положение оратора и слушателя, предполагавшееся уже традиционным риторическим стилем коммуникации, а потому слушатель больше нуждается в защите, чем оратор. Кроме того, она проясняет столкновение между правами частной собственности и простым наличием доступа к коммуникации[187].
Следовательно, коммуникация – это территория нового конфликта в представительной демократии между негативной и позитивной свободой[188]. Будучи благом, которое наделяет «содержанием» принцип самоуправления, она должна защищаться. Это, если следовать традиции Брандейса, важная функция Первой поправки[189]. В традиционной либеральной концепции свободы слова ее защита рассматривается на основе представления об индивиде как автономном суверене, которому противостоят все остальные индивиды и общество. Нежелание рассматривать ее в качестве еще и части политического права или как право на участие в политической жизни обосновывается той посылкой, что свобода слова не должна вступать в конфликтные отношения с другими благами, например, такими как равенство, иначе не избежать риска ограничения или принудительного вмешательства.
Однако здесь вопрос не в конфликте между свободой и равенством, а в двух концепциях свободы, одна из которых выстроена по модели чистого невмешательства, тогда как другая говорит о свободе взаимодействия и политического участия. Вмешательство со стороны государства должно быть ориентировано не на содержание (как совершенно справедливо подчеркивается в аргументах о невмешательстве и непринуждении), а, скорее, на поддержку действия основных политических прав: цель свободы мнения еще и в том, чтобы позволить гражданам участвовать в споре по политическим вопросам таким образом, чтобы никто из них не получал привилегий и не был ущемлен по причине отсутствия материальных ресурсов[190]. Конституционная демократия преодолела либеральный подход XIX века, устранив расхождения с принципом самоуправления и его нормами. Критерии демократической политики коммуникации – это ответственность и равные возможности. Выборные политики и органы должны отвечать перед гражданами, а чтобы это было возможно, необходимо точное отображение политических вопросов и интересов, а не просто регулярные выборы. Распределение возможностей высказываться и быть услышанным – это также центральная проблема, поскольку только на основе такого распределения граждане могут участвовать в определении политической повестки и в то же время в контроле и проверке политиков и институтов. Эти критерии согласуются с диархическим взглядом на демократию, согласно которому граждане играют две роли – как участники, выдвигающие представляющих их кандидатов, и как «конечные арбитры или судьи в политических спорах»[191]. Цель – выполнить основное обещание демократии, а не создать некую образцовую демократию или какую-то этическую концепцию хорошего общества.
Этим дополняется аргумент, утверждающий, что область политического мнения требует стратегий контроля, похожих на те, что были приняты конституционной демократией ради регулирования отправления власти. В современной демократии, чтобы публичный форум был открыт для всех, для формирования мнения и коммуникации требуется нечто большее защиты свободы выражения или классической либеральной стратегии государственного невмешательства. Конституционной политики (невмешательства правительства), возможно, больше недостаточно, так что, вероятно, требуется демократическое законодательство, которое не воздерживается от действий, а, напротив, применяет активную стратегию противодействия экономической власти на публичном форуме. Более активная стратегия нужна потому, что, апеллируя к частному праву на самовыражение, классический либеральный подход не может привлечь должного внимания к политической несправедливости, которая возникает из огромного неравенства в возможности быть услышанным[192].
Новая проблема
Осознание воздействия технологии на формирование суждения и на политическое влияние было достаточно четким уже в XVIII веке, когда прогрессивные интеллектуалы и политические мыслители предложили распространить образование на всех граждан, внедрив общенациональную систему школьного образования, которая дала бы им возможность воспринимать печатные тексты и участвовать в демократическом процессе отбора, а также ответственно и умело выносить суждения. Роль образования в социальной философии прогресса и политического равенства Николя Кондорсе – один из наиболее заметных примеров, хотя и не единственный, нового внимания к условиям формирования мнения.
Это примеры, подтверждающие то, что право гражданина в представительной демократии не сводятся к избирательному праву. Кондорсе полагал, что добиться массового компетентного участия в политике за счет образования – наиболее важная задача, которую должно преследовать республиканское правление, вместе с защитой свободы прессы и развитием научного знания[193]. Обучение граждан практическому применению информации и научного образования стало необходимым условием укрепления современной демократии. В середине XX века Джон Дьюи приспособил этот просвещенческий гражданский взгляд к требованиям демократии в индустриальном обществе, проведя различие между знанием и пониманием. «Я использую слово „понимание“, а не „знание“, поскольку, к сожалению, знание для многих людей означает „информацию“… Я не хочу сказать, что мы можем понимать, не имея знаний и информации; я лишь говорю, что нет гарантии… что приобретение и накопление знаний создадут условия, порождающие разумное действие»[194]. Основываясь на этой интуиции, современные демократии сделали из образования право и обязанность гражданина, выполнение которой требует государственного вмешательства, а не воздержания от него.
Сегодня же проблемы формирования мнения и коммуникации требуют, похоже, новой культурной позиции, поскольку, с одной стороны, новые средства, дарованные нам технологией, должны, как предполагается, стимулировать сознание и критическое мышление индивидов, а не прививать заранее сфабрикованные мнения и доктрины, а с другой – они предусматривают такой рост экономической власти, что, если правительство будет просто стоять в стороне, для демократии это будет означать поражение. Для сохранения равной свободы нужны стратегии, чувствительные к социальной структуре классов, а концентрация экономической власти – это обстоятельство, которое необходимо учитывать при обсуждении свободы формирования мнений. Проблема сегодня – это не провозглашение прав, а их внедрение и защита, то есть задача, решение которой лучше дается законодательным собраниям, а не конституционным судам, поскольку она требует государственного вмешательства – институциональных нововведений и денег; она требует воли, которая бы заставила права работать, причем работать эффективно и справедливо для всех[195]. Капиталистическая организация общества и бюрократическое государство делает «верховенство закона» скорее желаемым результатом, чем фактом, и не только потому, что ни одно государство, каким бы либеральным и демократическим оно ни было, «не относится ко всем гражданам как равным перед законом», но и потому, что социальное неравенство влияет на применение закона: «Закон может быть весьма предсказуемым для привилегированных слоев и при этом оставаться совершенно беспорядочным для менее обеспеченных»[196].
Распределение и концентрация
Общество является демократическим, когда люди, считая неравенство препятствием для своей свободы, организуют правовую и институциональную систему так, чтобы преодолеть его, «когда всем членам сообщества она предоставляет право свободно и в полной мере участвовать в политике, голосовать, собираться, получать информацию, высказывать несогласие, не боясь преследования, и занимать политические посты самых высоких уровней»[197]. Следовательно, для правления посредством мнения требуются дополнительные усилия, необходимые чтобы поставить граждан в условия простого доступа к информации и средствам коммуникации, а также для развития умственных привычек к критике, которые приучают их внимательно относиться к общественно значимым событиям и не слишком доверять широко распространенным мнениям, что позволит им сохранить свою негативную власть контроля над устоявшимися убеждениями, институтами и государственными чиновниками. Усилия правительства, следовательно, направлены на две цели – защиту равных прав как условия плюрализма и противодействие концентрации власти. Ориентируясь на схожую линию мысли, либеральные авторы начиная с XIX века полагали необходимым укреплять негативную роль свободы слова, представляя ее щитом от тирании нового типа, тирании мнения большинства. Они с подозрением относились к наделению государства положительной ролью по защите равных условий публичного диалога, поскольку источник этой новой вездесущей власти они усматривали в демократическом государстве с его естественной склонностью к единообразию идей, позволяющему формировать большинство.
Как уже было сказано, либеральная традиция, заложенная Миллем и несколькими поколениями американских судей, юристов и теоретиков, интерпретировала текст Первой поправки в соответствии с политической ценностью «рынка идей» и связанной с нею моделью свободы слова как «крепости», которую государство охраняет, не вторгаясь в нее. Соответственно, как заметил Ли К. Боллинджер, сохранение этого права требует иных техник, которые «выходят за пределы конструирования правовой власти, считавшейся неизменной» и которые позволят работать с проблемами, поставленными перед свободой слова частными деньгами в политике и медиа-коммуникации[198]. Однако роль рынка в медиатехнологии и частных денег в скупке телевизионных станций, в обеспечении средствами информации и спонсировании избирательных кампаний – все это опасные вызовы, брошенные либеральной парадигме невмешательства. Фактически, поскольку перед современными демократическими обществами стоят проблемы концентрации власти, необходимо вмешательство государства ради уравновешивания власти, позволившего бы эффективнее охранять основное право на свободу слова[199]. Концентрация медиа [в руках немногих], как и любая иная форма концентрации власти, – это угроза демократии, поскольку она является угрозой равной свободе[200]. Следовательно, сопротивление деградации политической свободы – это либеральная задача.
Уже в 1947 году в «Докладе комиссии Хатчинсона» было указано на внутреннюю связь между концентрацией власти и «сокращением доли людей, которые могут выражать свои мнения и идеи в прессе». В конце доклада заявлялось, что концентрация вредит демократии и угрожает свободе прессы[201]. Интерпретации этого феномена расходятся. В последнее время американские исследователи общественного мнения отказались от доводов против концентрации собственности, посчитав, что в силу фрагментации информации и коммуникации, обеспечиваемой интернетом, это больше не проблема[202]. Более того, нет согласия и относительно средств сдерживания угрозы концентрации (не все согласны с тем, что для сокращения или ограничения концентрации в сфере медиа следует использовать непосредственно закон)[203]. Однако факт состоит в том, что в устоявшихся демократиях наблюдается концентрация (при том что в разных государствах могут быть разные антимонопольные законы в сфере телевидения; некоторые чувствительнее других к этой растущей силе) и что она может стать местом новой формы «косвенного деспотизма», если использовать остроумное выражение, придуманное Кондорсе в 1789 году.
Некоторые исследователи ставили под вопрос доводы защиты многообразия, указав на то, что невозможно сказать, сколько именно разных взглядов необходимо для того, чтобы общество считалось плюралистическим[204]. Однако такая консьюмеристская точка зрения является ущербной, поскольку рассредоточение власти обосновывается не содержательно, а процедурно. Как было отмечено Бэйкером, с точки зрения [информационного] содержания «положительный вклад рассредоточения собственности – или, говоря в целом, разнообразия источников разных типов – должен зависеть от эмпирического предсказания, что подобное рассредоточение даст аудитории большой выбор (желательного) содержания и точек зрения»[205]. Но эмпирически невозможно доказать, действительно ли рассредоточение приведет к такому содержанию. Это возможно, но не обязательно. Однако проблема, как я доказываю в этой и следующей главе, не в результате (или вмешательстве в информационное наполнение (content)), а в демократических нормах и процедурах.
Демократия не требует того, чтобы «ораторы предоставляли, а слушатели выбирали максимальное (или близкое к тому) разнообразие на рынке информационного контента. С другой стороны, отсутствие разнообразия содержания или точек зрения, которое отражает независимые, но сходящиеся друг с другом точки зрения множества разных людей… фундаментально отличается от такого же отсутствия, навязанного несколькими могущественными авторами». Эта проблема является чисто процедурной, поскольку разнообразие источников – это «процессуальная ценность», а не содержательная или «товарная ценность»[206]. Опора на нормативную трактовку демократического процедурализма позволяет нам последовательнее отстаивать курс, направленный против концентрации в области формирования мнения. Действительно, совершенно верно то, что лучше увидеть значение этой проблемы нам позволяет не перфекционистское представление о демократии, а позиция, строго обоснованная понятием демократии, которое Боббио определял через «правила игры» (democrazia delle regole del gioco).
Две точки зрения
Демократические общества усвоили две стратегии сопротивления концентрации и контролю медиа силами корпораций: посредством законов о конкуренции, таких как антитрестовое законодательство или особые законы о средствах информации, и посредством договоренностей о субсидиях или программах финансовой поддержки разнообразия медиа и плюрализма газет[207]. Эти стратегически разные подходы ориентированы на достижение одной и той же цели – защиты разнообразия в сфере медиакоммуникации или недопущения его исчезновения. Разнообразие или плюрализм, с одной стороны, противоположны концентрации и монополии, а с другой – они выступают характеристикой открытого общества[208]. Избирательное право и выборные процедуры согласуются с принципом наделения граждан властью посредством распределения власти среди них и недопущения перевода социального неравенства в неравенство политическое. Как я буду объяснять в третьей главе, этот принцип лежит в основании антипопулистских доводов, поскольку они отправляются от той мысли, что протагонистом демократии является отдельный гражданин, а не народ в его совокупности. Демократия наделяет граждан властью, распределяя ее среди них.
Это возвращает меня к двум точкам зрения, одна из которых ориентирована на содержание, а другая – на процедуры, поскольку они соотносятся с моим предложением рассматривать мнение как место «негативной» формы политической власти, благодаря которой свобода слова и собраний – это права не только индивида, но и гражданина, что в конечном счете оправдывает правовое вмешательство, а не воздержание от действий. Какую цель мы намереваемся достичь, когда защищаем эту свободу в качестве политической, а не просто гражданской?
Демократические мыслители, следовавшие позиции, при которой наиболее важно содержание, утверждали, что свободный и многообразный форум – это благо, поскольку он допускает достижение лучшего решения посредством изложения мнения и коллективного обсуждения. В 1948 году Александер Мейклджон выдвинул новаторский аргумент, поддерживающий перфекционистский взгляд на демократию. Мейклджон полагал, что защита свободы слова должна проводиться ради создания политической среды, в которой граждане как «политически равные» открыто и публично участвуют в разработке лучших решений для своего сообщества. В блестящем анализе лекции судьи Верховного суда Холмса от 1897 году «Путь закона» он критикует «механистическую» концепцию права, отправляясь от этической концепции. И если Холмс приглашал своих читателей смотреть на закон глазами «плохого человека» или правонарушителя, Мейклджон, прежде всего, предлагал взглянуть на него глазами «хорошего человека», чтобы понять права и законы в качестве средств построения самоуправляющегося сообщества. Выступая против философии федералистов, Мейклджон полагал, что, если мы будем принимать людей за тех, кем они и являются (то есть считать их потенциально плохими людьми, а не добродетельными), это не значит, что мы будем лучше понимать конституцию. Лучший способ – считать «судью или гражданина… хорошим человеком, который в своей политической деятельности не просто борется за то, что может получить, подчиняясь закону, а охотно и с открытым сердцем служит общему благу»[209]. Конституция как средство достижения более совершенной демократии – вот в чем заключался взгляд Мейклджона на форум мнений. Его моделью была демократия городских собраний в Новой Англии, куда люди приходили не для того, чтобы поговорить, а чтобы «сделать дело»[210]. «Теперь же, при этом методе политического самоуправления, наиболее интересны не слова ораторов, а умы слушателей. Конечная цель собрания – голосование за разумные решения. Благосостояние сообщества требует того, чтобы люди, принимающие решения по различным вопросам, понимали их. Они должны знать, что именно они решают своим голосованием. А для этого, соответственно, нужно, чтобы на собрании были в полной мере и, насколько это позволяет время, совершенно открыто представлены все факты и интересы, относящиеся к проблеме»[211].
Мейклджон ставил свободу слова в причинно-следственное отношение с достижением определенного блага – разумным и компетентным обсуждением, которое, с его точки зрения, было осуществлением суверенной власти народа и, по сути, обещания демократического правления. Если резюмировать проведенный нами анализ различных аспектов доксы, я бы сказала, что из всех них он подчеркивал лишь объединение и консенсус, считая свободу слова политической лишь в той мере, в какой она служит формированию «публичного разума»[212]. В его взглядах на самоуправление содержалась эпистемически-перфекционистская компонента, поэтому он наделял свободу слова этической ценностью, а не только политическим значением, ведь она должна позволить коллективу, состоящему из разных людей, совместно действовать и принимать решения, которые были бы не просто обоснованы или формально легитимны, но и хороши. Мейклджон предлагал стремиться создать не только демократическое общество, но и рациональное сообщество, которое, как он считал, дало бы лучшие результаты. Чтобы избежать «механицизма», он предложил функциональную трактовку форума идей, ведь цель состояла в достижении более совершенного сообщества[213]
