Читать онлайн Книга двух путей бесплатно
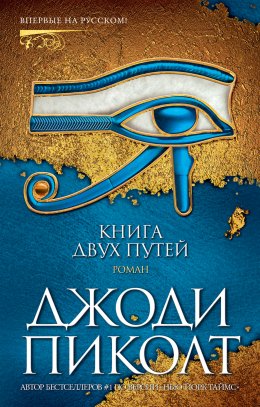
Jodi Picoult
THE BOOK OF TWO WAYS
Copyright © 2020 by Jodi Picoult
Grateful acknowledgment is made to John and Colleen Darnell for providing Egyptian text translations throughout the novel as well the is on pp. 45 and 227. Used by permission.
Photo on page 36: Inner coffin of Governor Djehutynakht Egyptian, Middle Kingdom, late Dynasty 11 – early Dynasty, 2010–1961 B.C., Object Place for Label: Notes: Egypt (Deir el-Bersha, Tomb 10, shaft A) Findspot: Egypt, Deir el-Bersha, Tomb 10, shaft A (Djehutynakht), Notes: Egypt (Deir el-Bersha, tomb 10 shaft A) Cedar, Length × width × height: 224.1 × 75 × 80 cm. Museum of Fine Arts, Boston, Harvard University-Boston Museum of Fine Arts Expedition 21.962a.
This translation is published by arrangement with Ballantine Books, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC
All rights reserved
Перевод с английского Ольги Александровой
Серийное оформление и оформление обложки Ильи Кучмы
© О. Э. Александрова, перевод, 2021
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021
Издательство АЗБУКА®
* * *
Посвящается Фрэнки Рамосу.
Приветствую твое появление в семье (и возможность получить ответы на бесконечные вопросы на медицинские темы).
И Кайлу Феррейре ван Лиру,
который впервые рассказал о «Книге двух путей», заставив меня задуматься
Смерть – это тоже приключение.
Дж. М. Барри. Питер Пэн
Пролог
В моем календаре очень много умерших людей.
Услышав звон будильника, я выуживаю телефон из кармана штанов-карго. С этой разницей во времени я забыла выключить напоминалку. Еще не вполне очухавшись от сна, я открываю сегодняшнее число и читаю имена: Айрис Вейл, Ким Ын Э, Алан Розенфельдт, Марлон Дженсен.
Я закрываю глаза и делаю то, что делаю каждый день в эту минуту: вспоминаю ушедших в мир иной.
Айрис, ставшая перед смертью невесомой, точно птичка, однажды вывезла на автомобиле своего любимого после ограбления банка. Ын Э у себя в Корее была врачом, но не смогла работать по специальности в Соединенных Штатах. Алан, гордо показав мне урну, купленную для захоронения своего праха, пошутил: «Я пока не успел это примерить». Марлон заменил в доме все туалеты и полы, прочистил водостоки, купил детям подарки на окончание школы и спрятал подальше. Он отвел свою двенадцатилетнюю дочь в танцевальный зал ресторана и прошелся с ней в туре вальса, а я снимала все это на телефон, чтобы в тот день, когда она будет выходить замуж, у нее было бы видео, как она танцует с отцом.
Они были моими клиентами. А теперь стали историями, которые я должна сохранить.
В моем ряду все спят. Я убираю телефон в карман штанов и осторожно, стараясь не разбудить, переползаю через женщину справа – йога для авиапассажиров, – чтобы пройти в туалет в хвосте самолета. Попав в туалет, я сморкаюсь и смотрю на себя в зеркало. Я нахожусь как раз в том возрасте, когда, глядя на свое отражение, надеешься увидеть женщину намного моложе той, что удивленно моргает на тебя из зеркала. Морщинки в уголках глаз чем-то напоминают заломы на потрепанной карте. Если я расплету косу, перекинутую через левое плечо, безжалостный флуоресцентный свет выхватит первые седые пряди в волосах. На мне мешковатые штаны на эластичном поясе: именно такие любая здравомыслящая женщина ближе к сорока надевает перед продолжительным авиаперелетом. Я беру пригоршню бумажных салфеток и открываю дверь, собираясь вернуться на место, но вижу, что крошечная кухонька забита бортпроводниками. Они стоят вплотную друг к другу, чем-то напоминая насупленную бровь.
При моем появлении они сразу замолкают.
– Мэм, – говорит один из них, – пожалуйста, займите свое место.
Меня внезапно пронзает мысль, что их работа не слишком отличается от моей. Находясь на борту самолета, ты не там, откуда начал, и не там, куда направляешься. Ты в межящичном пространстве. А бортпроводник – это сопровождающий, который помогает тебе спокойно преодолеть переход. Как доула смерти, я делаю то же самое, однако в моем случае это путешествие из жизни к смерти, и в конце пути ты не высаживаешься вместе с двумястами пассажирами. Ты уходишь в одиночестве.
Я снова перелезаю через спящую женщину в кресле возле прохода и пристегиваю ремень безопасности как раз в тот момент, когда над головой вспыхивает свет и салон сразу оживает.
– Дамы и господа! – объявляет голос по громкой связи. – Капитан только что сообщил, что мы собираемся объявить плановую чрезвычайную ситуацию. Пожалуйста, слушайте бортпроводников и выполняйте их указания.
Я холодею. Плановая чрезвычайная ситуация. Мой мозг пытается переварить этот оксюморон.
По салону пробегает стремительная волна звуков – глухой испуганный ропот, – но ни воплей, ни громких криков. Даже младенец у меня за спиной, надрывно оравший первые два часа полета, молчит.
– Мы сейчас разобьемся, – шепчет сидящая у прохода женщина. – Боже мой, мы сейчас разобьемся!
Она явно ошибается. Нет никакой турбулентности. Все нормально. Но потом в проходе появляются бортпроводники, чтобы исполнить порывистые балетные па, демонстрирующие меры безопасности; одновременно из динамиков разносятся инструкции: «Пристегните ремни». «Когда услышите: „Сгруппируйтесь“, пригнитесь и накройте голову руками». «Когда самолет остановится, вы услышите команду: „Отстегнуть ремни“». «Выходите из самолета». «Оставьте все в салоне».
Оставьте все.
Для человека, зарабатывающего на смерти, я слишком мало задумывалась о собственной.
Я слышала, что, когда наступает твой смертный час, вся жизнь проносится перед глазами.
Но я представляю не своего мужа Брайана в джемпере, вечно измазанном мелом от старых школьных досок в его физической лаборатории. И не дочь Мерит, которая в детстве просила проверить меня, нет ли под кроватью монстров. В моем воображении не встает образ матери – ни на закате ее жизни, ни раньше, когда мы с моим братом Кайраном были детьми.
Нет, вместо них я вижу его.
Отчетливо, словно это было вчера, я вижу Уайетта посреди египетской пустыни, палящие лучи солнца падают на его шляпу, на шее грязная полоса от вездесущей пыли, белозубая улыбка похожа на вспышку молнии. Это мужчина, пятнадцать лет назад ушедший из моей жизни. Место, которое я оставила.
Диссертация, которую я так и не закончила.
Древние египтяне верили: для того чтобы обрести вечную жизнь, они должны предстать перед загробным судом не отягощенными грузом грехов. Их сердца помещались на чашу весов богини Маат, на другой чаше которых лежало перо истины.
Сомневаюсь, что мое сердце смогло бы пройти испытание.
Женщина справа от меня тихо молится по-испански. Я отчаянно пытаюсь достать телефон, чтобы отправить сообщение, хотя отчетливо понимаю, что нет сигнала. Однако мне никак не удается расстегнуть пуговицу на кармане штанов. Чья-то рука ловит мою руку и крепко сжимает.
Я смотрю на наши ладони, сцепившиеся так крепко, что между ними, кажется, больше нет секретов.
– Сгруппируйтесь! – кричит бортпроводник. – Сгруппируйтесь!
И пока мы падаем с неба, я спрашиваю себя, кто будет меня помнить.
Уже гораздо позже я узна́ю, что после авиакатастрофы, когда появятся спасатели, бортпроводники назовут им число душ на борту. Число душ, а не число человек. Словно они знают, что наши тела здесь транзитом.
Я узна́ю, что во время полета забился один из топливных фильтров. Что сигнал о том, что забился второй фильтр, поступил в кабину пилота через сорок пять минут, и, несмотря на все усилия, пилоты не смогли прочистить фильтры, в связи с чем приняли решение об аварийной посадке. Я узна́ю, что самолет, чуть-чуть не дотянув до международного аэропорта Роли-Дарем, приземлился на футбольном поле частной школы. Задев крылом трибуны, самолет перевернулся, покатился по полю и развалился на части.
Уже гораздо позже я узна́ю, что три кресла в ряду за моей спиной, где сидела семья с младенцем, оторвались от пола и вылетели наружу. Вся семья в результате погибла. Я услышу о шестерых пассажирах, которые были раздавлены искореженным металлом, и о бортпроводнице, так и не вышедшей из комы. Я прочту имена пассажиров последних десяти рядов, которые не смогли выбраться из поврежденного фюзеляжа до того, как тот загорелся.
Я узна́ю, что оказалась в числе тридцати шести человек, чудом сумевших уцелеть в катастрофе.
Ошарашенная, я выхожу из смотрового кабинета больницы, куда нас отвезли. В коридоре женщина в униформе из группы экстренного реагирования разговаривает с мужчиной, у которого забинтована рука. Эта женщина следит за проведением медицинского осмотра, обеспечивает нас чистой одеждой и едой, а также успокаивает обезумевших родственников жертв катастрофы.
– Мисс Эдельштейн? – спрашивает женщина, и я растерянно моргаю, не понимая, что она обращается именно ко мне.
Миллион лет назад я была Дон Макдауэлл. Я публиковалась под этим именем. Но в паспорте и водительских правах стоит фамилия Эдельштейн. Как у Брайана.
В руке у женщины список выживших в авиакатастрофе.
Женщина ставит галочку возле моей фамилии.
– Вас уже осмотрел врач?
– Еще нет. – Я оглянулась на смотровой кабинет.
– Ну ладно. Думаю, у вас наверняка есть какие-то вопросы, так?
Это еще мягко сказано.
Почему я осталась в живых, а другие нет?
Почему я взяла билеты на этот конкретный рейс?
А что, если бы я опоздала на регистрацию и не успела сесть в самолет?
А что, если бы я сделала другой выбор из тысячи имеющихся, что позволило бы мне избежать авиакатастрофы?
И тут я вспоминаю о Брайане и его теории мультивселенной. Где-то в параллельном временно́м измерении есть другая я, которую сейчас хоронят.
И я сразу же – как всегда – думаю об Уайетте.
Нужно срочно отсюда выбираться.
Я понимаю, что произношу это вслух, лишь тогда, когда женщина из группы экстренного реагирования говорит:
– Как только получите медицинское заключение, вы свободны. За вами кто-нибудь приедет или мне взять на себя организацию вашей поездки?
Нам, счастливчикам, сообщили, что мы получим билеты на самолет туда, куда захотим: или в пункт назначения, или обратно, к месту вылета, или, в случае необходимости, куда-нибудь еще. Я уже успела позвонить мужу. Брайан предложил приехать за мной, но я отказалась. Без объяснения причин.
Я откашливаюсь:
– Мне билет на самолет.
– Конечно, – кивает женщина. – Куда вам нужно лететь?
«В Бостон, – думаю я. – Домой». Но было нечто такое в формулировке вопроса, а именно в этом «нужно» вместо «хотите», что у меня в мозгу, точно струйка дыма, возникает мысль о другом пункте назначения.
И я говорю.
Суша/Египет
Я слышал песни в древних гробницах,
Возвеличивающие живых
И уничижающие города мертвых.
Но зачем это делать в преддверии вечности —
Царства справедливости и добродетели, где нет страха?
Хаос – это его скверна!
Здесь никто никого не боится,
И в этой земле, где нет противников,
Находят покой все наши семьи
Испокон веков.
И те, кто будет рожден через миллионы и миллионы лет,
Все придут сюда.
Из текста на гробнице Неферхотепа.Перевод на английский профессоров Коллин и Джона Дарнелл
Моя мать, которая до самой смерти была страшно суеверной, перед дальней дорогой всегда заставляла нас с братом хором говорить: «Мы никуда не едем». Таким образом мама хотела обмануть дьявола. Не стану утверждать, будто верю в подобные вещи, но, так или иначе, перед отъездом я не выполнила ритуала – и вот, глядите, куда это меня завело.
Выйти из здания каирского аэропорта в августе – все равно что ступить на поверхность солнца. Даже глубокой ночью жара, обрушивающаяся на тебя тяжелыми волнами, вонзается в кожу острым ножом. По позвоночнику течет струйка пота. К этому я оказываюсь не готова. Я в толпе снующих туда-сюда людей, среди которых помятая группа ошалевших туристов, подгоняемых к минивэну, и подросток, вытаскивающий из тележки на тротуар обтянутый прозрачной пленкой чемодан, и женщина, вступившая в неравную борьбу с ветром в напрасной попытке удержать на голове шарф.
Внезапно меня окружает группа мужчин.
– Такси? – рявкают они. – Нужно такси?
Невозможно скрыть тот факт, что я западная женщина: это с первого взгляда видно по моим рыжим волосам, штанам-карго и кроссовкам. Я киваю, ловлю взгляд одного из них: с густыми усами, в полосатой рубашке с длинным рукавом. Остальные таксисты тотчас же отваливают – чайки в поисках другой крошки.
– У вас есть чемодан?
Я качаю головой. Все мое имущество в сумке через плечо.
– Американка? – замечает таксист и, когда я киваю, расплывается в белозубой улыбке. – Добро пожаловать на Аляску!
Надо же, прошло пятнадцать лет, а этой бородатой шуткой по-прежнему потчуют туристов. Я сажусь на заднее сиденье такси:
– Отвезите меня на Центральный железнодорожный вокзал Рамсес. Сколько времени это займет?
– Пятнадцать минут, иншаллах.
– Шокран, – отвечаю я.
Спасибо. Поверить не могу, как быстро арабский начал сам собой слетать с языка. Должно быть, в мозгу есть пространство, где хранится информация, которая, по-вашему, никогда не понадобится, типа слов песен к фильму «Парк МакАртура», или умножения матриц, или – в моем случае – египетских реалий. Когда Мерит была маленькой, она любила говорить «завчера», что могло означать пять минут назад или пять лет назад. Именно в таком безвременье я и оказалась. Словно я снова вернулась в ту минуту, которую оставила в прошлом, покинув Египет. Словно она все время ждала возвращения.
Окна в такси опущены, и я уже чувствую оседающую на лицо пыль. В Египте все покрыто песком: туфли, кожа; песок в воздухе, которым дышишь. Песок забирается даже в еду. Зубы мумий изъедены песком.
Несмотря на ночное время, жизнь в Каире, городе, полном контрастов, бьет ключом. Автомобили делят скоростное шоссе с повозками, запряженными ослами.
Мясные лавки, с вывешенными на улице мясными тушами, уютно соседствуют с сувенирными ларьками. Мимо проносится маслкар с форсированным двигателем, оставляя за собой кильватерную струю пульсаций рэпа, который смешивается с усиленным динамиками эхом призыва муэдзина на вечерний намаз. Мы едем вдоль берега Нила с томящимися на жаре отбросами. Наконец я вижу железнодорожный вокзал Рамсес.
– Пятьдесят фунтов, – говорит таксист.
В Египте нет фиксированной оплаты такси: водитель просто предлагает вам свою цену за поездку. Я протягиваю ему сорок фунтов в качестве встречного предложения и вылезаю из машины. Он тоже выходит и начинает орать на меня на арабском.
– Шокран, – отвечаю я. – Шокран.
Даже если такие сцены здесь в порядке вещей и никто не обращает на нас внимания, я чувствую, как у меня учащается пульс.
Западному человеку нелегко попасть в Средний Египет. Туристам не положено ездить на поездах, поэтому я не покупаю билет, а дожидаюсь кондуктора и включаю дурака. Но поезд уже в пути, и тут ничего не поделаешь, а потому кондуктор пожимает плечами и разрешает мне заплатить. Несколько часов спустя я выхожу на своей остановке, в Эль-Минье, и обнаруживаю, что я здесь единственный белый человек, да и вообще единственный человек на станции.
Если верить расписанию, я должна была прибыть сюда в 2:45, но поезд опоздал, и сейчас начало пятого утра. Такое ощущение, будто я находилась в пути почти 24 часа. Единственный таксист на вокзале Эль-Миньи играет в какую-то игру на мобильнике. Я стучу в стекло его автомобиля, таксист поднимает на меня глаза. Выглядит он помятым и слегка заторможенным.
– Сабах эль-хейр, – говорю я. С добрым утром.
– Сабах эль-нур, – отвечает он.
Я называю пункт своего назначения – отсюда примерно час езды. Таксист выбирает дорогу по пустыне, идущую на восток от Эль-Миньи. Я смотрю в окно, мысленно пересчитывая джебели и вади – горы и долины, – возникающие в темноте на горизонте. На пропускных пунктах, где безбородые юнцы держат видавшие виды автоматы, выпущенные еще в мохнатых шестидесятых, я повязываю голову шарфом и делаю вид, что сплю.
Таксист то и дело украдкой смотрит на меня в зеркало заднего вида. Должно быть, ломает голову над тем, что эта чокнутая американка забыла в самом сердце Египта, где нет обычных туристических маршрутов. Представляю, что я могла бы ему сказать, если бы мне хватило смелости или знания арабского.
Я всегда задаю своим клиентам вопрос: остались ли у вас незаконченные дела? Какое важное дело вам нужно сделать, прежде чем уйти из жизни? И я слышала самые разные ответы: починить перекосившуюся дверь и искупаться в Красном море; написать мемуары и сыграть партию в покер со старым другом, с которым потерял связь. Ну а для меня – все это. Эта пыль, эта зубодробительная поездка, эта выбеленная солнцем лента ландшафта.
В прежней жизни я собиралась быть египтологом. Я влюбилась в египетскую культуру, когда в четвертом классе мы проходили Древний Египет. Я стояла на детской горке – в ушах шумел ветер – и представляла, как пересекаю на фелуке Нил. Самой бесценной вещью для меня был каталог выставки «Сокровища гробницы Тутанхамона», который мама нашла в букинистическом магазине. В старших классах я учила немецкий и французский, так как знала, что эти языки понадобятся для изучения научных трудов. Я подала заявление на поступление в колледжи, где имелись программы по египтологии, и получила полную стипендию для учебы в Чикагском университете.
Все, что я узнала о Древнем Египте, сводилось к двум ключевым темам. Первая – это историческая. В Египте правили тридцать две династии фараонов, царствование которых можно разделить на три временны́х периода: Древнее царство, Среднее царство, Новое царство. Основателем первой династии был фараон Нармер, объединивший Верхний и Нижний Египет примерно в 3100 году до н. э. Древнее царство известно как время, когда в качестве усыпальниц фараонов строились пирамиды. Однако в 2150-х годах до н. э. в Египте разразилась гражданская война. Весь Египет делился на сорок два административных округа, или нома, возглавляемых номархами. В этот период каждый номарх сражался за свой ном. Номы создавали союзы, однако власть фараона на севере не распространялась на весь объединенный Египет. И там имело место нечто вроде египетской «Игры престолов». Среднее царство возникло, когда около 2010 года до н. э. фараон Ментухотеп II объединил Верхний и Нижний Египет. Такое положение дел сохранялось до тех пор, пока с севера на территорию Египта не вторглись гиксосы, после чего раздробленные области страны оказались под иноземным владычеством. И только в 1550 году до н. э. фараон Яхмос I сумел изгнать гиксосов и объединить все части Египта в единое государство, создав Новое царство.
Вторая ключевая тема – древнеегипетские религиозные верования. В основном они были связаны с богом Ра, который, подобно солнцу, каждый день плыл по небу с востока на запад в длинной лодке – солнечной ладье, и богом Осирисом – владыкой загробного мира. Осирис являлся воплощением мертвого тела бога Ра, и, таким образом, их можно считать двумя сторонами одной медали. Древние египтяне не видели в этом логического противоречия, поскольку и Осирис, и Ра просто-напросто являлись двумя ипостасями одной и той же вечной жизни, как Святая Троица – Отец, Сын и Святой Дух – в христианстве. Каждую ночь Ра спускался к Осирису и воссоединялся с его мертвым телом, что давало ему новые силы утром всходить вместе с солнцем. Египетская модель загробной жизни воспроизводит этот цикл: душа каждый день возрождается, как бог Ра, и каждую ночь воссоединяется со своим мертвым телом.
Большинство наших знаний о Древнем Египте мы получили путем расшифровки надписей на гробницах. Благодаря этим надписям удалось доказать, что древние египтяне очень тщательно готовились к смерти и к загробной жизни. Даже люди, несведущие в египтологии, наверняка слышали о «Книге мертвых», которую древние египтяне называли «Главы о выходе к свету дня». Этот сборник принятых в Новом царстве религиозных текстов и магических заклинаний помещали в гробницу с целью помочь умершему благополучно совершить путь в посмертие. Следует отметить, что «Книга мертвых» связана с более ранними и менее изученными сборниками заупокойных текстов. Это «Тексты пирамид» Древнего царства: заклинания, призванные отогнать злых существ, слова, которые должен произносить во время ритуала похорон сын умершего фараона, а также указания покойному, как достичь загробного мира. Во времена Среднего царства погребальные тексты писались на саркофагах знати и простых горожан, включая заклинания для восстановления семейных отношений, поскольку смерть разлучала с любимыми людьми; заклинания, помогавшие плыть вместе с Ра на его солнечной ладье к побежденному Апопу, олицетворяющему хаос огромному змею, который пытался выпить всю воду из подземного Нила; заклинания, помогавшие мертвым каждую ночь быть снова с Осирисом.
В «Тексты саркофагов» входила и «Книга двух путей», первая известная нам карта загробного мира. Во времена Среднего царства «Книгу двух путей» находили лишь в определенных саркофагах, в основном на днище. На карте были показаны две извилистые тропы, пролегающие по царству Осириса: сухопутный путь (черная линия) и водный (синяя линия), а между ними озеро огня. Если следовать по карте, то для современного человека это равносильно двум вариантам пути: сесть на паром или поехать на машине. Оба пути сходятся в одном и том же месте – в Полях Иалу, где умерший мог вечно утолять голод и жажду с Осирисом. Однако здесь есть и ловушка: некоторые пути никуда не ведут, а другие – толкают вас прямо в лапы чудовищ или в круги огня. В тексте книги приведены заклинания, которые нужно произнести, чтобы миновать стражей врат.
Первым отрывком, переведенным мной из «Книги двух путей», было заклинание 1130: «Всякий, кто знает сие заклинание, уподобится Ра в небесах, Осирису в царстве мертвых, и, когда он окажется в круге огня, да не коснется его пламя во веки веков».
Во веки веков. Нехех и джет. Для древних египтян время двигалось по-разному. Оно могло быть линейным и вечным, подобно Осирису. Или цикличным, с ежедневным возрождением, подобно Ра. Впрочем, одно не исключало другого. На самом деле для достойного посмертия необходимо и то и другое. Саркофаг был соединительной тканью, волшебным аккумулятором, служащим источником энергии для вечной жизни. Большинство египтологов исследовали рисунки и иероглифы в отрыве от реальности, но в свою бытность молодым научным сотрудником я думала о том, что будет, если поместить египтологов в саркофаг с «Книгой двух путей» на днище. А вдруг предназначение мумии внутри – привести в действие магию, словно волшебным ключом?
«Книгу двух путей» обнаружили в саркофагах номархов в некрополе Дейр-эль-Берши – городе мертвых, где на большой площади находится множество вырубленных в скале гробниц знатных людей. После чего было опубликовано несколько версий книги. Пятнадцать лет назад аспиранткой я работала в этом некрополе, пытаясь доказать свои идеи.
Так что же осталось несделанным?
Когда таксист поворачивает на юг, возвращая меня в Дейр-эль-Бершу, я снова смотрю в окно и в очередной раз поражаюсь красоте бездонного неба, зияющего над пустыней. Голубое небо расчерчено розовыми и оранжевыми полосами – предвестниками зарождающегося дня. Мне подмигивает припозднившаяся звезда, которую тотчас же проглатывает восходящее солнце.
Сириус. Я прибыла в Египет в день начала сотического цикла.
Египет расположен в долине, звезды здесь видны, как нигде в другом месте, и древние египтяне отмечали восход созвездий в своем солнечном календаре. Раз в десять дней на заре на востоке появляется новое созвездие, которое не всходило семьдесят дней. Самой важной из звезд для египтян была звезда Сириус, которую они называли Сотис или Сопдет. Восход Сириуса знаменовал собой возрождение, ведь эта звезда появлялась в сезон разлива Нила, после которого оставался ил, удобрявший посевы. Чтобы отметить это событие, древние египтяне отправлялись на празднования, по дороге нередко оставляя рисунки на скалах. Но чаще всего во время разлива Нила древние египтяне просто пили и занимались сексом. Нечто вроде нашего фестиваля Коачелла.
Уайетт однажды заметил, что древние египтяне на таких фестивалях намеренно напивались настолько, что им хотелось блевать, – тем самым они как бы имитировали разлив Нила. «Эти египтяне, – сказал Уайетт, – умели жить».
Я снова смотрю на небо, чтобы отыскать Сотис. И так же, как древние египтяне, вижу в этом некий знак.
Деревня Дейр-эль-Берша расположена прямо в центре Египта, напротив города Маллави на восточном берегу Нила. В деревню имеют допуск лишь лица, аккредитованные правительством. Столь строгие меры объясняются ущербом от произошедших в древние времена землетрясений и современных мародеров.
Я вглядываюсь в ландшафт и вижу вырубленные в скале гробницы. Дюжины крошечных металлических дверей выстроились в ряд в выщербленном известняке. Все это чем-то напоминает отель в каменных стенах вади. Отель для умерших. Отсюда я даже могу разглядеть гробницу Джехутихотепа II, номарха Заячьего нома. Чуть ниже, закрытая лесами, находится новая раскопанная гробница. Впрочем, никакой активности возле нее я пока не наблюдаю.
Эта гробница не единственное новшество в Дейр-эль-Берше. Чуть южнее древнего некрополя я увидела современные кладбища, которых не было в 2003 году. Возле мечети теперь возникла ярко раскрашенная церковь для христиан-коптов. По насыпным узким дорожкам между полями на берегу Нила ходят крестьяне, кто-то складывает плоские ветви финиковых пальм на повозки. И внезапно мы оказываемся возле Диг-Хауса, общежития археологов. Я расплачиваюсь с водителем, выхожу из такси и оказываюсь в облаке песка.
Общежитие тоже изменилось.
Оно было построено из глинобитного кирпича в 1908 году британским архитектором Джеральдом Хай-Смитом в стиле средневековых коптских монастырей. Крыльцо развалилось еще до того, как я аспиранткой приехала сюда, и тогда никто так и не удосужился привести его в порядок. Но сейчас, как я вижу, крыльцо построили заново.
Около здания не припарковано ни одного транспортного средства. Мертвая тишина свидетельствует о том, что в доме никого нет. Я прохожу мимо грядки с черемшой и ржавого велосипеда во внутренний двор. На натянутых бельевых веревках развешены простыни, рубашки и галабеи – длинные, до пят, мужские рубахи с широкими рукавами, которые носят местные жители. Пятнадцать лет назад египетская семья, которая присматривала за Диг-Хаусом и живущими там египтологами, именно так сушила выстиранные вещи. И наше постельное белье пахло солнцем.
– Эй?! – кричу я.
Здесь нет двери, в которую можно было бы постучать, только арочный проем. Я делаю неуверенный шаг вперед и пугаю кошку. Кошка орет, запрыгивает на растрескавшийся подоконник, оценивающе смотрит на меня узкими глазами и исчезает в открытом окне.
Я иду по длинному коридору, разделяющему жилье местных смотрителей и членов археологической экспедиции. Пол, стены, да и вообще все вокруг покрыты тонким слоем песка.
– Тут есть кто-нибудь?! – снова кричу я, но в ответ слышу лишь звуки свинга из хрипящих динамиков в глубине дома.
Я заглядываю в комнату без дверей со сложенными штабелем старыми двуспальными матрасами с принтом в виде Золушки, Белоснежки и Спящей красавицы из диснеевских мультиков. Дальше по коридору находится вход на склад – место для хранения всех тех находок, которые мы захотим изучить поподробнее во время следующего сезона. Поддавшись искушению, я переступаю порог полутемного склада с аккуратно подписанными картонными коробками на полках. Внезапно у меня возникает странное чувство, будто за мной наблюдают, и я резко поворачиваюсь. На столе покоится мумия, которая появилась задолго до моего рождения и наверняка останется лежать здесь, когда меня уже не будет.
– Джордж… – Я называя мумию по имени, так же как пятнадцать лет назад все остальные. – Очень рада встрече.
Дальше по коридору расположена ванная комната: душевая и туалет. Воспользовавшись удобствами, я провожу пальцем по потрепанному объявлению, по-прежнему прикрепленному скотчем к двери кабинки: «НЕЛЬЗЯ СМЫВАТЬ В УНИТАЗ: ВСЕ ЖЕЛТОЕ, ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ, ВАШИ НАДЕЖДЫ И МЕЧТЫ».
– Мин хунак? – Голос за моей спиной становится все ближе. – Кто здесь?
Меня буквально застукали со спущенными штанами. Я вскакиваю, мою руки и выхожу из ванной комнаты, чтобы объясниться, и встречаюсь лицом к лицу со своими воспоминаниями.
Я вижу, словно это было только вчера, мужчину с обветренным коричневым лицом и ласковыми руками, который ставил передо мной на стол миску свежего салата. Человек без возраста, застывший во времени. Тот же самый смотритель, что обслуживал дом в те времена, когда я была аспиранткой.
– Хасиб? – спрашиваю я.
Он выкатывает на меня глаза и, услышав мой акцент, переходит на английский:
– Хасиб был моим отцом.
– Так ты… Харби? – растерянно моргаю я.
В то время Харби был еще совсем мальчишкой, но при этом одним из лучших наших работников. Он делал все, что просил его профессор Дамфрис: сколачивал подмости, обеспечивая возможность рассмотреть иероглифы в верхней части стены гробницы, и часами стоял под палящим солнцем с зеркалом в руках, наклонив его так, чтобы поймать свет и помочь нам скопировать наскальную живопись.
Он прищуривается:
– Дон?
– Так ты меня помнишь? – Если Харби меня не забыл, значит и другие тоже.
– Конечно помню. Ты привезла мне Супермена.
Всякий раз, совершая пересадку в аэропорту Хитроу, я покупала книжку комиксов для Харби и батончик «Кэдберри» для Хасиба.
– На этот раз я приехала с пустыми руками, – признаюсь я. – А твой отец по-прежнему здесь?
– Он умер, – качает головой Харби.
Мои клиенты-мусульмане всегда спокойнее говорили о смерти, чем клиенты-христиане, которых переход в мир иной приводил в ужас.
– Мне жаль это слышать. У меня сохранились о нем наилучшие воспоминания.
– У меня тоже, – улыбается Харби. – Теперь мы с сыном присматриваем за Диг-Хаусом, – говорит он и внезапно хмурится. – Мудир не предупреждал о твоем приезде.
Когда я слышу мудир, начальник, то тут же вспоминаю Дамфриса, который носил этот титул как руководитель Программы по египтологии Йельского университета. Но сейчас здесь, естественно, новый начальник. Уайетт.
– Это было вроде как спонтанное решение, – увиливаю я от прямого ответа. – А где все?
– Сегодня пятница. – Харби пожимает плечами. Ну да, по пятницам у них выходной, когда они ездят по другим раскопкам. – Они поехали в Сохаг.
В Сохаге, в трех с половиной часах езды на юг отсюда, находится другая археологическая экспедиция Йельского университета.
– А когда вернутся?
– К ланчу, иншаллах.
– А можно их здесь подождать? – спрашиваю я.
– Да-да, – отвечает Харби. – Но ты, наверное, голодная, doctora.
Я чувствую, как краснею.
– Ой, на самом деле я не doctora, – поправляю я Харби.
Харби резонно решил, что посетитель – доктор философии, как и все из Йеля, и что аспирантка, отработавшая здесь три сезона, уже наверняка защитила диссертацию.
Он вопросительно смотрит на меня, потом, не дождавшись ответа, проходит вперед.
– Но ты все равно голодная, – настаивает он.
Я замечаю, что он прихрамывает, и начинаю гадать, что с ним случилось: может, он упал на раскопках и теперь его беспокоит травма? Но я не могу задавать личных вопросов, тем более когда не желаю отвечать на них сама.
– Ну я не очень-то и голодна. Не стоит затрудняться…
Харби пропускает мое замечание мимо ушей и ведет меня в самую большую комнату Диг-Хауса, которая одновременно служит и местом для работы, и столовой.
– Пожалуйста, чувствуй себя как дома.
Оставив меня, Харби шаркает на крошечную кухню, его резиновые сандалии скребут по выложенному плиткой полу.
Под куполом из глинобитного кирпича по-прежнему стоит стол, за которым мы обычно ели. Деревянная столешница все так же обшарпана и покрыта пятнами. Однако кое-что изменилось, и у меня перехватывает дыхание. Исчезли рулоны лавсановой пленки, а также стопки потрепанных манильских папок и бумаг. Вместо них на расположенных, как фрагменты пазла, столах у стены комнаты стоят компьютеры – провода, переплетающиеся и змеящиеся по полу, словно морские чудовища, снабжены крайне неустойчивыми стабилизаторами напряжения, пытающимися дотянуться до настенной розетки. Кроме того, тут есть зарядки для планшетов и две впечатляющие цифровые камеры. На дальней стене висит гигантская репродукция фрески из гробницы Джехутихотепа с изображением транспортировки колоссальной статуи в гробницу номарха – той самой фрески, над которой я работала с Уайеттом весь последний сезон. Я узнаю собственные рисунки, выполненные на лавсановой пленке, а теперь сделанные чернилами, с переводом Уайетта на полях. Если и требуется доказательство, что когда-то я была здесь и сделала нечто ценное, то сейчас это самое доказательство находится буквально напротив меня.
Через застекленную дверь я выхожу на патио как раз в тот момент, когда в столовую возвращается Харби, с трудом удерживающий стопку тарелок.
– Садись, пожалуйста, – просит Харби, и я занимаю свое старое место за столом.
Харби приносит миску салата из помидоров, огурцов и кинзы, мягкий сыр и эйш шамси, хлеб, который перед выпечкой заквашивается на солнце. Я понимаю, насколько проголодалась, только тогда, когда начинаю есть и не могу остановиться. Харби наблюдает за мной с довольной ухмылкой.
– Не голодна, – говорит он.
– Немного, – признаюсь я и с улыбкой добавляю: – Ужасно.
На десерт он приносит басбусу, пирог из смеси кокосовой стружки с манкой и медом. Наконец я откидываюсь на спинку стула:
– Думаю, я наелась на три дня вперед.
– Тогда ты остаешься здесь, – отвечает Харби.
Я не могу. У меня другая жизнь на другом конце земного шара, семья, которая за меня волнуется. Но есть нечто нереальное в возвращении сюда, словно я перевела часы назад и сейчас просто фантазирую. Как будто вижу чудесный сон и знаю, что все это мне снится, но не хочу просыпаться.
И только через пару минут после того, как Харби скрылся на кухне, я понимаю, что он вовсе не задал мне вопрос, а выдвинул предположение. И что он уже сделал за меня этот выбор.
А я его не поправила.
Моя мать любила говорить, что голубые глаза приносят несчастье, так как у голубоглазого человека можно прочитать все мысли, но мне и не нужно было маминого предупреждения, когда я впервые встретила Уайетта Армстронга. В 2001 году я только-только перевелась в Йельский университет – аспирантка с пятьюдесятью долларами на сберегательном счете и съемным жильем с одной соседкой. Я жила в Нью-Хейвене уже три дня и уяснила для себя, что, кроме холодных проливных дождей, здесь не бывает другой погоды. В вечер перед началом семестра я возвращалась домой из Мемориальной библиотеки Стерлинга и попала под дождь. Желая спасти книги, которые были у меня в руках, включая несколько увесистых томов расшифровок «Текстов саркофагов» Адриана де Бака, я нырнула в первую открытую дверь.
В заведении «У Тодда» было… скажем так… оживленно для вечера среды. В баре толклись вперемешку студентки Йеля и Квиннипэкского университета, которые приехали сюда на автобусе и дефилировали по Йорк-стрит на высоченных каблуках и в мини-юбках, едва прикрывавших задницу. В баре старшекурсники пытались надуть барменшу, размахивая липовыми удостоверениями личности, словно значками ФБР. Где-то в глубине заведения грохотал метал-бэнд, заглушая свист группы девушек, подбадривавших двух парней в соревновании, кто кого перепьет.
Подошвы моих кроссовок прилипали к полу, в воздухе пахло «Будвайзером» и травкой. Я посмотрела на стену дождя за окном, пытаясь выбрать наименьшее из двух зол, и прошла в конец бара. Взгромоздилась на табурет и положила стопку книг на барную стойку, стараясь не привлекать к себе внимания.
Конечно, я его заметила. Рукава рубашки были закатаны до локтя, а золотистые волосы падали ему на глаза, когда он тянулся за стаканом, заглатывал алкоголь и со стуком ставил стакан вверх дном на обшарпанную стойку. Окружение взрывалось приветственными криками: «Марк! Марк! Марк!» Однако он не улыбался, не вскидывал победно руки, не утешал проигравшего. Нет, блондин лишь пожимал плечами, как будто не сомневался в результате и принимал его как должное.
Придурок.
В Чикагском университете были свои братства, но в Йеле они, похоже, считались скорее нормой, нежели исключением. Я пробыла здесь совсем недолго, но даже те несколько студентов, с которыми я познакомилась, казалось, сошли со страниц журнала «Таун энд кантри». Моя соседка по квартире, которую я нашла по листовке на доске объявлений, приехала из долины реки Гудзон и была зациклена на дрессаже. Я думала, речь шла о моде, пока не увидела свою соседку на лошади в экипировке для верховой езды.
Неожиданно блондин поднял голову, его голубые глаза встретились с моими. Я подумала о замерзшем сердце ледника и о том, что если прикоснуться к сухому льду голой рукой, то при всем желании не сможешь ее отодрать.
Парень открыл рот и смачно рыгнул.
Я с отвращением отвернулась как раз в тот момент, когда барменша положила передо мной салфетку и спросила:
– Что будете заказывать?
Со своим скромным бюджетом я не могла позволить себе выпивку, но не могла и остаться в баре пережидать дождь, ничего не заказав.
– Содовую, пожалуйста.
– Ей «Хендрикс» безо льда. И ломтик лайма. – Рядом со мной оказался тот самый белокурый парень; он подсел так незаметно, что я сразу не обратила внимание.
Первое, что меня удивило, был его акцент: британский. А второе – его чудовищная самонадеянность.
– Нет, спасибо, – отказалась я.
– Я угощаю, – сказал он. – Знаешь, а я здорово умею угадывать, кто что пьет. – Он показал на девушку в расшитом пайетками бюстье, которая танцевала сама по себе. – Коктейль «Тощая Маргарита» или – упаси господи! – розовое вино с содовой. – Затем он кивнул на двух пробирающихся к выходу мужчин в одинаковых кожаных мотокуртках. – Виски «Фаербол». – И наконец он повернулся ко мне. – Мартини. Ну как, угадал? – (Откровенно говоря, я бы предпочла джин, но мне было легче умереть, чем в этом признаться.) – Нет, дайте лучше мартини и три оливки с голубым сыром! – крикнул он барменше и снова повернулся ко мне. – Ты ведь безупречная женщина, да? – На его губах появилась тень усмешки. – Или, возможно, небезупречная.
Я была сыта по горло. Даже если дождь и ветер достигнут ураганной силы, все лучше, чем сидеть рядом с этим самодовольным дебилом. Я потянулась за своими книгами, но он, опередив меня, схватил верхнюю, открыл и скользнул взглядом по иероглифам.
– Египтология. Вот уж не ожидал. – Он вернул мне книгу. – Ты, наверное, древний артефакт, имеющий большое культурное значение, – прошептал он, придвигаясь поближе. – А я тебя исследую.
Я удивленно заморгала:
– Неужели такие подходцы еще работают?
– Пятьдесят на пятьдесят, – признался он. – Но у меня есть запасной вариант. Давай я буду культурным релятивистом, а ты – в миссионерской позиции?
– Я рада, что ты увлекаешься прошлым. Там тебе самое место. – Я глотнула мартини и спрыгнула с табурета. – Спасибо за выпивку.
– Погоди! – Он тронул меня за руку. – Позволь начать все сначала, уже без дураков. Я Уайетт.
– Врешь!
– Не понял?
– Твои друзья называли тебя Марком.
– Ах, да это всего лишь прозвище, сокращенное от маркиз Атертон.
– Ты что, маркиз?
– Нет-нет. – Он замялся. – Мой отец маркиз. Я только граф. – Он поднял стакан и чокнулся со мной. – Англичанин до мозга костей. Боюсь, начиная с Вильгельма Завоевателя. Вот так с тех пор и вырождаемся.
Потом он улыбнулся, по-настоящему улыбнулся, словно желая приобщить меня к шутке. Неожиданно я поняла, почему этот хрен считает, будто ему все позволено. И это не имело никакого отношения к его графскому титулу. Просто, когда он улыбался – широкой, немного виноватой улыбкой, – люди были готовы ради него разбиться в лепешку.
– Ну а ты? – спросил он.
Я поставила бокал на барную стойку:
– Ну а я ухожу.
На следующее утро я пришла первой в маленькую аудиторию для семинарских занятий, куда Ян Дамфрис, глава кафедры египтологии Йельского университета, пригласил своих аспирантов, чтобы начать учебный год. Я уже встречалась с профессором во время интервью после подачи заявления в аспирантуру. В отличие от большинства египтологов, Ян Дамфрис не сосредоточивался лишь на одной узкоспециальной области вроде глинобитной архитектуры, или битвы при Кадеше, или египетской грамматики. У него имелись публикации практически по всем темам: это и «Книга двух путей», и археология Среднего царства, и история египетской религии, и даже демотический остракон. Для моей диссертации нужен был наставник, обладающий широтой взглядов. Профессор Дамфрис с самого начала внушал мне священный трепет, и поэтому я очень удивилась, когда он приветствовал меня, назвав по фамилии.
– Макдауэлл, добро пожаловать в Йель, – сказал он.
Я приехала в этот университет в основном потому, что здесь меня ждала поездка в Дейр-эль-Бершу. В далеких 1890-х некрополем занимался британский египтолог Перси Э. Ньюберри, который работал с Говардом Картером, тем самым, что обнаружил гробницу Тутанхамона. Изыскания в Дейр-эль-Берше проводили различные группы археологов, но в 1998 году концессию получил Йельский университет, и раскопками стал руководить профессор Дамфрис.
В аудиторию вошли еще пять аспирантов, увлеченно обсуждавших какой-то вопрос. На кафедре египтологии было лишь семь аспирантов, что среди прочего и склонило чашу весов в пользу Йеля. Аспиранты, продолжая непринужденно болтать, расселись за столом для проведения семинаров. В этом году я была единственным кандидатом в докторанты.
– Рад видеть, что вам удалось пережить еще одно лето, – сказал Дамфрис. – Хочу представить вам нашу новую жертву, Дон Макдауэлл. Мы выманили ее из Чикаго. Так почему бы вам вкратце не рассказать ей, кто вы такие и как сюда попали?
Мое любопытство было удовлетворено сведениями об университетах, в которых они учились, и темами их диссертаций. И вот когда последний аспирант уже начал закругляться, дверь внезапно распахнулась. В аудиторию стремительным шагом вошел Уайетт Армстронг, с трудом удерживавший в руках коробки с кофе и манчкинами, мини-пончиками из «Данкин донатс».
– Простите, что опоздал. Это длинная и очень печальная история о бетономешалке, плачущем ребенке и драконе острова Комодо. Но я не стану утомлять вас подробностями. Вместо этого я принес вполне приличную выпечку и очень посредственный кофе.
С отчаянно бьющимся сердцем я вытаращилась на Уайетта, прикидывая вероятность подобного совпадения. И почему в университете, насчитывающем 7500 аспирантов, я столкнулась в крошечной аудитории с единственным человеком, которого меньше всего хотела увидеть?
Меня занимало, как отреагирует на эскападу Уайетта Дамфрис, весь из себя накрахмаленный и застегнутый на все пуговицы. Но профессор лишь покачал головой и слегка усмехнулся.
– Садитесь, Уайетт, – сказал он, совсем как рассерженный родитель – непослушному, но обожаемому ребенку. – Вы как раз вовремя, чтобы поведать мисс Макдауэлл, кто вы такой и почему я вас терплю.
Уайетт скользнул на пустой стул рядом с моим. Если он и удивился, увидев меня здесь, то не подал виду.
– Ну, привет, Олив, – лениво протянул он.
– Меня зовут Дон.
Он выразительно поднял брови:
– Разве? Я изучал египтологию в Кембридже и три года назад приехал сюда. Я фанат лингвистики, в связи с чем в качестве ассистента преподавателя веду классы по иероглифам, иератическому и демотическому письму. Название моей диссертации «Ритуальная речь и промежуточные вербальные конструкции в „Текстах саркофагов“». Я уже полгода не имел ничего более сексуального для достижения оргазма, поэтому не вздумай украсть мою тему.
– «Тексты саркофагов»? – переспросила я.
– Дон планирует изучать «Книгу двух путей», – вмешался в разговор Дамфрис.
Уайетт пригвоздил меня к месту взглядом:
– Похоже, нам с тобой придется постоянно влезать в дела друг друга.
– Я не филолог, – уточнила я. – А просто пытаюсь заполнить пробел в исследованиях. – Я повернулась к другим студентам, предлагая им контекст. – Пьер Лако опубликовал тексты из саркофагов с «Книгой двух путей» в тысяча девятьсот четвертом и тысяча девятьсот шестом годах. И хотя эти тексты были опубликованы, их никогда не рассматривали как единое целое с саркофагами. – Сев на своего любимого конька, я уже начала тараторить. – Я хочу написать об иконографии. Нельзя просто смотреть на карту «Книги двух путей», не представляя себе саркофаг как микрокосм Вселенной. Предположим, передняя стенка саркофага – восточный горизонт. Задняя стенка – западный горизонт. Днище – загробный мир, со своей картой. Крышка – это Нут, древнеегипетская богиня неба, а потому лечь в саркофаг – все равно что вернуться в ее лоно, чтобы в гробу переродиться для загробной жизни. Мумия занимает все пространство между небом и землей.
– Итак, диссертация Уайетта станет новым прочтением «Книги двух путей», – кивнул Дамфрис. – А в диссертации Дон впервые в истории будет собрано воедино все, что представлено в «Книге двух путей» изобразительными средствами.
– Вам, ребята, следует публиковать ваши работы сразу в комплекте, – хмыкнул кто-то из студентов.
– Забавно, что вы это отметили, – сказал Дамфрис. – Дон постеснялась сообщить вам, что уже опубликовала главу из своей диссертации в «Журнале Американского исследовательского центра в Египте».
Я покраснела. Работы аспирантов еще ни разу не печатались в журнале по египтологии. Насколько мне было известно, отчасти благодаря публикации меня и захотели видеть в стенах Йеля. И я ужасно этим гордилась.
– Работа называлась «Тело составляет с саркофагом единое целое», – добавила я.
Почувствовав на себе обжигающий взгляд Уайетта, я повернулась к нему.
– Значит, это ты написала? – спросил он.
– Неужели ты читал?
Он дернул головой, вроде как сдержанно кивнул, затем посмотрел на Дамфриса – слишком уж экспансивно прозвучала похвала профессора – и понял, что его положение учительского любимчика внезапно пошатнулось. В этот момент внутри Уайетта Армстронга что-то дрогнуло, и он снова спрятался в свою раковину.
Весь следующий месяц нам с Уайеттом благополучно удавалось избегать друг друга. Встречались мы лишь в силу необходимости – по понедельникам и средам в 9:15, когда оба ассистировали Дамфрису, который читал курс лекций «Боги Древнего Египта» для шестнадцати студентов. И даже тогда мы сидели за противоположными концами стола для проведения семинаров. А в октябре нам сообщили, что мы будем сопровождать Дамфриса и его класс в поездке в Музей изящных искусств Бостона на новую выставку «Книги двух путей».
Я видела карту загробного мира лишь в научной литературе. Поэтому ничто не могло омрачить чувство радостного предвкушения от возможности приблизиться к изображению «Книги двух путей». Даже Уайетт.
В день поездки Дамфрис, стоя в центре аудитории музея, показывал нам слайды раскопок в Дейр-эль-Берше.
– Представьте, что сейчас тысяча девятьсот пятнадцатый год, – начал профессор, – и вы египтолог, обнаруживший под грудой булыжника в некрополе Среднего царства тридцатифутовое шахтовое захоронение. Вы расчистили завалы и только что заползли в гробницу 10А. Дали глазам привыкнуть к темноте – и что вы видите? Саркофаг с оторванной головой мумии на нем.
Стоящий передо мной студент заметил:
– Блин, настоящая хрень в духе Индианы, мать его, Джонса!
Стоявший возле меня Уайетт фыркнул.
– Гробница 10А принадлежала номарху по имени Джехутинахт и его жене, также по имени Джехутинахт, – продолжил профессор.
Уайетт наклонился ко мне:
– Прикинь, как им было сложно разбирать почту.
– Они жили примерно в двухтысячном году до нашей эры, в Среднем царстве, и правили одной из провинций в Верхнем Египте. И вот когда-то в ходе этих четырех тысяч лет, в период между смертью номарха и началом двадцатого века, в усыпальницу вторглись грабители могил, украли золото, украшения, все ценное и бросили обезглавленную мумию в угол. После чего, чтобы замести следы, подожгли гробницу. Но кое-какие артефакты уцелели, и в тысяча девятьсот двадцать первом году гарвардские египтологи отправили их в Музей изящных искусств. Сейчас они выставляются впервые.
Я посмотрела на слайд на экране: голова мумии завернута в выцветшую холщовую ткань, коричневую от смол бальзамирования. У головы были нарисованные брови и выпирающие глазницы. Рот слегка опущен вниз, словно от сильного разочарования.
– А где его торс и все остальное? – подняла руку какая-то студентка.
– Египет. Этим все сказано. Но мы говорим о его торсе? Или о ее? Поразительно, в нашем распоряжении было четыре тысячи лет, чтобы это установить, а у нас до сих пор нет всех ответов на вопросы. – Профессор перешел к следующему слайду. – Эволюция «Текстов саркофагов» и «Книги двух путей» была обусловлена, скорее, изменением эстетики погребального убранства, а не тем, что большее число людей получило доступ к счастливой загробной жизни. Поскольку в Среднем царстве саркофаги стали доступнее, заклинания, которые писались на драгоценном папирусе, теперь рисовались прямо на деревянных саркофагах.
Профессор поставил новый слайд, и я увидела знакомое изображение «Книги двух путей», с извилистыми черной и синей линями и красным озером огня посередине, мешающим им пересечься.
© 2020 Museum of Fine Arts, Boston
– «Книга двух путей» – это еще одно подтверждение единства между Ра и Осирисом, – объяснил Дамфрис. – Основная цель путешествия Ра по загробному миру – соединиться с мертвым телом Осириса. Дороги по загробному миру – это пути, ведущие Ра к Осирису. Цель умерших – стать одновременно и Ра, и Осирисом, чтобы достичь вечной жизни. – Профессор провел пальцем по волнистым линиям на экране. – Заметьте, в «Книге двух путей» не показаны именно два пути. Просто… пути. Черная и синяя дороги конкретно не обозначены, но вы можете представить, что это сухопутные и водные пути к загробному миру, которые заканчиваются в одном и том же месте. – Дамфрис окинул взглядом аудиторию, и я поняла, что он ищет меня. – Макдауэлл, расскажите нам о ключе к преображению, согласно «Книге двух путей».
– Знание. – Я невольно выпрямилась. – Вот почему тексты писали прямо на саркофаге. Это заклинания, которыми нужно было снабдить умерших, чтобы они могли преодолеть все препятствия на пути к святилищу Осириса.
– Совершенно точно. И вообще, положа руку на сердце, кто из нас не нуждается в знании, чтобы пройти все тесты на выживание в этом мире… или в следующем? – Профессор повернулся лицом к студентам. – Вопросы имеются?
– А это будет на промежуточных экзаменах? – поинтересовался какой-то парень.
Не удостоив его ответом, Дамфрис спросил:
– Следующий?
– А «Книгу двух путей» писали на саркофагах только супербогатых людей? – спросил другой студент.
– Те саркофаги, которые мы нашли в Дейр-эль-Берше, принадлежали знати Заячьего нома, но при всем при том хорошая смерть не была связана с материальным положением умершего. Любой египтянин мог стать Ах – чистым духом, живущим в загробном мире.
Руку подняла еще одна студентка.
– А как насчет пола? Женщины тоже получали карту?
– Да, – ответил Дамфрис. – Карту обнаружили и в саркофагах знатных женщин.
– По мнению некоторых египтологов, для того чтобы стать Осирисом, женщинам следовало принимать сходство с мужчинами, подобно тому как женщина-фараон должна была носить ритуальную фальшивую царскую бороду, – уточнил Уайетт.
– Спорный вопрос, – заметила я. – В Древнем Египте слово «тело» было женского рода. Нам известны тексты из женского саркофага времен Среднего царства, в которых писцы изменили все местоимения мужского рода на женский, приспособив их к покойной.
Пока мы с Уайеттом смотрели друг на друга, словно меряясь силами, Дамфрис закрыл проектор и, поджав губы, произнес:
– Если мамочка с папочкой закончили ругаться, отпускаю вас в музей. Армстронг, Макдауэлл, принимайте эстафету!
После чего Дамфрис отправился осматривать с музейным куратором артефакты из Дейр-эль-Берши, которые не экспонировались, а мы с Уайеттом повели студентов на выставку. Уайетт был старшим ассистентом преподавателя. Даже если бы я и хотела получить эту должность, он явно превосходил меня в умении объяснять иероглифы. В чем в чем, а в этом Уайетт действительно разбирался.
Он собрал студентов в полукруг перед залом с новой экспозицией. Все студенты держали пачку листов с иероглифами, скопированными с саркофагов, которые предстояло увидеть в первую очередь. Девушки и кое-кто из парней смотрели на Уайетта как на творца мироздания. Я знала, что некоторые студенты записались на курс Дамфриса именно из-за его британского ассистента, который, если верить сплетням, был одновременно и Харрисоном Фордом, и Мессией в одном флаконе.
– Мы привыкли рассматривать грамотность в Древнем Египте исключительно в черно-белом свете – вы или умете читать, или не умеете. Но в древности на самом деле имел место континуум. Если вы были жрецом или чиновником, вам следовало знать иероглифы. Если вы собирались стать писцом, вас учили иератическому письму – более округлому, курсивному виду иероглифов – для повседневного использования, а именно для написания договоров, завещаний и деревенских документов. Но и простые люди умели различать основные символы, подобно тому как вы узнаете знак «Стоп» по его форме, даже если и не можете прочитать текст. Все вы, будем надеяться, достигнете навыков чтения на уровне чиновника. Итак, давайте начнем.
Древним египтянам следует отдать должное за развитие нашего алфавита. У носителей древнееврейского языка, путешествовавших в Египет из страны, которая сейчас называется Израиль, а некогда называлась Иудеей, не имелось собственной системы письменности. Но они увидели, как египтяне пишут свои имена на камнях, и захотели сделать то же самое. Поэтому они взяли иероглифы, обозначавшие обычные предметы – воду, глаз, бычью голову, – и использовали их для формирования начальных букв этих слов на своем языке.
Уайетт подошел к витрине, где была выставлена внешняя панель саркофага Джехутинахта. Я вгляделась в столбики иероглифов, нарисованных на древнем кедре, пытаясь отыскать имя владельца саркофага.
Ибис обозначал Djehuti – древнеегипетское имя бога Тота. Волнистой линией была показана вода, буква n. Палочка внизу означала khet, физическое тело человека. Кружок с горизонтальными линиями – kh – повторяет звуки палочки, а хлеб был t. При расшифровке иероглифов вы делаете это в два этапа, первый из которых состоит в переводе звучания иероглифа в систему письма с использованием букв латинского алфавита. Итак, транслитерация представляла собой: ḏḥhwty-nḫt…
– Саркофаг Джехутинахта, – провозгласил Уайетт. – На что в первую очередь мы должны обратить внимание?
– Куда повернуты лица на знаках, – ответила какая-то девушка. – Потому что читать следует именно с той стороны, куда повернуты лица.
– Верно. В нашем случае птица смотрит налево, что означает?.. – Уайетт вопросительно посмотрел на девушку.
– Что мы должны читать столбики текста слева направо.
– Совершенно точно. Итак, одна из причин, почему расшифровка иероглифов занимает столько времени, состоит в том, что они не чисто фонетические или чисто идеографические. Мы имеем нечто среднее, с дополнительным типом знака, вставленным, дабы озадачить вас еще больше, – детерминативом. Детерминативы – это ключи к информации о значении стоящих рядом с ними слов.
Студенты сгрудились у витрины, вглядываясь в зеленовато-синие знаки на внешней части саркофага Джехутинахта. Одни рельефно выступали на фоне полоски белой матовой краски, а другие настолько выцвели, что были едва различимы на текстуре дерева.
– Кто сможет найти идеограмму? – спросил Уайетт.
Стоявший возле Уайетта паренек указал на очертания собакообразного животного, сидевшего на пьедестале:
– Шакал.
– Очень хорошо. Шакал – это бог Анубис, или, как говорили древние египтяне, Инпу. Иероглиф означает его имя. Но что идет перед ним?
Уайетт провел пальцем по стеклу, подчеркнув очередную группу иероглифов.
Самая первая комбинация иероглифов, которую я выучила, потому что эта картинка приводилась практически везде.
– Hotep di nisu, – прочел Уайетт. – Жертва, которую фараон приносит… кому?
– Анубису, – ответил парень, показавший на шакала. – Богу бальзамирования.
– Верно. И он очень важен для мумий. Что означают четыре связанных между собой горшка?
– Может, в них лежат жертвоприношения? – предположила одна из студенток.
– Нет. Тут не идеограмма, а фонетический иероглиф, – заметила другая. – Горшки, связанные вместе, читаются как khenet. Это не имеет никакого отношения к горшкам. Просто обманка для написания трех знаков алфавита: khn-n-t.
Уайетт удивленно поднял брови:
– Молодец!
Девушка зарделась от удовольствия:
– Это вы меня всему научили!
– Господи боже мой! – прошептала я себе под нос.
Уайетт приступил к очередному практикуму по транслитерации, а я осталась стоять, завороженная деревянной моделью, обнаруженной в гробнице 10А наряду с саркофагами Джехутинахта и его жены. Два вырезанных из дерева ткача стояли на коленях перед ткацким станком. Две женщины впереди пряли льняную кудель. Потрясающе, но за четыре тысячи лет льняное волокно и нити на станке остались нетронутыми, именно такими, как в тот день, когда фигурки поместили в гробницу вместе с другими фигурками, керамическими изделиями и ушебти.
– А теперь наступило время охоты падальщиков, – заявил Уайетт, протягивая студентам список артефактов. – Выберите себе партнера, работать будете по двое. Ответы где-то здесь, на выставке. Первая пара, которая вернется ко мне с фотографиями на телефоне, получит дополнительно десять баллов к оценке за следующее домашнее задание. А теперь… идите! – Когда студенты рассредоточились по залу, Уайетт повернулся ко мне. – Я что, в тот раз действительно вел себя как форменный кретин?
– Ты действительно хочешь, чтобы я ответила на твой вопрос?
Уайетт подошел к саркофагам Джехутинахта и его жены:
– Нет. Но посмотри на это.
Мы замерли, загипнотизированные «Книгой двух путей» на внутренней стороне саркофага номарха Джехутинахта. Там были нарисованы красная прямоугольная дверь к горизонту, синий водный и черный сухопутный пути через царство мертвых. Алая линия между ними – озеро огня. После стольких лет изучения «книги» по фотографиям и рисункам у меня вдруг возникло чувство, будто я нашла святой Грааль, но тот оказался спрятан под стеклом музейной витрины.
– Интересно, кто первым это увидел и догадался, что перед ним карта? – прошептал Уайетт.
– Ну, саркофаг не был пустым. Не оставляет сомнений, что умерший, по идее, должен был встать и пойти по одному из этих путей, чтобы достичь Полей Иалу.
– Не хотелось бы пробивать брешь в твоей теории, – начал Уайетт, – но не могу не заметить, что данная «Книга двух путей» была написана именно на стенке саркофага Джехутинахта. Так что… это вроде как опровергает твое утверждение.
Отодвинувшись от Уайетта, я уставилась на богато украшенную кедровую панель внутренней части передней стенки внешнего саркофага, где имелась фальшивая дверь, через которую душа Ба могла пройти между посмертием и этим миром. Джехутинахт был нарисован прямо перед этой дверью. В написанном на панели тексте перечислялись дары, положенные фараону и Осирису: ладан, вино, масла, фрукты, мясо, хлеб, гуси.
Во внутреннем саркофаге должна была лежать на левом боку мумия Джехутинахта, глаза которой были устремлены на восток. Заклинания «Текстов саркофагов», плотно покрывавшие внутренние стенки саркофага, защищали покойного, как второй слой полотна.
– Заклинания из «Текстов саркофагов» окружали мумию не просто так, а с какой-то целью, – спокойно ответила я.
– Да, – согласился Уайетт, – папирус со временем может рассыпаться в прах, а кедр – никогда. Послушай, я вовсе не хочу выглядеть говнюком…
– Но у тебя это хорошо получается.
Уайетт передернул плечами:
– Олив, это всего-навсего тексты. И не стоит так напрягаться, чтобы втиснуть их в свои теории насчет иконографии.
Я воинственно скрестила на груди руки:
– Меня зовут Дон. Ненавижу, когда ты называешь меня Олив.
Уайетт наклонился над стеклом витрины, затуманив его своим дыханием:
– Знаю. Вот потому-то и продолжаю это делать.
Диг-Хаус печется на предвечернем солнце так же, как и все живое. Вентиляторы не в состоянии разогнать вязкий воздух, глинобитные стены пышут жаром. Муха, кружившая над моей едой, падает на обшарпанный стол. Посевы люцерны и бобовых вдоль берегов Нила бессильно опираются друг на друга вялыми руками – шеренга плетущихся домой пьяных солдат.
Именно в это время я в свою бытность аспиранткой обычно возвращалась с места раскопок, и солнце выковывало прямо у меня на голове огненную корону. Иногда мы работали на складе, но чаще всего, ссылаясь на ранний подъем, потихоньку дрейфовали в сторону своих комнат с намерением вздремнуть.
Я вспоминаю свою старую комнату с вентилятором, который пришлось кое-как реанимировать с помощью клейкой ленты, чтобы заставить хоть как-то работать. Я раздевалась до нижнего белья на двуспальной кровати и делала вид, будто сплю, а услышав стук в стенку, стучала в ответ. И пока весь дом пребывал в сонном небытии, мой любимый, прокравшись в мою комнату, прижимался ко мне, и мы возрождались в пламени страсти.
Харби предлагает постелить мне койку, но я решаю не наглеть. Харби уходит к себе, и я остаюсь ждать в одиночестве.
В Бостоне сейчас десять утра. Брайан, возможно, на работе, Мерит – в школе.
Я должна сообщить им, где нахожусь.
Но иногда возникают такие чувства, для которых в английском языке нет слов. Описание такой эмоции, как скорбь, явно выйдет за пределы этих шести букв. Слово «радость» кажется слишком компактным, слишком чахлым, чтобы передать те чувства, которые оно порождает. Как можно с помощью обычных слов признаться в том, что ты совершила ошибку и теперь хочешь повернуть время вспять, чтобы начать сначала? Как сказать это, не причинив боль людям, пятнадцать лет сидевшим напротив тебя за завтраком, людям, которые знают, что ты заказываешь в «Старбаксе» и с какой стороны кровати спишь в отеле?
Вместо этого я просто брожу по Диг-Хаусу, стараясь не лезть куда не следует. Обходя стороной лэптопы и айпады, которые заполонили общую комнату, я прохожу в небольшую нишу с узкими полками из кедра, заставленными книгами. В мою бытность аспиранткой мы пользовались этими книгами для научной работы. Взяв с полки пару относительно свежих журналов, я сажусь по-турецки на пол и начинаю воссоздавать историю успеха Уайетта.
В 2013 году он обнаружил гробницу Джехутинахта, сына Тети, жившего в период XI династии, незадолго до объединения Египта при Ментухотепе II. Этот самый Джехутинахт – имя в Среднем царстве такое же обычное, как наше Джон, – был известен египтологам благодаря иератическим надписям чернилами, которые он оставил на стенах гробниц своих предков, расхваливая свою работу по реставрации. Однако место упокоения самого Джехутинахта так и не было установлено.
А затем наступил 2003 год, открытие дипинто[1] – надписей чернилами на камне, – что позволило получить ключ к загадке. В послании был описан визит последнего номарха, Джехутихотепа, в Дейр-эль-Бершу с целью посмотреть на восход Сириуса. И во время этого визита номарх остановился на ночь на переднем дворе места последнего упокоения Джехутинахта.
Закусив губы, я пробежала пальцами по знакомой картинке иератического письма, которая сопровождалась переводом, сделанным Уайеттом для объяснения, как он прочел каждый знак.
Как мы прочли каждый знак.
ḥsb.t 7 3bd 4 pr.t 14 ḫr ḥm n nswt bity ḫ3-k3.w-rˁ ˁnḫ ḏ.t r nḥḥ
hrw pn iwt pw ir.n iry-pˁ.t ḥ3ty-ˁ ḥry-tp ˁ3 n wnw ḏḥwty-ḥtp r ḏw pn
r m33 pr.t špd.t
ii.n=i ḥnˁ ẖry-ḥb.w ḥm.w-k3 m-ḫt šzp.n=i sš m ẖnw r-nty ḫpr pr.t špd.t 3bd 4 pr.t 15
iw sḏr.n=n m wsḫ.t n is n ḏḥwty-nḫt ms n tti nty m ḥ […] r […]
pr.n=n m ḏw pn m wš3w […]
Год царствования 7-й, четвертый месяц перета, день 14-й под владычеством повелителя Верхнего и Нижнего Египта Ха-кау-Ра, да пребудет он во веки веков.
В этот день наследный князь и номарх Заячьего нома, Джехутихотеп, взошел на эту гору, чтобы увидеть восход Сотиса.
После получения письма из Резиденции, предсказывающего восход в четвертый месяц перета, в день 15-й, я пришел вместе с жрецами-лекторами и жрецами – хранителями гробниц.
Мы провели ночь во внешнем дворе гробницы Джехутинахта, сына Тети, которая находится в […] локтях от […]
Глубокой ночью мы пошли вперед от этой горы […]
У меня перехватывает дыхание, когда я вижу все это в окончательном, опубликованном, виде. Каждая строчка, каждый знак цепляет и завораживает. Стоит закрыть глаза – и я сразу чувствую под рукой нагретый солнцем горячий камень.
Еще одно доказательство того, что когда-то я здесь была. И сделала нечто значительное.
Я просматриваю журналы, но не нахожу ничего об обнаружении Уайеттом гробницы. А затем я вижу тонкий переплетенный томик на нижней полке. Название напечатано на корешке: «Ритуальная речь и промежуточные вербальные конструкции в „Текстах саркофагов“». Я смотрю на дату на титуле: 2008 год. Диссертация Уайетта, которую он закончил и опубликовал уже после моего отъезда.
Я останавливаюсь на середине параграфа, где сделана ссылка на статью Д. Макдауэлл «Тело составляет с саркофагом единое целое», вышедшую в 2002 году. С замирающим сердцем я провожу пальцем по своей фамилии.
«Беседы с автором этой статьи перед саркофагом в Музее изящных искусств Бостона заставили меня усомниться в основном положении моей диссертации, – писал Уайетт. – В ходе грамматического анализа различных речевых конструкций (рассказ от первого лица, диалог, повествование от третьего лица) надписей на саркофаге я установил, что тексты были распределены по географическому принципу в соответствии с частями тела усопшего и областями загробного мира».
– Ты, наверное, меня разыгрываешь, – бормочу я себе под нос.
«Таким образом, невозможно, – приходит к заключению Уайетт, – отделить грамматику от контекста».
Возможно, на это ушли годы, но мне удалось заставить его признать, что я права.
Слова на странице вдруг начинают расплываться, и я вытираю глаза. Уже собираясь закрыть книгу, я внезапно замечаю первую сноску в диссертации. Согласно существующей в научном сообществе традиции, первая сноска – это обычно посвящение определенному человеку. Внизу страницы Уайетт поместил без комментариев перевод стихотворения из коллекции папирусов Честера Битти.
- О единственная моя – сестра, с которой никто
- не сравнится, прекраснейшая из всех женщин.
- Она как звезда,
- Явившаяся во славе в начале доброго года,
- Сияющая совершенством, светящаяся разноцветьем
- красок.
- Как красивы глаза ее, когда смотрят, как сладки уста ее,
- когда говорят.
- Никакое слово для восхваления ее не будет чрезмерным.
- Лебединая шея, сияющая грудь;
- Волосы – как лазурит,
- Руки отливают золотом,
- А пальцы похожи на лотосы.
Любой, кто прочтет диссертацию Уайетта, воспримет это стихотворение как прекрасный образец древнеегипетской любовной лирики.
Любой… но не я.
Первым европейцем, посетившим Дейр-эль-Бершу, был монах-доминиканец Иоганн Михаэль Ванслеб, который написал о своем визите в «пещеру с иероглифами». Люди, не являющиеся профессиональными египтологами, не способны понять, что египетское искусство – не только тонкие линии и рисунки как курица лапой. Они расцвечивают стены и потолки гробниц ярким кобальтом, охрой, бирюзой, красно-коричневым, желтым и угольно-черным. Все фигуры передают движение, звук, эмоцию. И это не просто статуи похороненных здесь мужчин и женщин, а целые истории.
В отличие от гробниц знати Нового царства, где тексты с указаниями, как достичь загробного мира, украшали стены, а образы богов считались нормой, в гробницах номархов Среднего царства были представлены сцены из обычной жизни. Вы увидите здесь изображение процесса стряпни, молотьбы, танцев, игр, музицирования, борьбы, охоты с собаками, секса, расставления ловушек для дичи, виноделия, сбора урожая, строительства, пахоты. В гробнице номарха Бакета III целая стена заполнена изображениями сцен борьбы. Есть даже гробница, где ее владелец запечатлен с ручным белоголовым грифом на поводке. Это указывало на то, что покойный был путешественником, забиравшимся так далеко от дома, что ему даже удалось увидеть на краю земли волшебную птицу. Встречались зашифрованные иероглифы – головоломки и каламбуры для посетителя. В общем, все гробницы Среднего царства свидетельствовали о том, что даже четыре тысячи лет назад люди умели и любили веселиться. Их гробницы – прославление именно здесь и сейчас того, что человек делал при жизни и что он возьмет с собой после смерти.
В июле 2003 года я вернулась в Диг-Хаус, чтобы провести в Дейр-эль-Берше третий сезон в рамках Программы Йельского университета по египтологии. Сезон оказался не совсем обычным. Как правило, все археологические изыскания начинались в январе, но профессор Дамфрис запланировал до начала осеннего семестра дополнительную экспедицию, поскольку нас поджимали сроки с предстоящими публикациями, да и я сама ни за что не отказалась бы от поездки, несмотря на адскую жару. Мы с Уайеттом работали в гробнице Джехутихотепа II, правление которого пришлось примерно на середину XII династии.
Рутинная работа. Каждое утро мой будильник звонил в 4:30, и я, спотыкаясь в темноте, натягивала хлопчатобумажную рубашку с длинным рукавом, хаки и зашнуровывала ботинки. Тому, кто приходил в столовую раньше других, не приходилось ждать: он получал от Хабиба порцию омлета с пылу с жару. Мы с Ивонн, остеологом из Англии, работавшей с нами в тот сезон, обычно оказывались в числе самых расторопных. Кроме нас, в первых рядах были аспирант, расчищавший рисунки в гробнице, и Дамфрис.
Уайетт обычно садился за стол самым последним, с мокрыми всклокоченными волосами и радостным блеском в глазах. По утрам из него так и перла жизнерадостность, за что всем остальным хотелось его убить.
– Ну, – провозгласил он под стук вилок, – у меня четверка, если кого-нибудь это интересует.
– Из возможных десяти? – спросила Ивонн.
– Скорее, из возможных ста, – пробормотала я.
– Это не пропорция, – уточнил Уайетт. – А бристольская шкала кала. Четвертый тип. Гладкая мягкая колбаска…
– Ради бога, заткнись! – рявкнула я. – Мы же едим.
– За этим всегда полезно понаблюдать. Так, на десерт, – рассмеялся Дамфрис. – Лично я отнес бы себя к третьему типу.
– Совершенно очевидно, что среди нас есть некто, кто относится ко второму типу. Комковатая колбаска.
– Может, у меня и есть проблемы с пищеварением. Но исключительно потому, что ты – словно заноза в заднице, – ответила я под смех остальных.
Обычно мне удавалось подгадать время завтрака так, чтобы к тому моменту, как Уайетт садился за стол, я уже уходила собирать сумку на день. Да, во время работы я вынуждена была проводить с ним восемь часов, но за пределами вырубленной в камне гробницы старательно его избегала. Все остальные аспиранты настолько выматывались на раскопках, что к восьми часам вечера уже спали без задних ног, но Уайетт был не такой, как все. Он не только не боялся порицания Дамфриса, но и даже провоцировал профессора. Как-то вечером Уайетт выставил бутылку виски, привезенную из Йеля, и предложил остальным сыграть в «Я никогда не…», а еще он до полуночи дулся с Дамфрисом в покер и учил местных рабочих бегло ругаться по-английски.
И пока Уайетт развлекал присутствовавших за завтраком историями, начиная с Бристольского королевского лазарета, где была разработана шкала кала, и кончая принцем Чарльзом с толстым бульдогом, я встала из-за стола и отправилась в рабочую зону собирать сумку.
Я скатала новый лист лавсановой пленки и положила его возле сумки. После чего проверила ее содержимое: маленькое зеркальце, дюжина маркеров, кисточки, блокнот, камера, сантиметровая линейка для измерений, бутылка воды, референсные фото сцены, над которой мы работали. Это целая наука – паковать сумку, потому что ее приходилось нести до места раскопок. Дамфрис ехал туда на «рейнджровере», нагруженном крупным оборудованием, а мы, мелкая сошка, тащились пешком.
– Выступаем через пять минут. – С этими словами Дамфрис ушел собираться и отдавать распоряжения Хасибу.
Бросив взгляд на свою сумку, я поняла, что чего-то не хватает. Моего шарфа. Я надевала его, чтобы защититься от песка и пыли. Должно быть, оставила в комнате.
Не теряя времени даром, я направилась по коридору в сторону спален. Оказавшись в своей комнате, я на карачках залезла под кровать за шарфом. И в этот самый момент Уайетт просунул голову в дверь:
– Олив, ты явно делаешь успехи.
– Интересно, что ты забыл в моей комнате? – Я выползла из-под кровати и осталась сидеть, опираясь на пятки, с шарфом в руке.
– Потерял свой блокнот.
– С какой стати твой блокнот может оказаться у меня в комнате?
– Без понятия, – ответил Уайетт. – Поэтому я и ищу его здесь.
Я поднялась на ноги:
– Спроси у последнего умершего в своей семье.
– Что? – растерянно заморгал Уайетт.
– Так любит говорить моя мама. Это суеверие такое. Она ирландка.
– Кто бы сомневался! Неудивительно, что мы с тобой несовместимы, как масло с водой.
– Ну у меня-то как раз есть блокнот.
Уайетт взъерошил рукой волосы:
– Если бы знать, кто умер в нашей семье последним!
Я выключила свет возле кровати и вентилятор:
– Это не мои проблемы.
– Твою мать! Впрочем, ладно. Дядя Эдмонд из Суррея. – Не выдержав моего испытующего взгляда, Уайетт с трудом выдавил: – Дядя Эдмонд, где мой блокнот?
Неожиданно в дверях появился профессор Дамфрис.
– Ах, вот ты где! – воскликнул он, протягивая Уайетту маленький блокнот в коричневой обложке. – Это, случайно, не твой?
– Да здравствует Ирландия! – проскочив мимо них в коридор, торжествующе воскликнула я.
Глядя на вход в гробницу Джехутихотепа, я всегда вспоминала фильм «Планета обезьян». Впечатляющий, вырезанный из камня фасад кренился влево после многих лет землетрясений, взрывных работ и грабежа. Архитрав и дверной проем были резными, с перечислением всех титулов Джехутихотепа и имен фараонов, которым он служил. Портик поддерживали две выщербленные колонны, внешняя камера украшена сценами охоты в пустыне и рыбалки. Узкий проход вел во внутреннюю камеру – место, где я тогда трудилась, глубиной 25 футов, шириной 20 и высотой 16,5 фута. Внутри камеру украшала самая известная сцена этой гробницы: транспортировка гигантской статуи Джехутихотепа II. Слева сцену дополняло изображение Джехутихотепа в окружении членов семьи, стражи и официальных лиц. Ворота в здание, куда затаскивали статую, находились справа, а перед воротами толпились люди, принесшие подношения. В египетском искусстве наглядно отражена иерархическая структура общества – наиболее важные персоны были изображены крупнее, – однако тут просматривается смешанная перспектива. Лица людей изображены в профиль, но у всех глаза смотрят вперед. В те времена живописцы выбирали самую выдающуюся черту – глаза или сосок, если рисовался торс, – и делали акцент на ней.
Самая известная публикация с описанием гробницы – исследование 1894 года Перси Ньюберри. Под его началом над рисунками работали Маркус Блэкден и семнадцатилетний Говард Картер – задолго до того, как он сам открыл гробницу Тутанхамона. Однако в публикации Ньюберри имелись ошибки – определенные проблемы и неточности, становившиеся очевидными лишь тогда, когда вы оказывались перед стеной гробницы, подобно нам с Уайеттом. В тот сезон в нашу задачу входило найти и зафиксировать ошибки Ньюберри, чтобы Дамфрис мог опубликовать исправленную версию.
Несмотря на раннее утро, воздух в гробнице был спертым и раскаленным. Мохаммед и Ахмед, двое египтян, работавших с нами в тот сезон, с помощью тахеометра отмечали реперные точки. Аспирант первого года обучения, сидя возле гробницы, сортировал черепки: миски и чаши, формы для выпечки хлеба, кувшины и все необычное, например черепки с клеймом. Я расчистила кисточкой изображение транспортировки статуи, над которым трудилась, и наконец одержала победу в ежедневном сражении с лавсановой пленкой, которую нужно было прикрепить к камню клейкой лентой. Лично для меня лавсан был очередным кругом ада. На жаре пленка становилась липкой и мягкой, на холоде – твердой и негнущейся. В такой духоте тонкую пленку было тяжело держать на вытянутых руках, а плотная не позволяла толком увидеть иероглифы. Метод не слишком эффективный. Впрочем, тогда у нас не было ничего лучшего – единственный способ снять трехмерную надпись на стене и перенести ее на двухмерную бумагу.
Я оглянулась на Уайетта, беседовавшего с Мостафой, инспектором Службы древностей Египта. Мостафа проявил интерес к изучению иероглифов, и Уайетт всегда был к его услугам: рисовал иероглиф на пыльном полу гробницы или находил на стене.
– А вот этот вроде напоминает тачдаун? – неуверенно произнес Уайетт.
Оказывается, он знал американские спортивные термины.
Уайетт нарисовал двухбуквенный знак, принятый для обозначения Ка – сущности человека, то есть его двойника, рождающегося вместе с ним, определяющего судьбу и остающегося после его смерти. И пока Мостафа пытался это запомнить, я снова сосредоточилась на стене гробницы.
Харби держал большое зеркало, направляя луч света от входа в гробницу слева направо на текст, который я изучала. Когда вы обводите иероглифы, свет должен падать сверху с левой стороны под углом сорок пять градусов, и, если иероглиф находится на контррельефе, линию обводки следует делать чуть толще.
Я оторвала фломастер от пленки, прищурившись на деталь, которую не могла толком разглядеть.
– Харби, подсвети здесь немного поярче, – попросила я.
Молодой, жилистый и сильный, он боролся с зеркалом, пытаясь направить свет в нужном направлении, но вожделенный знак, расположенный в самом неудобном месте, нам никак не давался.
– У меня идея! – Я соскочила с лестницы и, порывшись в сумке в поисках маленького зеркальца, сказала Харби, показав на точку на стене у себя над головой: – Целься вот сюда.
Я подняла ручное зеркальце и, поймав поток света от зеркала Харби, перенаправила на знак, который тщилась разглядеть.
А тем временем Уайетт продолжал обучение Мостафы, начертив в пыли новый знак:
– Это мой любимый.
– Пистолет? – нахмурился Мостафа.
– В каком-то смысле, – ответил Уайетт. – Соображай давай… то, что ниже пояса.
– Это что, фаллос?
– Да. Используется в качестве предлога и означает «перед».
«Само собой разумеется», – подумала я.
– В «Тексте саркофагов» имеется отрывок, где умерший говорит о каждой части своего тела, начиная с пальцев рук и кончая пальцами ног, ушами и фаллосом, причем все части тела носят имена разных богов. – Уайетт показал на знак, начертанный в пыли. – Лично я назвал бы свой Ра, потому что он возрождается каждую ночь.
Я немного сместила маленькое зеркальце так, чтобы луч света бил Уайетту прямо в глаз. Он заморгал и поднял ладонь, чтобы защититься.
– Эй, Уайетт! – сладким голосом пропела я. – Ты сегодня собираешься работать или нет?
Уайетт выпрямился, стряхнув пыль с рук.
– Урок окончен, мой друг, – сказал он Мостафе. – Труба зовет. Нужно заработать себе на пропитание.
Стерев ботинком нарисованный знак, Уайетт прошел прямо под лестницей, на которой я примостилась.
– Поверить не могу, что ты это сделал! – воскликнула я.
– Научил Мостафу новому иероглифу? – с невинным видом поинтересовался он.
– Нет… Ты только что прошел под лестницей.
– Дай-ка попробую догадаться. Очередное суеверие твоей ирландской мамы. – Он порылся в своей сумке, пытаясь найти маркер. – Итак, что нужно сделать, чтобы гробница не обрушилась мне на голову?
– Мама сказала бы, что ты должен пройти назад под лестницей, но уже спиной. Или скрестить пальцы и оставаться так, пока не увидишь собаку.
– Собаку?.. – Уайетт покачал головой. – Я, пожалуй, рискну и испытаю судьбу. – Подняв руку, он начал обводить через пленку тот иероглиф, до которого мог дотянуться с земли. – Единственная плохая примета, в которую верила моя семья, – оставлять бренди в графине. Нужно допивать все до капли. Впрочем, я толком не знаю, это суеверие или алкоголизм.
– А вот у моей мамы их навалом.
– Ну и какое самое странное?
Я на секунду задумалась:
– Не клади ноги на стол, потому что именно там находится лик Господа.
– На столе?
– Так говорят. А подарить кому-нибудь носовой платок – значит наполнить его жизнь печалью. Ой, а вот бить посуду – это к счастью.
Уайетт повернулся ко мне:
– И много посуды ты перебила?
Луч света, который Харби тщетно пытался для меня поймать, коснулся волос Уайетта, словно благословение.
– Да, – ответила я.
– Тогда, возможно, она пыталась тебя приободрить. Мне говорили, матерям положено это делать.
Я посмотрела на Уайетта. В его голосе прозвучали горькие нотки, наводившие на мысль о том, что его мать, возможно, сына не баловала. Уайетт, которого я знала, был титулованным белым парнем, родившимся с серебряной ложкой во рту; впрочем, быть может, в свое время мать забыла забрать его после тренировки по крикету.
И когда я об этом подумала, мне стало стыдно.
Но прежде чем мне удалось выяснить, не заслуживает ли Уайетт снисхождения, наш разговор прервал Дамфрис:
– Привет, цыплятки. Ну, как там наш колосс?
Я спустилась с лестницы и встала рядом с профессором. К нам присоединился Уайетт, и мы все трое посмотрели на изображение транспортировки гигантской статуи Джехутихотепа II. В свое время изображение производило куда более сильное впечатление. Но в 1890 году текст был поврежден – все иероглифы с левой стороны вырублены, а остальные части текста испорчены граффити: на коптском языке – творчество людей, живших в гробницах, и на греческом – творчество древних туристов. В нашу задачу входило в принципе скопировать изображение со всеми рубцами, нанесенными временем, эрозией и человеком, и выдвинуть гипотезу, каких частей не хватает. В Среднем царстве автобиографические тексты были крайне незатейливыми. При этом непременно встречались странные обороты речи или грамматические конструкции, которые отнимали массу времени и для перевода которых требовались справочники и научные публикации. Именно для таких случаев и применимо выражение: «Одна голова хорошо, а две лучше».
Похоже, исходя из этого, Дамфрис и поставил нас работать в паре.
Он похлопал нас по плечу и пошутил, процитировав Рамсеса II из фильма «Десять заповедей»:
– «Да будет так записано. Да будет исполнено». – После чего добавил: – Что, как вы знаете, бред собачий.
Профессор удалился, отправившись проверять остальных, а мы с Уайеттом заняли прежние позиции.
– Итак, – сухо произнес Уайетт, – а ты знала, что сцена транспортировки колосса в фильме Сесила Б. Демилля считалась эталонной?
За последние две недели профессор Дамфрис успел раз двадцать упомянуть этот факт.
– Ну надо же, – с невозмутимым видом ответила я. – Впервые об этом слышу.
Дамфрис обожал рассуждать о допущенных в фильме ошибках. Судя по фильму, все, что говорил фараон, не подвергалось сомнению. Однако у египтян имелась отлаженная система правосудия. И даже после убийства фараона, а именно Рамсеса III, была созвана независимая судейская коллегия, опросившая всех свидетелей, прежде чем вынести приговор убийце.
Я переводила на пленку фигуру надсмотрщика, который, стоя на самой статуе, показывал, куда ее тащить.
– А ты когда-нибудь смотрел «Десять заповедей»? – спросила я Уайетта.
– Каждую Пасху, – ответил он.
– Еще одна ошибка в фильме. Надсмотрщик не держал в руке кнут. Он хлопает в ладоши. Вот погляди.
Внезапно Уайетт принялся взбираться по лестнице с другой стороны. Он провел пальцем по иероглифам, начертанным возле надсмотрщика:
– «Слова, сказанные: солдаты должны соблюдать четкий ритм… – Не могу прочесть этот кусок. – Джехутихотеп, любимейший из царей». – Уайетт поймал мой взгляд. – Он диджей.
– Задающий крутой ритм, – рассмеялась я.
– Диджей Хутихотеп, – сказал Уайетт. – Здорово, Дейр-эль-Берша! А ну-ка поднимите руки вверх! – Он спрыгнул с лестницы и показал на людей, волочивших колосса: – Это еще далеко не все проколы Сесила Демилля. Парни, что волокут эту штуковину, вовсе не рабы. Имеется недостающая часть надписи, где говорится, что статую тащили три отряда рекрутов, а также вырезавшие ее скульпторы и камнетесы.
– Ага, хотя в кадре явно не хватает Чарлтона Хестона. – И на этих словах я потеряла равновесие.
Я наверняка рухнула бы на каменный пол, но Уайетт каким-то чудом оказался прямо подо мной, и мы упали вместе – куча-мала. Уайетт перекатился на спину, крепко обняв меня и таким образом приняв на себя основной удар.
В этой гробнице, где время, казалось, навеки замерло, оно остановилось и для нас с Уайеттом. Его руки сжимали мои плечи, я видела реальный страх в его глазах, не за себя – за меня.
– Ты в порядке? – прошептал он, а я, прижатая к нему, не слышала его голоса, а скорее чувствовала.
Была ли я в порядке?
Он захрипел под тяжестью моего тела, и я сползла на пол.
– Спасибо, что переломил ситуацию, – сказала я.
– Спасибо, что сломала мне колено. – Проверив коленный сустав, он с трудом встал. – Впрочем, если верить примете, мне в любом случае было суждено получить свою порцию дерьма.
Падая, мы все-таки умудрились оторвать от стены лавсановую пленку, и я с зубовным скрежетом представила, каково будет прилеплять ее на место. Но теперь, когда роспись не скрывалась под пленкой, я невольно залюбовалась ее красотой: темно-красным цветом кожи волочивших статую, бледно-желтыми тонами каменного изваяния, бирюзовым фаянсом ожерелья идущего за статуей властвующего номарха, белыми складками его одеяния. Почтительно понизив голос, я процитировала строки стихотворения Шелли:
- – «Я – Озимандия, я – мощный царь царей!
- Взгляните на мои великие деянья,
- Владыки всех времен, всех стран и всех морей!»[2]
Уайетт, стоявший возле меня, посмотрел на изображение:
– Не тот колосс.
Я это знала. Шелли написал стихотворение о внушительной статуе Рамсеса II.
– Ага, – согласилась я. – Но основополагающая идея та же.
Уайетт на секунду притих.
– Думаю, этому самому Джехутихотепу было бы страшно приятно узнать, что мы будем говорить о нем спустя четыре тысячелетия. Он продолжает жить хотя бы потому, что мы сейчас произносим его имя. Вот погляди. – Уайетт показал на стены гробницы. – Здесь повсюду имена, перечисление деяний, автобиографические тексты. Ведь гробницы должны были быть открыты для посещения. Именно так и сохранялась память. – Уайетт посмотрел на меня. – Потому-то мы и хотим все это опубликовать, да?
– Ты надеешься увековечить наши имена? – Я покачала головой. – Два ничтожных аспиранта, фамилии которых упоминаются разве что в сноске одной из статей Дамфриса?
– Олив, я тебя никогда не забуду, – рассмеялся Уайетт. – При всем желании.
Я ткнула его кулаком в плечо:
– Это совсем не то, чем когда тебя помнят потомки.
– Разве? – улыбнулся Уайетт.
Не знаю, сколько часов я сижу на полу по-турецки и читаю диссертацию Уайетта. Солнце уже опустилось так низко, что у меня начинают гореть глаза от усилий поймать хотя бы немного света для чтения. Здесь есть лампочка, но мне неохота вставать, чтобы ее включить. Мне страшно, что все это сейчас исчезнет и я проснусь в Бостоне, а Египет будет лишь пленкой, оставшейся после мыльных пузырей сна.
И хотя в «Текстах саркофагов» прямо не говорится, что саркофаг – это микрокосм загробного мира, об этом свидетельствует расположение текстов (Макдауэлл, 2002).
Заклинание 1029, первое заклинание «Книги двух путей», описывает восходящее солнце: Дрожь охватывает восточный горизонт при звуках голоса Нут. Она расчищает для Ра пути к Великому Осирису, когда Ра плывет по загробному миру. Взойди, о Ра!
Я закрываю глаза. Перед моим мысленным взором встает цепь воспоминаний: Харби чистит апельсин в переднем дворе; мои руки и ногти коричневые от пыли; странное облегчение от горячего чая в жаркий день. Боль в подъеме стопы после целого дня на ногах. Белый шарф, развевающийся за моей спиной, когда я еду на велосипеде. Я держусь за руль, Уайетт крутит педали.
Нут – богиня неба, мать Осириса. Загробный мир также находится в ее теле; саркофаг может быть Нут, и, таким образом, мумия в ее лоне становится Осирисом.
Я помню, как луна опускалась на подоконник, охраняя мой сон. Скрип песка под обнаженными бедрами. Урчание вентилятора в моей спальне, возрождающегося к жизни после перебоев с электроэнергией. Звук его дыхания.
Термин «восстань» конкретно означает, что именно делает мумия – при пробуждении, – таким образом, здесь Ра – это мумия; здесь Ра – это умерший в своем саркофаге.
Когда мы жили тут во время рабочего сезона, каждую ночь здесь было столько пыли и песка, что приходилось промывать глаза соленой водой и усиленно моргать, чтобы снова увидеть мир. То же самое я чувствую прямо сейчас, читая пояснения к теориям, которые мне не довелось доказать.
– Боже мой!
Я поднимаю голову, напрягая глаза в полутьме. Уайетт выглядит точно таким, каким я его запомнила. Возмужавшим, но это видно лишь по развороту широких плеч да по морщинкам в углах глаз. Весь оставшийся в комнате свет сконцентрировался в его волосах, по-прежнему золотистых. Корона для принца.
– А ведь я не поверил, когда Харби сказал, – говорит он.
Я встаю на ноги, продолжая держать в руках его диссертацию. Чувствую, как между нами возникает стена, словно мы магниты с одинаковыми полюсами, которые не могут притягиваться. А еще я чувствую, как все могло бы быть, если бы один из этих полюсов изменился на противоположный.
Уайетт не улыбается, и я тоже. Я вздергиваю подбородок:
– Ты однажды сказал, что готов сделать для меня все что угодно.
– Дон…
– Я хочу здесь работать, – перебиваю я Уайетта. – Хочу закончить то, что начала.
Вода/Бостон
Жизнь спросила смерть: «Почему люди любят меня и ненавидят тебя?» Смерть ответила: «Потому что ты прекрасная ложь, а я – горькая правда».
Неизвестный автор
Когда я оказываюсь дома, Брайан уже с нетерпением ждет моего появления. Он смотрит на меня, как на плод галлюцинации, а затем осторожно подходит – так приближаются к дикому животному или к женщине, мир которой только что рухнул, расколовшись на мелкие кусочки. И сжимает в объятиях.
– Боже мой, Дон! – восклицает он дрожащим голосом. – Я думал, ты ушла навсегда.
Медленно, очень медленно я поднимаю руки, чтобы его обнять. Глаза словно сами закрываются. Я старательно пытаюсь отогнать воспоминания и заставить себя смотреть только вперед.
А что, если просто взять и начать сначала? Я помню, что в детстве у Мерит была игрушка, представлявшая собой планшет с железными шариками внутри, которые передвигались с помощью магнитного карандаша. Нарисовав все, что хотелось нарисовать, можно было нажать на рычаг, а после того, как шарики падали на дно планшета, начать все с чистого листа. Однако через несколько месяцев использования на планшете стали появляться расплывчатые черные тени предыдущих рисунков, сохранившихся в памяти игрушки. И даже когда поверх этих следов появлялись новые рисунки, я видела призраки плодов воображения Мерит.
– Дон… – Извинение, преамбула к извинению.
– Я не желаю это обсуждать.
Обида еще слишком свежа. Может, когда-нибудь потом, но не сегодня.
Он кивает, кладет руки в карманы. Он всегда так делает, когда нервничает.
– Ты как… в порядке?
– Я ведь здесь. Разве нет? – Я пытаюсь говорить беззаботно, но ответ оседает, словно туман, мешающий видеть.
– Это моя вина.
Я не поправляю его. Если бы не проступок, который он совершил – или не совершил, – я никогда бы не ушла.
– А Мерит…
– Она у себя в комнате. – Голос Брайана тянет меня назад, остановив на полпути к лестнице. – Она не знает. Не хотел ее пугать.
Я поворачиваюсь. Наверное, это было нужно, чтобы защитить Мерит или защитить самого Брайана. Впрочем, не важно. Для меня это сейчас подарок судьбы.
Спальня Мерит всегда меня удивляет. Хотя прошло много лет с тех пор, как мы оформляли ее для маленькой девочки, я по-прежнему ожидаю видеть ее спальню в розовых и желтых тонах, с танцующими бегемотиками на бордюрной ленте. Иногда, сортируя белье для стирки, я невольно прихожу в изумление при виде ярких бюстгальтеров дочери. Ведь еще вчера я складывала распашонки с принтом в виде божьих коровок и хлопковые платьица с вшитыми балетными пачками.
И хотя Мерит уже подросток, на стенах ее спальни нет фото певицы Сиа или рэпера 21 Savage. Я вижу винтажные рисунки насекомых Адольфа Филиппа Милло и увеличенные снимки эпидермальных клеток лука и элодеи канадской. После того как Брайан помог Мерит в четыре года сделать в кухонной раковине вулкан из пищевой соды, девочка решила пойти по стопам отца и стать ученым.
В ее спальне горит свет, а сама Мерит спит, лежа поверх покрывала. Книга – «Девушка из лаборатории», – выпавшая из рук дочери, валяется на полу. Я кладу книгу на прикроватный столик и собираюсь выключить лампу, но Мерит внезапно поворачивается на другой бок и, сонно моргая, смотрит на меня.
– Ты вернулась, – шепчет она.
Интересно, что на самом деле сказал дочери Брайан и слышала ли она, как мы ссоримся.
Верх ее пижамы задрался, обнажив пухлый валик над резинкой штанов. Я кусаю губы. Мерит не нравится ее внешность, и дело здесь не только в том, что ей четырнадцать, но и в том, что она дочь стройных родителей. В мусорной корзине я обнаруживаю что-то скомканное фиолетового цвета – блузка, которую я подарила дочери на день рождения. Развернув подарок, Мерит приклеила на лицо улыбку, но я видела, как она обвела пальцем этикетку: «Подростковый XXL». «Мама, – сказала она, – я все-таки не такая огромная». Я чувствовала себя ужасно. Но разве не было бы еще хуже, если бы я купила блузку меньшего размера, а она оказалась бы мала?
«По крайней мере, я не забыла о дне рождении дочери», – думаю я.
– Посидишь со мной, пока я буду засыпать? – просит Мерит.
В другой вселенной я не имела бы возможности сказать «да».
Я глажу Мерит по волосам, воспринимая ее просьбу как очередную награду за свое решение вернуться, среди которых и перемена настроения дочери в мою пользу, и прощение за подаренную блузку, и скорбный, виноватый взгляд Брайана из-за того, что чуть было не произошло, но все-таки обошлось.
И даже хлопнув дверью, я снова возвращаюсь туда, откуда ушла.
В детстве я любила читать некрологи и как-то даже спросила у мамы, почему люди умирают в алфавитном порядке. В ответ мама лишь молча сплюнула на пол, потому что говорить о смерти означало приглашать ее в дом. Мама была ирландкой, причем очень суеверной, то есть обладала двойной дозой упрямства. Она прикалывала английские булавки к моей одежде от сглаза, запрещала свистеть в доме, а если мы с братом, уже выйдя за дверь, почему-то возвращались, заставляла смотреться в зеркало, чтобы от нас не отвернулась удача. Я никогда не слышала, чтобы мама говорила о смерти. Но по иронии судьбы именно из-за матери я и стала доулой смерти.
Во время моего третьего сезона на раскопках в Египте я получила сообщение, что мать умирает. У нее была четвертая стадия рака яичников, но она скрыла свою болезнь от нас с братом. Кайрану только-только исполнилось тринадцать, и маме не хотелось его волновать. Ну а я шла за своей мечтой, и маме не хотелось вставать у меня на пути. Мой отец, капитан Армии США, погиб во время крушения вертолета, что произошло очень давно: когда мама носила под сердцем Кайрана. И вот теперь мне внезапно пришлось взять всю ответственность на себя. То, что она скрыла свою болезнь, приводило меня в ярость. Я весь день сидела возле маминой постели в хосписе, возвращаясь домой только к приходу Кайрана из школы. Было больно смотреть, как мама постепенно усыхает, сливаясь с простынями, – скорее, воспоминание, а не моя мама. И вот однажды, уже ближе к концу, мама, сжав мою руку, прошептала:
– Твой отец умер в одиночестве. Я постоянно думаю, было ли ему страшно. Может, ему что-то хотелось сказать?
«А тебе страшно? – вертелось у меня на языке. – Может, тебе тоже хочется что-то сказать?» Но прежде чем я успела задать вопрос, она улыбнулась и выдохнула:
– По крайней мере, у меня есть ты.
Я подумала об отце, сделавшем последний вдох на другом краю света, совершенно один. Я подумала о матери, скрывавшей от нас свою болезнь, которая оставила бестелесную оболочку от той женщины, что я помнила. Смерть – страшная, сбивающая с толку, болезненная штука, и встречать ее в одиночестве ненормально.
И я поняла, что могу что-то изменить.
После смерти мамы та жизнь, которую я знала, закончилась. Я не могла вернуться в Йель, поскольку стала опекуном Кайрана. Мне нужна была работа, и я нашла ее в том же хосписе, где лежала мама. Сперва директриса взяла меня исключительно из жалости, чтобы я могла оплачивать счета. Я была научным сотрудником, не имеющим навыков практической работы, и меня определили в регистратуру. Кроме того, я выполняла мелкие поручения и навещала пациентов. Посещение пациентов удавалось мне лучше всего. Я любила слушать их рассказы, раскапывала истории их жизни, собирая воедино картины того, какими они когда-то были. Ведь как-никак именно этим и занимаются археологи. И вот однажды директриса хосписа предположила, что, возможно, у меня есть будущее в этой области. Я прошла обучение онлайн, получила степень магистра в сфере социальной работы, стала социальным работником, отвечавшим за подписание отказа от реанимационных мероприятий, организацию похорон, установление нуждающихся семей. Я поддерживала и пациента, и близких ему людей, поскольку они все несли тяжелое бремя. В мою задачу входило снимать с их плеч, хотя бы на час, этот непосильный груз, чтобы они могли немного прийти в себя, прежде чем продолжать свой сизифов труд. Тем не менее одного часа было явно недостаточно, а кое-какие нюансы такой работы уже начали меня раздражать: и слишком большое число пациентов, и бесконечная писанина, и необходимость улыбаться ужасным шуткам тамошнего доктора («Прямая кишка? Мы с ней практически не были знакомы!»), и повторное освидетельствование пациентов через девяносто дней для определения соответствия требованиям хосписа, в результате чего многие больные, нуждающиеся в уходе и психологической помощи, не проходили отбора.
После почти десяти лет работы в хосписе я услышала о курсах под названием «Основы работы с умирающими – „акушеры смерти“». Это показалось мне не таким уж бессмысленным. Если акушерки помогают вам совершить переход из одного состояния в другое, подготавливая к материнству, то почему бы «акушерам смерти» не обеспечивать переход из состояния жизни в состояние смерти? Я позвонила записаться на курсы, но они уже набрали группу. Тогда я сказала, что принесу с собой еду и собственный стул, если мне позволят просто поприсутствовать. Занятия сразу увлекли меня, буквально со вступительных слов преподавательницы о том, что институт доул смерти восходит к тем временам, когда люди не умирали в одиночестве. Слово «доула» в переводе с греческого означает «рабыня». И так же как доулы при родах помогают справиться с болью и дискомфортом, доулы смерти делают то же самое на противоположном – финальном – отрезке жизненного цикла.
Я начала собственный бизнес в качестве доулы смерти пять лет назад. Тогда это было в новинку, но даже и сейчас большинство людей не слышали о таком виде услуг. Существует Национальная ассоциация доул конца жизни, которая вырабатывает основные требования к необходимым навыкам и проводит сертификацию, но при всем при том эта область оказания психологической помощи умирающим находится еще в зачаточном состоянии. Мои услуги не покрываются медицинской страховкой, и то, чем я занимаюсь, означает совершенно разное для разных людей. Господь свидетель, но в подобных услугах действительно возникла определенная нужда. Ведь поколение беби-бумеров стареет – так называемое серебряное цунами, – у них занятые дети, не имеющие возможности ухаживать за родителями или живущие слишком далеко. В обществе происходит культурный сдвиг, обусловивший потребность в моральной поддержке. А кроме того, все больше людей начинают осознавать, что мы лишь гости на этой земле, пришедшие с коротким визитом.
Доулы не оказывают медицинской помощи – у меня нет страховки на случай врачебной ошибки. Я работаю на дому у пациентов, в домах престарелых, хосписах, в учреждениях для проживания с уходом. Если модель хосписа – это команда, то доула работает в одиночку, выполняя все, кроме медицинских процедур. Я могу быть с клиентом круглые сутки, но в принципе не должна этого делать. Здесь применим чисто индивидуальный подход, и все меняется по мере того, как болезнь прогрессирует. Я слушаю. Успокаиваю родственников больного. Не оставляю пациентов в одиночестве, если вижу, что они этого боятся. Собираю информацию и делюсь ею – о похоронах или чего ждать от процесса умирания. Стараюсь предвидеть, что может понадобиться, и разрабатываю план соответствующих мероприятий, таких как ночные дежурства или поминальная служба в церкви. Приглашаю священников или докторов. Я могу обеспечивать чисто физический или эмоциональный комфорт путем массажа ног, чистки чакр, визуализации, медитации, дыхательных упражнений. Могу помочь тому, кто осуществляет уход, с выполнением рутинной работы: почистить пациенту зубы, помыть его в душе, но это тоже по личному желанию пациента. Могу забрать вещи из химчистки, купить продукты или отвезти клиента на прием к врачу.
И хотя я работаю в тандеме с профессиональными сотрудниками хосписа, я понимаю, что определенные виды ухода не относятся к медицине – холистическое и духовное целительство, – и способна его обеспечить. Это может быть и организация домашних похорон, и обмывание тела вместе с родственниками. Курс иглоукалывания для облегчения боли или деловой совет по продаже автомобиля, стоящего на приколе в гараже с 1970 года. Иногда я помогаю семьям подвести черту под делами умершего. Это касается карточек социального страхования и банковской информации, которые нужно закодировать и уничтожить по завершении всех формальностей. Доула смерти – это магазин шаговой доступности. Я генеральный конструктор смерти. И описываю это следующим образом: если вы пациент хосписа и вам в 3:00 захочется орехового мороженого, вы можете попросить волонтера принести вам в следующий раз мороженое, но, если вы нанимаете доулу смерти и хотите получить мороженое именно в 3:00, она пойдет и купит его. А если вы нанимаете меня, мороженое уже будет ждать вас в морозильнике.
После почти тринадцати лет работы с умирающими я понимаю, что мы очень хреново справляемся с интеллектуальной и эмоциональной подготовкой к смерти. Как можно наслаждаться жизнью, если ты ежеминутно трясешься от страха при мысли о ее конце? Я знаю, что большинство людей, подобно моей матери, боятся даже говорить о смерти, словно это что-то заразное. Я знаю, что, уходя в мир иной, вы остаетесь таким же, каким, как правило, были при жизни: вздорный человек до последнего вдоха останется вздорным. Если вы постоянно нервничали, находясь в полном здравии, то будете нервничать и на смертном одре. Я знаю, умирающие хотят видеть во мне свое зеркало, чтобы они могли посмотреть мне в глаза и понять, что мне известно, какими они были когда-то: совсем не такими, как сейчас.
После тринадцати лет этой работы я думала, что почти все знаю о смерти.
Я ошибалась.
Я засыпаю в комнате Мерит и остаюсь здесь на всю ночь. Утром мы с Брайаном старательно обходим друг друга выверенными балетными па. Мы разговариваем лишь по необходимости, и даже тогда наши чувства проявляются не в выбросе эмоций, а скорее в мелких деталях. Брайан уезжает в институт теоретической физики «Периметр» в Ватерлоо, Онтарио, на презентацию своей работы по квантовой механике. Событие с большой буквы. Пятнадцать лет назад физик-теоретик, веривший в параллельные вселенные, считался маргиналом, а теперь такого мнения придерживается почти половина ученых в этой области.
Хорошо, что у Брайана деловая поездка, поскольку она отсрочит неизбежное. Я иду в душ лишь после того, как Брайан спускается на кухню сварить кофе. На кухне мы, не глядя друг другу в глаза, стараемся говорить правильные вещи, чтобы Мерит, не дай бог, не подумала, что у нас напряженные отношения. Брайан боится на меня давить, так как не ручается за последствия. А я не хочу, чтобы на меня давили, по той же самой причине. Поэтому я наливаю Брайану кофе с собой. Он целует Мерит в макушку и берет дорожную сумку. Он отправляется в аэропорт незадолго до того, как Мерит бежит к автобусу до инновационного детского лагеря в рамках программы STEM.
Впервые после моего возвращения я остаюсь дома одна. Сделав глубокий вдох, я сбрасываю с себя напускную беззаботность, закрываю лицо руками и задумываюсь о том, как вернуться в нормальность.
Неожиданно входная дверь открывается.
– Ты что-то забыла?! – кричу я.
Но, вопреки моим ожиданиям, это не Мерит. На пороге кухни стоит Брайан. В руках у него ключи, словно запоздалое объяснение.
– Тебя. – Он входит в кухню и садится напротив меня за кухонный стол. – Я забыл тебя. Дон, я не могу вот так взять и уехать. Нам нужно поговорить.
Уже поговорили – и вот результат.
– Мне нечего тебе сказать, – отвечаю я.
Брайан опускает глаза:
– И не нужно ничего говорить. Ты просто должна меня выслушать.
Я знаю, как ее зовут: Гита. Знаю, что до поступления в докторантуру в Гарварде она училась в Кембридже. Я даже помню, что Брайан приглашал ее на обед с другими коллегами, чтобы уговорить принять участие в их программе по физике. «Думаешь, она подходит? – спросила я. – Думаешь, ты с ней сработаешься?»
В следующий раз я услышала о Гите, когда Брайан сообщил, что водил ее на ланч, так как ей, похоже, не удалось найти общий язык с другими докторантами. Я тогда подумала, как это типично для Брайана: чрезмерная доброта, желание уладить проблему, которая еще не возникла. Иногда он был настолько поглощен работой, что упускал из виду межличностные отношения, и я решила, что для него забота о новом члене команды – шаг вперед. А затем неделю спустя Гита попросила Брайана помочь ей купить автомобиль. Она вроде как слышала, что дилеры могут запросто напарить женщину, если рядом с ней нет мужчины, чтобы пнуть колесо и справиться насчет расхода бензина. Брайан даже пожаловался мне – Я здесь не для того, чтобы работать нянькой! – но в результате они вместе выехали с площадки на новенькой «Тойоте RAV4». Несколько недель спустя Брайан принес домой корзинку с «Кэдберри флейк», «Кранчи», «Твирл байтс» и «Роло» – подарок, при виде которого Мерит залилась слезами, решив, что эту гору конфет ей презентовали не просто так, а с намеком. «Гита привезла это из Англии. – Брайан был реально обескуражен. – Хотела сделать подарок».
Но потом он согласился прийти к Гите домой, чтобы помочь установить блок для кондиционирования воздуха. Начисто забыв, что сегодня день рождения дочери и мы собирались устроить праздничный обед. Вместо этого он, как собачонка, потащился за Гитой к ней на квартиру. Там он, раздевшись до майки, втащил кондиционер вверх по лестнице, установил его, как было указано, в окне спальни и со свойственной всем ученым основательностью принялся заделывать щели герметиком и толстым скотчем, чтобы в трещины не заползли насекомые.
Я отправила Брайану два сообщения.
Ты где? День рождения Мерит???
Он их прочел, но ни на одно не ответил.
Вернувшись в гостиную, он обнаружил Гиту, сидевшую в его рубашке на диване с бутылкой шампанского и двумя бокалами. «В знак моей благодарности», – заявила она.
Брайан сказал, что тут же ушел.
Я поверила его признанию, которое он, задыхаясь, выдавил из себя. Я поверила ему. Если бы он на самом деле принял предложение Гиты, то это был бы не жалкий лепет оправдания, а волны раскаяния.
– Почему ты не отвечал на мои сообщения? – потребовала я.
– Я был как раз в середине процесса установки кондиционера, – ответил Брайан.
– Тогда почему ты не ответил на них, когда закончил?
Брайан горестно всплеснул руками, поскольку любые слова были бы неуместны.
– Прости, Дон. Мне так жаль. Это все моя вина.
– Мне нужно идти, – пробормотала я.
– Идти? Но куда?
– Не думаю, что ты должен спрашивать меня об этом прямо сейчас!
И даже выбегая из двери, я чувствовала, как Брайан, такой основательный и неподвижный, держит меня на привязи, словно груз, не дающий улететь воздушным шарикам из магазина товаров для праздника, хотя им только этого и хочется.
Но то было вчера, а это – сейчас. Мы не можем и дальше сосуществовать в нашем доме, не заключив нечто вроде договора.
Он ерошит пальцами густые волосы:
– Я не знаю, как исправить произошедшее. – (Ох уж эта пассивная конструкция! Словно он посторонний, словно он не был соучастником.) – У меня с ней ничего не было. Клянусь!
– Если у тебя с ней ничего не было, тогда почему ты не сказал мне, что идешь к ней домой? Почему не отвечал на мои сообщения? – Я сглатываю комок в горле. – Почему ты ведешь себя так, будто что-то скрываешь?
– Потому что почувствовал себя круглым идиотом, поняв, что забыл о дне рождения Мерит.
Я пристально смотрю на Брайана:
– Неужели ты считаешь, что я ухожу от тебя именно из-за этого?
Он растерянно моргает:
– Я думал… Думал, что могу помочь. Мне даже в голову не могло прийти, что она хочет чего-то большего. Надо же быть таким дураком, чтобы сразу не догадаться!
Этому я тоже верю. Иногда Брайан понимает все настолько буквально, что хочется треснуть его по голове, чтобы он уловил нюансы. Но я также верю, что у него есть свой секрет, в котором он даже себе не хочет признаться: оставшись наедине с красивой девушкой, в располагающей обстановке с шампанским, он на секунду пожелал оказаться в другом временно́м измерении.
Возможно, он и не предпринял никаких действий, но это отнюдь не означало, что он не совершил предательства.
У Брайана поникли плечи; он еще ниже склоняется над кухонным столом. Я не сразу соображаю, что он делает нечто такое, чего никогда не делал за все годы нашего супружества.
Он плачет.
Брайан всегда был таким уравновешенным, вдумчивым, рассудительным – катушкой для моего воздушного змея, заземлением для моего электричества. Когда мне некуда было идти, он предложил нам с Кайраном крышу над головой. Когда на моих глазах умирал пациент, я прижималась к Брайану и вспоминала, что значит чувствовать себя живой. Он был моим спасителем. До этого момента.
Видеть его таким раздавленным и дрожащим – равносильно тому, чтобы чувствовать, как переворачивается мир, все еще знакомый, но уже немного другой; равносильно тому, чтобы делать пробор не с той стороны. В моей душе все вибрирует, я слышу незнакомую низкую ноту, отдающуюся болью. Это супружество, понимаю я. Камертон эмоций.
Я вскакиваю с места, не слушая доводов разума. Я останавливаюсь перед Брайаном и глажу его по голове, потому что не могу видеть страданий мужа, даже если он и заставляет страдать меня.
Он пулей срывается с места, хватаясь за предложенный мной спасательный круг. И, положа руку на сердце, так оно и есть. Жизнь, к которой мы привыкли за последние годы, драматически изменилась из-за заигрываний молодой женщины-докторанта, и теперь у нас появилась подсказка, как перевести стрелки часов назад. Сказочный след из хлебных крошек после тысячи объятий, подобных этому. Мы ступили на знакомую почву.
Объятия человека, обнимавшего тебя пятнадцать лет, дают некоторое ощущение завершенности. Подобно тому, как перекатиться на самое мягкое, продавленное, место матраса или разгадать последнее слово в воскресном кроссворде. Подобно теплу камина, распространяющемуся по комнате. Подобно домашнему голубю, возвращающемуся в родную голубятню.
Но остается еще и выборочная амнезия, неполная реабилитация. И хотя прикосновения Брайана успокаивают мое тело, разум по-прежнему туманят отголоски ссоры, отдалившей нас друг от друга.
И все же человек слаб. Я зарываюсь лицом в воротник рубашки Брайана и делаю глубокий вдох. Мыло. Крахмал. Все как всегда. Никаких роз. Мои глаза сами собой закрываются.
Неожиданно я резко отстраняюсь:
– Твой доклад.
– Да хрен с ним, с докладом! – отвечает Брайан. – Будут и другие возможности.
Я сдержанно улыбаюсь:
– В другой вселенной ты наверняка его уже прочел и получил бурные аплодисменты.
– В другой вселенной меня наверняка освистали.
Я заглядываю в его глаза цвета темно-зеленой хвои – два черных колодца, когда наши взгляды встречаются. Он ученый и не дружит со словами, но даже по молчанию мужа я угадываю траекторию его мыслей. Впрочем, он мыслит векторными категориями Дирака – маленькими коробочками, которыми оперируют физики, разговаривая о квантовом состоянии чего-то там в скобках. Или, проще говоря, того, чем на самом деле является какая-то вещь, – в данном случае наше супружество.
– В другой вселенной мы уже нагишом, – говорю я.
Спустя недели я зафиксирую этот момент во времени и буду прокручивать его в голове, переворачивая, как игрушечный стеклянный шар со снежными хлопьями внутри, и не понимая, что меня сподвигло так сказать, несмотря на стоящее между нами острое чувство вины. Возможно, я хотела проверить, сумеет ли близость вытеснить обиду. Или решила не ворошить прошлое, а жить настоящим – чувственным и нутряным.
Брайан смотрит на меня, надеясь на отпущение грехов. На то, что я все пойму и прощу, поскольку не смогла вот так сразу от него уйти.
Я снимаю через голову блузку.
После нежного поцелуя Брайан берет инициативу на себя, стягивая мои шорты. Он регистрирует каждый дюйм моего тела, избавляемого от одежды. Затем усаживает меня на кухонный прилавок и раздвигает мне ноги. Я вожусь с пряжкой его пояса, спускаю брюки. Его руки – круглые скобки на моих бедрах, сдерживающие сумятицу слов: «Да, пожалуйста, сейчас». Он делает резкое движение вперед, кладет мои ноги себе на талию, входит в меня. Его зубы покусывают мне шею, мои ногти царапают ему спину. Он начинает двигаться, но я не разрешаю ему оставить между нами хотя бы немного свободного пространства, и мы становимся одним телом, словно химера. Он отпускает меня в тот самый момент, когда я сильнее сжимаю ноги, и секунду спустя я вспоминаю, на каком я свете, но исключительно потому, что все еще чувствую внутри себя его участившееся сердцебиение.
Я обнаруживаю, что Брайан смотрит на меня с самодовольной ухмылкой.
– Ну вот, – говорит он, и я смеюсь.
У нас, насколько я могу судить, обычная для супружеских пар сексуальная жизнь: несколько раз в неделю, движения, отточенные для экономии времени, гарантированное удовольствие и крепкий ночной сон. Кто бы ни кончил первым, непременно хочет удостовериться, что второй тоже получит свою долю оргазма. Это всегда хорошо и время от времени великолепно. Совсем как сейчас. Когда слово «секс» больше не годится. Нет, это, скорее, выход за пределы собственного тела, чтобы наполнить чье-то еще и стимулировать желание сделать то же самое для тебя.
Во многих отношениях это микрокосм супружества. Где чаще всего можно слышать: «А что, у нас закончились сухие сливки?» или «Ты, случайно, не будешь проходить мимо почты?». Но время от времени бывают минуты трансцендентности. Когда вы вскакиваете с места в едином порыве, увидев дочь на сцене на выпускном в честь окончания начальной школы. Когда переглядываетесь за столом на торжественном обеде и молча ведете разговор глазами. Когда ловите себя на том, что смотрите на свой дом, на свою семью и думаете: «Вот. Мы это сделали».
Брайан очень быстро в меня влюбился. Однажды он сказал, что когда он со мной, то не сливается с общим фоном. Еда становится вкуснее. Воздух – свежее. Он сказал, что я не просто изменила его мир. Я изменила мир.
Брайан вручает мне кухонное полотенце. Неприглядная сторона любви, которую не показывают в голливудских фильмах. «Что они делают? – обычно шептал Брайан в кино. – Спят на мокром пятне?» Брайан хлопает рукой по мраморному прилавку:
– Обещай все хорошенько отмыть, прежде чем начнешь готовить.
Я удерживаю Брайана, сцепив лодыжки, и заглядываю ему в глаза. Такие вещи не часто практикуешь, если живешь с одним и тем же человеком так долго, как я. Ты смотришь, скользишь взглядом, ловишь ответный взгляд, но не пытаешься вобрать в себя его образ, словно оазис в пустыне. Но сейчас я не свожу с мужа глаз, пока он не начинает дергаться и глупо улыбаться.
– Что? – спрашивает он. – У меня что-то не так с лицом?
– Нет. – И наконец я вижу это – вижу чудо в его глазах. Веру, что он проснется и все окажется дурным сном.
А вот и ты, думаю я. Мужчина, которого я полюбила.
Я встретила Брайана на общей кухне хосписа, где умирала моя мать. Наши пути пересеклись у кофемашины. Уже через несколько дней я узнала, что он любит ароматизированный кофе – лесной орех или французскую ваниль – и что он левша. У него на запястье всегда были следы от грифеля, словно он целый день писал карандашом.
Ухаживая в хосписе за матерью, я, как правило, приносила снеки с собой и время от времени ела за маленьким ободранным столом на общей кухне. Брайан иногда тоже сидел там. Делал какие-то математические записи, причем такие мелкие, что приходилось щуриться, чтобы разглядеть цифры. Эти числа были выше моего понимания. Факториалы, экспоненты и уравнения как-то стерлись из памяти ассистента преподавателя.
– Хороший или плохой день?
В хосписе это было эквивалентом «Как поживаете?», поскольку здесь лишь умирали.
– Плохой день, – ответил Брайан. – У моей бабушки болезнь Альцгеймера.
Я кивнула. Мне повезло, что мама сохранила ясное сознание.
– Она думает, будто я нацист, и я решил, что мне лучше покинуть ее палату. – Он взъерошил рукой волосы. – Знаешь, это ужасно паршиво, когда твое тело пережило Холокост, а вот твой разум – неотъемлемая твоя часть – тебя оставил.
– Ты действительно хороший внук, если все время проводишь здесь.
Он пожал плечами:
– Она меня воспитала. Мои родители погибли в автокатастрофе, когда мне было восемь.
– Мне очень жаль.
– Это было давным-давно. – Брайан посмотрел, как я открываю пакет «Голдфиш». – И это все, чем ты питаешься?
– У меня нет времени покупать еду…
Он придвинул ко мне половину своего сэндвича с индейкой:
– У тебя ведь здесь мама, да?
Здесь все обо всех знали. Но мне претило, что посторонний человек задавал вопросы, выносил суждения, жалел меня.
– Это ведь не ракетостроение?
– Нет. Квантовая механика.
Озадаченная, я подняла голову, но он уже снова сгорбился над бумагами, продолжая что-то чирикать.
– Ты не похож на физика. – Я посмотрела на морскую гладь его глаз и на слишком длинные волосы, постоянно падавшие на лицо.
– А как, по-твоему, должен выглядеть физик?
Я почувствовала, что краснею:
– Ну я не знаю. Немного более…
– Засаленным? Потрепанным? – Он поднял брови. – А как насчет тебя. Что ты делаешь, когда никто не умирает?
То, как он это произнес, прямолинейно и без экивоков, было первым, что понравилось мне в Брайане. Никаких эвфемизмов, никаких уловок. Со временем я обнаружила, что прямота действует освежающе. Но я, со своей стороны, не могла сказать вслух, что была египтологом, которого выдернули из Египта и который не видел пути назад, чтобы закончить диссертацию. Что, в отличие от уравнений на бумаге, у моей проблемы нет способов решения.
– Никогда не понимала квантовую механику. – Я попыталась увести разговор в сторону. – Научи меня чему-нибудь.
Он открыл чистую страницу и нарисовал крошечный кружок:
– Ты когда-нибудь слышала об электроне?
– Это частица, да? – кивнула я. – Вроде атома?
– На самом деле субатомная. Но для наших целей достаточно знать, что она действует как сфера. А мы знаем, что сферы могут вращаться, так? Или по часовой стрелке, или против часовой стрелки. – Он нарисовал второй кружок. – Суть в том, что электроны – суперкрутые частицы, способные вращаться и по часовой стрелке, и против часовой стрелки одновременно.
– Я бы сказала, что все это бред!
– И я не стану тебя осуждать. Но на самом деле проведена куча экспериментов, результаты которых можно объяснить лишь этим феноменом. Представим себе черный экран, не пропускающий света. А теперь прорежем в этом экране две щели. Назовем их щель один и щель два. Если направить лазерный луч и закрыть щель один, то можно ожидать появления небольшого пятна света на стене напротив щели два. Если закрыть щель два, можно ожидать появления небольшого пятна света напротив щели один. Что произойдет, если открыть обе щели одновременно?
– Мы увидим два пятна?
У Брайана загорелись глаза.
– Обычно все именно так и думают. Но нет. Мы имеем целый ряд чередующихся светлых и темных пятен. Это называется интерференционной картиной. Единственный способ объяснения подобного явления состоит в том, что луч, выходящий из щели один, вероятно, взаимодействует с лучом, выходящим из щели два, поскольку при условии, если открыта только одна щель, мы имеем лишь одно пятно на стене… а если открыты обе щели, мы имеем нечто такое, чего не видели раньше. А потом появился Эйнштейн, который объяснил нам, что свет – это не струйное течение, а поток отдельных частиц, и такая картина возникает при столкновении отдельных частиц из разных щелей. Ученые уменьшили скорость лазерного излучения так, чтобы только один фотон проходил через щель в единицу времени, в предположении, что странная картина исчезнет. Но этого не произошло. Из чего можно сделать вывод о том, что в действительности один фотон одновременно проходит через две щели, взаимодействуя сам с собой. Хотя привитый нам эволюционный инстинкт и восстает против этой идеи. – Брайан посмотрел на меня. – Именно интерференция и заставляет работать твой лэптоп. Ну это я так, на случай если ты все еще считаешь, что я несу ахинею.
– Тогда при чем тут электроны? – спросила я.
– Мы знаем, что они вращаются как по часовой стрелке, так и против нее, – сказал Брайан. – Скажем, мы помещаем электроны в коробку, где имеется небольшой триггер, срабатывающий, если электрон вращается по часовой стрелке. Но не срабатывает, если он вращается против часовой стрелки. При срабатывании триггера он посылает сигнал ружью, которое должно выстрелить и убить кота.
– Большая, должно быть, коробка, – говорю я.
– А теперь давай вместе, – предложил Брайан. – Итак, если электрон движется по часовой стрелке…
– Триггер срабатывает, ружье стреляет, и кот умирает.
– А если электрон движется против часовой стрелки?
– Ничего не происходит.
– Точно. – Он поднимает на меня глаза. – Но что происходит, если электрон вращается одновременно и по часовой стрелке, и против часовой стрелки, ведь, насколько нам известно, это возможно?
– Кот или умирает, или нет.
– На самом деле, – поправляет меня Брайан, – кот одновременно и живой и мертвый.
– Постапокалипсис какой-то! – шепчу я. – Милая история, но я никогда не видела котов-зомби.
– Нильс Бор примерно так и говорил. Он знал, что, согласно законам математики, такое происходит, но, с другой стороны, никогда не видел живого-мертвого кота. Поэтому Бор предположил, что должно быть нечто особенное в процессе наблюдения, когда кот перестает быть одновременно и живым и мертвым, а вместо этого становится просто или живым, или мертвым.
– Типа человеческого сознания?
– Именно это и предположил Джон фон Нейман. Но что делает людей настолько особенными, что они способны определить момент мгновенного перехода квантовой системы в одно из состояний с определенным значением? А что, если за процессом наблюдает не человек… а что, если это хорек? И как насчет кота в коробке? Мы знаем, что кот вполне справедливо заинтересован в исходе. Итак, способен ли он изменять состояние электрона, или триггера, или ружья? В теорию коллапса верили крутые ребята до тысяча девятьсот пятидесятых годов, когда Хью Эверетт Третий нашел еще одну причину, почему мы не видим, как по земле гуляют коты-зомби. Он сказал, что, подобно тому как электрон, и триггер, и ружье, и кот являются квантовыми объектами, им же является кто-то или что-то, кто наблюдает за тем, что в коробке. – Изобразив машущего рукой схематичного человечка, Брайан пририсовал ему юбку – показать, что это женщина, – после чего продолжил: – Сперва она стоит рядом с коробкой и не знает, что увидит, когда заглянет внутрь. Но в ту минуту, когда она поднимает крышку… она делится на две отчетливые копии самой себя. В одной версии себя она видит кота с мозгами, размазанными по всей коробке. В другой – слышит мяуканье. Если вы спросите ее, что она видела, одна ее версия скажет, что кот мертв, другая – что он жив. Наблюдатель видит только один исход, но никогда оба, хотя по законам квантовой механики имеют место обе версии существования чертова кота. А причина, почему она видит только один исход, состоит в том, что она попала в одну из временны́х шкал и не может видеть другую. – Брайан ухмыльнулся. – Это теория Эверетта. Причина, по которой мы не видим котов-зомби или вращения электронов в обе стороны, состоит в том, что в ту минуту, когда мы смотрим на них, мы становимся частью математического уравнения и сами расщепляемся на множество временны́х шкал, где различные версии нас самих видят различные конкретные исходы.
– Вроде параллельных вселенных, – заметила я.
– Вот именно. Я использую термин «временна́я шкала», но можно смело говорить «вселенная». Причем все это имеет значение не потому, что коты в коробках, а потому, что мы все сделаны из таких же частиц, как и те электроны. Короче, если увеличить масштаб, то все, что мы делаем, можно объяснить квантовой механикой.
– А что происходит с разными временны́ми шкалами?
– Они все больше и больше отдаляются друг от друга. Например, наблюдатель, который видит мертвого кота, может так сильно расстроиться, что в результате вылетит из магистратуры, подсядет на амфетамин и никогда не разработает технологии, способной помочь нам вылечить рак. И в то же время наблюдатель, который видит живого кота, поймет, что столкнулся с чем-то значительным, и станет деканом физического факультета в Оксфорде. – Брайан ткнул пальцем в стопку страниц. – Именно то, чем я и занимаюсь. Медленно разрушаю свою карьеру, пытаясь доказать, что мультивселенная постоянно разветвляется, создавая новую временну́ю шкалу всякий раз, как мы принимаем решение или вступаем во взаимодействие.
– А почему это должно разрушить твою карьеру?
– Просто потому, что физиков, которые в это верят, можно назвать статистическим выбросом. Но в один прекрасный день…
– В один прекрасный день тебя назовут гением. – Я запнулась. – А может, это уже происходит в другой вселенной.
– Совершенно верно. Все, что может произойти, уже происходит в другой жизни.
Наклонив голову, я уставилась на Брайана:
– Получается, в другой вселенной моя мама не умирает.
В разговоре возникла пауза.
– Нет, – ответил он. – Не умирает.
– И в другой вселенной мы никогда не встретимся.
Брайан покачал головой, краска смущения залила его кожу приливной волной.
– Но в этой вселенной, – сказал он, – я действительно хотел бы пригласить тебя пообедать со мной.
Я выхожу из душа и вижу на кровати дорожную сумку Брайана. Слышу, как в ванной снова включается вода, и смотрю на сумку. Потом со стоном отворачиваюсь, натягиваю нижнее белье, шорты, майку.
Провожу расческой по волосам, перекручиваю их жгутом, после чего в спальне вроде бы нечего делать, но уйти – выше моих сил.
Вода в душе все еще льется.
Я приближаюсь к сумке и расстегиваю молнию. Косметичка Брайана и туфли лежат сверху. Откладываю их в сторону, достаю хлопчатобумажный джемпер и обнюхиваю его. Какой-то цветочный запах. Неужели снова розы? Или это плод моего воображения?
– Дон?
Он стоит у меня за спиной, с полотенцем, обернутым вокруг талии. У меня немеют руки, холодеет тело. Поймана с поличным. Я воровка, шпионка. Дейзи, роющаяся в одежде Гэтсби.
– Я думал… у нас все в порядке.
– Потому что мы перепихнулись? – отвечаю я. – Ведь ты говорил, что это ничего не значит.
– Я с ней не спал. – Брайан садится на кровать и вырывает у меня из рук джемпер.
– Нет. Ты просто думал об этом.
Я злобная, мерзкая, неумолимая. Я зализываю свои раны с помощью яда. Брайан извинился. Мне следует его простить. Разве нет?
Но он был с ней в день рождения Мерит. Он пропустил обед. Он вернулся домой, пропитанный ароматом роз, – это и одежда, и волосы, и наш брак.
– Она тебе нравится? – Я заставляю себя задать сакраментальный вопрос. Слова острыми ножами втыкаются мне в горло.
– Ну… я хочу сказать, – запинается Брайан. – Ведь я ее взял на работу.
– Ответ неправильный, – отрывисто говорю я, вставая с кровати.
Уже на пороге спальни Брайан хватает меня за запястье и разворачивает лицом к себе:
– Я никогда никого не любил, кроме тебя.
В Бостоне однажды случилось землетрясение. Я везла Мерит домой из садика, и прямо перед нами на дорогу упало несколько деревьев. Землетрясение было совсем слабеньким по сравнению с разломом Сан-Андреас, но для людей, не привыкших к тому, что земля дрожит под ногами, даже это было шоком.
Между тем все шло своим чередом. Я приготовила Мерит на ланч макароны с сыром, отвела ее в парк покачаться на качелях, после чего сдала с рук на руки няне, так как в хосписе меня ждал пациент. Няня, округлив глаза, рассказывала о том, как кровать поехала прямо вместе с ней по полу, как баночки с таблетками посыпались с полки, словно их спихнула оттуда рука привидения. «А вы тоже почувствовали это?» – спросила она, но я в ответ лишь покачала головой. Поскольку я была в автомобиле и колеса громыхали в унисон дрожи земли, я не поняла, что происходит нечто неладное, пока мне не рассказали о землетрясении. Катастрофа чуть-чуть изменила мир, а я даже этого не заметила.
Брайан упорно не желает отпускать мою руку. Проводит по костяшкам большим пальцем:
– Дон, ну пожалуйста. Я знаю, что не могу все исправить. Но этого больше не повторится.
Я верю ему. Просто я больше ему не доверяю.
– Ненавижу сраные розы! – заявляю я и выхожу из спальни.
Самое абсурдное при воспоминаниях о прежней жизни, которая практически закончилась, – это то, что все шло своим чередом. Твое сердце может быть разбито, твои нервы могут быть расшатаны, но при всем при том мусор нужно вовремя выносить. Продукты необходимо покупать. Машину заправлять. И от тебя по-прежнему зависят люди.
По дороге к дому потенциального клиента я звоню брату.
Будучи нейрохирургом, живущим при больнице, он редко берет трубку, но сейчас, к своему удивлению, я попадаю не на голосовую почту, а слышу его самого.
– Кайран?
– Дон?
– Вот уж не ожидала тебя застать!
– Прости, что пришлось тебя разочаровать. – В его голосе звучат насмешливые нотки. – Я только что вышел из операционной. Что случилось? Погоди. Попробую догадаться. У тебя странная сыпь.
Естественно, я звоню ему по медицинским проблемам. Узнать, например, началась ли в Бостоне эпидемия гриппа, или что делать с плантарным фасциитом, или задать с десяток других вопросов, на которые брат не может ответить, так как это не его специализация.
– Нет, я здорова. Просто захотелось услышать твой голос. Я… соскучилась по тебе.
– Блин, к черту сыпь! Похоже, твое состояние тяжелее, чем я думал. Возможно, тебе нужно срочно приехать в отделение экстренной медицинской помощи.
– Заткнись! – отвечаю я, невольно улыбаясь.
– Тогда что происходит на самом деле? – спрашивает брат.
Я не решаюсь сказать.
– Просто пытаюсь вспомнить, ссорились ли когда-нибудь наши родители.
– Ничем не могу помочь. Если учесть, что, когда папа был жив, я находился в эмбриональном состоянии.
– Да, я знаю, – отвечаю я.
– Это насчет тебя и Брайана? Вы ведь никогда не ссорились.
– Похоже, все когда-нибудь бывает впервые.
Кайран ждет продолжения, но я не расположена вдаваться в подробности.
– Послушай, Дон, тебе нечего волноваться. Вы с Брайаном очень правильные. Стандарт. Вы матримониальный эквивалент восхода солнца по утрам и голубого неба, когда открываешь глаза. Вы будете вместе до скончания века. Ты это хотела услышать?
– Да, – отвечаю я. – Конечно.
В хосписе мы всегда держали кошку, предсказывающую смерть. Не кота, а именно кошку, у которой, насколько я знаю, не было клички – просто Кошка, – но которая жила в здании. В бюджете даже имелся отдельный пункт на ее питание. У нас также были две собаки для терапии, навещавшие пациентов, но кошка – животное, которое гуляет само по себе и, в сущности, чрезвычайно холодное. Насколько я понимала, единственная польза от кошки состояла в том, что она давала нам знать, когда кому-то оставалось жить меньше двадцати четырех часов.
Если, войдя в палату, я видела, что кошка, свернувшись клубком, лежит в ногах чьей-то кровати, то могла смело утверждать, что этот человек вскоре умрет. Уж не знаю, было то шестое чувство или некий обонятельный сигнал – собак ведь натаскивают определять по запаху некоторые виды рака, – но показатель успеха треклятой кошки составлял сто процентов.
Впервые я увидела, как умирает человек, только после года работы в хосписе. (Даже сейчас большинство моих клиентов умирают, когда в комнате никого нет, словно их удерживала на этом свете лишь сила воли людей, которые будут по ним скучать.) Как-то утром я вошла в палату пациентки хосписа Джудит и поймала на себе взгляд Кошки, помахивавшей хвостом.
Решив не тревожить ее дочь Аланну, которая сама ухаживала за матерью, я навскидку оценила состояние Джудит. Она не отреагировала на мой приход и тяжело дышала. Я посмотрела на Кошку, кивнула, и та, спрыгнув с кровати, медленно вышла из палаты.
– Аланна, – позвала я дочь Джудит, – если вы хотите что-то сказать маме, то говорите прямо сейчас. Ей, по-моему, недолго осталось.
Глаза женщины тотчас же наполнились слезами.
– Неужели это конец?
Если я что и узнала для себя, имея дело со смертью, так это то, что она всегда застает врасплох, даже в хосписе.
Я поставила себе стул рядом с Аланной. Она наклонилась вперед, непроизвольно задерживая дыхание всякий раз, как ее мать делала вдох. Дыхание Чейна – Стокса, характерное для умирающих, – это дыхание, при котором поверхностные дыхательные движения учащаются и, достигнув максимума, вновь ослабляются и замирают, а затем через несколько минут цикл повторяется в той же последовательности. И хотя это нормальное явление при прекращении работы дыхательной системы, подобное дыхание воспринимается как агония, и членам семьи невыносимо его слышать, тем более что они знают: это начало конца.
Моя задача – поддержать не только своих пациентов, но и их близких. Поэтому я попыталась отвлечь Аланну расспросами о том, как прошла ночь и когда Джудит в последний раз открывала глаза. Увидев, что Аланне становится все больше не по себе, я спросила, как обручились ее родители.
В свое время я прочла, что каждая история – это история любви. Любви к человеку, к стране, к образу жизни. Откуда следует, что все трагедии – истории утраты того, что вы любили.
Когда больной на терминальной стадии не может преодолеть страх смерти, ему стоит оглянуться на свое прошлое. Это успокаивает. Мы имеем обыкновение забывать, что когда-то были молодыми. Но именно тогда для нас все только начиналось, а не заканчивалось.
Аланна подняла на меня глаза:
– Мама и папа – представители совершенно разных социальных слоев. У папы имелся фамильный капитал, а у мамы не было практически ничего. Они решили совершить поездку по национальным паркам, и мама принесла переносной холодильник, набитый сэндвичами, потому что, когда она девчонкой куда-то ездила, ее мать всегда давала ей в дорогу еду. Обед в ресторане они даже не рассматривали как вариант.
Я представила, что Джудит, где бы она сейчас ни находилась, слушает свою историю и мысленно улыбается. Ведь способность органом слуха воспринимать звуки исчезает в последнюю очередь.
– Они отправились в Йеллоустонский национальный парк, к гейзеру Старый Служака, – продолжила Аланна. – Папа собирался сделать ей там предложение. Но к ним прибился какой-то парень, который постоянно задавал вопросы, а мама – перед поездкой она прочла все, что можно, о гейзерах – терпеливо на них отвечала. Как часто он выбрасывает горячие струи воды? Примерно двадцать два раза в день. Какой высоты достигают струи? Около ста тридцати футов. Какова температура воды? Более двухсот градусов по Фаренгейту. – Женщина слабо улыбнулась. – Инициатива явно уплывала из папиных рук. Тогда он, похлопав маму по руке, сказал: «У меня вопрос. – После чего встал на одно колено и добавил: – А куда уходит вся вода?»
– Ну и что ответила ваша мама? – рассмеялась я.
– Без понятия. Она просто сказала: «Да».
Мы посмотрели на Джудит, которая издала хлюпающий вздох и перестала дышать.
Аланна застыла:
– Это что… она что?..
Я не ответила, так как хотела удостовериться, что у Джудит полная остановка дыхания, а не апноэ. Но когда через пять минут дыхание не восстановилось, я сообщила Аланне, что Джудит ушла.
Аланна прижалась лбом к материнской руке, которую продолжала сжимать, и заплакала навзрыд, ну а я сделала то, что всегда делала в таких случаях: гладила Аланну по спине и успокаивала, давая возможность предаться скорби. Я выскользнула из палаты и подошла к стойке регистратора.
– Нам нужна медсестра зарегистрировать смерть, – сказала я и вернулась успокоить Аланну.
Через какое-то время она выпрямилась и вытерла глаза:
– Мне нужно позвонить Питеру.
Мужу. И вероятно, дюжине других родственников. Глаза у Аланны распухли, взгляд стал слегка исступленным.
– С этим можно и подождать. – Я хотела дать Аланне нечто такое, что осталось бы с ней на всю жизнь. – Джудит много раз говорила мне, как много значит для нее то, что вы были рядом.
Аланна тронула мать за запястье:
– Как по-вашему, где она сейчас?
Существуют самые разные ответы на этот вопрос, и каждый из них не может считаться верным или неверным по сравнению с другими. Поэтому я сказала то, что знала наверняка:
– Не знаю. – Я махнула рукой в сторону лежавшего на кровати тела. – Но она уже не здесь.
И в этот самый момент челюсть Джудит задвигалась, и я услышала длинный тягучий вдох.
Аланна метнула на меня изумленный взгляд:
– Я думала, она…
– Я тоже.
Появившаяся в комнате медсестра посмотрела на дышащую пациентку и вопросительно подняла брови:
– Ложная тревога?
Я часто рассказывала эту историю на конференциях и семинарах: первый человек, который умер у меня на глазах, сделал это дважды. И мой рассказ неизменно вызывал смех, хотя ничего смешного здесь не было, вообще ничего смешного. Только представьте себе Аланну, которой пришлось оплакивать мать во второй раз. Представьте себе самую ужасную вещь, которую вам пришлось пережить. А теперь представьте, что вы пережили это снова.
Моя потенциальная клиентка родилась в один день со мной. Не только в тот же месяц и в то же число, но и в тот же год. Я была доулой смерти у клиентов моложе меня и несколько раз – у детей, что было невыразимо печально. Прежде я относилась к таким вещам философски: это не мое время пришло, а их. Но сейчас я смотрю на медицинскую карту новой клиентки и невольно переношу все на себя.
Винифред Морс живет в Ньютонвилле, в маленьком дуплексе, задняя часть которого выходит на зеленые лужайки кампуса юридического факультета Бостонского колледжа. У нее четвертая стадия рака яичников, и, в отличие от большинства моих клиентов, она позвонила мне сама. Обычно ко мне обращаются близкие члены семьи, которые хотят, чтобы я пришла поддержать дорогого им человека, не сообщая ему, в чем состоят мои функции, словно само название «доула смерти» может ускорить смерть. Я отказываюсь от такой работы, поскольку все это выглядит нечестным по отношению ко мне, ведь я нередко вынуждена говорить опекунам умирающих о необходимости подождать, пока сам пациент не посмотрит в лицо смерти и не согласится с тем, что он нуждается в помощи.
Я подъезжаю к ее дому и секунду стою возле двери, закрыв глаза и сделав пару глубоких вдохов, чтобы снять напряжение в плечах и позвоночнике, загнать Брайана в дальний уголок души. Прямо сейчас единственные проблемы, которые я позволю себе иметь, – это проблемы Винифред Морс. Лично о себе я буду волноваться, когда наступит мой черед.
Дверь открывает Феликс – муж Винифред. Рост не меньше шести футов пяти дюймов; сплошные углы и загогулины, словно у богомола. Когда я представляюсь, он улыбается, но его улыбка, лишившись подпитки, сразу увядает.
– Входите, входите, – говорит он.
Я оказываюсь в прихожей, стены которой увешаны картинами в стиле модерн. На одних полотнах расплывчатые розовые пятна, которые, если смотреть под определенным углом, напоминают очертания женской фигуры. На других – сердитые косые полосы, похожие на черные когти животного, которое пытается продраться сквозь холст и вырваться из рамы. А еще есть картина, где сверху донизу методично представлены все оттенки синего, точно перепады настроения моря. И я сразу вспоминаю о своей маме.
В современном искусстве я разбираюсь не слишком хорошо. Знаю только, что оно должно пробуждать эмоции. Но при всем при том я не могу оторвать взгляда от написанного на холсте океана.
– Мне эта картина тоже нравится. – Феликс подходит ко мне: руки в карманах, острые локти. – Вин написала ее, когда была беременна Арло.
Я мысленно архивирую информацию, невольно задаваясь вопросом, где сейчас их сын и как он воспринимает болезнь матери.
– Значит, она художница, – говорю я.
У Феликса дергаются уголки рта.
– Была. На самом деле она перестала писать картины, когда заболела.
– Ну а как насчет вас? – Я трогаю его за руку.
– Какой из меня художник! Не могу даже нарисовать человечка из палочек. Я преподаю вождение. Хотел стать врачом, но недотянул по оценкам. Вот и нашел другой способ спасать человеческие жизни.
Я пытаюсь представить, как Феликс, втиснув свое угловатое тело на пассажирское сиденье автомобиля, терпеливо объясняет ученику, что, прежде чем отъехать от поребрика, нужно включить габаритки.
– Феликс, я имела в виду не вашу работу… Как вы себя чувствуете? Вы едите? Спите?
Он смотрит на меня с удивлением:
– А разве вы не должны спрашивать об этом Вин?
Обычно я беседую с глазу на глаз с тем, кто ухаживает за больным, только после того как познакомлюсь с пациентом. Ведь иногда его близкие замечают то, чего со стороны сразу не видно: например, тремор при попытке взять стакан с водой или повышенную возбудимость по ночам. Они всегда скажут, что у больного бессонница, что он в плохом настроении, что он видит несуществующих людей. Иногда пациент храбрится в моем присутствии и не признается, что ему больно или страшно, но его близкие всегда скажут правду, поскольку, по их мнению, так я смогу получить ответ на вопрос, который они не решаются озвучить при любимом человеке: когда и как это произойдет?
Скорбь от предчувствия неизбежного очень реальная и опустошительная. Она варьирует в широком диапазоне от: «Как же я останусь совершенно один в этом мире?» – до: «Что же я буду делать, если отрубится Интернет, ведь это она всегда звонила в кабельную компанию?»
– Я непременно задам ей эти вопросы. Но в мои обязанности входит проследить за тем, чтобы вы тоже были в порядке. – Ответив Феликсу, я оглядываю прихожую, где среди предметов искусства разбросаны предательские свидетельства болезни: ходунки, пара компрессионных носков, на боковом столике – полученные по рецепту лекарства. – Ведь и вся ваша жизнь теперь подчинена раку.
Феликс на секунду притихает.
– Вся моя жизнь – это ее жизнь. Вы сами увидите. Я еще никогда не встречал такой, как она. Когда я думаю, что ее больше не будет, это просто не укладывается в голове. Я не могу представить никого другого на ее месте. Когда она уйдет, в доме образуется пустота, принявшая очертания Вин, и, боюсь, пустота эта будет бездонной. – Он замолкает, глаза его становятся влажными. – Пойдемте, я вам покажу.
Он ведет меня по кроличьей норе их дома, где гораздо больше поворотов и закоулков, чем можно было бы ожидать в таком маленьком дуплексе. Вин находится в кабинете. За ее спиной, будто крылья орла, простираются книжные полки от пола до потолка. После операции она передвигается еле-еле, но все же передвигается и, шаркая ногами, подходит к книжным полкам поставить на место книгу. Она поворачивается ко мне, и я сразу вижу на ее лице следы, оставленные химиотерапией, облучением и лекарственной терапией. Худые ключицы торчат из выреза футболки. Отросшие волосы, мягкие и невесомые, напоминают утиный пух. Живот раздут от скопившейся там жидкости.
– Вы, наверное, Дон, – говорит Вин, протягивая мне руку.
Несмотря на столь жалкое состояние, она сохранила шарм и притягательную энергию. Что волей-неволей приковывает внимание. На темной коже выделяются чарующие золотистые глаза. Нетрудно представить, насколько неотразимой была эта женщина до болезни. У Феликса не имелось ни единого шанса.
– Винифред, я действительно очень рада с вами познакомиться, – говорю я от чистого сердца.
Одна из причин, почему я люблю свою работу, – это люди, с которыми я встречаюсь. В сущности, я люблю каждого из них. Но именно поэтому мне крайне важно узнать их поближе, прежде чем они уйдут.
– Зовите меня Вин[3], – ухмыляется она. – Хотя это не совсем корректно. Поскольку выиграла-то я в Лотерее смерти.
– Умирание – вот что действительно некорректно. Вы живы, пока живете. – Я покосилась на Феликса. – Но раз уж мы заговорили о некорректных вещах, то первый приз получило имя вашего мужа. На латыни Феликс Морс означает «Счастливая Смерть».
– А вы мне нравитесь, – смеется Вин.
Вот в этом и есть основная цель первого знакомства: проверить, будет ли потенциальному клиенту комфортно со мной и будет ли мне комфортно с ним. В случае Вин ее возраст, конечно, тоже является одним из факторов. Я не имею права проецировать себя на своих клиентов, осознанно или нет. Нет, нельзя работать доулой смерти, если постоянно думать: «А чего бы мне хотелось в такой ситуации?» или «На ее месте могла бы быть я».
В Чикаго, в свою бытность старшекурсницей, я работала волонтером в приюте для жертв домашнего насилия. Там была девушка примерно моих лет, которая потеряла отца еще в детстве и у которой на руках был двухлетний ребенок. Она так сильно запала мне в душу, что я не могла спокойно спать, если не знала, ела ли она вечером, ел ли ее сынишка и не вернулась ли она домой к буйному мужу. Координатор волонтеров вызвал меня к себе и сказал, что с таким подходом к каждому случаю я долго не выдержу. «Она не ты», – сказал координатор. С тех пор я научилась держать дистанцию, но иногда это чрезвычайно трудно, а значит, от таких клиентов следует сразу отказываться. Существуют границы, которые я не должна переходить, даже работая в такой области, где барьеры между людьми обычно рушатся.
– Почему бы вам не присесть? – предлагаю я.
Вин с Феликсом устраиваются на кожаном диване. Я придвигаю к нему кресло.
– Итак, – начинаю я, – что вы хотите рассказать?
– Ну, начнем с того, что врачи говорят, мне осталось жить меньше месяца, – отвечает Вин.
Я вижу, как пальцы Феликса переплетаются с пальцами жены.
– Вот почему это и называется практической медициной, – отвечаю я. – Они могут отпустить вам для жизни определенное время, но на самом деле им ничего не известно. Это время может быть короче, а может быть и длиннее. Моя задача – сделать так, чтобы при любом исходе вы успели подготовиться.
– Нам, вероятно, нужно поговорить о цене, – подает голос Феликс.
– Непременно, – отвечаю я, – но не сегодня. Сегодня у нас первое свидание. Сперва посмотрим, насколько мы совместимы, а уж потом начнем планировать будущее.
Я принимаю решение, брать или не брать нового клиента (или позволить ему нанять меня), только после второго визита. Впечатления от первой встречи должны улечься.
– Как вы себя сегодня чувствуете? – поворачиваюсь я к Вин, поскольку всегда начинаю с физического состояния и лишь потом перехожу к эмоциональному.
– Я встала с постели, – констатирует Вин. – И приняла душ.
Насколько я понимаю, она хочет сказать, что сегодня хороший день. Ведь бывают и такие дни, когда пациент не хочет вставать или одеваться.
– Вы не заметили отека в области хирургического вмешательства? – (Вин качает головой.) – Руки, ноги отекают?
Вопросы следуют определенному шаблону: «У вас что-нибудь болит? Вы не мерзнете? Вы сегодня ели? Как вы спите?» Я спрашиваю Феликса, дали ли им в хосписе морфин – обезболивающее средство, которое хранится в холодильнике вместе с другими лекарствами на случай оперативной помощи до прихода медсестры из хосписа.
– Как по-вашему, вы получаете всю необходимую поддержку?
Вин смотрит на Феликса. Между ними происходит молчаливый разговор.
– Да, получаю. Но мне жаль, что все легло на плечи Феликса. Несправедливо по отношению к нему.
– Это вообще несправедливо. И точка, – бормочет Феликс.
– Позвольте рассказать, в чем заключается моя роль в качестве доулы смерти, – говорю я, наклоняясь вперед. – Я здесь, чтобы помочь вам и обеспечить удовлетворение всех ваших потребностей прямо сейчас. Я могу помочь вам со всеми незавершенными делами. Могу вместе с вами спланировать похороны. Помочь с завещанием и приведением в порядок финансов. Убрать ваш гараж, если беспорядок сводит вас с ума. Прочесать арендованный склад, если там завалялось фото вашей бабушки, на которое вам хочется посмотреть. Сводить вас на оперу или почитать вам вслух «Пятьдесят оттенков серого». А когда придет время, могу сделать так, чтобы друзья узнали из ваших соцсетей, что вы умерли. Могу вывезти вас на улицу, чтобы вы могли понаблюдать за птицами.
Я излагаю это так, как всегда: деловито, без сюсюканья и создания у клиента иллюзий, будто можно обмануть смерть.
– А есть что-нибудь такое, чего вы не делаете? – шутит Феликс.
– Оконных блоков, – отвечаю я и с улыбкой добавляю: – А если серьезно, я не осуществляю лечения. Не выписываю лекарств и не даю их. Это ваша забота. То же относится к смене памперсов в случае необходимости. Впрочем, я всегда помогу сменить постельное белье или перевезти инвалидное кресло, хотя на самом деле это забота того, кто отвечает за Вин, и входит в мои обязанности лишь тогда, когда я остаюсь с ней одна. – Я поворачиваюсь к Вин. – Все, что вам нужно сделать, – это сообщить мне, что могло бы облегчить ваши страдания в данный конкретный момент, а я приложу максимум усилий, чтобы это сделать.
Вин, не мигая, смотрит на меня:
– А вы будете здесь в мой смертный час?
– Если вы так хотите, то да.
Комната застывает – кокон, внутри которого все уже начинает меняться.
– А как вы узнаете, когда это случится? – тихо спрашивает Вин.
– Я постоянно буду в контакте с вашими лечащими врачами. Кроме того, есть признаки и симптомы того, что тело перестает функционировать.
Вин не сводит с меня слегка прищуренных глаз, словно обдумывая каждое слово, которое собирается произнести.
– Вы мне нравитесь, – наконец говорит она. – Вы не вешаете лапшу на уши.
– Сочту это за комплимент.
– Так оно и есть, – кивает Вин. – И все же, каким образом вы попали в этот бизнес?
– Моя мать умерла в хосписе. И, как оказалось, у меня хорошо получается готовить людей к смерти.
– Вы, должно быть, навидались безумно печальных вещей.
– Да, иногда это действительно безумно печально, – соглашаюсь я. – А иногда просто безумно.
– Даже страшно себе представить, о чем вас иногда просили, – задумчиво произносит Вин.
– Когда я проходила интернатуру в качестве социального работника, меня как-то раз вызвали в отделение неотложной помощи к мужчине, которого привезли уже мертвым, и няне его детей – шестнадцатилетней девушке. Мужчина завел любовную интрижку с няней, и они решили побаловаться амфетамином, а поскольку он уже принял виагру, у него случился инсульт, от которого он и умер. Девушка билась в истерике. Тем временем медсестры пытались связаться с его семьей. Жена с детьми приехала в больницу. Но у покойного по-прежнему имела место эрекция, и мне пришлось попросить врача найти способ скрыть это от детей. В результате мы примотали член скотчем к ноге трупа и накрыли его шестью одеялами. Шестью! После чего я выскользнула из палаты, чтобы посадить няню в такси. Она спросила меня, стоит ли ей присутствовать на похоронах. Я ответила, что в первую очередь ей следует в принципе пересмотреть свои жизненные приоритеты.
Вин от души хохочет:
– Обещаю, что, когда я умру, вам точно не придется маскировать мою эрекцию.
– Что ж, в противном случае мне придется потребовать двойную оплату. – Вин – одна из тех, с кем я вполне могла подружиться, приведись нам встретиться при менее печальных обстоятельствах. Одного этого вполне достаточно, чтобы убедиться в необходимости соблюдать дистанцию. Тем не менее я уже знаю, что Вин станет моим клиентом. – Может, вы хотите что-то получить от меня прямо сейчас?
– Время, – не задумываясь, отвечает Вин.
– Лично я думала, вы попросите взбить вам подушку или молочный коктейль с шоколадной крошкой. – Если она переживает из-за нехватки времени, то это, скорее всего, потому, что ей страшно оставлять любимых людей. Феликса. Или сына. – Мы можем связаться с Арло по Skype.
– Если вам удастся это сделать, – говорит Вин, – я изменю завещание в вашу пользу.
– Арло уже нет с нами, – объясняет Феликс. – Умер три года назад.
– Мне очень жаль. Я бы хотела, чтобы вы о нем рассказали. – Впервые за все время своего визита между нами возникает стена, Вин даже слегка отодвигается от меня, и, чтобы сменить тему, я пробую задать вопрос попроще: – А чем вы сегодня занимались?
Вин поднимает на меня глаза, позволяя вернуть разговор в прежнее русло:
– Читала об Уилларде Уигане, микроминиатюристе.
– Микроминиатюрист?
– Он художник. Скульптор. Его работы размером с игольное ушко или с булавочную головку, – объясняет Вин. – Их можно увидеть только в микроскоп.
– Феликс сказал, что вы тоже художница.
– Уиган всемирно известен. А я так, баловалась.
– Прошедшее время.
Она пропускает мои слова мимо ушей и продолжает говорить о скульпторе:
– Меня завораживает идея, что можно пройти мимо произведения искусства, поскольку его нельзя увидеть невооруженным глазом. Представьте, сколько раз вы говорили себе: «Какая ерунда!» А эта ерунда может оказаться чем-то чертовски большим!
Я смотрю на Вин и понимаю, что она вспоминает ход своей болезни: первый приступ, ноющую боль и то, как она, Вин, сперва от всего отмахивалась. Потом заглядываю внутрь себя и думаю о Брайане.
Поднимаю голову и улыбаюсь Вин с Феликсом:
– Расскажите, как вы познакомились.
Феликс рассказывает, что Вин носила желтый сарафан, ее фигура, казалось, была окутана электрическим светом, и он не мог отвести от нее глаз. Вин уточняет, что все было несколько иначе и он не мог отвести глаз, поскольку получал деньги за то, чтобы не дать ей съехать с дороги и врезаться в дерево.
Рассказывая историю своего знакомства, они говорят наперебой. Заканчивают друг за друга предложения, будто слова – это конфетка, от которой они по очереди откусывают по кусочку.
Вин говорит, что еще никогда не встречала столь основательного человека. Левая рука – на десять часов, правая – на два, говорил он. Вот как нужно держать руль, чтобы ничто не могло застать вас врасплох. Ведь она дожила почти до тридцати, но Феликс был первым, кто преподал ей этот простой жизненный урок.
Феликс говорит, он понял, что влюбился, когда Вин сказала, что знает все слова песни «А Whiter Shade of Pale».
Вин говорит, у него были добрые глаза.
Феликс сделал Вин предложение после того, как пригласил ее поиграть в боулинг. Вин, выросшая в Новой Англии, умела играть лишь в кэндлпин-боулинг и никогда не держала в руках большой тяжелый шар. Когда она отвела руку назад, шар выскользнул из ладони и попал Феликсу прямо в рот, выбив два передних зуба.
Феликс попросил ее руки в приемной дежурного зубного хирурга.
Это оказалось беспроигрышным вариантом, говорит Феликс. Расчет был сделан на то, что даже если она его и не любит, то чувство вины не позволит ей отказаться.
На обратном пути я останавливаюсь на парковке возле Бостонской бухты. Мне это совсем не по пути, но я всегда приезжаю сюда, если хочу, чтобы мир вокруг меня перестал крутиться.
Летом здесь каждый день можно видеть суда для наблюдения за китами – такие же большие и устойчивые, как и добыча, на которую они охотятся. Толпы туристов растекаются по палубе, точно криль, проходящий через китовый ус. На берегу всегда полно продавцов мороженого, парочек с палками для селфи и одетых а-ля колонисты-патриоты мужчин – промоутеров исторических туров. Вдали можно увидеть старейший американский парусный корабль «Конститьюшн», а если посмотреть в другую сторону – остроугольную крышу аквариума Новой Англии, где мама рассказывала другим детям – не нам с братом – о моллюсках, морских звездах и приливных заводях.
Мама была первой, кто привез меня сюда. На груди у мамы висел слинг с новорожденным Кайраном, и она так крепко сжимала мою руку, что становилось больно.
– Когда я впервые приехала в Бостон, этот город был последним местом на земле, где мне хотелось бы оказаться. – У мамы был ритмичный акцент, напоминавший о лете и о пчелах, перелетающих от цветка к цветку. – Я каждый день приходила сюда, свято веря, что если присмотрюсь получше, то снова увижу свой дом. – (Отсюда при всем желании невозможно было увидеть Ирландию, даже в самый ясный день, но надежда умирает последней.) – И вот однажды я поняла, что больше не могу ждать. Я прыгнула в воду и поплыла.
Это меня ничуть не удивляло. Мама была создана для моря. В своей родной Ирландии, в графстве Керри, она каждое утро плавала в океане, не обращая внимания на температуру воды. Маму нередко сопровождали дельфины, и иногда она накручивала столько миль вдоль берега, что ее отцу приходилось приезжать за ней, чтобы отвезти назад на старом грузовичке. Когда мама носила меня под сердцем, она часами плавала в бассейне ИМКА. У мамы было тазовое прилежание плода. По словам акушерок, это означало, что я понятия не имела о гравитации и о том, где находится верх, а где – низ.
Как рассказывала мама, сперва никто не заметил ее в воде. Мама ритмичными, уверенными гребками разрезала воду, проплывая между буйками и судами. Она плыла до тех пор, пока вода, потемнев, не стала более бурной. Невидимая граница между бухтой и океаном. Маму сопровождал большой баклан, его элегантное белое брюхо – точно стрела в небе над головой. Мама рассказывала, что на океан уже опустилась ночь, когда ее подобрал капитан буксирного судна, который говорил только по-португальски; он непрерывно качал головой и показывал на ее ноги, словно не веря, что она не русалка, а обыкновенная женщина.
– Вот в чем вся штука, Мэйдн, – сказала она, используя данное мне прозвище: слово «утро» на ирландском. – Я почти сделала это. Знаешь, в Ирландии совсем другое море. Более ласковое, не такое соленое. И я уже видела берег. Я была так близко.
В детстве я ей верила. Теперь, конечно, я понимаю, что хрупкая женщина не может за несколько часов переплыть Атлантический океан. Хотя, собственно, это не имеет значения. У каждого из нас есть сказки, которые мы рассказываем себе, пока не начинаем в них верить. Маму всю жизнь мучил вопрос: кем бы она могла стать, если бы не покинула Ирландию? Быть может, олимпийской чемпионкой по плаванию. Или просто официанткой в пабе ее отца. Женой другого мужчины, матерью другой девочки.
Я тоже об этом думала. Если бы меня спросили пятнадцать лет назад, я бы ответила, что стану автором многочисленных публикаций и известным специалистом в области египтологии. Быть может, куратором в Метрополитен-музее, живущим в Челси, хорошо знающим схему подземки и выгуливающим по Центральному парку маленькую собачку. Быть может, я стала бы профессором с концессией на раскопки в Египте, куда бы дважды в год привозила студентов, чтобы извлекать из пыльной земли ее секреты. Быть может, преподавала бы в Куинз-колледже в Оксфорде, бродила бы по книгохранилищу Музея Эшмола или выступала бы на ежегодных конференциях на тему «Современные исследования в египтологии» в Мадриде, Праге или Кракове.
Возможно, я бы стояла в «Гранд-кафе» на Хай-стрит, роясь в кошельке в поисках нескольких фунтовых монет, чтобы купить латте, а мужчина в очереди за моей спиной предложил бы за меня заплатить.
Возможно, этим мужчиной оказался бы Брайан, который приехал в Англию прочитать лекцию о мультивселенных на физическом факультете Оксфорда.
Именно это я всегда и говорю себе: наша встреча была неизбежна.
Нас свела судьба.
Когда Мерит было семь лет, Брайан подарил ей на Рождество микроскоп. Я возражала, ссылаясь на то, что это слишком дорогой подарок для ребенка, которому не следует играть с предметными стеклами, но оказалась в корне не права. Мерит часами просиживала, склонившись над микроскопом, переключая на пять различных режимов увеличения, рассматривая на предметном стекле крылья стрекозы, огуречную завязь, конский волос, пыльцу тюльпана. С помощью щипчиков и тампонов Мерит педантично готовила собственные образцы, подкрашивая их эозином и метиленовой синью. Стены ее спальни были завешаны увеличенными рисунками того, что она видела: это и кружево распустившегося лепестка сирени, и спутанные спагетти бактерий, и злые геометрические глаза клеток лука. Так начинался ее любовный роман с наукой, который длится и по сей день.
Учителя ее любили. А почему бы и нет? Она сообразительная, любознательная и мудрая не по годам. Они смотрели на нее и видели заложенный в ней потенциал. Однако ученики, похоже, не могли упустить такой хороший повод для издевательства, как ее внешний вид.
Если большинство детей в начальной школе начинают выравниваться, избавляясь от круглых животиков и пухлых щечек, то с Мерит этого не случилось. И не потому, что она была недостаточно активной или неправильно питалась. Просто такое телосложение. Далеко не все подпадают под принятые стандарты красоты, и, по-моему, уже давно пора пересмотреть эти треклятые стандарты.
Но…
Я помню, каково это – быть четырнадцатилетним подростком. Помню, как глядела в зеркало и не узнавала себя. Я знаю, что видит в зеркале дочка, когда смотрит на свое отражение, хотя старательно избегает зеркал. То, как менялось мое тело, не имело никакого отношения к тому, из-за чего я могла чувствовать себя неловко. Для Мерит все обстояло по-другому. Ее тело оставалось таким же – только пухлее, мягче и больше, – и ей отчаянно хотелось его спрятать.
В прошлом году, когда она начала носить вещи большего размера, чем у меня, я объяснила ей, что размеры не являются стандартными: у одних брендов мне подходит четвертый, а у других – восьмой. Мерит посмотрела на меня долгим взглядом. «Тощие люди всегда так говорят», – сказала она и заперлась в своей комнате до конца дня.
Я мать, а потому всегда буду виновата в том, что сделала или, наоборот, не сделала. Если я готовлю на обед только овощи, дочь думает, будто я считаю ее толстой. Я стараюсь избегать темы еды, гимнастики, терапии, веса. Я знаю, каждый раз, как кто-нибудь говорит ей, что она моя точная копия, Мерит думает: «Ага, но похороненная под лишними фунтами». Знать бы еще, как заставить дочь понять, что лучше всего ее описывает собственное имя: омофон слова «добродетель»[4].
Брайан тоже в растерянности. Он никогда не страдал от лишнего веса в детстве, не страдает этим и сейчас. Но в том, что касается Мерит, у Брайана есть одно преимущество: она не сравнивает его с собой. Быть может, именно поэтому связь между ними чуть крепче, чуть сильнее. Можно что угодно говорить о Брайане, но одного у него точно не отнимешь: больше всего на свете ему нравится роль отца. Брайан не отказался бы иметь хоть еще десять детей, но судьба распорядилась иначе, и со временем мы перестали пытаться.
«Очевидно, – каждый месяц говорил Брайан, когда я в очередной раз сообщала ему, что не беременна, – мы не можем исправить оригинальную модель».
Это лето Мерит проводит в лагере STEM для девочек-подростков. Нам пришлось чуть ли не силой отправить ее туда, но, поскольку на следующий год она будет учиться в девятом классе уже в новой школе, лагерь даст ей возможность расширить круг общения до начала учебного года. И похоже, это работает. Мерит постоянно говорит о девочке по имени Сара, которая также подает большие надежды как будущий биолог. Сегодня Мерит прислала мне сообщение, спрашивая разрешения поехать к Саре на обед.
Вот почему я не ожидала увидеть дочку на кухне, где я готовлю еду для нас с Брайаном.
– Привет, – говорю я. – А почему ты дома?
– Разве я здесь не живу? – Мерит плюхается на диван и, схватив декоративную подушку, поспешно прикрывает ею живот, что делает всякий раз, когда садится, – похоже, бессознательно. – А что на обед?
– Я думала, ты поешь у Сары, – говорю я и вздрагиваю: не хочу, чтобы Мерит, читая между строк, решила, будто я критикую ее за обжорство.
– В принципе, я там ела и не ела. – Мерит перебирает бахрому на подушке. – Так, поклевала чуть-чуть.
Я бросаю на Мерит сочувственный взгляд:
– Они что, приготовили свинину?
Мерит ненавидит свинину. Дочь объявила ей бойкот, когда узнала, что свиньи умнее других домашних животных.
– Нет, жареного цыпленка и салат «Цезарь». – Ее щеки краснеют. – Понимаешь, это очень тяжело. Если ты будешь есть только салат, они подумают: «Бедняжка, она так старается!» А если я буду есть цыпленка, они подумают: «Ах вот почему она такая огромная!»
Я вытираю руки кухонным полотенцем, прохожу в гостиную и сажусь возле Мерит на диван:
– Детка, никто так не думает.
– Она предложила мне сходить в субботу куда-нибудь потусить.
– Чудесно! – Мой голос звучит чересчур жизнерадостно, и Мерит еще глубже зарывается в диванные подушки. – А над чем ты сегодня работала?
Ее лицо сразу светлеет.
– Выделяли ДНК шпината.
– Ух ты! – моргаю я. – А зачем?
– Потому что это вполне возможно. Она похожа на паутину. – Мерит отбрасывает подушку, чтобы иллюстрировать свой рассказ жестами. – Ты знала, что наши гены на восемьдесят пять процентов такие же, как у полосатого данио? Что меньше двух процентов нашей ДНК ответственны за производство белка. Все остальное называется «мусорной ДНК», потому что это просто набор случайных последовательностей, не программирующих ничего важного.
– Выходит, в хромосоме куча свободного места, – замечаю я.
– Никто еще пока не нашел Розеттского камня[5] для ДНК.
Я тяну Мерит за кудряшку:
– А вдруг это будет твоим вкладом в науку.
В ответ дочь пожимает плечами:
– Ты ведь знаешь, как говорят. Если вам нужен подходящий мужчина для работы… возьмите женщину.
Мерит внезапно наклоняется вперед и порывисто обнимает меня. Подростковый возраст – точно летняя погода в Бостоне. Яркое солнце сменяет бурю. Периодически выпадает град. А за облаками кое-где ясное небо.
Я обнимаю дочь обеими руками, слово пытаясь заключить в кокон, оберегающий от бед. Помню, каково было чувствовать ее под зонтиком моей грудной клетки и слышать биение двух сердец. Очень хорошо помню. Просто сейчас я не всегда слышу это биение.
И тут входит Брайан. Позвонив в институт теоретической физики «Периметр» и отменив в последнюю минуту доклад, он отправился в свою лабораторию. Брайан швыряет портфель на кухонную столешницу и кладет в рот кусок моцареллы с блюда салата капрезе, который я успела приготовить.
– Фу! – говорю я. – А ты помыл руки?
– Она права, – соглашается Мерит. – Один грамм человеческих какашек содержит триллион микробов.
– Ну вот, отбила у меня весь аппетит… – Брайан наклоняется, чтобы обнять Мерит, и после секундного колебания обнимает меня.
Я делаю вдох. Шампунь «Нитроджина». «Олд спайс».
Делаю выдох.
– Мерит сегодня выделила ДНК, – сообщаю я.
– Интересно, а сколько стоит этот лагерь? – присвистнув, спрашивает Брайан.
– Это была ДНК шпината. И все же… – Мерит внезапно вскакивает с места. – Ой! Спасибо тебе большое за подарок на день рождения! Он замечательный.
Должно быть, Брайан что-то купил Мерит, оставив это у нее на кровати, пока я навещала Вин. Мерит бурно обнимает отца, а он незаметно косится на меня:
– Прости, что задержался с подарком.
– Ничего, все нормально, – отвечает Мерит.
Буквально на секунду я чувствую укол зависти. Почему Брайану все прощается, а меня вечно осуждают?
Родители, у которых не один ребенок, а несколько, обычно говорят, что любят всех одинаково, но я не верю. Да и дети любят родителей по-разному. Ребенок, утверждающий, что любит обоих родителей одинаково, всегда проводит между ними зазубренную линию: гладкой стороной к одному родителю и колючей – к другому.
Просто иногда хочется, чтобы меня любили больше.
Но я никогда этого не говорю. Надев на лицо улыбку, я спрашиваю Мерит:
– А что папа тебе подарил?
Но Брайан не дает ей ответить:
– Ой, совсем забыл! Я купил билеты на лекцию в Массачусетском технологическом институте. Приглашенная лекторша собирается рассказать, как ее укусил вампир – южноамериканская летучая мышь – и преследовала горилла. Поговаривают, будто она собирается принести живого осьминога.
– Круто! – улыбается Мерит.
– Но тебя же пригласили к Саре. – Я пытаюсь поймать взгляд Брайана, молча умоляя его понять наконец, что возможность провести время с другим подростком гораздо полезнее для Мерит, чем встреча с цефалоподом.
– Я вовсе не говорила, что собираюсь туда пойти. – Мерит сердито смотрит на меня. – Она собирается тусоваться у бассейна.
На улице девяносто градусов и очень влажно.
– Звучит здорово. – Я бросаю на Брайана многозначительный взгляд. – Правда, дорогой?
– Угу, – говорит он. – Мы можем посмотреть лекцию онлайн.
– Я. Туда. Не поеду.
– Но, Мерит…
Она резко разворачивается и сжимает кулаки, подбоченившись:
– Если я отправлюсь тусоваться у ее бассейна, мне придется снять футболку. А я не желаю снимать футболку.
– Она не станет над тобой смеяться…
– Верно. Она будет меня жалеть. Что еще хуже. – Мерит скрещивает на груди руки, будто крылья, за которыми ей хочется спрятаться. – Ты вообще ничего не понимаешь. – И с этими словами она убегает к себе наверх.
Я закрываю лицо руками:
– Господи!
Брайан проходит вслед за мной на кухню:
– Это наверняка из-за осьминога.
– Откуда тебе знать?
Я вынимаю из духовки грудку цыпленка, режу на три части и раскладываю по тарелкам. Туда же кладу ложку риса, несколько кусочков моцареллы и томатов. Мы с Брайаном одновременно смотрим на лестницу.
– Может, попросишь ее спуститься? – спрашиваю я.
– Ни за какие деньги, – качает головой Брайан.
Я накрываю тарелку фольгой:
– Отнесу ей наверх. Чуть позже.
Брайан танцует вокруг меня, подбираясь к буфету – наша хореографическая рутина, – чтобы достать бокалы и столовые приборы, а я тем временем ставлю еду на кухонный стол. Есть некая красота в том, как мы крутимся вокруг друг друга в тесном пространстве – луна вращается вокруг солнца. Вот только я не знаю, кто из нас кто.
Без Мерит, служащей буфером, воздух становится фитилем, и любое неосторожное слово может его воспламенить.
– Как прошел день? – Вопрос Брайана звучит нейтрально. Безопасно.
– Хорошо. – Я проглатываю кусочек цыпленка. – А как твой день?
– Я разговаривал с организаторами конференции. Они просят меня представить доклад в октябре.
– Хорошо.
– Угу.
Подняв глаза, я обнаруживаю, что Брайан за мной наблюдает.
– Когда все стало так сложно? – У Брайана хватает совести покраснеть. Он обводит рукой разделяющее нас пространство. – Я не только о нас. А в принципе. – Он сбросает взгляд в сторону лестницы.
Я кладу вилку возле тарелки. У меня пропал аппетит. Возможно, следует поделиться этим с Мерит. Лучший способ сесть на диету – это проснуться в один прекрасный день и спросить себя, какого черта я здесь забыла.
– Могу я задать тебе вопрос? Сколько билетов ты купил на лекцию в МТИ?
Брайан чуть-чуть наклоняет голову:
– Вопрос с подвохом?
– Нет. Просто любопытно.
– Два, – отвечает Брайан. – По субботам ты обычно навещаешь клиентов, и я решил…
– Ах ты решил… – перебиваю я мужа.
Брайан искренне озадачен:
– Ты что, хочешь посмотреть на осьминога? Уверен, я могу достать еще один билет…
– Дело не в осьминоге. Почему ты даже не поинтересовался, не хочу ли я тоже пойти?
Брайан растерянно трет лоб.
– А мы можем… не ругаться? – вздыхает он. – Можно… просто спокойно поесть?
Я молча киваю.
Беру нож с вилкой и начинаю резать цыпленка на крошечные кусочки. Снова и снова. Интересно, на сколько мелких частей их можно нарезать? У меня получилось на сто. Начинаю возить крошечные кусочки по тарелке.
– Дон…
Оказывается, все это время Брайан за мной наблюдает. Его голос доносится точно через слой ваты. Такой тихий, что я едва слышу. Сломанная кость безысходности, которую невозможно срастить.
Я встречаю взгляд Брайана над столешницей, которая кажется необъятной, будто мы находимся на разных континентах. Будто мы, так же как и моя мама, напряженно вглядываемся в даль, чтобы снова увидеть побережье Ирландии.
– Скажи, чего ты от меня хочешь, – просит Брайан.
Мне нужно было нырнуть и начать плыть, но я уже начинаю тонуть прямо здесь, на суше.
– Я не обязана, – отвечаю я.
Суша/Египет
Официально Уайетт не может нанять меня для работы на раскопках. Это концессия Йеля, а я теперь не имею к нему никакого отношения. Аспирантам и специалистам, каждый сезон работающим под эгидой университета, оформлены рабочие визы, а их профессионализм в области археологии подтвержден египетским правительством.
Я сама не понимаю, почему попросила Уайетта взять меня на работу, выпалив свою просьбу вместо всех тех слов, что собиралась ему сказать. Впрочем, так было куда проще и позволяло выиграть время.
– Наверняка у тебя есть кого попросить. Кого-то, кто может обойти правила.
Неожиданно я вспоминаю, что, когда я отсюда уезжала, западным людям не рекомендовалось путешествовать по дороге в пустыне между Эль-Миньей и Каиром. В свое время Хасиб, отец Харби, объясняя Уайетту, как добраться до аэропорта, предупреждал держаться подальше от этой магистрали. Но если у вас храброе сердце, тогда другое дело. Это означало, что, после того как нас остановили на пропускном пункте, Уайетт включил дурака и твердил, будто понятия не имел о запрете, до тех пор, пока нам не дали отмашки.
Уайетт садится на подлокотник потертого кресла:
– Ты, конечно, прости, но, насколько мне известно, ты пятнадцать лет не была на раскопках.
Я чувствую укол в самое сердце. Уайетт явно не следил за моей жизнью и не знает, что со мной стало. Хотя он и не обязан. Ведь это я ушла, ни разу не оглянувшись. Я заставляю себя посмотреть ему прямо в глаза:
– Да, не была.
– Но почему, Дон? Почему именно сейчас?
Я мнусь, обдумывая, как сказать правду, не вызвав жалости.
– А ты в курсе, что если срубить дерево и посмотреть на древесные кольца, то можно определить моменты резких изменений? Вроде лесного пожара. Или нашествия вредителей. Засушливый год или год, когда что-то упало на ствол, заставив его расти в другом направлении. Так вот, сейчас один из таких моментов.
– Это ж надо так сбиться с курса, чтобы оказаться в Египте. – В голосе Уайетта явно слышится удивление.
– Да, я действительно сбилась с курса, когда уехала.
Он смотрит на меня, прищурившись:
– Послушай, я бы рад тебе помочь, но я не могу просто…
– Уайетт, – перебиваю я, – ну пожалуйста…
– Дон, ты в порядке? Если у тебя неприятности…
– Мне просто нужна работа.
– Я, конечно, могу нажать на нужные кнопки, чтобы устроить тебя в следующем январе. А сейчас даже не сезон раскопок.
– Но ты ведь здесь. Работаешь. Я хочу сказать, это знак. Так? Что ты здесь, и я здесь… – Я нервно сглатываю. – Ведь тебе нужна помощь. Я согласна работать бесплатно. Просто дай мне шанс. И тогда… – (Слова застревают в горле.) – Ты меня больше не увидишь.
Уайетт вглядывается в мое лицо. Его глаза по-прежнему цвета голубых языков пламени; цвета неба, когда смотришь на него долго-долго, а потом закрываешь глаза и синева эта продолжает стоять перед мысленным взором. Пальцы Уайетта выбивают барабанную дробь на бедре. Я практически вижу ленты мыслей и доводов, загружаемых в его мыслительный аппарат.
– Да, я помню, что много лет назад дал тебе обещание, – начинает он, явно собираясь сказать нечто такое, чего я не захочу услышать.
Похоже, я совершила ошибку. Что если не может побить козырем что есть.
– Ничего не гарантирую, но я все-таки попытаюсь раздобыть для тебя временный пропуск.
– Правда?
– Ты ведь этого хочешь?
– Да. – Я делаю шаг навстречу Уайетту, но меня останавливает странная невидимая стена между нами. – Спасибо.
– Не стоит благодарить раньше времени. Но учти, если ты действительно собираешься здесь остаться, тебе придется работать до седьмого пота. Сейчас я представлю тебя остальным, а затем мы поедем в Эль-Минью в Службу древностей.
Он выходит из библиотеки, я тащусь следом. А тем временем дом начинает постепенно оживать. Харби переговаривается по-арабски со своей семьей, а в прочищающих горло трубах урчит вода.
Неожиданно Уайетт резко останавливается и поворачивается, так что я едва не врезаюсь в него. Мы застываем лицом к лицу.
– И еще одно, – говорит он. – Я не знаю, почему ты здесь. Не знаю, что ты скрываешь. За прошедшее время ты вполне могла растерять все свои навыки. – На его губах появляется тень улыбки; он явно бросает мне вызов. – Но вести раскопки – это как-никак моя специальность.
До недавнего времени египетское правительство гарантированно предоставляло работу всем своим соотечественникам, окончившим колледж. В результате имелся избыток правительственных служащих при крайне незначительном объеме работы: согласно данным одного исследования, среднестатистический госслужащий может работать всего полчаса в день. В свете этого работа с концессией Йельского университета считалась теплым местечком, а отец Харби и другие, работавшие еще в мою бытность здесь, так хорошо выполняли свои обязанности, что это стало их семейным бизнесом, передающимся из поколения в поколение. Уайетт знакомит меня с Мохаммедом Махмудом, сыном того Мохаммеда, с которым я работала пятнадцать лет назад. Теперь он вместе с Харби, Абду и Ахмедом готовит еду, убирает Диг-Хаус и помогает на раскопках. В межсезонье Мохаммед живет с семьей в Луксоре.
Уайетт представляет меня как старого друга. Некоторые, как и Харби, обращаются ко мне doctora.
– Просто Дон, – каждый раз жизнерадостно говорю я, чувствуя на себе пристальный взгляд Уайетта.
Когда он уводит меня из кухни, я спрашиваю:
– А что у Харби с ногой?
Уайетт прислоняется плечом к оштукатуренной стене.
– Как так получилось, что ты не закончила диссертацию? – отвечает он вопросом на вопрос и добавляет: – Считай это товарообменом. Хочешь получить ответ, сперва ответь сама.
– У меня степень магистра социальной работы, – говорю я. – Академическая карьера не задалась.
Судя по всему, Уайетту кажется, будто я пудрю ему мозги, но он все-таки отвечает на мой вопрос:
– Харби сломал ногу, когда упал с лестницы в шахте гробницы пять лет назад. С тех пор нога так толком и не срослась.
Внезапно я вспоминаю, как лестница поехала под моими ногами в гробнице Джехутихотепа II и Уайетт поймал меня на лету. Я помню его запах: от него пахло впекшимся в одежду солнцем и ирисками. И только спустя несколько недель я узнала, что он всегда держал в кармане конфеты – для себя и для босоногих ребятишек, которые ждали его на испепеляющей жаре у входа в вади.
– Пойдем, – тянет меня за собой Уайетт. – Давай покажу, над чем мы сейчас работаем.
В главной комнате Диг-Хауса по-прежнему играет джаз в стиле свинг. Какой-то парень с коротко стриженными волосами, склонившись над столом, зарисовывает кремневые орудия труда времен палеолита, разложенные аккуратными рядами. Уайетт берет камень и передает мне. Я провожу пальцем по зазубренному краю.
– Джо, – говорит Уайетт, – это Дон. – Джо поднимает очки на лоб в ожидании объяснений, но Уайетт обращается уже ко мне: – В нынешнем году он единственный аспирант, который здесь задержался.
– Я рассчитываю на награду, – смеется Джо. – По крайней мере, на надпись на могиле: «Здесь лежит Джо Каллен, засушенный в пустыне».
– Эти орудия – тема твоей диссертации? – спрашиваю я.
Кивнув, он царапает ряд цифр на тонкой металлической пластинке:
– Ага, изучаю, как древние египтяне работали руками. Это примитивные инструменты. Я записываю порядковый номер сезона, дату и место находки.
– Раньше у нас были бумажные бирки, – бормочу я.
Джо поднимает на меня глаза, удивляясь, откуда мне это известно.
– Работавшая на юге европейская экспедиция хранила черепки в корзинах из пальмовых ветвей на складе в Асуане. Но там были термиты, и в результате археологи остались с кучей немаркированных осколков глиняной посуды. А это спасает нас от двух напастей, которых невозможно избежать в Египте: выгорания и насекомых.
Я осторожно кладу камень на стол.
– Это скребок, – объясняет Джо. – Мы обнаружили множество таких. Что свидетельствует о массовой заготовке шкур здесь, в сердце пустыни.
– Действительно очень интере…
– Не стоит его поощрять, – шутит Уайетт. – А не то он начнет демонстрировать свои каменные топоры.
Уайетт ведет меня в другой конец комнаты, где темноволосый мужчина лет тридцати склонился перед экраном компьютера.
– Альберто, неужели ты снова его разбудил и отправил на пробежку?
Кивнув, мужчина поднимает голову и замечает меня. Его лицо, худое и остроносое, мгновенно преображается от улыбки, демонстрирующей сверкающие белые зубы.
– Ты не говорил, что у нас будет гостья. Прекрасная гостья.
Я чувствую, что краснею. Интересно, когда такое со мной было в последний раз?
– Она не гостья. Она здесь работает. – Уайетт бросает на меня быстрый взгляд. – Возможно. – (Я смотрю на экран компьютера, где вращается трехмерная модель вырубленной в скале гробницы.) – Альберто – специалист по цифровой археологии из Италии.
Пятнадцать лет назад такой специальности не существовало.
Заметив выражение моего лица, Уайетт смеется:
– Да, я знаю. Мы старые.
– Ты рисуешь цифровую модель места раскопок? – спрашиваю я.
Альберто качает головой:
– Я делаю фотограмметрию и геоматику. Цифровую картографию в 3D вместо некогда стандартных линейных измерений.
Уайетт стучит по клавиатуре, увеличивая модель на экране, чтобы я могла прочесть иероглифы на стене. Возникает полное ощущение присутствия.
– Правда потрясающе? – бормочет Уайетт.
– Невероятно, – говорю я. – Как это работает?
– Я делаю фото раскопа и ввожу его в компьютер и – как вы там говорите? – бамс! – и мы имеем 3D-модель с топографией.
Уайетт показывает на иконку на компьютере:
– Покажи ей вот это.
Он вручает мне очки для геймеров, я надеваю их, жду, когда загрузится картинка. И замираю, внезапно оказавшись в вади, которую так хорошо знаю: передо мною нависающая скала и притихшая черная впадина под ней. Я протягиваю руку, словно могу коснуться скалы, но передо мной, естественно, всего лишь цифровая картинка.
– Поверни влево, – командует Уайетт.
Я наклоняюсь вперед, воспроизводя ходьбу, пока не оказываюсь достаточно близко, чтобы прочесть иератические наскальные надписи, которые мы обнаружили много лет назад.
Это небо и земля по сравнению с тем, что мы делали раньше. Лавсановая пленка, которой мы пользовались, притягивала пыль и плавилась на безжалостной жаре, а кроме того, пленка ловила блики света, и мне постоянно приходилось исправлять обведенные знаки. Итак, я становлюсь очевидцем самого настоящего революционного прорыва.
– Раскопки, которые мы проводим, находятся in situ с ландшафтом, – объясняет Уайетт. – Они должны быть отражены здесь. Все настолько близко, насколько можно подобраться, без всех этих наводнивших Средний Египет туристов, с их поясными сумками. При том, как это делалось раньше, мы утрачивали половину информации: например, о том, почему надписи были нанесены на это конкретное место, а не куда-нибудь еще. – (Я снова наклоняюсь вперед, придвигаясь поближе к виртуальной каменной стене: эпиграфика, должно быть, занимает половину времени.) – Тебе даже и не представить. – Уайетт снимает с меня очки и вручает мне айпад. – Альберто делает плоское ортофотоизображение, основанное на 3D-изображении высокого разрешения, и пересылает мне на айпад. После чего я могу обвести иероглиф, словно в книжке-раскраске. Ты можешь играть с цветом и изменять контраст, если попадается трудный камень вроде известняка или тебе нужно узнать, какая это часть камня и какая часть вырезанной на нем надписи.
– А когда он все обведет, я переношу это на 3D-изображение сайта, – добавляет Альберто.
– Это значит, что мы можем получить завершенный рисунок уже в течение конкретного полевого сезона.
– Что просто невероятно для такого типа раскопок, как наши, – говорит Альберто. – Теперь нет нужды решать, в каком именно месте копать, и разрушать слои почвы с каждым раскопом. Вы просто до начала работ делаете 3D-фотографию, затем еще одно фото после первого пласта и еще одно после второго пласта – e cosi via[6], – короче, вы будто режете торт на день рождения, который можно резать слоями и так и этак, как вашей душе угодно.
– Единственный минус, – подает голос Джо, – что айпады нагреваются, аккумуляторы киснут, и мои нежные уши вынуждены терпеть поток ругательств на всех языках.
На секунду мне кажется, что я опоздала на много лет. И не могу продолжить прямо с того места, на котором когда-то закончила. Забрав у меня айпад, Уайетт стучит пальцем по иконкам, пока не появляется новое трехмерное изображение.
– Гробница Джехутинахта, – сообщает он, протягивая мне айпад.
В свою бытность аспиранткой я читала о раскопках гробницы четы Джехутинахт, чьи саркофаги были выставлены в Музее изящных искусств Бостона, но это изображение кажется незнакомым. Передо мной раскопки часовни и шахты на различных стадиях проведения работ.
– Это не Джехутинахт Второй, – уточняет Уайетт. – А Джехутинахт, сын Тети. – (Я сжимаю экран, пытаясь разглядеть получше.) – Но материалы еще не опубликованы.
Иными словами, я единственный человек не из их команды, которому позволили это увидеть.
Ничто – повторяю, ничто – не может сравниться с ролью первооткрывателя кусочка мира, исчезнувшего навсегда. Твой пульс учащается, сердце колотится, ты наедине со своим чудом, пока на сцену не выходят остальные. Мне повезло. Однажды мне удалось такое пережить, причем вместе с Уайеттом. Нечто подобное я испытала при рождении Мерит.
– Я слышала, что ты нашел это, – шепчу я.
Но одно дело читать о любопытном факте, и совсем другое – увидеть все на экране компьютера.
Я не осознаю, что говорю это вслух, пока не ловлю на себе взгляд Уайетта. Его лицо непроницаемо.
– А увидеть воочию еще лучше, – говорит Уайетт. – Поехали в Эль-Минью.
Уайетт спрашивает, не хочу ли я переодеться перед поездкой в Эль-Минью. Когда я объясняю, что приехала без багажа, он удивленно прищуривается:
– Ты прилетела в Египет без чемодана?
– Да.
– Планируя работать на раскопках.
Я упрямо выпячиваю подбородок:
– Да.
– Без подходящей одежды.
– Это было спонтанное решение.
Уайетт открывает рот, явно собираясь что-то сказать, но передумывает.
– Альберто, – зовет он, – нужна твоя помощь.
Я слышу их голоса, приглушенные, о чем-то спорящие. Единственное, что я могла расслышать, были слова «неквалифицированная» и «ежедневно». Слышу реплику Уайетта: «Я здесь директор». И ответ на итальянском: «Avere gli occhi foderati di prosciutto»[7]. А затем удаляющиеся шаги.
Десять минут спустя я уже щеголяю в штанах Альберто. Из всех археологов в Диг-Хаусе он ближе всех ко мне по размерам одежды: у него узкие бедра и он всего на несколько дюймов выше меня. Я затягиваю пояс потуже, закатываю отвороты штанов, а Уайетт дает мне одну из своих хлопчатобумажных рубашек с длинным рукавом. Рубашка свежевыстиранная, но по-прежнему хранит его запах.
– Вот. – Пока я закатываю слишком длинные рукава рубашки, Уайетт бесцеремонно швыряет мне пару ботинок.
Ботинки женские, восьмого размера, подходят идеально. Интересно, кому они принадлежат? Хотя кто я такая, чтобы спрашивать!
Уайетт берет со стола возле двери шляпу – потертую, с твердыми полями, которые не гнутся от неугомонного ветра.
– Выбирай любую. – Он показывает на коллекцию головных уборов: тут и разнообразные панамы, и бейсболки с длинными хвостами, чтобы защитить от солнца заднюю часть шеи.
Я выбираю ковбойскую соломенную шляпу и, водрузив ее на голову, бегу догонять Уайетта, размашисто шагающего в сторону «лендровера», покрытого слоем крупнозернистого песка. Странное ощущение – сидеть на пассажирском сиденье. Когда я была аспиранткой, мне всегда приходилось тащиться на своих двоих. Я смотрю, как Уайетт умело переключает передачи, пока мы прыгаем по ухабистой дороге, ведущей из Диг-Хауса.
Местная Служба древностей находится в Маллави, однако основные разрешения выдаются в Эль-Минье, поэтому мы едем в обратную сторону тем же путем, по которому я добралась до Диг-Хауса. Пыльная дорога вытрясает из тебя всю душу и заставляет потеть. Потрескавшееся кожаное сиденье настолько раскалено, что кажется, будто солнце свернулось между нами, как кошка. Я сижу, наклонившись вперед, чтобы потная рубашка не липла к телу.
За нашей спиной облако пыли извергается столбом магмы.
После пятнадцати минут молчания я протягиваю оливковую ветвь:
– Я не рассчитывала застать тебя здесь в августе.
– И тем не менее ты здесь, – говорит Уайетт.
Опасаясь, что так мы можем далеко зайти, я замолкаю и снова целиком сосредоточиваюсь на дороге.
Альберто и Джо вроде бы славные.
Однажды я читала статью о разнице в манере мужчин и женщин вести разговор: мужчины предпочитают разговаривать сидя рядом, а женщины – лицом к лицу, чтобы можно было расшифровывать невербальные сигналы. Именно поэтому автор статьи советует поднимать неприятные темы в разговоре с мужем в автомобиле, а не за обеденным столом.
Автор статьи наверняка не ездил с Уайеттом в «лендровере».
Уайетт косится в мою сторону, его запястье балансирует на руле.
– Я извиняюсь, мы что, ведем светскую беседу?
– Просто стараюсь поддержать разговор.
– По приезде сюда ты что-то не выказывала особого желания общаться.
– Мне очень трудно…
– А мне, по-твоему, легко? – перебивает Уайетт, и его слова, точно брошенные ножи, пригвождают меня к сиденью.
Я закрываю глаза:
– Прости.
Даже с закрытыми глазами я чувствую на себе его взгляд. Атмосфера сгущается. Но затем будто кто-то разбивает окно во время пожара. Я снова могу дышать. Уайетт смотрит на дорогу, черты его лица разглаживаются.
– Я здесь в разгар этой адской жары исключительно потому, что семестр закончился в мае, – как ни в чем не бывало говорит он. – Потом был Рамадан, а мне нужно успеть произвести раскопки гробницы перед началом занятий в середине сентября.
Наверняка имеется какая-то дополнительная информация, которой он не хочет со мной делиться. Возможно, все дело в финансировании. Возможно, Уайетт не может добиться его продолжения, не предъявив доказательств, что обнаружил новую гробницу с нетронутым саркофагом.
– Тебе повезло, что не продолжила академическую карьеру, – добавляет он. – Хотя, думаю, быть социальным работником тоже не сахар.
Он говорит это очень мягко; предложение установить перемирие.
– Я не социальный работник. А доула конца жизни, – уточняю я.
– Чего-чего?
– Я забочусь о смертельно больных.
– Получается, твоим клиентам нужно оказаться на смертном одре, чтобы с тобой познакомиться, – замечает Уайетт.
– Можно и так сказать, – смеюсь я. – На самом деле это не столь радикальное изменение карьеры, как мне казалось. Так или иначе, я изучаю смерть с восемнадцати лет.
– Типа того, – посмотрев на меня, соглашается Уайетт.
– Ну а ты? По-прежнему занимаешься «Книгой двух путей»?
– Помнишь тот перевод, которым мы обычно пользовались? – кивает он. – Он был выкинут на обочину в две тысячи семнадцатом году после появления новой публикации. Выходит, имеются две независимые «Книги двух путей», и даже когда заклинания совпадают, в текстах имеются значительные вариации.
Теперь он разговаривает со мной не как с врагом, не как с дезертиром, а как с коллегой. У меня перехватывает дыхание. Я чувствую нечто такое, чего давным-давно не испытывала: щелчок в мозгу, который происходил, когда я слушала блестящую лекцию или разгадывала головоломку в переводе.
– Значит, старый перевод был неправильным.
– Ну, точнее, он не был правильным, – отвечает Уайетт. – Ой! А помнишь, как ты злилась из-за того, что «Тексты пирамид», обнаруженные в саркофагах, никогда не печатались в публикациях «Текстов саркофагов»?
– Злилась – слишком сильно сказано…
– Так вот. Их наконец напечатали. В две тысячи шестом году. Ты их видела?
– Единственное, что я читала в две тысячи шестом году, была книжка «Баю-баюшки, луна», – смеюсь я.
Уайетт пристально смотрит на меня. В салоне «лендровера» снова не хватает воздуха.
– Это ведь детская книжка, да? У тебя есть дети?
– Один ребенок, – мягко поправляю я Уайетта. – Дочь.
– И у нее, предположительно, имеется отец, – не сводя глаз с дороги, замечает Уайетт.
– Да, имеется, – судорожно сглатываю я.
Я смотрю на свои руки, сложенные на колене. И пока нас накрывает тишиной, кручу обручальное кольцо на пальце.
– А я ведь действительно думал о тебе, – бормочет Уайетт. – Задавал себе вопрос: как человек может реально исчезнуть без следа?
Я так много всего хочу ему сказать, должна сказать. Но слова застревают в горле, прячась за страхом. Страхом, что у Уайетта нет времени нянчиться с не очень молодой теткой, желающей узнать, как бы еще могла сложиться ее жизнь. Страхом, что он отправит меня паковать вещи или высмеет. Или – что еще хуже – останется равнодушным. Отнесется ко мне как к любителю. Именно так мы, аспиранты Йельского университета, вели себя с людьми, которые что-то когда-то читали о пирамидах или были одержимы Бренданом Фрейзером в фильме «Мумия»: вежливо, но пренебрежительно.
Ну а что я? Думала ли я об Уайетте? Сказать «нет» – значит покривить душой. Я не страдала по нему; я любила Брайана. Но иногда, когда я спокойно жила, комфортно погрузившись в свою повседневность, образ Уайетта возникал у меня в голове. Например, когда я смотрела, как в Греции, куда мы поехали на мое тридцатилетие, дети сортируют на мощеных улочках черепки. Или когда подводила глаза карандашом и, глядя в зеркало на чуть скошенный уголок, представляла, как Уайетт безуспешно пытается перенести на лавсановую пленку изображение обведенных краской для век глаз супруги номарха.
– А знаешь, я думала о тебе, когда ФБР раскрыло загадку отрезанной головы мумии в Музее изящных искусств Бостона. Помнишь, Дамфрис не мог точно сказать, принадлежит она мумии-мужчине или его жене?
Я прочла об этой истории в «Бостон глоб»: как врачи сделали компьютерную томографию головы мумии и обнаружили повреждение в области рта и челюсти, то есть всего того, что задействовано в процессе еды. Я сразу поняла, откуда подобные повреждения: это так называемая церемония открытия рта, чтобы умершие могли есть и пить в загробном мире. Но поскольку ученые по-прежнему не могли установить, кому именно принадлежала мумия, они попросили ФБР взять ДНК зуба.
– Полагаю, ты и об этом тоже читала. Ведь это был… – продолжает Уайетт, когда я замолкаю.
– Мистер Джехутинахт, – произносим мы в унисон, после чего, не сговариваясь, разражаемся смехом.
Уайетт выглядит здесь очень органично: обгоревший на солнце, с влажными от пота вьющимися волосами. Интересно, а как сложилась бы наша жизнь, если бы мы поменялись местами: если бы я осталась, а он уехал навсегда по срочному вызову? Было бы ему неловко носить костюм-тройку, положенный по дресс-коду в лондонском банке или в правительстве? Но потом я вспоминаю, что Уайетту было суждено стать британским пэром и делать именно то, что положено пэрам. Я представляю, как он играет в поло. Разбирает гору бумаг за письменным столом красного дерева, который старше моей страны. Улыбается жене по имени Пиппа или Араминта, научившейся ездить верхом раньше, чем ходить.
– Ты уже стал маркизом? – выпаливаю я.
– Ох! На самом деле да, – отвечает Уайетт.
– Мне очень жаль. – Насколько я понимаю, новый титул – маркиз – означает, что его отец умер.
– Титул – это полная чепуха! В любом случае я или здесь, или в Нью-Гэмпшире. Я даже не был на церемонии. К превеликому неудовольствию моей матери. – Его губы слегка подергиваются. – Но поскольку ты не взяла себе за труд обращаться ко мне «милорд», когда я был графом, то можешь начинать прямо сейчас.
– Не дождешься. Я скорее откушу себе язык.
– Должен признаться, никогда раньше не слышал о доулах смерти, – ухмыляется Уайетт.
– Это просто другая модель осуществления ухода. Она как бы… более насыщенная, если это о чем-то тебе говорит. В случае традиционного медицинского ухода врач в среднем проводит примерно семь минут с пациентом. Ну а я становлюсь частью семьи – естественно, по желанию клиента. Я приду и буду дежурить у постели больного, хотя и не возьму на себя решение сложных вопросов, находящихся в компетенции медиков и сиделок. Впрочем, в случае необходимости могу хоть пятнадцать раз позвонить в отдел транспортных средств. – Я перебираю в уме свои обязанности, пытаясь посмотреть на них со стороны. – Думаю, я просто даю людям время, когда они больше всего в этом нуждаются.
– А твоя работа не слишком ли депрессивная?
– Если серьезно, то иногда я плачу. Когда я впервые разрыдалась в присутствии клиента, то ужасно себя ругала. Но тем же вечером брат больной позвонил мне, чтобы поблагодарить. Увидев мои слезы, он понял, что его сестра для меня не просто хорошо оплачиваемая работа. Ну да, все это очень печально. Хотя случаются и прекрасные моменты.
– Доказательства? – отрывисто произносит Уайетт, и я с трудом сдерживаю улыбку, ведь именно так обычно говорил нам Дамфрис, когда мы, работая в поле, выдвигали гипотезу, нуждающуюся в подтверждении.
– Как-то раз мне попалась трансгендерная клиентка, и, когда она уже умирала, ее мать сказала: «Я родила сына, а хороню дочь». И сразу после этого моя клиентка скончалась. Словно ей было необходимо услышать именно эти слова, прежде чем отойти в мир иной.
– Ну и какой урок ты тогда извлекла?
Вопрос очень профессиональный, я с трудом прячу улыбку:
– Смерть всех застает врасплох, что, если хорошенько подумать, вроде бы нелепо. Ведь смерть не назовешь неожиданным победителем. Но больше всего меня потрясает именно то, что большинство людей могут оценить, как устроена жизнь, лишь тогда, когда она подходит к концу. Тебе это известно?
– Безусловно, – кивает Уайетт. – Только приступив к возведению своей гробницы, ты начинаешь осознавать, что тебе-то в ней и лежать.
– Жизнь и смерть – всего-навсего две стороны одной медали. – Я внезапно ловлю на себе пристальный взгляд Уайетта. – Что?
– Я просто подумал, что ты, возможно, никогда и не прекращала свои исследования.
Мы проезжаем мимо гигантского указателя «Эль-Минья», абсолютно не сочетающегося со скалами, куда его втиснули подобно надписи «Голливуд» в Лос-Анджелесе. Пока Уайетт пытается отыскать парковку, я с интересом наблюдаю за двумя мужчинами, идущими по улице, взявшись за руки. Впрочем, тут это означает совсем другое, чем в Америке. Здесь это просто свидетельство дружеских отношений. В Египте нетрадиционная сексуальная ориентация находится вне закона.
Уайетт находит место для парковки напротив лавки, где продают мороженое.
– Есть хочешь? – спрашивает Уайетт. – Я угощаю.
Я умираю с голоду, несмотря на завтрак, которым накормил меня Харби. Я подхожу к изящно подернутой инеем стеклянной витрине. Клубничное, шоколадное, апельсиновое, кокосовое мороженое. Я показываю на мороженое с печеньем «Норио» – египетской подделкой «Орео». Уайетт делает вместо меня заказ, арабский легко и непринужденно слетает у него с языка. Округлые низкие звуки и мягкие «эл» делают слова сладкими, как мед.
Уайетт вручает мне рожок с мороженым, и я, внезапно вернувшись на пятнадцать лет в прошлое, оказываюсь в своей крошечной спальне в Диг-Хаусе. Тогда Уайетт, размахивая упаковкой «Норио», прокрадывался ко мне, когда дом засыпал.
– Интересно, а кто это производит? – спрашивала я, разрывая обертку.
– Дареному коню в зубы не смотрят, – отвечал Уайетт, целуя меня. – Сладкое для моей сладкой.
Напрягшись, я попробовала отделить печенье от кремовой прослойки. И, подняв голову, обнаружила, что Уайетт откусывает печенье целиком.
– Кто так делает! – возмутилась я. – Печенье сперва нужно разделить на половинки.
– Кто так сказал? У нас что, теперь есть свое гестапо для печенья? – Уайетт сунул второе печенье целиком в рот.
– Это ненормально, – заявила я. – Ты самый настоящий социопат.
– Да, я ем печенье, как пещерный человек, и шью одежду из шкур убитых мной аспирантов.
– Вряд ли я смогу тебя такого любить, – сказала я.
Он застыл, на лице расплылась улыбка – утро, прогоняющее ночь.
– А ты меня любишь? – спросил он.
Снова вернувшись в настоящее, я обнаруживаю, что Уайетт протягивает мне салфетку:
– У тебя капает мороженое.
– Спасибо, – отвечаю я, заворачивая рожок в салфетку.
– Мне не хватает настоящего «Орео», – признается Уайетт, шагая по улице. – И льда в стакане с выпивкой. И горячей ванны. Проклятье, это так чертовски по-британски, но мне не хватает горячей ванны!
Догнав Уайетта, я иду рядом. А мне не хватает этого, думаю я.
На дверях Службы древностей записка, где говорится, что директор временно недоступен. Это означает, что он или инспектирует места раскопок, или помогает курировать музейные коллекции, или выполняет общую работу по охране культурного наследия, но все же вернется, иншаллах. Впрочем, в записке не указано время возвращения.
– Ну и что теперь? – спрашиваю я.
– Ждем, – отвечает Уайетт.
Он садится на корточках на ступеньки под тенью притолоки, прислонившись спиной к запертой двери, вне досягаемости солнечных лучей. И жестом предлагает мне присаживаться рядом.
Я растерянно тру заднюю часть шеи.
– Уайетт, нет. У тебя еще тысяча дел. Ты не можешь впустую тратить полдня на то, чтобы сидеть здесь до второго пришествия Христа. Мы даже не знаем, вернется этот парень или нет. – Я заставляю себя выдохнуть. Одно дело – попросить Уайетта достать мне разрешение на работу, но совсем другое – тратить его время. – Ты попытался, и у меня нет слов, чтобы выразить свою благодарность. Но…
– Дон… – Он протягивает мне руку, другой заслонив глаза от солнца. Я смотрю вниз, испытывая предательское состояние дежавю. – Помолчи.
Я беру его за руку. Пальцы Уайетта, такие сухие, сильные, до боли знакомые, обхватывают мои, и у меня сжимает грудь. Как можно после пятнадцати лет разлуки с человеком, с которым ты некогда держался за руки, чувствовать, будто след его ладони навеки отпечатался на твоей?
Уайетт тянет меня вниз, и вот мы сидим рядом, плечом к плечу.
– Во-первых… – Уайетт морщится. – Кто говорит «во-первых»? Боже, я, наверное, выгляжу форменным идиотом! – Я прыскаю со смеха, и он качает головой. – Мне действительно нужно сделать тысячу вещей. Но я и так работаю круглыми сутками, и я как-никак директор. Если я решу, что мне нужно днем сделать перерыв, так оно и будет. Во-… – Он колеблется. – Во-вторых, я не считаю это пустой тратой времени. – Он проводит большим пальцем по трещине на тротуаре. – Дон, я твой должник. Без тебя я никогда не нашел бы новой гробницы. И уж можешь мне поверить: если я говорю, что в знак благодарности готов просиживать задницу в центре Эль-Миньи, то это еще не самая большая цена.
Ну а еще один знак благодарности – это то, что он процитировал мои слова в своей диссертации.
– Не сомневаюсь, ты и без меня рано или поздно нашел бы гробницу.
– Ошибаешься. Все началось с дипинто на стене.
Я помню тот день. Воздух был настолько застывшим, что мир, казалось, находился в анабиозе. Мы стояли в тенистом углублении под каменным склоном вади, где нам не следовало находиться. Я осторожно стряхивала пыль с камня, а Уайетт обводил пальцем иератические надписи, переводя те отрывки, которые мог разобрать, включая упоминание гробницы, за сотни лет раскопок так и не найденной на месте археологических изысканий в Дейр-эль-Берше.
Помню, как Уайетт, поймав мою ладонь, сильно, до боли, стиснул ее, а я в ответ так же крепко сжала его руку.
– Я искал эту гробницу с две тысячи третьего по две тысячи тринадцатый год, – объясняет Уайетт. – И абсолютно ничего не нашел. Дамфрис мне не мешал. Думаю, он хотел, чтобы я наконец осознал всю бессмысленность своей затеи. Он практически убедил меня, что, даже если некий Джехутинахт, дальний родственник Джехутихотепа Второго, и впрямь существовал, надписи на камне из-за многочисленных повреждений не позволяют сделать однозначный вывод о том, находится гробница Джехутинахта именно в этом некрополе или где-то еще.
Занятие археологией можно сравнить с выпечкой торта: одни слой кладется на другой, вверху находится последний слой, внизу – первый. И твоя первоочередная задача – установить, что и в какой очередности было положено. Тебя не должно вводить в заблуждение что-то, брошенное в яму, вырытую в старом слое. Во время раскопок ты не ищешь бриллиант – безвозвратно потерянный текст с иероглифами. Нет, ты перелопачиваешь огромные массы грязи. И находишь глиняный черепок. Ты ищешь иголку в стоге сена.
