Читать онлайн Рембрандт бесплатно
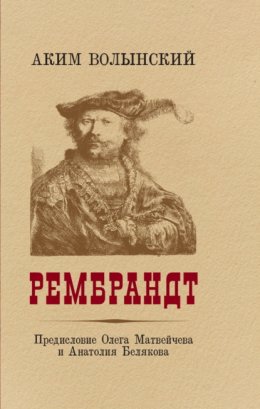
© Волынский А.Л., 2023
© Книжный мир, 2023
© ИП Лобанова О.В., 2023
Аким Волынский: Дон Кихот русской культуры
Олег Матвейчев. Анатолий Беляков
Общее отношение столичной богемы к Волынскому высказал его приятель Федор Фидлер, в мае 1899 года заявивший немецкой писательнице русского происхождения Лу Саломе, которая интересовалась адресом критика: «во всём литературном Петербурге нет человека, более для всех ненавистного, чем Флексер»[1]. По родовой фамилии Флексер Акима Волынского называли тоже не от особого дружелюбия, но, как правило, чтобы напомнить уроженцу Житомира о его еврейском происхождении. А Чехов вообще исковеркал её до «Филлоксеры» – по названию мелкого пакостного жучка – вредителя винограда.
Мотивы ненавидеть Волынского у каждого были свои. Прямой и бескомпромиссный, критик не стеснялся в оценках и в выражениях. Того же Чехова он уличал в кондовом материализме в духе Фохта и Молешотта. А с народником Николаем Михайловским вел настоящую войну в рамках ещё более широкой войны с социологизмом и утилитаризмом русской литературной критики XIX века во главе с Белинским и Писаревым. Можно не сомневаться, что если бы в литературоведении победила линия Михайловского, то светилами и «нашим всем» мы считали бы Глеба Успенского и Салтыкова-Щедрина, чьи произведения просто распирало от общественной пользы. Только за одно можно поставить Волынскому памятник – за то, что главными русскими писателями у нас всё же оказались Достоевский и Толстой.
Кстати, вот откуда многим известна фамилия Волынского, совершенно забытая в советское время – из романа Набокова «Дар»: свою критику Чернышевского писатель-эмигрант построил на выкладках Волынского и не раз упомянул его в тексте. Впрочем, многим известны мемуары Константина Федина, Корнея Чуковского и Мариэтты Шагинян, где также фигурирует имя критика. Или, скажем, письма Чехова.
Статьи о критиках-шестидесятниках и их предтечах Волынский регулярно публиковал в «Северном вестнике», которым фактически руководил с 1891 года. Усилиями Волынского журнал задал русской культуре новую идейную и эстетическую парадигму и поставил перед интеллигенцией новую задачу – возврат к религиозным поискам, ориентация на высшие духовные ценности. «Бог – наша последняя и притом труднейшая задача, цель всех наших стремлений, заключительное слово человеческого понимания, – писал Волынский. – Наука, ставшая философией, философия, ставшая религией, – дальше, выше просвещение не идет»[2].
В те времена для прогрессивной отечественной интеллигенции это выглядело сущим анахронизмом и ретроградством: на дворе конец XIX века, везде прогресс и сплошное электричество, а нам тут рассказывают о каком-то Боге!
По словам одного из центральных персонажей Серебряного века поэта Сергея Маковского, «умственная атмосфера русского конца века “изошла” в известной степени от этого писателя, – он первый восстал на нашу радикальную критику и взял под свою защиту литературный “модернизм” в годы, непосредственно предшествовавшие журналу “Мир искусства”»[3]. Приоритет Волынского в этой области подчеркивал и Максим Горький: «в сущности, это он является первой ласточкой возродившегося идеализма и романтизма, и он основоположник того направления, коему столь усердно служат ныне Минские, Мережковский и т. д. Это – его ученики, что б они ни говорили и как бы он ни отрекался от них»[4]. Став предтечей русского религиознофилософского возрождения начала XX века, Волынский как минимум на десятилетие опередил богоискательство Мережковского, Бердяева, Сергея Булгакова.
Тональность статей Волынского, впоследствии объединенных в книгу «Русские критики» (1896), импонировала не всем. Так, несогласный с критикой трибунов демократической интеллигенции, с журналом прекратил сотрудничать Владимир Соловьев, в своё время самим Волынским туда и приглашенный. Тот же Горький презрительно охарактеризовал злоязычного Флексера как «малюсенького Соловья-разбойника», что засел в «Северном вестнике» и «во всю мочь оттуда свищет»[5]. Георгий Валентинович Плеханов обрушился на Волынского за то, что тот учинил над своими предшественниками «философский трибунал», сиречь суд и расправу[6]. Не смог промолчать даже молодой Владимир Ульянов (тогда ещё даже и не Ленин), заявивший, что язвительный критик набрасывается в своей полемике не только на народничество, но и на самое просвещение[7].
Напротив, Василий Розанов в буквальном смысле слова расцеловал автора «Русских критиков» за его книгу. Не скрывал восхищения и Лев Толстой: «Я только теперь, благодаря статьям Волынского о русских критиках, – говорил он, – начинаю вполне ясно представлять себе, чем жила русская интеллигенция за все эти последние десятилетия. И как мне это чуждо»[8].
В то время патриарх русской литературы, как это дико не звучит сегодня, не имел возможности публиковаться в журналах, став неинтересным широкому читателю после своего религиозного перерождения. Свои новые произведения Толстой мог напечатать лишь в «Северном вестнике». Он состоял с Волынским в плотной переписке и не раз привечал того в Ясной Поляне.
В свою очередь, работы Волынского о Льве Толстом оказались глубокими и новаторскими. А книги о Достоевском активно публиковались на Западе, пробудив интерес к русскому гению, превратив его в писателя номер один и задав новую парадигму интерпретации его произведений, которая стала нормативной у зарубежных ученых.
Если либеральная демократия устроила Волынскому форменный бойкот, то его пока немногочисленные соратники по «борьбе за идеализм» нашли в «Северном вестнике» приют и столованье. Журнал стал первым в России модернистским изданием, он дал дорогу литераторам и философам, которые станут суперзвездами нарождающегося Серебряного века и заполучат все лавры рыцарей идеализма.
На страницах «Северного вестника» публиковались и первые статьи о Фридрихе Ницше, идейном вожде символистов. Надо сказать, что сам Волынский Ницше не жаловал – ему претили имморализм, крайний индивидуализм и безбожие немецкого мыслителя. Отношение к его философии стало одним из поводов для разлада Волынского и с Мережковским, и с символистами, на союз с которыми он рассчитывал в своей «борьбе за идеализм». По словам литературоведа Д.Е. Максимова, он «связывал с их появлением надежды на возникновение чисто идеалистического искусства. Но вскоре окончательно определилось, что символисты не есть эстетически нейтральные последователи идеалистической философии… Стало ясно также, что идеализм их не помещался в рамках учения Канта или Гегеля, и что они чувствуют себя гораздо более склонными к восприятию идей Ницше, в котором Волынский видел силу чуждую и враждебную себе»[9]. Один из важнейших представителей символизма Николай Минский писал по этому поводу: «Читающая публика и даже критика… представляли себе г. Волынского как теоретика русского символизма. Это неверно. Г. Волынский той же книгою Канта, которой он прежде побивал Белинского и Чернышевского, теперь намерен сокрушить Ницше и всех его последователей»[10].
Декадентство, знаменем которого стал в России Ницше, Волынский атаковал не только за бездуховность, манерность, надрывность и пессимизм, но и за ту же философскую слабосильность, в которой прежде обвинял социал-демократическую публицистику Волынский беспощадно критиковал Сологуба[11] за «внутреннюю бедность» и «нравственные извращения», Гиппиус – за фальшивость и кокетливость, подозревал Бальмонта в демонизме, изобличал Брюсова как эротомана и лицемера («Брюсов хочет быть декадентом во что бы то ни стало – и не только в области поэтического импрессионизма, но и в области ницшеанских дерзновений. Он хочет трубить в трубу сверхчеловека, хочет казаться каким-то львом, будучи в действительности только средним человеком в литературе»[12]).
Впрочем, доставалось не только народникам и декадентам. Волынский мог безжалостно пройтись и по Лескову за его якобы беспринципность, безыдейность и скоморошье извращение языка в угоду общественному вкусу. А ведь именно благодаря ведущему критику «Северного вестника» автор «Соборян», опальный и полузабытый, ошельмованный шестидесятниками как религиозный мракобес, был возвращен читающей публике и получил всеобщее признание как русский классик. В общем, как пела одна народная артистка, «бей своих, чтоб другие боялись».
И это мы ещё молчим про отношение Волынского к Вячеславу Иванову, его коллеге и сопернику, двойнику и антиподу, «маниаку Диониса»!..
В общем, «друзей» у него хватало. Если бы не тщедушная конституция Флексера, то дело не раз могло бы дойти и до драки. (А подобные случаи не были редкостью среди русских литераторов – взять хоть знаменитое кровавое побоище Есенина с Пастернаком в редакции «Красной нови» из-за разных взглядов на существо поэзии. Кто победил в нём – непонятно: свидетель инцидента Валентин Катаев описал лишь сам процесс. Будем надеяться, что Есенин.)
Недовольные «Северным вестником» и лично его идеологом, которого было жалко бить, символисты задумаются о создании собственного издания. В ноябре 1898 года выйдет первый номер легендарного журнала «Мир искусства». Это будет не первое и не последнее явление, появившееся на свет назло Волынскому.
Чуть ранее разойдутся пути Волынского и его университетского товарища Дмитрия Мережковского, который, кстати, в своё время поспоспешествовал приглашению молодого критика в редакцию «Северного вестника». Волынский, бывший в его доме частым гостем, даже завел роман с его женой Зинаидой Гиппиус, о чём с большим удовольствием судачил весь литературный Петербург.
В 1896 году Волынский отправился в Италию в компании с четой Мережковских – Дмитрий Сергеевич собирался написать книгу о Леонардо да Винчи и опубликовать её в «Северном вестнике». На тот момент Волынский ещё не умел, по словам Гиппиус, «отличать статую от картины»[13], однако уже вскоре, опередив своего друга, он опубликовал в своём журнале собственное исследование об итальянском гении, а в 1900 году издал его отдельным изданием. Мережковские расценили это как предательство и окончательно порвали со старым приятелем.
Кстати, эту свою книгу Волынский писал летом 1897 года в Баварских Альпах – в гостях у Лу Саломе, ближайшей подруги и свидетеля жизни Ницше. В это же время в доме писательницы проживал и молодой поэт Райнер Мария Рильке, без памяти в неё влюбленный. Именно он стал прототипом опекаемого Старым Энтузиастом Юноши в книге Волынского о Леонардо.
Тяжелый характер Волынского, а возможно, и ревность к Рильке, не позволили ему продлить завязавшиеся было отношения с немецкой писательницей. Видимо, в отместку он обрисовал её в книге о Леонардо как некую молодую обворожительную особу, в которую угораздило влюбиться Юноше – любовью, «которая более похожа на ядовитую болезнь»: тот «ошибочно принял явное душевное разложение, без внутренней красоты, без святости, без мягкой и человечной правды, которая одна не банальна, за смелую новую свободу». В этой коварной женщине, по повадкам явно ницшеанке «с болезненными ощущениями современной эпохи», Старый Энтузиаст узнал демонические черты Леонардовой Джоконды[14].
Сама писательница не осталась в долгу и позднее представляла несколько месяцев совместного проживания в Вольфратсхаузене как незначительный эпизод, едва достойный внимания: мол, бывало, «захаживал приехавший из Петербурга один русский (правда, недоброй памяти), который давал мне уроки русского языка»[15].
В книге о Леонардо да Винчи Волынский апробировал свой новый метод интерпретации художественных произведений путем дешифровки языка пластики, поз, мимики. Таким манером он разгадал и загадку знаменитой «Джоконды».
Анализируя портрет, Волынский не упускает ни одной, даже самой, казалось бы, незначительной детали – ни тончайших лиловатых жилок на веках, ни пульсирующих вен на шее, переданных с невероятной, просто волшебной искусностью – как живые! Как важную «неженственную» подробность Волынский отмечает чрезмерно высокий, выпуклый и несколько сдавленный около висков лоб модели, а также отсутствие бровей над глазами («чем-то болезненно вырождающимся веет от этого лица, и чувствуется, что эта женщина обладает скрытыми недугами»[16]). «Тонкий, постепенно расширяющийся нос с нервными, трепетными крыльями – нежно-розовыми ноздрями» говорит, по мнению Волынского, о том, что у его обладательницы тонкое обоняние, но «не очень хороший слух, иначе уши её не были бы закрыты ниспадающими волосами, она больше бы дорожила слуховыми впечатлениями… Её чувственно волнуют запахи, но она не отзывчива на страдания живых существ. Чтобы сострадать, нужно отчетливо видеть и чутко слышать… Всё лицо, в общем, при его интеллигентности, изысканных ощущениях в области обоняния и признаках болезненного разложения, отдает бессилием темперамента и нравственным безволием»[17].
Психологический портрет Джоконды дополняют её руки. «Длинные, постепенно утончающиеся пальцы с круглыми ногтями… мягкие, с чуть заметными тенями в суставах, пальцы, под кожею которых чувствуется нежная жировая ткань… Они кажутся не природно-аристократическими, а выхоленными. Её вялому чувственному темпераменту подобают именно такие руки, способные на поверхностную ласку, которая выражает не нежность сердца, а любовь к эгоистическим нервным ощущениям»[18].
Как «выражение душевного бессилия» интерпретирует Волынский и пресловутую улыбку Джоконды. Все отмечают, что с ней явно что-то не то. «Улыбка может быть началом веселого смеха или отблеском замирающего смеха, но это не та улыбка: Джоконда не способна к жизнерадостному смеху. Улыбка может выражать возвращение души от глубокой скорби к невинным радостям жизни. Но это не та улыбка, потому что Джоконда не умеет глубоко воспринимать в душу мир человеческих страданий, потому что она нравственно слепа и глуха. Она не способна к светлому и радостному перерождению и возрождению. Она никогда не выходит из своей собственной внутренней смуты… Эта улыбка, во всяком случае, не заключает в себе никакой веселости, которая требовалась по историческим задачам ренессанса. Это неподвижная гримаса, неприятная, раздражающая, придающая всему лицу Джоконды, при его общей некрасивости, оттенок какого-то особенного уродства, невиданного в искусстве ни до, ни после Леонардо да Винчи. Улыбка Джоконды кажется загадочной только потому, что она не может быть объяснена ни одним из понятных нам божественно-человечных чувств»[19].
В результате манипуляций Леонардо создается впечатление, что перед нами не двадцатипятилетняя девушка – жена известного аристократа, краса Флоренции, а чуть ли не старуха (присмотритесь – а ведь так и есть!). «Вы не видите красоты именно потому, что это старая женщина, хотя на лице её нет ни одной морщинки»[20], – уверяет Волынский. Он напоминает, что улыбаться натурщицу Леонардо заставлял с помощью специально нанятых шутов и музыкантов – обыкновенное её выражение лица его не устраивало. Но в таком случае это уже не портрет – это эксперимент над человеческой душой, а вернее сказать, насилие над натурой (Волынский неспроста называет да Винчи предшественником Фрэнсиса Бэкона), адское творение темного мага. «Можно себе представить, – восклицает Волынский, – какое впечатление должна была произвести эта Джоконда на толпу веселых, болтливых флорентийцев, которые, несмотря на ученые тенденции эпохи, сохраняли в себе всю свежесть и беспечность цветущей Тосканы. Джоконда должна была глубоко поразить их тонко чувствительные нервы… Мрачный гений витает над этим портретом. Несмотря на светлые, весенние тона пейзажа, Джоконда кажется вышедшей из темного подземелья. А над Флоренцией никогда не переставало светить теплое южное солнце!»[21]
Главный тезис «Леонардо» Волынского – ложность и без-благодатность искусства, не вдохновленного божественным началом; именно так он характеризует «кудесничество» да Винчи, имеющее темную природу. Величайший художник итальянского Чинквеченто предстает у него в роли демона-искусителя, да и сам Ренессанс у него трактуется отнюдь не в принятом ключе, как возрождение классической красоты, но – как движение антихристианское, демоническое, реставрация темных языческих начал.
В определенном смысле трактат Волынского можно рассматривать как памфлет, в котором автор в иносказательной форме (а иногда и напрямую) бичует ненавистное ему декаденство с его культом Ренессанса, ожиданием Третьего Возрождения и энтузиазмом по поводу ницшеанского язычества. Достается и лично Ницше – по словам критика, от него и после смерти «струится ядовитое веяние, холодное веяние, от которого чахнут побеги молодой жизни. Это то же веяние, которое владело могучею душою Леонардо да Винчи. Оно создало теперь тысячи маленьких, болезненных, чахоточных Джоконд, которыми гипнотизируются неокрепшие птенцы»[22](в этом пассаже опять-таки очевидны намеки на отношения Саломе и Рильке, никак не дающие Волынскому покоя).
Интенции автора не прошли мимо внимания его современников. Николай Минский назвал труды Волынского о Леонардо «подземной миной, которая должна взорвать на воздух современный символизм»[23]. В целом трактат об итальянском художнике вызвал в среде российской интеллигенции скорее неприятие. Общественность была шокирована, например, гипотезой Волынского о бисексуальности да Винчи, которая, между тем, уже вскоре будет акцептирована австрийским философом Отто Вейнингером, а ещё через некоторое время станет едва ли не общим местом в европейском искусствоведении.
В отличие от своего отечества, за границей книга Волынского была воспринята с восторгом. Автор даже получил за неё звание почетного гражданина города Милана.
Семиотика телесности как метод была использована Волынским и для анализа произведений Достоевского. Известно, что Мережковский характеризовал Льва Толстого как «тайновидца плоти» – в отличие от Достоевского, «тайновидца духа» («один – стремящийся к одухотворению плоти; другой – к воплощению духа»)[24]. По указанию израильского филолога Елены Толстой, в этих формулировках может содержаться след «вначале совместных увлечений» Мережковского и Волынского. Однако последний «рисует именно Достоевского тайновидцем плоти, блестяще дешифруя загадочные места его писаний именно как символизм тела»[25].
Подробнейшим образом выписанные портреты князя Мышкина, Рогожина, Настасьи Филиповны, Дмитрия Карамазова, Грушеньки, их жесты, позы, повадки, элементы одежды Волынский рассматривает как символический шифр, ключ к их характерам, духовной жизни и знаки будущих перипетий в их судьбах.
Вот, например, как Волынский «дешифрует» Рогожина на основе текста романа:
«Молодой человек, “лет двадцати семи, небольшого роста, курчавый и почти черноволосый, с серыми, маленькими, но огненными глазами” – таков Рогожин. “Нос его был широк и сплюснут, лицо скулистое. Тонкие губы беспрерывно складывались в какую-то наглую, насмешливую и даже злую улыбку. Но лоб его был высок и хорошо сформирован и скрашивал неблагородно развитую нижнюю часть лица”. Каждый анатомический признак имеет здесь психологическое значение. В небольшом, невысоком теле сдавлена огромная сила характера и страстей. Эти курчавые, почти черные волосы, в противоположность белокурым волосам Мышкина, дают чувствовать яркую индивидуальность, замкнутую для широкой мировой жизни. Серые, но огненные, маленькие глаза тоже выражают суровое одиночество души, скупость в общении с жизнью и людьми: подобно небольшим и редким окнам его дома, они как бы пропускают мало световых и красочных впечатлений. Но зато полученные впечатления приобретают у Рогожина огненный характер, переходят в страсть. Высокий, хорошо сформированный лоб, представляющий контраст с грубой и некрасивой нижней частью лица, указывает на мощный природный ум, непреодолимый, упорный и ясный в применении к обычным обстоятельствами жизни, сектантстки-суровый в вопросах внутреннего убеждения.
В Рогожине сразу чувствуется личность, высоко стоящая над толпой. Его улыбка – наглая, насмешливая и злая – является как бы выражением его молчаливой, но неустанной критики всего окружающего. Её наглость – это бессознательное, но дерзко-откровенное высокомерие Рогожина. Насмешка и злость – это его отвращение от всякой жизненной пошлости, от всего мелкого и своекорыстного и конвульсия его сатанинских страстей. Но в первой же странице романа видишь его в намеках, но целиком. Одно и то же лицо, одна и та же характерная маска стоит перед нами от начала до конца. Он является перед нами уже захваченным бешеною страстью к Настасье Филипповне, и эта страсть накладывает свою неподвижную печать на её наружность. “Особенно была приметна в этом лице его мертвая бледность, придававшая всей физиономии молодого человека изможденный вид, несмотря на довольно крепкое сложение, и вместе с тем что-то страстное до страдания”. Эта мертвая бледность, может быть, более, чем что-либо другое, дает нам чувствовать серьезность и глубину натуры Рогожина. В своих страстях он доходит до страдания, и потому самые эти страсти являются великим делом его жизни. Поистине демонская любовь его к Настасье Филипповне стоит в его душе палящим зноем на протяжении всего романа, и самая неподвижность его экспрессии – злой, наглой и конвульсивно- страдальческой – служит выражением “односоставности” его настроений. Везде, где бы ни появлялся Рогожин, Достоевский показывает нам его с теми же неизменными признаками его напряженной внутренней жизни. При этом Рогожин “ужасно молчалив”, как говорит о нём Ипполит. Говоря об его любви в письме к Аглае, Настасья Филипповна пишет: “Я читаю это каждый день в двух ужасных глазах, которые постоянно на меня смотрят, даже и тогда, когда их нет передо мною. Эти глаза теперь молчат (они все молчат), но я знаю их тайну… Он все молчит”. Можно сказать, что этими данными Рогожин обрисован весь, до конца. Простая натура, цельное стихийное существо, он естественно делается героем в трагической истории Настасьи Филипповны. Его демон встречается с её демоном, и трагедия доходит до своих глубочайших глубин, потому что в обоих, под яркою, бешеною жизнью страстей, живет и ропщет божество. Мы уже знаем, какая борьба между демонской и божеской стихией происходит в душе Настасьи Филипповны. Она не может утаить своих страданий и, с чисто женским исступлением, заливает свою жизнь слезами и прорывается в криках отчаяния и самообличения. Рогожин молчит, “ужасно молчит”. Божество терзает его в глубине души, но борьба двух стихий не развертывается в нём со всею полнотою, не захватывает его внимания, потому что его очаровал, загипнотизировал другой демон, бесовская красота Настасьи Филипповны. Его великий ум как бы не вовлечен в жизнь его души, он любит слепо, без размышлений, без оглядки, одною только неодухотворенною, необожеств ленною страстью, и потому его любовь к Настасье Филипповне, во всех её проявлениях, имеет характер разрушительной злобы. Он взял в душу свою только демонскую красоту её, и эта красота бросила вызов на смертельную борьбу его демонским силам. Такая борьба, при таких натурах, неукротимых и рвущихся к пределам всего возможного в жизни, неизбежно должна была привести к смерти»[26].
Или вот просто ошеломляющий по глубине и точности портрет Грушеньки, наказанья семьи Карамазовых: «Она не поражает своим внешним видом, но есть в ней какая-то страшная отрава, от которой люди становятся, как чумные. “Я говорю тебе: изгиб. У Грушеньки, шельмы, есть такой один изгиб тела, он и на ножке у ней отразился, даже в пальчике-мизинце на левой ножке отозвался”. Это – инфернальный изгиб всего её существа.
Это “самое фантастическое из фантастических созданий”, наконец, появляется перед читателем в тихом обаянии своей зловещей красоты. В небольшой сцене свидания Грушеньки с Катей, освещенной поистине инфернальным огнем, она выступает во всех своих существенных чертах. Сначала слышится из-за занавески её голос, нежный, несколько слащавый. Потом она выходит, “смеясь и радуясь”. Это “довольно высокого роста женщина, полная, с мягкими, как бы неслышными даже движениями тела, как бы тоже изнеженными, до какой-то особенной, слащавой выделки, как и голос её”. Она подходит к Катерине Ивановне плавной, неслышной походкой. “Мягко опустилась она в кресло, мягко прошумев своим пышным черным шелковым платьем, и изнеженно кутая свою белую, как кипень, полную шею и широкие плечи в дорогую черную шерстяную шаль”. Ещё не представляешь себе лица Грушеньки, но порода этой женщины, хищная, кошачья, с горячею кровью плотоядного зверя, уже чувствуется в полной своей силе. Эта неслышная крадущаяся походка, в противоположность иной, мощной, бодрой походке, говорит о какой-то особенной внутренней самоуверенности, о притаившейся жестокости, которая ласково заигрывает со своей жертвой, чтобы потом внезапно ошеломить её. При своей молодости – Грушеньке всего двадцать два года – она уже находится во всём своём цвету. У неё мощное тело, высокая грудь, широкие плечи, полная шея, белая, как кипящая пена. Такова эта чисто русская красота, “многими до страсти любимая”. Лицо у неё тоже белое, с “высоким, бледно-розовым оттенком румянца”. Очертания его были как бы слишком широки, а нижняя челюсть несколько выдавалась вперед. “Верхняя губа была тонка, а нижняя была вдвое полнее и как бы припухла”. У Грушеньки чудесные, густые, темно-русые волосы, темные соболиные брови и “прелестные серо-голубые глаза с длинными ресницами”. Ручка у ней маленькая, пухленькая. Она смеется маленьким, нервным, звонким смешком. В её улыбке мелькает по временам “какая-то жестокая черточка”. Вот и вся Грушенька, взятая извне, как будто бы только извне, а между тем очерченная уже вся целиком, как только это мог сделать художник с талантом Достоевского. Даны в линиях и красках материальные формы, в которых острые черты соединяются с мягкими, несколько расплывчатыми. Светлые, нежные краски лица и шеи выступают в зловеще-черной роскошной раме шуршащего дорогого платья. И всё это, все эти данные – не более как живая человеческая психология в намеках, во внешних символах. Чего стоят одни эти губы, тонкая, злая верхняя губа и плотоядная, капризная нижняя, выступающая вперед и припухлая. Материал, необходимый для живописного изображения Грушеньки – весь налицо, и притом – с волнующею яркостью, как это бывает только у Достоевского. В этом истинном волшебстве идеалистического искусства материя начинает говорить живым языком души, становится какою-то особенною речью понятных для человека идей, нарушает своё молчание, вырывается из своей немоты. Линии и краски становятся как бы словами. Вот почему внешний облик Грушеньки как-то гипнотически приковывает к себе внимание: через этот облик говорит сфинкс, двойственность человеческой природы, единой только в своих метафизических глубинах. Разгадывая Грушеньку в её тихой хищной красоте, мы открываем её внутреннее демонское неистовство, её сатанинскую злобу, которая дает ей крылья и для самообороны, и для страстных фантастических капризов. Мы проникаем в таинство борений добра и зла, Бога и красоты и начинаем созерцать загадочное соприкосновение земли и неба»[27].
Метод интерпретации художественных произведений через обращение к вопросам телесности, пластики, материальности станет визитной карточкой Волынского и будут перенят многими исследователями. Каким же образом Волынский пришел к этому методу? По нашей гипотезе, истоки его метода нужно искать в его давнем увлечении философией Спинозы.
Изучать её Хаим Флексер начал ещё во время учебы на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. Его первая научная работа «Теолого-политическое учение Спинозы» (1885) посвящалась доказательству родства философии Спинозы с иудаизмом («Мы думаем, что связь свою с иудаизмом Спиноза увековечил в своей “Этике”, этом замечательном истолковании идеи единобожия. По духу монотеизма мир пребывает и всегда пребывал в Боге. Это монотеистическое начало есть также основной принцип пантеизма Спинозы»[28]).
Опубликовав статью в еврейском ежемесячнике «Восход», автор впервые подписал ее псевдонимом «Волынский». Этот труд Флексеру пообещали зачесть в качестве диссертации с тем, чтобы после выпуска он остался при кафедре государственного права, однако тот заявил, что видит себя не в науке, а в литературе.
Позднее Волынский практически не возвращался в своих текстах к философии Спинозы, однако начала её были хорошо им усвоены и давали о себе знать на протяжении всей его творческой биографии.
В чём, в нескольких простых словах, заключается спинозовская философия? Спиноза был картезианцем, решал проблемы, поставленные Декартом. У Декарта две субстанции – мыслящая и протяженная, примирить их не представлялось возможным. Другие картезианцы, типа Николя Мальбранша, даже ввели такое понятие, как окказионализм. То есть совпадение мыслящей и протяженной субстанции – это лишь случай, случайность, оказия.
Как же разрешить это противоречие? Как мы помним, у Декарта любая математическая задача может быть решена двояко: либо через систему уравнений, либо через поиск точки пересечения двух кривых, построенных в пространстве. То есть либо через алгебру – мысленным, вычислительным путем, либо через геометрию – пространство.
По Спинозе это возможно, потому что бог – это одна субстанция, причина самой себя, единая сущность (здесь можно увидеть отражение иудейского принципа монизма, единобожия). А протяжение и мышление являются модусами одной субстанции, и между ними существует взаимнооднозначное соответствие. Или, как гласит знаменитая формула Спинозы, «порядок и связь идей те же, что порядок и связь вещей, и наоборот, порядок и связь вещей те же, что и порядок и связь идей»[29]. По словам выдающегося советского философа Эвальда Ильенкова, «спинозизм… связывает феномен мышления вообще с реальной деятельностью мыслящего тела (а не с понятием бестелесной души), и в этом мыслящем теле предполагает активность – и опять-таки вполне телесную»[30]. Применительно к концепции художественной критики Волынского это означает: ключ к духу – материя, телесность, и, наоборот, ключ к материи – дух.
Очевидно, что сам Волынский до известной степени отождествлял себя со Спинозой – одиночкой, изгоем, обвиненным в ереси и изгнанным из иудейской общины Амстердама, но не отрекшимся от веры своих отцов. Он явно восхищался образом голландского мыслителя, и это видно из его слов: «Из своего небольшого и бедного рабочего кабинета Спиноза видел мир во всей его бесконечности. В этом худом и физически непрочном человеке таилась такая творческая энергия, такая мощь понимания, пред которой отступали все затруднения научной мысли и как бы рассеивались все загадки мироздания»[31].
Характерно, что Спинозой (или «Спинозой» в кавычках – в карикатурной форме) Флексера дразнили его и друзья (тот же Мережковский), и недруги (Виктор Буренин, Борис Глинский и др.). А Николай Минский посвятил ему эпиграмму, подчеркнув в ней одновременно и любомудрие Волынского, и его несносный характер:
- Святости доза,
- Нахальства мера;
- Не то Спиноза,
- Не то холера[32].
От литературы Волынский будет фактически отлучен на рубеже веков – закроется «Северный вестник», а с ним и источник средств к существованию, а птенцы его гнезда начнут говорить о Волынском как устаревшем и неуместном явлении (Брюсов назовет его «анахронизмом», Андрей Белый – «отжившим»). О ком? О человеке, который весь этот мир выдумал для них ещё десятилетие назад.
Слава богу, Волынскому было чем заняться. Он с огромным успехом читает по всей стране публичные лекции. Он ездит в Константинополь и на Афон, где глубоко погружается в таинства православия, работает в области археологии и иконографии, составляет обширную коллекцию снимков с икон, церковных предметов. Он всерьез увлекается театром и балетом. Задолго до Мейерхольда он начинает борьбу с натурализмом в театральном искусстве, исповедуемым, например, в МХТ (с этим «не верю» Станиславского – за «театральный», идеалистический театр). В 1905 году он поступает на должность заведующего литературной частью в театр Веры Комис – саржевской, где даже сам пробует ставить пьесы (через год главным режиссером театра станет Всеволод Мейерхольд). Затем переходит в «Современный театр» Николая Ходотова.
В 1907 году в компании танцовщицы Иды Рубинштейн, его знакомой по театру Комиссаржевской, он посетил Грецию, чтобы собрать информацию для исследования об античном театре. Здесь он начал работу над большим исследованием об Аполлоне, которое позднее станет составной частью итогового труда – «Гиперборейского гимна». Одним из результатов поездки стал вывод, что истоком и сердцем античного театра является литургический танец. Результаты своих изысканий Волынский показал в Берлине «старейшине» классических филологов Ульриху фон Виламовицу-Мёллендорфу и заручился его одобрением. Сам классический танец, принципом которого является «чувство, управляемое по законам логики», Волынский с уверенностью отнес к «царству Аполлона» – «он органически противоположен всему дионисическому. Вакхические струи могут врываться в него только извне, секундными эпизодами, не разрушающими его единой цельности»[33]. Со своей новой подругой Идой Волынский ездит и в Северную Европу – Бельгию и Нидерланды, там он изучает творчество голландских художников, в первую очередь – Рембрандта.
В начале 1910-х годов Волынский занимает должность балетного критика в «Биржевых ведомостях». Его статьи и рецензии пользуются большим успехом (современным знатокам Серебряного века Волынский известен, прежде всего, как популярнейший балетный критик). Они стали поистине новым словом в таком прежде маргинальном и довольно скучном жанре. «Да это и не могло быть иначе, – восклицал Константин Федин. – Человек, который не писал, не сочинял, а создавал книги о Достоевском, о Лескове, о Леонардо да Винчи, о Рембрандте, не мог, конечно, просто пописывать о балете, как газетный критик, как репортер. Балет был для него явлением, стоявшим в ряду этических основ человеческого духа. Приход Спесивцевой он назвал “рождением богини”. Юная Лидия Иванова – балерина с судьбой Адриенны Лекуврер – воспринималась им как категория небожительственная»[34].
Тогда ещё совсем юная Ольга Спесивцева, в будущем ярчайшая звезда балетной сцены, станет женой (по-видимому, гражданской) уже умудренного годами Волынского. Брак, впрочем, продлится лишь несколько лет. О непростых отношениях двух творческих личностей режиссер Алексей Учитель снимет в 1995 году фильм «Мания Жизели», где роль Волынского исполнит блистательный Михаил Козаков.
Одновременно с деятельностью в области балета Волынский возглавляет издательство «Грядущий день», выпускающее книги по истории искусства, прежде всего, времен Ренессанса. Его работоспособность поражает. До самой смерти он будет писать в день по статье или по книжной главе. «Он умел трудиться с такой самоотверженностью, с какой молились древнехристианские отшельники»[35], – сказал о нём Константин Федин. Не человек, а ядерный реактор! – сказали бы мы, люди XXI века.
Внезапное увлечение Волынским танцем стало его новой профессией и предметом академического интереса. Он сам берет уроки балета, чтобы телесно, на собственном опыте изучить особенности этого пластического искусства. Деятельность на этом поприще Волынский продолжает и после революции, в которой он увидел своего рода аполлонический ответ на едва не уничтожившее русскую культуру и общество декадентство. Сам Аполлон с его священной пляской воспринимался им как бог революции. В обновленном балете Волынский видел эффективный инструмент «для поднятия сил социального организма страны», арену и школу воинственного героического духа. Советский балет, по мысли критика, должен вернуться к античным корням, и именно на его основе должен со временем осуществиться синтез искусств. Возглавляя Государственный хореографический техникум, Волынский готовит масштабную реформу русской балетной школы – составляет новаторские учебные программы, пишет учебник балета в форме искусствоведческой поэмы – «Книгу ликований» (1925), где развивает свою оригинальную философию танца, телесности, пластики, основанную на спинозистских началах.
Послереволюционные годы для Волынского – возможно, самые насыщенные в его творческой биографии. Кажется, только теперь его многочисленные таланты находят достойное применение. Он много пишет, а кроме того – руководит «Русско-еврейской энциклопедией», сопредседательствует в редколлегии издательства «Всемирная литература», возглавляет Петроградское отделение Всероссийского союза писателей и отдел балета в газете «Жизнь искусства».
Волынский вновь необычайно популярен. Он желанный гость в любой компании. Он настоящий патриарх и кумир молодежи (поколение сорокалетних его, впрочем, не особо жалует. Некогда восхищавшийся Волынским Корней Чуковский мелочно ревнует его к высокой должности и пакостит по любому поводу; Александр Блок ведет с ним острые диспуты, не жалея седин старого еврея. Однако его уже хотя бы никто не дразнит «филлоксерой» и «облезлым философом»).
Константин Федин оставил портрет Акима Львовича Волынского, весьма примечательный с точки зрения семиотики телесности. А стало быть, не грех здесь и привести, несмотря на внушительный объем: «Он был маленького роста, очень худой, с лицом истощенным, перерезанным вдоль и поперек морщинами, настолько подвижными и сборчатыми, что казалось, будто кожа его лица заготовлена на череп значительно большего размера. Но и его череп был не мал – с высоко вскинутым лбом, с глазницами величиной в старинный пятак и с надменной горбиной носа. Его сюртук напоминал тогу, не потому, что был плохо сшит (он когда-то был сшит прилично), но благодаря позе римлянина, которая была присуща Акиму Львовичу. Он ходил как будто на котурнах, поворачивался медленно всем узеньким корпусом, жестикулировал приподнятой и отодвинутой от корпуса рукой, вращая кистью и оттопыривая изогнутые пальцы. Он говорил лаконично и даже не говорил, а как бы оглашал невидимые заповеди скрижали. Просто рассказывать он не был в состоянии, он мог лишь держать речь, ему было доступно только ораторство. Он был очень ласков со всеми людьми, но в ласке его заключалась такая снисходительная благосклонность, что он должен был сам себе казаться высокопоставленной особой. Он, несомненно, сочетал в себе чувство особой избранности, какое сопутствовало великолепному идальго из Ламанча, с благородной привлекательной скромностью, украшавшей незабвенного рыцаря. Мне представляется, что он никогда не усомнился в величии своего призвания и это, конечно, отразилось на его манере…
И вот, маленький, в сюртуке, с платочком в кончиках пальцев, которым только что вытерты слезящиеся глаза, точно римлянин, увенчанный призом за некое героическое деяние, Аким Львович принимает – приветствия друзей, обступивших его с любовью в передней комнате грековского дома…
Он всегда бывал разителен своим жестом – театральным, но таким естественным, что никому бы не пришло в голову сказать, что этот человек рисуется, и в моём представлении об уходящем Петербурге, о первых годах Ленинграда он остался словно врезанный в доску гравюры.
В белые ночи по застывшему Невскому шествовал он от Грековых к себе в Дом искусств – черная, маленькая, но странно внушительная фигурка – в сюртуке и большой шляпе. Оттопырив палец и держа его перед носом, будто обращаясь к нему, он вычитывал что-нибудь из своих невидимых скрижалей. Это бывали исторические экскурсии в древность, в библейские темы времен, философские рассуждения о живописи или импровизации о танцах…
Для нас он был прежде всего Дон-Кихотом – существом, маниакально отдавшимся призванию, с жреческим темпераментом, рыцарем словесных фехтований. Я думаю, наше поколение совсем не увлекалось его книгами, даже толком не знало их. Но его образ жизни рисовал перед нами писателей-предшественников. Мы не собирались подражать таким писателям, как он, или непременно учиться у них. Мы уже изучали их самих почти как литературных героев и, во всяком случае, как прошлое литературы. Ведь в Акиме Волынском каждая складка одежды, каждая морщина лица дышала девятнадцатым веком… Он не мог, не умел жить иначе, нежели в возвышенной манере романтиков. Он обладал всем, чтобы стать идальго своего времени, ему недоставало только славы. Но я уверен – будучи прирожденным Дон-Кихотом, он считал, что обладает и славой»[36].
Ужасно занятой, Волынский находил время и для научных исследований в области сравнительного религиоведения. В его текстах появляются мотивы ницшеанского антихристианства. Если прежде он относился к этой религии с большой симпатией, то теперь он характеризует её как учение толпы, пронизанное хамитской мистикой, магизмом и суевериями – «это были именно те токи, которые с древнейших времен стремились подмыть основные устои семитического духа, незапятнанный гиперборейский монизм, который пронесен им через столько веков, через столько гор и пустынь»[37]. Христианство у Волынского ассоциируется с дионисизмом, который люто, бешено ненавидел ещё со времен знакомства с книгами Ницше, а точнее, с русским ницшеанством, – помешанных на модернизированном образе греческого бога, воспетого великим немцем.
Напротив, первоначальный иудаизм, изводом которого и стало христианство, описывается им с помощью эпитетов, явно ницшеанского характера: «благородство», «чистота» и т. п. Иудаизм сохранил черты древнейшей религии – религии гипербореев, которые были единым народом, они исповедовали культ Света, и вся их жизнь определялась принципом монизма. Иудаизм, как преемник гиперборейской веры, – космичен, христианство же свело изначальную широту и дерзновенность к приземленной социальной реформе. Космические идеи сменились в нём «антропоморфными построениями хамитских народностей»; в мире утвердился дуализм «со всеми его построениями и антиномиями, со всеми его видениями и исчадиями, со всеми его антитезами добра и зла, света и тьмы, духа и плоти, со всем трагизмом неразрешимой диалектики, со всем ходульным пафосом безысходных противоречий»[38].
Термин «Гиперборея» Волынский в своё время почерпнул из «Антихриста» Ницше, однако смысл в него он вложил вовсе не метафорический. По мнению Волынского, эта страна существовала в реальности – тысячи лет назад. Из-за изменения климата несколько тысячелетий назад её жители были вынуждены покинуть свой некогда благословенный край. За столетия долгих странствий большинство из них утратили изначальную веру. Сохранить её удалось лишь семитам – в основных чертах (монотеизм и пр.) она воплотилась в иудаизме – аристократической, чистой, незамутненной религии.
Удивительно, но многие тезисы концепции Волынского, выглядевшие в его время спорными и даже скандальными и воспринимавшиеся как личный миф эксцентричного мыслителя, были подтверждены позднейшими исследованиями в области гебраистики и индоевропеистики. В том числе, гипотеза Волынского относительно общей прародины культур и религий, о её северный корнях, а также тезис об изначальном родстве науки Запада с религиями Востока в противовес радикальному разведению этих духовных начал (см., например, «Афины vs Иерусалим» Льва Шестова). Получило подтверждение даже положение о привнесенном извне в земли Палестины принципа монотеизма, правда, оказалось, что носителями этого принципа были не семиты, а индоевропейцы.
Фундаментальную монографию о Рембрандте Волынский задумал ещё во время своего путешествия по Голландии с Идой Рубинштейн. Почти два десятилетия он собирал материалы, вынашивал замысел, оттачивал концепцию книги.
Её основная идея – о возможных еврейских корнях великого голландца – доказывается автором не на основе скудных биографических данных, а путем анализа его творчества, в котором, по мнению Волынского, «открываются разные стороны еврейского религиозного духа, во всей его отличительной и характерной физиономии… представленные… в жестах и терминах этого народа»[39]. То есть с точки зрения всё той же семантики телесности. Читатель «Рембрандта» в полной мере насладится образцами дешифровки языка тела, которая достигла в этой книге у Волынского совершенства.
Волынский подчеркивает, что иудаизм как тип психологический и духовной антропологии с его специфическими формами мышления и чувствования не зависит от его непосредственных носителей, будь они хоть евреями, хоть голландцами или французами. И Рембрандта он рассматривает как носителя иудейского духа именно в этом расширенном смысле. В Рембрандте, по Волынскому воплотился и дух любимого Спинозы, иудея, непонятного иудеям, ведь настоящий иудаизм это рафинированный рационализм, очищенный от мистики.
Выбор заглавного персонажа книги вряд ли был случайным для Волынского. Думается, что, как и в Спинозе, он нашел в Рембрандте родственную для себя душу не только в философском, но и в личном плане. Как и Рембрандт, Волынский был человеком, счастливым в любви и несчастным в семейной жизни, неистовым в творчестве и затравленным в обществе. Читая биографии этих двух выдающихся людей своего времени, поражаешься совпадению множества деталей. Даже земной жизни им был уготован одинаковый срок -63 года и два месяца, о чём Волынский, начиная своего «Рембрандта», конечно же, не догадывался.
Свою книгу Волынский изначально рассматривал как часть «Гиперборейского гимна», «одним из этюдов, входящих в его состав»[40]. По мере накопления материала становилось понятно, что эту работу нужно издавать отдельной книгой.
Фундаментальный труд о Рембрандте был окончен автором в 1925 году, но так и остался неопубликованным, несмотря на обращение автора за поддержкой к наркому Луначарскому. Волынский возлагал на свою последнюю книгу большие надежды, он считал свою работу над ней государственным делом. Константин Федин вспоминал, как Волынский сказал однажды по поводу своего сочинения о Рембрандте (как держава ведет переговоры с державой):
«– Я передаю этот свой труд государству!
И, словно в свете молний, я увидел Акима Львовича на парадном возвышении, перед лицом затаивших дыхание академиков: торжественно он подносил свиток пергамента государственному сановнику в орденах, и уже мерцали над его откинутой головой словно оживавшие листья лаврового венка. Стояли же мы с Акимом Львовичем на каком-то перекрестке канала Грибоедова, неподалеку от Госиздата. Но я тогда же понял, что он ни при каком случае не мог бы сказать: “Я передаю свой труд Госиздату”. Не Госиздату, а государству, именно, именно государству, – так приподнято он думал о деле искусства и своей миссии литератора»[41].
Вплоть до 1990-х итоговые труды Волынского «были фактически неизвестны даже специалистам». Лишь в 2022 году увидел свет «Гиперборейский Гимн», опубликованный нами в издательстве «Книжный мир»[42]. Теперь перед вами – долгожданный «Рембрандт». Эта книга Волынского, спустя сто лет после написания, безусловно, станет событием не только в российском, но и мировом искусствоведении.
Рембрандт Харменс ван Рейн (1606–1669)
Хармен Геррите ван Рейн был зажиточным мельником. Он жил в красивом доме из тесаного камня напротив своей мельницы, знаменитой далеко за пределами его родного городка Лейден. Семья его считалась большой даже по тем временам – за длинным обеденным столом, помимо самого Хармена и его благоверной, восседало ни много, ни мало – девятеро их отпрысков. Место с краю обычно доставалось младшему из сыновей – вечно задумчивому Рембрандту…
Рембрандт счастливо избежал «карьеры» ремесленника – родители определили его в латинскую школу, где смышленый мальчик обучался чтению и письму на латыни и нидерландском языке, изучал Библию. Закончив школу, четырнадцати лет от роду, Рембрандт поступает в знаменитый на всю Европу университет Лейдена. Однако проучился он там всего только несколько месяцев. Все устремления юноши были направлены на живопись и только на живопись. Родители решили не тратить попусту денег – они забрали Рембрандта из университета и отдали его на обучение к художнику.
В ту пору Голландия была богатейшей на свете страной. Господствующее вероисповедание – кальвинизм – поощряло личную инициативу и стремление к успеху. Победа в войне с Испанией открыла морские пути в самые дальние уголки земного шара. В стране развивались искусства, и в первую очередь – живопись. Разбогатевшие купцы и банкиры хотели увековечить себя в ореоле славы и блеске богатства. Картина считалась лучшим украшением жилища, а художничество – престижным и прибыльным делом.
Первым учителем Рембрандта стал Якоб Исаак Сванен-бюрх, художник, прямо скажем, средней руки. Однако именно ему молодой ван Рейн был обязан приобретением основных знаний и навыков. Начав со шлифовки рам, грунтовки холстов и растирания красок, Рембрандт настолько преуспел за три года в рисунке и живописи, что отец решил отправить его к самому Питеру Ластману, главе амстердамской школы исторической живописи.
Шесть месяцев, за которые Рембрандт успел усвоить тематику и стилистику Ластмана, оказались решающими для молодого художника. Вернувшись из Амстердама в Лейден, он открывает в отцовском доме собственную мастерскую. Не имея пока заказов, Рембрандт рисует отца, мать, братьев, сестру, делая их героями картин на исторические и библейские темы. Талантливые работы замечают, оценивают по заслугам. У Рембрандта появляются первые заказчики и первые ученики. Современники расточают хвалы: «Его живопись превосходит то, что сделано античностью и Италией. Юноша, сын мельника, превзошел Протогена, Аполлония и Паррасия».
Рембрандту советуют посетить Италию, колыбель Возрождения, родину великих мастеров. Но художник посчитал, что картин итальянских мастеров предостаточно и в Голландии, да и путешествие туда весьма опасно. До конца жизни Рембрандт так ни разу и не покинул пределов своей страны.
23 апреля 1630 года умирает Хармен ван Рейн. Его мельницу и хозяйство наследуют братья Рембрандта. Сам же художник, мечтая о славе и достатке, отправляется в Амстердам.
Молодой мастер решителен и амбициозен. Это проявляется даже в изменившейся манере подписывать картины. Вместо прежнего “REEL von Rijn” («Рембрандт Лейденский, сын Хармена ван Рейна») он стал писать просто “Rembrandt” – на манер итальянцев Тициана, Рафаэля, Микеланджело, которых весь мир знал только по имени.
В 1632 году Рембрандт получает заказ, изменивший всю его дальнейшую жизнь – групповой портрет для гильдии амстердамских хирургов. Картину предполагается вывесить в зале собраний, и работа художника будет превосходно оплачена.
Принимаясь за картину, Рембрандт ещё не знал, что именно она послужит началом его головокружительной карьеры. На следующий же день после официальной церемонии вывешивания Рембрандт понял, что значит быть знаменитым. Его буквально засыпали поздравительными письмами, приглашениями и заказами. О картине говорили, что по силе она не уступает лучшим творениям Франса Хальса, а по глубине и благородству даже превосходит их. Знатоки рассуждали о том, как мастерски сгруппированы фигуры, и о том, как изумительно использован свет. Дилетанты восторгались «живым сходством портретов».
Отныне Рембрандт ведет активную светскую жизнь. Он принимает в своём доме самых знатных людей Амстердама, охотно наносит визиты и сам. Во время одного из них модному художнику представляют девицу Саскию. Дочь бургомистра города Лейвардена и двоюродная сестра известного торговца картинами, она рано осталась сиротой, и за ней было очень солидное приданое в 40 тысяч флоринов. В июне 1633 года Рембрандт и Саския обручаются, а ещё через год сочетаются законным браком. Это вводит Рембрандта в высшие круги амстердамского бюргерства, и теперь его уже никто не называет «сыном мельника».
Рембрандт горячо любит свою супругу и выражает свою любовь в её многочисленных портретах, в том числе, в одном из лучших шедевров «Даная».
Женщина не слишком красивая, но милая и веселая, Саския любит дорогие наряды и драгоценности. Рембрандт выполняет все её прихоти. Саския рожает Рембрандту четверых детей, из которых трое умирают в младенчестве. Выживает лишь четвертый, нареченный Титусом,
Рембрандт на вершине славы. Он преподает, много работает, активно тратит деньги – покупает кривые турецкие сабли и клинки, парчу для одежд моделей и драпировки, картины величайших мастеров. Новый общественный статус заставляет его сменить жилище. Рембрандт покупает с рассрочкой на шесть лет роскошный дом в самом престижном квартале Амстердама. На верхнем этаже он устраивает внушительных размеров мастерскую, где без устали творит всё новые и новые шедевры. С каждым из них всё четче обозначается позиция автора – стремление к внутренней правде, раскрытие душевной красоты персонажа. Для решения творческих задач Рембрандт как, наверное, никто в истории искусства использует возможности светотени, создавая с её помощью определенную эмоциональную среду и психологическую характеристику образа. Именно у него живопись перестает играть декоративную или репрезентативную функцию и устремляет на реальность свой собственный взгляд.
В 1640 году Рембрандт ван Рейн получает заказ, который так же, как когда-то «Урок анатомии доктора Тюльпа», в корне изменит жизнь художника. Написать требовалось трупповой портрет роты городской милиции во главе с бравым капитаном Франсом Баннингом Коком. За работу полагалась значительная сумма – 1600 флоринов.
14 июня 1641 года умирает от чахотки Саския. Рембрандт тяжело переживает смерть жены, пытается забыться в работе. В 1642 году выставляется «Рота капитана Франса Баннинга Кока». Картина имеет колоссальный успех, однако сами заказчики остались крайне недовольны. Вместо простого группового портрета они получили шедевр, который прославлял, скорее, мастера, нежели его персонажей.
С тех пор мастерство и виртуозность становятся злым роком художника. Всё чаще заказчики предпочитают обращаться не к мэтру, а к его ученикам – Флинку, Болу, Бейкеру. Они далеко не так одарены, но вкусы клиента они понимают куда лучше, а главное, всегда готовы идти у них на поводу. К тому же своенравие учителя порой доходит до абсурда. Чтобы добиться наилучшего результата, он может месяцами рисовать и перерисовывать всего один портрет, заставляя бедного заказчика ежедневно приходить в мастерскую, не позволяя ни пошевелиться, ни высморкаться. Однажды Рембрандт писал групповой портрет – семейная чета, дети и с ними – маленькая обезьянка. Во время одного из сеансов обезьянка сдохла, и, потрясенный случившимся, художник изобразил на картине её трупик. Заказчики потребовали убрать эту не слишком приятную деталь, на что мастер ответил решительным отказом, дескать, именно она-то одна и делает картину интересной и колоритной.
Постепенно заказы сошли на «нет». Однако Рембрандт, не в силах проститься со старыми привычками, продолжал тратить огромные суммы на аукционах, пополняя свою коллекцию заморских диковин и великих картин. На аукционах он никогда не торговался – сразу назначал огромную цену, объясняя это необходимостью поддерживать престиж мастерства.
Не всё в порядке и в личной жизни. Некоторое время Рембрандт живет с кормилицей сына Гертье (Гэртген) Диркс. Затем заводит любовницу – молодую красавицу Хендрикье Стоффендоттер (Стоффельс). Гертье плетет интриги, требует на ней жениться. Но Рембрандт её не любит, к тому же и жениться он не может, потому что в этом случае, согласно завещанию Саскии, он не может распоряжаться её наследством. Живя во грехе, Хендрикье и Рембрандт рождают дочку Корнелию.
Тем временем уставшие ждать погашения долга за дом кредиторы начинают действовать – Рембрандт просрочил выплату на целых восемь лет. 25–26 июля 1654 года судебные исполнители описывают имущество художника. В список вносится всё – от «белья, подлежащего стирке», до огромной коллекции полотен и гравюр великих мастеров – Рафаэля, Ван Эйка, Брейгеля, Рубенса, Кранаха. В сентябре 1656 года имущество, нажитое Рембрандтом за всю жизнь, ушло за 600 флоринов.
Рембрандту уже не принадлежат и его картины – ни уже написанные, ни будущие. Права на них переходят к Титусу и Хендрикье.
1650-е годы – время, когда в голландском искусстве начались застой и деградация. Большинство художников пошло на поводу у разбогатевших буржуа, стремившихся усвоить обычаи и нравы аристократов и плативших большие деньги за «статусные» портреты. Сохраняя внешнее сходство, художники «облагораживали» модель с помощью трафаретных приемов репрезентативного аристократического портрета.
Рембрандт, напротив, к своему пятидесятилетию вступает в период наивысшего расцвета сил и таланта. Почти не имея заказов, он пишет портреты членов семьи и немногих друзей. Оставив свой прежний роскошный дом, Рембрандт перебирается с семьей в маленькое жилище на окраине. Он переносит прах Сискии на кладбище поближе к дому, где цена могил ниже. В 1661 году умирает Хендрикье. Рембрандт хоронит её на том же кладбище. Он пишет всё более и более великие шедевры – «Возвращение блудного сына» (1668-69), «Заговор Юлия Цивилиса» (1661), «Синдики» (1662).
В 1665 году Рембрандт живет на деньги сына. Один из кредиторов должен был компенсировать Титусу, признанному судом основным кредитором Рембрандта, часть средств, полученных на распродаже имущества – всего 6952 флорина. Однако и этой колоссальной суммы хватило ненадолго – Рембрандт сразу же начал тратить её на покупку картин.
10 февраля 1668 года Титус женится на Магдалене ван Лоо и переезжает к теще. Через полгода он умирает. Рембрандт остается с четырнадцатилетней дочерью Корнелией. Даже оказавшись в суровой нищете, Рембрандт не пожелал продать ни одной картины из воссозданной коллекции – он предпочитал творить в окружении шедевров. Творить, без оглядки на общественные вкусы, так, как подсказывало ему сердце.
Говорят, что однажды к Рембрандту заглянул его преуспевающий ученик. Он искусно нарисовал на полу золотые монеты, которые подслеповатый художник принял за настоящие, и бросился их собирать. Вскоре после этого последнего удара судьбы он умер.
Смерть Рембрандта ван Рейна пришла 4 октября. Уход из жизни величайшего художника Голландии прошла почти незамеченной современниками. В те времена по любому незначительному поводу создавались оды, наполненные выспренними излияниями. Однако о кончине Рембрандта мы узнаем лишь по краткой записи в погребальной книге церкви, при которой он был похоронен.
За свою жизнь Рембрандт создал около 600 картин, почти 300 офортов и более 1400 рисунков.
От автора
Отдаю читающей публике книгу о Рембрандте. Она написана в текущем году, в условиях современной русской жизни, но задумана ещё в бытность мою в Голландии, лет двадцать тому назад. Художник всегда казался мне загадкою, к которой надлежит подойти не со стороны чисто технической, а скорее со стороны идейной. Ни один живописец мира не создан для критики идеологического характера в такой мере, как Рембрандт. Применяя в своём исследовании рабочую гипотезу о дальней или ближней принадлежности Рембрандта к еврейскому племени, я отнюдь не стремился этим установить какие-либо новые, незыблемые биографические факты метрического характера. Задача моя представлялась мне иною. Предстояло выяснить в общечеловеческой концепции тот психологический тип, ту форму мышления и чувствования, которые можно назвать еврейскими, кто бы ни являлся их носителем. Эти черты мною и прослежены на пространстве книги. Приходилось мне при этом допускать широкие отступления для всестороннего выяснения запятой мною позиции.
В некотором смысле настоящая книга является обширною иллюстрацией моего «Гиперборейского Гимна», одним из этюдов, входящих в его состав.
А. Волынский
Рембрандт
Я написал книгу о Рембрандте, задуманную лет двадцать назад, во время моего пребывания в Голландии. Другие труды отвлекали моё внимание, и только в текущем году я мог начать и закончить это обширное исследование. Должен сказать с самого начала, что столь позднее написание этой книги я считаю особым для себя счастьем. Между современностью и нашими творческими побуждениями существует неисследимая, но всегда ощущаемая связь, и в этом заключен исторический двигатель каждого литературного и художественного начинания. Этот подземный контакт между душою пишущего и его временем имеет огромное значение. Я сам не мог бы с точностью указать, в каких именно местах книги слышится веяние моих дней, но читатель, наверное, почувствует, что я иду в моём исследовании тропами, обнажившимися только теперь. Я иду, а время меня ведет. Книга писалась изо дня в день, равными порциями, почти ритмически. Идеи уже давно сложились в голове моей, и, как лошади, неслись хорошим бегом вперед, под бичем текущего Хроноса. И вот я пришел к концу, и оглядываюсь на пройденный путь.
Всё в Рембрандте меня интересовало. Нет живописца в мире, который так будил бы мысли и так бы их питал. Я начал с изучения семьи Рембрандта в портретном отображении, как живописном, так и в графическом, отца, матери, дяди, братьев и близких людей. Повсюду анализ открывал поразительную вещь. Кисть художника выписывала еврейские физиономии. Приглядываясь же к этим физиономиям, я наталкивался на черты, которые я назвал габимными, и на чистые линии, тянущиеся от дальних веков. Что такое эти габимные черты, читатель узнает из самой книги. Но тут для полноты моего изложения я должен пояснить термин, схваченный мною из струй библейских источников. Габима значит высота. Когда евреи очутились, на заре своей легендарной истории, в ханаанской земле, среди хеттеев, амореев и других народностей того времени, они нашли там алтари на высотах. Дым жертв возносился к небу с этих местных круч и акрополей. Идейная жизнь человечества всегда совершается на какой-то высоте. Заняв ханаанские земли, евреи начали борьбу с этими высотами, с культурными верхами автохтонов, и, продолжая эту деятельность из века в век, стали в отдельных частях своих воспринимать колориты чуждых им идей и чувств. Местные габимы врезывались в иудейское небо, заслоняя иногда целые части его чистой синевы. Мало-помалу, в процессе завоеваний, расселений, диаспоры, стал возникать тип габимного еврея, во всех его разновидностях. Почти в каждом еврее, если он хоть сколько-нибудь характерен для своего народа, глаз открывает в самой его пластике – борьбу двух миров, незавершенных ещё до сих пор в своём развитии. Когда стоишь перед бесчисленными портретами рембрандтовской галереи, невольно уходишь мыслью к этой тьме. Перед нами прежде всего евреи, с двойственными чертами, в костюмах эпохи, переплетающихся с вековечными одеяниями. Эти последние, как музыкальный напев, то и дело звучат в симфонии великолепных туалетов, плащей, шляп с перьями, ожерелий и шпаг. Иногда перед нами сидит простой еврейский шнорер[43], положив отдыхающие ноги на туфли, и тут же детерминатив меча обращает его в апостола. И чем больше сродняешься со всеми изображенными лицами, тем больше ощущаешь присутствие в искусстве Рембрандта какой-то особенной семитической характеристики вещей и явлений. Пусть Рембрандт не еврей по своей метрике, но ветер древнего востока обуял его душу, занесенную в ратоборческую Голландию XVII в. неизвестною волною человеческих расселений. Чуть ли ни каждая физиономия с ого полотна смотрит не в окружающий быт, а в какие-то отвлечения, в какую-то странную вечность, совсем по-еврейски. Но туда же смотрит и душа художника.
Рассмотрев портреты родных, я приступил к изучению ранних и поздних автопортретов самого Рембрандта. Всю биографию художника я изучил по этим портретам, не отвлекаясь в сторону никакими общеизвестными фактами. Хотелось прочесть развивающуюся душу в чертах его лица. И тут опять и опять вставала все та же расовая загадка: кто и откуда этот человек. На всём пространстве жизни Рембрандт был типично-габимным евреем, хотя по внешнему своему бытию он мог считаться христианином. Странная вещь, смотришь на иного человека и говоришь себе: как не идет к нему христианство. Даже Владимир Соловьев, со своими брызгами цинического смеха, высокий, гибкий и стройный, вечно юный в своей магистрали, с расчесанными по византийскому образцу волосами, тоже мало подходил к рисующемуся нам идеальному типу евангельского христианина. Не тот скелет, не та анатомия, не тот ход и шаг к жертвенному алтарю. Смех не христианский, улыбка не христианская, самое слово не христианское, в своей кругло-законченной калиграфической риторике. Со страниц евангелия несется к нам юродиво-героическая нота, которая вообще с трудом может поселиться в душе человека, по духу и по времени чуждого великому спору иудаизма с христианством. Но если христианство не шло Владимиру Соловьеву, то ещё менее оно могло соответствовать Рембрандту. Нельзя и представить себе его в католическом храме коленопреклоненным, с молитвенно сложенными руками, с выражением сентиментального пиэтета на лице. Мы имеем автопортреты Рембрандта всех его возрастов. То он выступает перед нами молодым шутником, лэтцом, как я его назвал в книге, то прелестным юношей с вьющимися по семитическому волосами, с лицом, которое узнаешь повсюду на картинах. С годами лицо это одухотворяется, но и преждевременно стареет. И когда видишь старого Рембрандта, невольно как-то понимаешь, что этот человек и в молодости уже был стариком, несмотря на весь его клокочущий темперамент. За иными людьми так и видишь ряды прошедших веков, и черта эта особенно свойственна евреям. Иной еврейский юноша, иная еврейская девчонка кажутся плывущими на валах, несущихся из неведомой дали истории. Я проследил жизнь Рембрандта во всех фазах его бытия, мужем, родителем, дедом, вплоть до приложения к отцам, говоря по-библейски. Все последовательные жёны его рассмотрены мною на бесчисленных холстах, офортных листах и рисунках. Решительно всё, что в той или другой степени могло отразиться на творчестве художника, взвешено мною со всею доступною мне обстоятельностью. Чтобы при этом выставить в достаточной рельефности место, занимаемое Рембрандтом в портретной живописи, пришлось один из отделов книги занять обозрением голландского портретного искусства в целом, сопоставив его с образчиками соседнего творчества у великих фламандцев и французов. Сопоставление это усложнило и обогатило анализ многими, естественно сюда привходящими идеями. «Иконографию» Ван-Дейка пришлось показать с особенной высоты, в окружении замечательных граверов той эпохи. Портреты Рембрандта разобраны мною по категориям: мужчины, женщины, старики и старухи, молодежь, дети. Разные профессии, ремесленники, проповедники, христианские и еврейские, голландские дамы – всё это завершается обозрением семейных и групповых картин. Весь материал в совокупности изучается параллельно в живописи и в графике, чтобы дать критическому анализу широту и всесторонность.
Покончив с портретами, я приступил к изучению больших тем рембрандтовской кисти и иглы. «Анатомия», «Ночной Дозор» и «Синдики», со всеми примыкающими к этим произведениям менее замечательными вещами, подверглись подробнейшей характеристике. За внешними очертаниями в этих картинах улавливается веяние большой отвлеченной мысли, выходящей далеко за границы отдельных заказов. Не только в эпоху Рембрандта, но и в наши дни эти шедевры ещё подлежат расшифрованию. Я взглянул на них с точки зрения той рабочей гипотезы, которою я руководился на всём пути моего исследования, и вдруг картины эти представились мне ожившими, как гобелены в Павильоне Армиды. Но если б даже моя служебная гипотеза оказалась сама по себе недостоверною, сказанное мною о картинах всё же останется на своём месте. Нигде в мире мы не найдем художника, в творчестве которого кипели бы столь высокие мотивы. Отовсюду у Рембрандта блещет солнечными пятнами крайний какой-то рационализм, к которому можно подойти только с умозрительным методом, постоянно вдаваясь в обобщения и отвлечения. И чем больше вдумываешься в эти холсты и хрупкие офорты, тем больше видишь, что тема в них одна и та же, какая-то монолитная идейная громада, вошедшая в Голландию светоносным островом в результате непонятных духовно-геологических сдвигов. Рембрандт решительно одинок среди окружающих его современников. С кем бы его ни поставить рядом, даже с Рубенсом, даже с Гальсом, даже с Ван-Дейком, он остается обособленным и необъяснимым, как необъяснима до сих пор и та раса, к которой, как к могучему магниту, тяготела его Душа. «Анатомия», «Ночной Дозор» и «Синдики» написаны не для одного лишь семнадцатого века. Чем больше возрастет в своём интеллектуализме человечество, отойдя от фантомов христианства и всякой эмоциональной мистики, чем больше оно приблизится к своим аполлиническим высотам, тем картины эти станут всё более и более понятными. Но всё, что в мире духовном может быть понято окончательно, всегда будет иметь то или иное отношение к иудаизму. И эта связь с иудаизмом занимает уже первый план, как только мы переходим к ветхо- и новозаветным сюжетам библии. Это целая и очень большая часть творчества Рембрандта, которой посвящена почти вся последняя часть книги.
Ветхозаветные библейские темы получили у Рембрандта своеобразное освещение. Библейские образы у него лишены монументальности, неудержимо и иногда неуловимо перехода в жанр. Тут чрезвычайно выразилась габимность настроения, покидающая художника лишь в редкие моменты. Жанрист пут сказался гениальный. Но библейская поэзия от этого не выиграла. Отпал монумент, отлетела пластическая работа времени. А голландская комнатная собачка сбегает со ступенек крыльца Авраама. В душе художника не умолкали и внутренние незаглушенные голоса. Иногда, выводя иглою или кистью благородные еврейские профили еврейских старцев, Рембрандт помещал их где-нибудь на дальнем плане, или в углу картины, причём весь центр тяжести произведения, весь фокус внимания, переносились им именно на эти как бы второстепенные силуэты и очертания. Но монументальность библейская всё-таки не достигалась и здесь. Библейские картины у Рембрандта всё время колеблются между бытовым жанром и условной, церковно-ипокритной, почти шаблонной иллюстрацией. Таким образом библия не нашла в Рембрандте своего изобразителя и долго ещё, может быть, будет ждать его. Но, конечно, настанет время, когда библейская география примет в художественном сознании человечества классический характер.
Обращаясь к христианским темам, Рембрандт тоже не представил в них монументальности, которой в Новом Завете, впрочем, и вообще не существует. Монументальным в процессе веков оказывается лишь то, что родилось в живой конкретной реальности, коренилось в почве и питалось её соками. Монументален Геракл: его образ рожден в действительной борьбе между первоосновными эллинскими пластами и пришельцами – носителями новых культурных идей, оказавшихся победоносными. За Гераклом стоят столбы веков, погруженных в хмурое и смутное до-аполлиническое существование, с экзальтациями дифирамбического Диониса, но без живых лучей интелектуализма. Монументален Самсон. Монументален Авраам.
За всеми этими легендарными фигурами стоит живая действенная история, их оправдывающая, и в них пластически воплощенная. В Хроносе есть эта замечательная сила. Она увеличивает размеры фигур и придает им художественно идеализированный облик. Если мы обратимся к евангелию, то найдем там лоскутное одеяло из легенд, причём ни один образ не порожден действительностью, а выдуман и надуман. Сам Христос в своём историческом подобии нам неизвестен, а в своём церковно-иератическом отподоблении совершенно оторван от эпохи, страны и народа. В таком же положении оказывается и Сакиа-Муни Готама, так же живущий исключительно в храмовых, совершенно условных аллегориях, так что о монументальности образа Будды не может и быть и речи. Христос и Будда стоят в этом отношении рядом или – вернее сказать – висят в пространстве историческими призраками, перед которыми немеет музыка, бледнеют краски, рассыпается всякий мрамор. Конечно, и Рембрандта ожидало на этом пути неизбежное фиаско. Он пробовал писать Христа в чертах еврейского облика, но, ища несуществующей здесь монументальности, он черпал мотивы и средства из церковных кладовых, впадая в ипокритность, в условность, в иконность, и, наконец, в скучный и неприятный шаблон. Впрочем, ни одна живопись и ни одна скульптура не дали нам образа Христа, превращенного в пластичный монумент процессом времени. Все имеющееся в этой области, включая бриллианты Леонардо, Рафаэля и Тициана, не больше, как декоративный красочный дым. У Лука Синьорелли в Орвиетском соборе имеется прекрасный антихрист. Но сколько-нибудь живого Христа, растущего в монумент, мы не найдем даже у Буонаротти, у которого он представлен, по правде говоря, каким-то ярморочным атлетом в картине «Страшный суд». О бледных попытках современных Уде и говорить не приходится, как и о назарейцах и о романтиках живописи девятнадцатого века.
Всё это только фантомы и больше ничего. Фиаско Рембрандта на этом пути особенно типично. С душою интеллектуалиста, насыщенною, согласно нашей гипотезе, зачатками наследственного монизма, Рембрандт не мог черпнуть для себя вообще в надуманных христианских мифологиях ничего питательного, ничего сочного, ничего восторгающего и уносящего. С Христом некуда взлететь, если только не устремляться в бездны трансцендентной пустоты. Но, побуждаемый заказами новозаветных картин, художник насильственно творил недостижимое, не увлекая этим ни себя, ни других. Получались картины, часто выдающиеся по художественным своим качествам, по гениальной композиции, по не менее изумительной светотени. Перед глазами зрителя плывут и возникают контрастные эффекты, производящие порою впечатление настоящего магизма. Здесь Рембрандт оказывается на такой высоте, до какой поднимались только мастера chiaroscuro[44], как Леонардо и Корреджио. Но Христа всё-таки нет, и нет Нового Завета, этой завещанной человечеству благотворной болезни, через которую должен был пройти пустынный и каменный Израиль. Сам Рембрандт стоит перед нами каким-то старым камнем, свалившимся с сионских высот, обросшим плесенью, водорослями и мхом среди бушующих волн современного ему века. Христианская мистика сама по себе была ему органически чужда. Прямым путем войти в неё он не мог. Но в Голландии семнадцатого века бродили иные форменты, волновавшие Европу и занимавшие умы отдельных мечтателей и фантастов. Поставлено было задачею сочетать Элогима с Христом – нечто небывалое, противоестественное и в высочайшей степени искусственное, увлекательное только для людей распада, живущих синкретическими тенденциями, без здорового монистического зерна. Таким компромисом явилась аллегорика масонства и, в частности, розенкрейцеровства. Я останавливаюсь внимательно в моей книге на дружбе Рембрандта с еврейским патриотом и эмансипатором Менассе бен Израилем. Известный кабаллист того времени, в беседах своих с художником, открыл перед ним вход в символику нового типа. Можно почти с уверенностью сказать, что рембрандтовская светотень – это игра желто-солнечных пятень в безднах непроницаемой тьмы – явилась отголоском в красках розенкрейцеровских схем.
Таковы все главные темы рембрандтовского художественного творчества, к которому относится также и чудодейственный пейзаж. Ему посвящен конец книги.
Моё исследование о Рембрандте вырастает целиком из другой моей книги, также подлежащей ещё опубликованию. Я имею в виду «Гиперборейский гимн», написанный в прошлом году. До известной степени книга о Рембрандте является лишь иллюстрацией к «Гимну», заключающему в себе тезисы гиперборейской мысли со всеми привходящими этюдами и фрагментами. «Гиперборейский гимн» очень мозаичен по своему содержанию, но заключает в себе теоретические предпосылки, которые легли в основу «Рембрандта». От начала и до конца «Гимн» является разрывом, последним моим расчетом с христологией, которой были отданы мои прежние литературно-критические труды. Вместе с тем книга эта, отвергающая в корне всякую мистику и всякий дуализм, является в некоем высшем смысле апологией иудаизма, вознесенного на принадлежащую ему аполлиническую высоту. Я не задавался никакими тенденциозными целями. Если бы в результате обширного филологического исследования, охватившего самые ранние формы эллинских культов, получился какой-нибудь одиозный постулат, я принял бы его бестрепетно на свои плечи. Но получилось нечто иное, нечто светлое, нечто гуманистически завлекательное. Обозначились в рассеивающихся туманах ясные пути, которыми идет человечество, освобождаясь от старых фантасмагорий религиозного и философского характера. Религиозные верования взяты в их исторической оправе, и из них выделены элементы и факторы всеобщего интереса, тяготеющие к научному освещению и постижению. Это была работа, не вступившая и не могущая вступить ни в какой конфликт с так называемою научною мыслью, которая идет от вещих сновидений прошлого к сияющим высотам будущего. Я задавался только целью исследования, и если на страницах двух моих книг – «Рембрандт» и «Гиперборейский Гимн» – наметилась апология иудаизма, то я сам, со слезами радости на глазах, приветствую её с политической точки зрения.
В России издавна кипит, как смола, надземно и подземно, антисемитическая буря, то подавляемая, то раздуваемая, то пылающая, то скрытая в тайниках, но всегда действующая и угрожающая. Не видит её только тот, кто закрывает глаза. Если я не нахожусь в состоянии ослепления или чрезвычайной иллюзии, то «Рембрандт» и «Гиперборейский Гимн», в своей совокупности, являются первою известною мне в литературе защитою еврейства с точки зрения постулатов высшего разума. Каков бы я ни был сам по себе по своим размерам и силам, избранная мною позиция находится на высоте. Оттуда я смотрю и оттуда вижу. Мне могут возразить, что враги еврейства рекрутируются слишком часто среди людей, далеких от умозрительных отвлечений; что здесь обыкновенно происходит разгул своекорыстных страстей, распаляемых недобросовестными агитаторами; что антисемитизм скорее чувство, чем ясный разум вещей. На всё это я отвечаю, что никогда в истории защита с высот мысли, даже и самой абстрактной, не была бесплодною. Пусть только перекрасятся в своих тенденциях высокие и благородные представители неоарийства, и политические последствия такой метаморфозы окажутся бесчисленными. Александрийские отвлечения, при всей их выспренности, могли шуметь на византийских площадях. Величайшие революции в мире, политические и социальные, созревали часто в умах таких одиноких мыслителей, как Кондорсе и Руссо. Кто учтет последствия открытий Ньютона, Герца, Менделеева или Томсона в уличном грохоте жизни. Я бесконечно далек – и это слишком само собою разумеется – [от] мысли зачислять себя в ряды таких деятелей истории. Но отстаиваю наряду с защитою физическою и защиту духовную. Если такою защитою явятся эти две мои книги, написанные в целях чистой науки, то – повторяю – я найду в этом награду на моём многотрудном пути.
Вытекая из «гимна», «Рембрандт» может и наверное будет читаться и отдельно. Я касался в книге многообразно и вопросов техники и чистой художественной критики. Если в этой экспертизе Рембрандта будут найдены некоторые новые указания и факты, то, со своей стороны, я, хотя и придавал бы им всеподобающее значение, всё же главный смысл книги я полагаю в идейной её стороне. Надеюсь, что полиграфические средства нашего современного печатного дела позволят иллюстрировать «Рембрандта» достаточно богато и хорошо.
А. Волынский
Метод исследования
Искусство Рембрандта представляет огромное поле для исследований. Можно написать о нём биографический трактат, и это представляло бы большой интерес: в этом человеке, волновавшем современников и продолжавшем в течение нескольких веков занимать умы, отразились черты не одной эпохи, не одного лишь местного антуража, которые завлекают и определяют физиономию какого-нибудь пусть и талантливого Андриана Остэдэ. Через Рембрандта прошло много наслоений, много сменяющихся воззрений при исключительном своеобразии темперамента в неразгаданных его силуэтах его интеллектуальной личности. Также жизнеописательные этюды ещё долго не перестают появляться один за другим. С другой стороны, изучение Рембрандта в пределах его творчества может быть чрезвычайно разнообразным. В самом деле, перед нами мастер, являющийся одновременно гениальными графиком, не менее замечательным живописцем, единственным в своем роде портретистом наряду с такими величайшими в мире художниками как Гольбейн, Рафаэль, Веласкес. Затем тот же Рембрандт изумительный пейзажист и творец необозримого множества картин библейского содержания, имеющих совершенно исключительное значение в истории мирового искусства. Мы не будем говорить в настоящем исследовании ни о вопросах форм и красок у Рембрандта, ни о технических сторонах гравирования, выступающих с такою рельефностью при изучении приемов и средств великого мастера. Тема же наша заключается в нижеследующем. Изучая картины, вообще произведения Рембрандта со стороны их содержания, всё время чувствуешь себя в контакте с особенным мироощущением, которое можно назвать иудейским восприятием жизни и людей. Мы не решаем сейчас вопроса о самом происхождении Рембрандта. По официальной биографии он был протестантом. Насколько известно, ни у одного биографа, ни у одного монографиста он не назван евреем или еврейским выходцем из какой-нибудь другой страны. Если тем не менее поставить минутной гипотезой, что Рембрандт еврей, то задачу интереснейшего исследования составило бы рассмотреть содержание всего его творчества картин, офортов, рисунков и эскизов с такой именно точки зрения. Когда под таким углом зрения я перелистывал в течение многих лет бесконечное число репродукций, имеющихся в разных немецких, французских и русских изданиях, а также в чудесных альбомах Амстердама и Гарлема, я никогда не мог освободиться от гипноза, от навязчивого чувства, что перед глазами открываются разные стороны еврейского религиозного духа, во всей его отличительной и характерной физиономии. Повсюду у Рембрандта тайны еврейского гения, представленные, можно сказать, в жестах и терминах этого народа. Если Рембрандт не был евреем, истинной загадкой представляется, как мог он подойти с такой интимной стороны к самим сокровенным чертам еврейской души. Мало знать чужой быт во всех его подробностях. Мало даже любить его. Надо ещё видеть и чувствовать и подспудные, подпольные, почти подземно-подсознательные глубины его, чтобы быть его абсолютно компетентным изобразителем в линиях и красках. Здесь нужна не просто только грамматика и стилистика, но и живой неподдельный акцент. В произведениях же Рембрандта и слышится этот еврейский акцент во всём его своеобразии.
Если сопоставить религиозную живопись Рембрандта о картинах других еврейских мастеров, даже соседной ему Фландрии и Брабанта, то сразу же бросится в глаза важное и принципиальное их различие. Взять хотя бы новозаветные или ветхозаветные картины итальянских мастеров Ренессанса разных школ. Это почти всегда окажется переводом на язык красок тех или иных выспренных церковных подобий. Если что и черпается из фондов современности, то только внешняя бутафория и костюм, как например, к Гирландайо. Тьеполо и Веронезе. По содержанию мы имеем здесь дело только с абстракциями, только со схемами определенного вероисповедания. В этом отношении, если оставить в стороне некоторое [иеросмармостью (нрзб)] Леонардо да Винчи, вся итальянская живопись, не одной только эпохи Ренессанса, консервативного – верна церковной символике; аллегорика, – изобразительными традициями прошлого и шаблоном настоящего. Правда, здесь бывали реформаторы и даже великие, как например, Рафаэль, содержащий новый тип Мадоннн. До него таких женских ликов, вписанных со всею гениальностью солнечного ясного понимания материнства, в живописи не попадалось. Были только намеки в этом направлении у умбрийских предшественников Рафаэля. Тем не менее и великое новшество Рафаэля оставалось в границах римско-католических восприятий, ни в чём решительно их не перерабатывая, не взрывая и не изменяя. Реформировалась только техника и изменялся только тембр психологического восприятия, от Джиотто фра Беато Анджелико и Беноццо Гоццоли до позднейших и условнейших мастеров болонской школы и барокко. Реальный конкретный религиозный быт нигде в Италии не нашел в живописи своего адекватного выражения – ни у флорентийцев, ни у сиенцев, ни даже позднейших венецианцев. Везде схвачены только черты наружного уклада жизни, празднеств, семейных церемоний, костюмов и причесок alayaggera. но нигде ни один мазок не коснулся интимнейшей стороны религиозных переживаний. Религия стояла тут в стороне. Вся её красочная и звуковая симфония разыгрывалась где-то на возвышении, на подмостках церковного просцениума, причём зрители созерцали её из своего партера. Расстреливаемый какой-нибудь святой Себастьян предстоял публике настоящим ипокритом церковной легенды, со всею театральною каноничностью, подобающей сценически-художественному моменту. Поток жизни при этом ни в чём не нарушался, ничем и никем не отклонялся в сторону. Между обоими мирами лежала непереходимая грань – та самая грань, тот самый барьер, который и сейчас ещё отделяет жизнь европейских христиан от христианских верований.
Совсем другое явление представляет собою библейско-иудейская, библейско-еврейская живопись Рембрандта. Тот весь был перелит в религию, даже не перелит в религию, а слит с нею неразрывно, в каждом конкретной минутной данности. Все углы еврейского жилья выметаны религией. Вся грязь обихода, весь его мусор, вся его замызганная одежда облита желто-золотым светом религии. И другой, потусторонней религии, представленной на земле в театральном ипокритстве, с музицирующими ангелами фра Беато Анджелико и Мелоццо да Форли, как будто бы и не существует на белом свете. Религия тут у Рембрандта – это я, это – ты, это – мы все вместе в скопе, в чепухе случайного анекдота, в писке гвалте детей, в исторических слезах карикатурно-сомнительных эксцессах человеческой нежности. Никакой аллегорики и никакой помпы. Ни котурнов, ни масок. Вот религия, изображенная гениальным живописцем, в контраст всему миру, и другой религии для него не существует. Но это именно и есть чисто еврейская теология – и разменная для каждого данного мгновения, и в чистых полновесных слитках для кредитования веков. Всё имманентно, всякая трансцендентность отброшена. И читая глазами произведения Рембрандта (его именно читаешь, а не смотришь), переживаешь минутами такой подъем монистических настроений, как если бы мы стояли на высоком пригорке и оттуда взирали на всё разнообразие жизни сквозь единое апперцептивное представление. Смотришь и евреинизируешься, хочешь или не хочешь этого. Этой-то замечательной черты совершенно не понял Лангбен в своей книге: «Rembrandt als Erzieher»[45]. Он даже не почувствовал сокровенной разницы, целой бездны, отделяющей Рембрандта от назарейцев начала XIX века и какого-нибудь Удэ наших дней.
Рембрандт
Имя «Рембрандт» само по себе какое-то загадочное и малопонятное. В моих поездках по старым Нидерландам, только с 1609 года разделившимся на Голландию и Фландрию, мне не раз приходилось расспрашивать и разузнавать, что собственно означает такое наименование. Но никто ни в Гааге, ни в Лондоне, ни в Амстердаме не мог сообщить мне на этот счет решительно ничего. Я и не знаю, подвергался ли этот вопрос когда-либо и кем-либо какому-либо исследованию. Однако имена нидерландских мастеров обычно состоят из собственных имен и определений фамилий. Таковы из фламандцев Антоний ван Дейк, Питер Пауль Рубенс, Дирк Бутс, Рожер ван дер Вайден, из голландцев Лука Лаврентий, Петр Ластман, Андриан Остедэ, Поль Поттер и т. д. Имена эти не перечислить. Каждый художник назван по имени и по фамилии: Франс Гальс. Тут сказывается универсальная склонность человечества не выделять данного человека, не изолировать его от всего окружающего, а, дав ему личное имя одного из героев мифологии или любимых святцев, связать его в то же время либо с отцом, либо с местностью его происхождения, либо определенной вотчиной, если речь идет о каком-либо аристократе. Помимо таких указаний, существуют ещё и так называемые прозвища, весьма распространённые в художественных кругах. Сюда же относятся псевдонимы, добровольно выбираемые их носителями. Ботичелли – это ведь, в сущности говоря, только прозвище, по ремеслу отца художника, фамилия которого была Филиппени, Содома – это тоже только сенсационное прозвище, данное замечательному мастеру кисти по поводу его эротической извращенности. Подлинное же имя его было Антенне Бацци. Перуджино назван по широкому церковному проходу города Перуджия. То же надо сказать и о Леонардо да Винчи. Художник родился, по всем вероятиям, вовсе не в Винчи, а в близлежащем Анкиано. Настоящим именем Корреджио было Антонио Аллегри. Замечательная вещь: если итальянский художник достиг чрезвычайной популярности, преобладание получает личное его имя, перед которым стушевывается фамилия. Гораздо чаще говорят Леонардо, чем Винчи. Очень редко говорят Буонаротти, ограничиваясь именем Микель-Анджело. Почти исключительно говорят Рафаэль, забывая фамилию Санцио, и очень часто связывают имя Рафаэля с названием города Урбино, откуда художник родом. Из величайших итальянских граверов назовем Марка Антонио, которого реже называют Раймонди.
Теперь, если перейти к художникам других стран, то, например, во Франции, в Германии, в Англии и Испании, повсюду мы опять встречаем и личные имена и фамилии известных мастеров. Жак Калло, Франсуа Бушэ, Антуан Ватто, Альбрехт Дюрер, Мартин Шенгауэер, Бартоломео Мурильо. Там же встречаем мы и множество разнообразных прозвищ: Эль Греко, Мартин Жен и т. д. Нигде в мире вообще художник, знаменитый человек, не выделен в абсолютную какую-то категорию, самодовлеющую и от окружающей среды не зависящую. Так или иначе он поставлен в некую связь, уже одним своим именем с родней, с местом происхождения, с профессиею своею или отцовскою. На взгляд всё это – детали номенклатуры. А между тем здесь ощущается психология, глубина, какая-то культурно философская интуиция, отделяющая Запад от Востока. Запад ставит на первое место сына человеческого, т. е. личное имя носителя. Если носитель занял высочайшее церковное место, избран папою, то фамилия как бы забывается. Вдруг она исчезает из оборота и тонет в пышном гардеробе нового звания. Остается только имя: Юлий II, Лев X. То же и в светской области, где имя Наполеон вытесняет фамилию Бонапарт. Когда мы говорим Людовик XIV мы мало думаем о фамилии Бурбон. Так стоит дело на Западе. На Востоке иначе. Там приоритет принадлежит не сыну, а отцу. Черту эту гениально выставил в своих трактатах Николай Федорович Федоров. Здесь Собственное личное имя всегда находится в сочетании с именем отца, и при Чрезвычайной популярности может даже отпасть личное и остаться лишь имя отца, причём исчезает и сама фамилия. Становится популярным В.И. Ленин. С течением времени и с ростом известности то и дело, даже в газетных статьях, подделывающихся под неродной тон, встретим интимное Владимир Ильич. Там Москва, эта цитадель российско-славянского духа, называла Федорова просто Николай Федорович, а Толстого – Львом Николаевичем. Но возрос ещё в своей популярности Ленин, и вот вдруг имя его засолено, минутами исчезает совсем и заменяется простым Ильич. Это достопримечательно именно в том философском аспекте, который так характерен именно для Востока, даже для дальнего. Когда в Китае давался титул заслуженному сановнику, то в торжественных церемониях он наносился на могильные плиты предков. Ни сын, ни потомки не получали его. Предки достойны наград за явление этого человека, о потомстве нельзя ничего ещё и сказать. Вот глубокомысленная точка зрения Востока, где всё строится на прошлом, пирамидально, на крепком фундаменте былого, а не в разрыве с ним и не личной превознесенности над ним.
Так же стоит дело у евреев, связанных с Востоком всею своею записанною историею. Тут тоже сын и отец сочетаются в одном наименовании. Иегуда бен Галеви, Иоханан бен Заккай – так именуют евреи своих заслуженных и знаменитых людей. Тут полнота и цельность наименования сказываются с особенною рельефностью. Тут прародитель может дать имя не только отдельному сыну или роду, но и целому колену. Что такое Иудея, как не расширенное применение имени отдельного человека – Иуды, к целому колену? Даже потом, в анналах истории, при описании междуусобных войн, мы постоянно читаем: Ефрем объявил войну Иуде. Вениамин пришел на помощь Иуде. Такой изначальный патриарх, как Яков, может дать своё имя
«Израиль» даже и всему народу. Какая культурная высота в такой истиной пирамиде веков! Оторвался человек от отчества, и лети вместе с ветром, пылью и прахом на безславье и измену своему назначенью. Тут возможны всяческие нежные модуляции, то с подчеркиванием одного сыновьего имени, то с выделением отцовского, но всегда и неизменно святоносное слово бен произносится с достаточною выразительностью. Иногда от этого одного маленького прибавления «бен» все слова приобретают почти всепарно антропологическое значение. Бен Адам это не только сын Адама, а просто Человек. Homo sapiens. Сын человеческий. В европейских переводах Евангелия, не исключая и греческого перевода, этому слову придано кощунственно-ограничительный смысл, и только перевод Француа Делича восстанавливает его истинное и широчайшее значение.
Обратимся теперь к Рембрандту. Что собою представляет его странное, нигде не повторяющееся имя? Станем на точку зрения предносящейся нам гипотезы. Допустим, что Рембрандт еврей по своему происхождению. И вдруг имя это расшифровывается и делается понятным. Его имя было Моисей – тогда его могли называть рабби Мойше. Отец его назывался Наэман – тогда он был сыном Наэмана, бен Наэман. Итак рабби Мойше бен рабби Наэман! Если взять инициальные буквы всех этих слов, как это и было принято среди евреев, как это было сделано по отношению к Майлиниду и другим, то, соединив их вместе, мы можем получить слитное имя Рембран. Это имя, попадающееся среди подписей Рембрандта, было также стилизовано: «бран» в «брандт», как у нас в России Лисенко и ему подобные малороссийские выходцы стилизовали свою фамилию на великорусский лад прибавлением в ней новой согласной буквы «в». Вместо Лисенко получалось Лисенков. И так вот что могло бы значить слово Рембрандт. Тут в сложной анаграмме, звучной на европейский лад, был бы слабо отражен семитический источник наименования, который мог бы оказаться непопулярным в стране, сохранявшей, несмотря на все приобретенные ею в XVII веке вольности, своё довольно суровое гетто. Евреев к тому времени в Голландии было очень много, но престиж их среди господствующих классов общества не был особенно завиден. Из биографии Рембрандта мы хорошо знаем, что даже в апогее своей известности художник этот, столь исключительный по своим заслугам и таланту, чувствовал себя в Амстердаме как бы среди вражеских стихий, и дружба с бургомистром Иоганном Сиксом являлась для него лишь светлым эпизодом. Когда аристократичный фламандец Рубенс, окружавший себя царственной помпой, посетил Голландию, то он известил многих выдающихся коллег по кисти, обойдя только одного Рембрандта. Всякая мысль о зависти должна быть здесь исключена. Оба мастера писали в совершенно различных родах и направлениях, и, например, коллега Рубенса, Франс Гальс, близкий ему по духу, не был забыт в числе живописцев, удостоенных лестного визита. Всё говорит нам о том, что Рембрандт занимал в Амстердаме одинокое и исключительное положение. Конечно, гении вообще часто бывают одинокими в своей деятельности. Но в одиночестве Рембрандта ощущается отмеченная всеми биографами какая-то специфическая черта отрешенности от местного быта и упорной несливаемости с окружавшей его средой.
8-го мая 1924 года
Еврейский шнорер
Одной из первых работ Рембрандта, уже переселившегося из Лейдена в Амстердам, является небольшая картина: «Павел в заточении», написанная в 1627 году Рембрандт был тогда двадцатилетним юношей. Рассмотрим все детали этой картины. Представлен глубокий старец. Он сидит на оттоманке, с развернутым фолиантом на коленях, поверх которого склонился лист с начертанными письменами. В левой руке изображенного старца – палочка для писания. Лицо покоится на правой руке, с собранными в кулак пальцами, прикрывающими рот. Всё замечательно в этой картине. Детали требуют истолкования. Правая нога обнажена, выступила из башмака и лежит на нём. Другая нога обута и на полу. Точно старик недавно откуда-то пришел, присел и отдыхает, распустив на правом башмаке ремешок, тут же изображенный. Получается впечатление только что совершенного долгого и утомительного пути. В вышней степени замечательно поза старика. Он согнул спину в полукруг и наклонил голову в глубоком раздумье. Всё на лице его выражает именно раздумье, процесс мысли, творческое настроение. Характер этого человека ощущается с полной ясностью. Что это за старец? Прежде всего, это натура в высшей ступени интеллектуальная, вдумчивая и созерцательная, без малейшего оттенка холодной рассудочности. Глаза, хотя. И открыты, вперлись во что-то, конкретно не существующее. Перед ним носятся какие-то мысли, какие-то умственные видения, объекты выспренных умозрений, слагающиеся в целые картины. Этот старец не тихо сосредоточен, не просто собран в комочек, а внутренне говорит. Высокий лоб открыт – с легкими продольными складками. Скулы бледного рта выпятились далеко вперед. Утонченная какая-то апперцепция пронизывает всё его сознание раскаленной иглой.
Но кто же такой этот человек, с таким замкнуто-напряженным распаленным лицом, с прикрытым как бы инстинктивно устами, своею позою отдельно напоминающий пророка Иеремию на миколь-анджеловской сикстинской платформе? Руки рембрандтовского старца как бы срисованы с легкими вариантами с композиции Буонароти. Оба старца хотели бы кричать, хотели бы вопить, но внутренняя сила удерживает их в молчании. Молчание же это действует сильнее крика. Влияние ватиканской модели может быть объяснено и биографически. Рембрандт в те молодые годы ещё учился у Ластмана, только что вернувшегося из Италии. В картину художника попал блик, огненная черточка из идейного пожара мастера Капеллн. Но всё преобразилось [у] Рембрандта выше степени, почти до неузнаваемости. Голландский живописец прежде всего стёр всякую торжественность, всякую помпу, всякий внешний риторизм. Иеремия Буонаротти – это Римский ипокрит, изображающий пророка. Это театральные фанфары, гудящие на религиозно-политическую тему. Иудейский рок, который воет, плачет, пугает и даже страшит, здесь заменён медный трубкой, который гласит и зовёт легионы. У Рембрандта же это просто еврей, еврей диаспоры, еврей западноевропейского гетто, без малейшего оттенка гордыни волевого дерзновения. Несмотря на то, что на картине Микеланджело изображен старик, всё в ней трепещет молодыми и воинственными. Перед нами титанический аристократ духа, который, склоняя голову под бременем свалившегося на него несчастья, всё же сохраняет в себе героическую выправку. Но у Рембрандта всё по-иному. Глава старца склонена уже совершенно по-еврейски: мудро,
безмолвно, потрясённо-согбенно и нежно-примирительно по отношению к небу. В ногах – ни следы солдатской боевой энергии, в главе – сознание непреложности верховных сил мира, текущее из глубин бесконечного, добро-жертвенного смирения. Если тут есть какая-нибудь героическое черта, то это уже из совершенно иного мира явлений, в котором нет ничего вызывающего и протестантского. Это музыка, это псалом героизма и [в] облике старого человека, который в сущности никогда и не был молодым, этому старцу столько лет, сколько лет его народу. Он сед его сединами, изображен его морщинами, согнулся под тяжестью веков. В мыслях его нет и оттенка светлой и легкой радостности, ощущаемой подчас даже и в пароксизме горя, как играющий хмель Диониса. Если бы дать ещё эту черту задумавшемуся старцу, мы имели бы индивидуальность, в которой иудейские и хамито-ханаанские элементы слились воедино. Но перед нами чистый иудей, пламенно чувствующий всегда сквозь одну и ту же мысль, во всё входящий духом пронзительным и строгим. Никакой экзальтации. Во всём энтузиазм, медленно горящий, как смола.
Под картиной Рембрандта мы читаем надпись: «Павел в заточении». Среди аксессуаров её имеется и длинный меч, воткнутый в солому. Первые заглавные строки листа намекают на готовящееся послание. Всё это атрибуты апостольства Павла, как его понимает церковная традиция. Но откуда же попали в римскую тюрьму эти фолианты, загромождающие всю оттоманку, закрытые и раскрытые, которые не мог принести с собой арестованный и вверженный в темницу старец? Странно было бы также представить себе этот длинный тяжкий меч в слабой и тщедушной руке такого ветхого деньми мудреца! Тут нужны иные руки, иные физические силы. Такими почти плачущими руками, как у рембрандтовского старика, не режут, не бьют, не секут, а только скользят по фолиантам и жестикулируют тихо и скромно в помощь отвлеченной мысли. Еврей ханаанский, придушенный изнутри камнем необъемлемой веры, имеет конвульсивный настойчивый и ударяющий жест, тогда как иудей чистого синайского типа рисует в воздухе свои мысли отчетливо чеканными движениями лица и рук, выражающих ритмику умудренного сознания. Изображенный Рембрандтом старец, это какой-то еврейский шнорер, засевший на перепутье в синагогальную комнатушку и обложивший себя любимыми книгами. Он пришел из соседнего местечка и сделал здесь краткий привал. Открытая голова, без шапочки, без ермолки, эти надписные строчки на раскрытом листе, особенно этот тяжкий меч, прислоненный к ложу – всё это только аллегорика для толпы, внешние черты официального сюжета, может быть, для большей легкости продать картину, которой никто не купил бы, если бы она просто и ясно изображала еврейского шнорера. Толпе нужен ипокрито представленный Павел, со всеми онерами легенды, и художник пускает в ход легкую фальсификацию.
Картина написана с применением изумительной светотени. Старец весь с головы до ног облит остановившимся бестрепетно белым светом. Свет льется как будто бы из окна, но, в сущности, он излучается самим старцем, которого охватила внутренняя какая-то осиянность. Замечательная вещь, смотря издали или сбоку, точно видишь на голове недостающую ермолку. Какая-то незримая тень всё же зыблется тут наверху и завершает, несомненно, портретную голову, списанную с какого-нибудь близкого Рембрандту человека. Но в целом это выделенный сектор света на общем темном поле. Говоря по существу, это – самая большая уступка со стороны художника отвлеченной идеологией христианства. Случайным, мгновенным, белым пятнышком человек плывет в окружающем мраке и тает с часу на час. Пришел момент – пятнышко исчезло и вновь сомкнулась темнота. Два мира – мир светлых явлений, зыбкий и преходящий, с одной стороны, и мир древнего хаоса, – темный, первобытный и вечный, с другой стороны, такова философия картины в целом. Конечно, эта философия далеко не иудейская, насыщенная театральною аллегорикой, совсем в соответствии с мечом. Но это достопримечательная черта во всём творчестве Рембрандта, возлюбившего светотень и её символизм, как никакой другой мастер в мире. Если Рембрандт был по рождению еврей, то тут перед нами открывается великая трагедия, пережитая внутри этим человеком. Все лица у него еврейские, быт – быт еврейский, обстановка и все аксессуары запечатлены духом патетического евреизма, а светотень, сочетание контрастных аффектов, почти опрокидывает и опровергает монизм библейско-иудейского миросозерцания.
Симеон-богопримец
Ещё один образчик трактования Рембрандтом библейских тем в христианской светотени. Картина относится к тем первым годам деятельности художника в Амстердаме, все ещё под сильным влиянием Ластмана. Уже пирамидальность композиции придает картине итальянский характер, напоминая произведения кватроченто, Фра Филиппо Липни, Ботичелли и других. Картина изображает момент принесения младенца Христа в храм. В ней четыре персонажа, не считая самого младенца: богоприимец Симион, Иосиф, Мария и св. Анна. Все фигуры, за исключением Марии, отчетливо иудейские, можно сказать, портретно-еврейские. Особенно хорош старец Симеон. Старцы вообще будут удаваться кисти Рембрандта. По этому поводу заметим, что в еврействе нет свободной играющей младости, брызжущей яркостью какого-нибудь Франса Гальса или Яме Стэна, нет контраста двух поколений – молодого и старого, столь обыкновенного в жизни других народов. Каждый умный мальчишка уже старичок. Будущая старушка слышна в голове молодой девушки. А старость чувствует себя здесь совсем, как дома, и это настолько типично для еврейства, что стареющий человек даже и другого народа становится похожим на еврея. Стоит взглянуть на портрет старого Толстого, старого Дарвина: разве это не евреи по своей непреодолимой серьезности, по окаменевшей своей спокойной мудрости, осененной бровями слегка насупленных глаз? Почти каждый патриарх кажется евреем, у бородачей Корнелия Вискера патриархально-библейский вид. Это замечательное явление имеет свои глубочайшие корни в истории народов. Они идут из одного источника, из общего этногеографического эмбриона. Все три брата, Сим, Хам и Яфет, вышли из одного ствола таинственного родословного дерева, так называемой белой расы, и отделились друг от друга в процессе истории. В доисторическое же время их не было совсем, была одна молитвенная масса примитива, оживленного потенцией будущих веков. Старый еврей несет в себе наглядные черты каких-нибудь Шумиро-аккадийцев, родоначальников вавилоно-ассирийской культуры, и схож с осколком яфетидов – хеттейцами, причинявшими столько забот и тревог египетским фараонам. Мы из самой Библии знаем, из конвульствено-неприязненных криков Иезекиля, что Царь Соломон вырос из смешения двух кровей, хетейской и аморейской и воплощал в себе, в синтетической ограниченности, обе народности. Вот откуда авторитетность еврейского старца. Он какая-то не умолкающая труба старых-старых времен. Все евреи седы этой любезно-вековой старостью, этим шествием отожествляющих веков к нам, далеким потомкам, с утешением и все ещё действенным поучением.
Таков именно и Симеон-богоприимец на рассматриваемой нами картине Рембрандта. Голова у него слегка наклонена внутренним потрясением, никогда не покидающим еврея. Потрясение это от надземного голоса, признанного и почти сентиментально любимого, а не от каких-нибудь тревог и несчастий. В потрясении этом есть неизбывная, целомудренная черта: еврей не называет бога по его имени, не разоблачает его перед людьми, избегает всякой выставки, чреватой кощунственными прикосновениями. Он связан с богом, как супруга, как невеста, и связь эта прикрыта дорогим атласным одеялом из всего окружающего. Нежным и осторожным склонением головы еврей сразу же создает вокруг себя атмосферу доверия и внимания. Так именно склонил свою голову Симеон-богоприимец. Длинная белая борода его, не расчесанная гребнем, но разглаженная разве лишь движением задумчивой руки, это не искусственный парк завитой и выхоленной бороды Леонардо да Винчи, а все тот же шумиро-аккадийский лес древних времен, отдаленнейших эпох Арам-Нахарэим. Мы разглядываем на картине профильную фигуру старца и улавливаем апперцептивно открытый левый глаз его. Апперцептивной иглой можно проколоть всего человека – такой иглы нет во взгляде Симеона. Но ею же можно приоткрыть чужую душу для признаний, и это именно и делает взгляд Симеона. Этому человеку можно не только на официальном духу, но и в обычной обстановке сказать всю правду, всё на свете, ничего не тая, ничего не скрывая. Спина его полукруглая объемлет ребенка своим светлым сиянием, как нимбом. Венца, в ипокритном стиле итальянского искусства, решительно никакого. Никаких концентрических кругов христианской аллегорики. Эта заботливая спина, молодая и старая в одно и то же время, с преизбытком заменяет пустой воздух схематической иконографии. Тут родная плоть простирается над головкою и дышит на неё теплом, защитой и приветом. И держит старец ребенка тоже легко и мягко, без насилия и даже усилия. Всё так естественно и просто, как это могло бы быть только там, где уже не действуют законы земного тяготения, где-то далекодалеко, в надзвездных каких-нибудь пространствах, в условиях иных миров. А между тем все это представлено Рембрандтом именно по-еврейски и по-иудейски – наиреальнейшими бытовыми очертаниями. Даже сомкнутые колени Симеона, даже иератический плащ, лежащий на нём, всё отдает израильским колоритом, пластикой вековечного Иуды и Беньямина. Перед ним на коленях, с молитвенно-сложенными руками, мать мадонна. Что-то в её лице и наряде напоминает чудесных Мадонн Сассоферато, хотя с определенностью установить тут связь двух художников, при посредстве ита-льянофильствующего Ластмана, нет никакой возможности. Оба художника были почти однолетками. Во всяком случае, в фигуре и позе Марии итальянское влияние ощущается довольно заметно. Разве только руки сложены чуть-чуть по еврейскому, с перешептывающимися между собою пальцами. Лицо осенено глубокою тенью от покрывала, спускающегося с головы на плечи. Рядом фигура Иосифа – вся темная, открытою головою, со сложенными на груди молитвенно руками.
Вершину треугольника образует фигура св. Анны. Это уже настоящая еврейка, с лицом матери Рембрандта. По лицу разлита чудесная экспрессия. Весь будущий Рембрандт в этом лице, которое мы будем изучать отдельно и подробно, по всем его деталям. Оно выражает на картине удивление, смешанное с каким-то почтительным гневом, сквозящем в полуоткрытых устах. Руки её разбросаны по сторонам с открытыми к зрителю ладонями. Эти раскрытые ладони, несомненно, написаны по итальянскому образцу. Весь жест св. Анны разительно напоминает жест апостола Андрея в «Тайной Вечере» Леонардо да Винчи. Да и смысл жеста один и тот же – и тут, и там: удивление, смешанное с гневом. Пророчица что-то услышала из сказанного Симеоном-богоприимцем и по душе её прокатилась волна негодующего отрицания. От удивления она развела руками черезчур широким жестом, не совсем свойственным еврейской женщине. Симеон задает Марии вопрос, обычный в таких случаях, при принятии новорожденного младенца: подлинно ли он от сего мужа? Этому и удивляется св. Анна, проникнутая бесконечною верою в свою дочь. Но отсюда ясно, что Рембрандт, окончательно отступая от христианской легенды, рисует нам бытовую еврейскую сцену каждого дня. От церковной фантастики не осталось ни следа. О супружестве со святым духом здесь так же мало речи, как и о белом слоне Будды в легенде индийской. Всё сведено к быту, в реальности жизни, окружающей художника. И только опять символическая светотень разлита по всей картине, подчеркнуто выражая исследование двойственной философии христианства. Вообще говоря, Рембрандт широко использует светотень во всех решительно будущих своих картинах, заменяя ею византийско-христианский нимб. Нет нигде у Рембрандта условно-традиционного нимба, но светотень его – тот же нимб.
Chiaro-Scuro[46]
Среди произведений Рембрандта, относящихся к 1630 году, имеется изображение св. Иеронима, оригинал которого утрачен, но сохранилась старая его копия. Это нечто значительное в плоскости тех идей, которые мы сейчас рассматриваем. И невозможно представить себе более яркой и поразительной иллюстрации – использования светотени для присвоения картине условно христианского ореола. Перед нами нимб, охвативший лик того святого, утрированный до невозможности. Этот нимб большим и замкнутым световым пространством располагается вокруг тела святого, следуя его общим контурам. Бывает, что по тем или иным противоречащим мотивам человек моментами впадает в некоторое затмение художественной меры и допускает почти карикатурное преувеличение принятой им манеры говорить, писать или изображать. Такая утрировка особенно чувствительна в рассматриваемой картине. Разрешу себе [в] этом месте маленькое интимное признание, тешащее моё исследовательское чувство. Значение светописи у Рембрандта было уже для меня совершенно ясно задолго до того, как я набрел на репродукцию «св. Иеронима». Сначала фотографический снимок с картины произвел на меня странное впечатление, и я подумал, что имею здесь дело с одним из многочисленных недостоверных произведений Рембрандта. Но когда я узнал, что эта картина в оригинале принадлежит действительно его кисти, я почувствовал некоторое удовлетворение: догадки мои оправдались.
Что, в самом деле, представляет собою этот большой, широкий и белый, почти повторяющий внешние очертания фигуры нимб? Иероним изображен опустившимся в коленопреклоненной позе перед стеной, увитой растениями, читающим священную книгу. Книга грубо и наивно снабжена двумя аллегорическими атрибутами святости христианского отшельника: крестом и четками. Всё во мраке. Сама фигура Иеронима тоже чернильно черна, и только громадное световое пятно, захватившее видимую часть льва, наполняет центральное место картины. Не видно и не понятно, откуда мог пролиться сюда такой фантастический свет, который, исходи он от любого фокуса, не принял бы столько послушных очертаний. Никакой театральный режиссер не мог бы осуществить его никакою фотомеханикою на сцене. Ясно, что по мысли Рембрандта свет этот излучается, льется потоками из самого Иеронима, оставляя его туловище странным образом неозаренным. Свет призван как бы к какой-то педагогической роли. Он должен существовать для зрителя, ничем не изменяя общего оптического миропорядка. Лев освещен. Но лев только символ, та же педагогика. Освещен и крест – по той же причине. Впрочем, некоторая доля освещения задевает и святого. Так озарёнными представляются нам пятки Иеронима, как если бы они и были отправными пунктами световой эманации. Отметим, что эти пятки представлены замечательно, и мы ещё будем иметь случай вернуться в дальнейшем изложении к вопросам, ими возбуждаемым. Что касается самой фигуры Иеронима, то надо сказать, что Рембрандт сумел оттенить, незаметно и тонко, что перед нами человек иудейского происхождения. Наклон головы лишен нежной сладости и неустойчивости, свойственных наклону еврейскому. Спина суха и мускульно крепка. Едва видное сбоку лицо, физически вполне возмужалое, не обнаруживает никаких следов умственной муки. И тем не менее это святой в христианском смысле слова, окруженный пышным ореолом.
Некоторое отдаленное подобие Иерониму представляет изображение св. Франциска, имеющееся в одной частной английской коллекции, относящееся к 1637 году. Поза приблизительно такая же, как и у Иеронима. Святой стоит коленопреклоненный, с открытыми к зрителю полуосвещенными пятнами, смотря в книгу и держа между руками распятие. Освещена голова, книга, пятки, но уже и часть неодушевленной природы затрагивается откуда-то идущим тем же светом, как, например, солома, бревно и череп, лежащее около Франциска. Тут уже дана, через семь лет после Иеронима, некоторая уступка реализму, без преувеличенного страха представиться зрителю недостаточно пиэтетно настроенным в христианском стиле художником. У Иеронима мы находим только расширенный до невозможности церковно-ипокритный нимб, или такую форму мистики, которая превзошла фантазию всяких Беме и Эккартов. В словах литературно-поэтических мистиков мы имеем дело с задушевным лиризмом и чисто философскими наваждениями, действующими на всякий живую и чуткую душу. По христианской канве вышиты цветочки, которые ещё расцветут и раскроются в позднейшей литературе Новалиса и других немецких романтиков. Такая мистика, плодотворная в своих основах, сама по себе углубила изучение природы и явилась толковательницей естества в терминах духа. Но что собою в этом отношении представляет светотень «Иеронима». И даже «св. Франциска»? Она не углубляет христианского миросозерцания, не выявляет самих фигур в разительном и поучительном рельефе, кажется неестественным водоемом света среди окружающего черного мрака – вообще она, как и всё условное, не плодоносна в познавательном смысле слова, как не может быть плодотворна никакая аллегорика по сравнению с глубинно жизненными символами. Тут именно не символы, которые делаются из конкретностей и реальности, а лишь надуманная конфессиональная выставка миросозерцания, недостаточно крепкого в душе самого художника. Художник провел это миросозерцание через все свои полотна и через всю свою графику с невероятным упорством. Светотень является кричащей темой всего творчества Рембрандта и от его имени неотделима, но с внутренним голосом естества она всё-таки бороться победоносно не могла. Надо всем простерт христианский покров из теней и светов, но христианского впечатления всё-таки не получается.
Иероним представлен ещё в сангвинном рисунке, находящемся в Лувре. Те же черты, что и в красочном оригинале: не иудейский наклон головы, сухая спина, жесткие открытые пятки, без всякой одухотворенности, скрещенные кисти рук – без трепетной благоговейности в пальцах. По-видимому, это рисунок именно к Иерониму, а не св. Франциску, судя по общему ритму всех линий фигуры. Да и существенно детали иные, чем у Франциска. Перенесется рисунок на холст, Рембрандт изменил лишь направление коленопреклоненного святого и окружил его потоком условного света. Художнический инстинкт не обманул его в изображении человека семитической расы, с другим, чем у евреев, иератическим пламенем в сердце. Именно сухость этого рисунка, выдержанного в реальных тонах, без каких- либо оттенков сладостной экзальтации, выдает какую-то личную психологию самого Рембрандта. Как только он выходит из мира тем еврейских, так сейчас же покидает его та благословенная умиленность, которую мы в нём так ценим и любим. Всё каменеет и мертвеет, в лучшем случае итальянизируется. Не то выражение лица, глаз, головы, спины. Иная колющая и слегка раздражающая апперцепция. Иные контрпостные повороты и движения. А светотень, прошедшая в творчество Рембрандта не без крупного воздействия Эльсгеймера, тоже подпавшего под итальянский гипноз, только мутит и холодит восприятие зрителя.
Chiaro-Scuro явилась в искусстве двух стран, в Нидерландах и Италии, великим вкладом, которым мы обязаны гению Антонетто да Мессина. С момента деятельности этого художника он начинает утверждаться в живописи, расцветая чудесным цветом у Ван-Эйка и расширяясь всё более и более у художников нидерландской итальянофильской эпохи в XVI веке и нидерландского ренессанса XVII века. В Италии Chiaro-Scuro имеет своих блистательных представителей в искусстве Леонардо да Винчи, Корреджно, Караваджио, на юге, среди постоянной солнечной игры теней и света в их ярких аффектах. Чего стоит замечательная светотень «Мадонны в скалах», особенно в её луврской редакции, или классическая светотень, поющая и звучно романская, в «Поклонении пастухов» у Корреджно или в его же «Мадонне Цингарелле», иные, находящиеся в Неаполитанском музее. Но совершенного триумфа Chiaro-Scuro достигает только в Голландии и именно у Рембрандта, с именем которого оно связывается на все времена. Несмотря на то, что у некоторых голландских пейзажистов, как Рюмсдаль, Кейп, Гойен, светотень дана в гениальных трактовках и производит захватывающее впечатление. Chiaro-Scuro Рембрандта все же остается несравненным. Тем не менее именно у Рембрандта оно и стало объектом величайшего в истории живописи злоупотребления, послужив орудием тенденциозного утверждения двойственной философии христианства. Он залил светотенью все темы и сюжеты Ветхого и Нового Завета. Всё плещется в потоках неожиданного сияния среди окружающей тьмы. Происходит какое-то неестественное водосвятие или вернее сказать – светосвятие великолепных самих по себе композиций. Но цели своей Рембрандт однако не достиг.
Католическая церковь отнеслась подозрительно к его иллюстрациям и только в позднейшее время некоторые северные протестанты стали собирать изображения Рембрандта для популярного сборника библейских картинок. Что же касается евреев, то никаких попыток в этом направлении мы у них до сих пор не находим. Всё у Рембрандта евреизировано, но иудейского света мы здесь всё-таки не встречаем.
11 мая 1924 года
Попробуем взглянуть на судьбы еврейского народа с наивно-элементарной точки зрения левита-иеговиста. Конечно, за последнее столетие библейская наука и экзегетика выросли необъятно. Сейчас это целый мир идей, генеалогий, расовых характеристик и филологических построений. Иной раввин с интересом перелистает ту или другую книгу новой науки, но основные традиционные точки зрения пребывают в его душе незатронутыми. Так и сказал мне недавно один духовный раввин, выслушав длинный мой рассказ о Велльгаузене. «Читайте Библию, как вы читаете Гомера, – только тогда вы и поймете в ней то, что в ней есть существенного». Генезис генезисом, но если руководиться только научными реконструкциями, Библия потеряет цвет и свет, и из цельного создания народного гения превратится в рассыпанную храмину. В этом отношении первоначальные кодификаторы были правее позднейших исследователей. Для меня же лично, озабоченного установлением народно-психологических классификаций, важно на мгновение остановиться на точке зрения моего раввина.
На Сионе духовном
Свет, зажженый Моисеем на Сионе, распространялся по миру медленным темпом. В Синайском сиянии он бил, как солнце. Это было первое солнце духа, солнце справедливости и гуманизма, которое блеснуло в глаза тогда ещё молодому народу. Если присмотреться, в самом деле, к скрижалям ветхого завета, сквозь облекающий их мифологический туман, мы различаем в них вечные какие-то письмена, которые не устареют никогда. Законодательство Моисея для раввина предвечно и вечно по самому своему содержанию, и до сих пор ещё человечество читает первые пять книг Библии с неослабевающим изумлением. Всё равно, всё чисто, всё светозарно. Всё светится с высокой горы. Что бы ни произошло в долинах, свет синайский остается путеводным навсегда. Он прорезывает воздух истории остриями своих лучей, не рождая в нём никаких теней. Тени появляются только в его соприкосновении с реальными предметами земли, с их плотской материальностью, не пропускающею через себя световых потоков. Ударившись в землю, он озаряет только те её части, которые оказались не замеченными. Таков свет Синая, отразившийся в Моисеевом законодательстве. Если бы мир бил бесплотен, если бы он не таил в своих недрах источников тьмы и хаоса. Тогда Моисей одним своим словом с Синайской горы явился бы создателем какого-то нового, невиданного до него космоса, и бесконечное сияние света разлилось бы раз и навсегда по всем векам и по всем пространствам. Так мыслит раввин-иеговист. Сразу же устранилась бы ночь и настал он – непрерывный, немеркнущий и неиссякающий день.
Но такое целостное воплощение цвета на землю есть-только мечта. Преломление его в условиях реального мира, в исторической действительности, совершается не только медленно, но и в мучительной борьбе с силами хаоса и мрака. Уже в тот самый момент, когда зажигался светильник Синая, еврейская толпа выходцев из Египта плясала перед идолом материализма. Конечно, относящийся рассказ легендарен, как и вообще легендарна вся история Моисея, писанная не его содержательным пером, а пером кодификаторов эпических преданий, окружающих первые шаги народа по историческому пути. Но в легендах больше правды, чем в иных подлинных документах достоверной действительности. Как это ни покажется парадоксальным, легенда действительнее самой действительности. Написанное о золотом тельце показывает с несомненностью одно, что народ еврейский, прошедший в течение нескольких веков кушито-хамитскую культуру египтян, не был ещё готов к восприятию Моисеева закона. В нём бурлили разбуженные натуралистические страсти, кипела кровь природных влечений, нерегулируемая ещё контролем разума. Но слово Моисея было сказано, и руководство на все времена преподано. Была намечена идея вечного дня.
В ханаанской земле завоевания, среди широко расплескавшейся] хеттейско-аморейской культуры, слово Моисея, входя в процесс истории, звучало призывною трубой и требовало борьбы с местными религиозными верованиями, с их жертвенными ритуалами на габимах. Габима сделалась тою пропастью, которую надлежало взять. В своих непобежденных ещё натуралистических стремлениях народ еврейский то и дело смешивался с местными этническими элементами и, изменяя преподанным ему нормам права и справедливости, впадал в кровную органическую связь с хеттеями и амореями. Но труба продолжала звучать и делала своё направительное дело. Иногда раздавались и новые замечательные слова наподобие слов Моисея. Говорили жрецы, левиты и пророки, направляя челн иудейский по верному руслу. Так или иначе, но эта эпоха в жизни еврейского народа может быть названа эпохою борьбы с габимами. Свет лился с высоты и, преломляясь в фактах слагающегося быта, озарял верхушки жизни, оставляя всё прочее в колеблющихся и трепетных потемках. Вечный день ещё не наступал.
Храм Соломона на Сионе является третьим и почти законченным этапом в истории автономного народа. Был литургический парад, были жертвоприношения и всесожжения, была процедура усвоения вечной мысли законодателя, с теми необходимыми ограничениями, которые создаются реальным укладом жизни. С течением веков кое-что обросло плотью и становится рутинным. Создавалась полумертвая инерция в богослужебном молитвословии, может быть, уже не шевелившем сердца, особенно в тот момент, когда меч Веспасиана уже навис над святым городом. Об этом свидетельствует шум сектантско-гражданской борьбы, разлившийся по всем градам и весям Палестины перед великою катастрофою 70-го года. Храм Соломона – великая вещь в истории Израиля. В нём был свет, было пламя, было вдохновение, достигавшее замечательных высот. Все же силы эти не были адэкватны Синаю. Именно тут, на Сионе, в подобиях материального и временного, они были заключены как бы в коробку ковчега и сведены к условно-иератическим нормам. Элогим со своих высот следил за происходившим, принимал жертвы и слушал возносившуюся к нему молитву, но самолично не говорил к народу, как говорил он некогда с Моисеем. Голос его приносился иногда в речах тех или других пророков. Но в общем он молчал, и жизнь текла в берегах неотвратимой судьбы. Свет был, но была и ночь. День был короток. Синай иногда просто померкал в сознании людей. Этот третий период в истории еврейского народа можно назвать периодом храма Соломона.
Но храм пал – наступает последний, четвертый период, возвращаемый рабби Иоханааном бен Заккеем. Это период синагоги и книги, ещё не изжитый историей, период всей диаспоры вплоть до наших дней. Нет самостоятельного государства. Народ рассеян по лику земли. Нет больше никаких жертвенных всесожжений, восходящих к небу в облаках душистого фимиама. Но слово Моисея, как никогда раньше, изученное, развитое, разъясненное и дополненное, звучит сердцем с новою силою. Вот когда впервые оказались поверженными все габимы всего мира. Вот когда культ материализма испытал жесточайшие удары, от которых он не поднимется никогда. На смену старой розни Ефрема и Беньямина появляется святая солидарность, обнимающая все разорванные части живущего в изгнании еврейского народа. Рассыпанная каменная храмина Иерусалима вдруг, неслыханным чудом каким-то, по слову рабби Иоханана, чудом острого воздействия на умы и сердца, восстановлена в ином нетленном и всё же реальном виде. И всё наглядно. Сам духовный Сион, сменивший старый материальный и минутный Сион, видим, созерцаем и осязаем везде, в каждом бесгамидрате, на каждом шагу. Синагога оказалась куда величественнее пышного храма Соломона. Весь Синайский свет тут налицо. Вся легенда Моисея стала плотью и кровью новой истории. Наступает царство вечного дня и вечной молитвы. Эту наступившую эпоху, длящуюся и ныне, можно назвать синагогальною или эпохою рабби Иоханана бен Заккая.
Молитвенный дом открыт во всякое время дня и ночи. Ночи он и не знает. Ушли живые, пришли мертвые. Так же как и живые, мертвые творят всю ту же молитву в очередь с живыми. А если в неурочный час заглянет в синагогу живой, то он предварительно заботливо постучит в дверь, не считая дом пустым. Как это великолепно. И как общение с почившими здесь осуществляется полнее, живее и лучше, чем в дуалистической христианской доктрине представительства святых. Все вместе. Все на молитве, – и вся жизнь в молитве. Сон, еда, дело и размышление – всё в пеленах вечного дня и вечного света. Вот он свет без теней. Chiaro без Scuro, истинно иудейское монистическое понимание действительности и правды, в каких бы формах они не представали нашим глазам.
Если с таких высот подойти к творчеству Рембрандта, то пришлось бы сказать, что разве лишь для эпохи габимы и эпохи материального Сиона применима с большими ограничениями его изобразительная светотень. Как только художник, знавший еврейство, как ни один другой художник в мире, касается своею кистью тем высшего порядка, светотень его становится искусственною, а временами и аффективною. Черты моисеева законодательства требуют для своего изображения полностного света во все стороны. Всё, что отдает преданием рабби Иоханана, все эти бабушки и старцы, склоненные над книгами, все эти бесконечные раввины, мыслители и философы, – всё это тоже тяготеет к полному и всестороннему освещению. Когда Леонардо да Винчи, в своём «Trattato della Pittura»[47], указал на основные принципы светотени и перспективных окружений, как на зиждительные элементы живописи, он, конечно, имел в виду, скорее внешние эффекты творческого процесса, чем внутреннее существо дела. Для передачи этого внутреннего существа светотень должна быть использована с необыкновенною экономией, особенно если речь идет о картинах с тем или иным библейским содержанием, о сюжетах, схваченных из той или другой полосы еврейской истории.
12 мая 1924 года
Отец
Мы имеем портрет отца Рембрандта в масляных красках и в нескольких офортах, собранных вместе Ровинским. Если присмотреться к чертам этого лица, то можно будет восстановить с большою правдоподобностью внутренний облик, за ним скрывающийся. Отец Рембрандта родился в 1567 году и умер в 1633 году. Мы имеем изображение его, относящееся к 1629 году. Ему было, значит, в то время за шестьдесят лет. Перед нами старец, представленный без бороды, с широким мускулистым лицом, изборожденным мягкими тонкими морщинами. Сетка этих морщин проходит по всему лицу. Лоб высокий, открытый, без следа волос на темени. Во всём лице ощущается какая-то тяжесть. Но под этою тяжестью прочной и крепкой лепки чувствуется большой фонд душевной мягкости и та интеллектуальность, которая отделяет иногда простого еврейского мельника какою-то аристократическою гранью от вульгарного безинтеллектного нидерландского фермера из галлереи Остаде, Теньера, Броуера и других. Это весьма умный человек, с огромным опытом, много живший и много передумавший. При массивности общего впечатления в чертах лица замечается здоровая утонченность, всегда придаваемая общей экспрессии вдумчивой и деятельною мыслью. Есть люди, которые думают широко, бесформенными темами и схемами, стихийными элементами своего сознания. От такого суммарного процесса мышления по душе их в данных очертаниях проплывают настроения общерелигиозного и общефилософского характера. Не таков отец Рембрандта в рассматриваемом изображении из частной парижской коллекции Пауля Миллера. Он устремил глаз своей изнутри в какой-то определенный предмет и апперцептирует его тихо и проникновенно. В сжатых губах, дающих приятно-спокойную линию, заключен еле уловимый намек на улыбку. Подбородок крупный, прекрасно моделированный, с едва намеченным в нижней его части, около шеи, что живою припухлостью без всякой обрюзглости. Скула выдающаяся, образующая впадинную тень на лицо. Глаза смотрят вниз спокойно и тихо. Легким мазком художник наметил редкие брови.
Таково лицо старика в общих его очертаниях. Если закрыть глаза и подумать об этом человеке, не вглядываясь больше в конкретное изображение, мы чувствуем, что в душе нашей осталось впечатление чего-то солидного, импонирующего, чего-то богатого содержанием и наверно остроумного. Расу этого человека трудно определить потому, что лицо представлено без бороды – могучим скелетом, покрытым ещё пульсирующею плотью. Но прибавьте бороду к этим типично еврейским ушам, длинно вытянутым и с приклоненною раковиной, сохраните при этом написанную на картине ермолку на темени, и перед вами окажется уже несомненный еврей, во всей его подлинной характерности. Этот длинный ровный нос, не хамито-ханаанского происхождения, не хеттейский, не ассирийский, а чисто иудейский, достойный еврейского патриарха, этот мягкий наклон головы, без кичливого вызова небу, струнно-музыкальный и ласкательно напевный – всё вместе говорит о том, что в повседневной лейденской толпе человек этот мог казаться пришельцем. Это не мельник Андриана Остаде, дерущийся, пляшущий и ссорящийся при уплате за выпитые бутылки. Такого человека, какой отпечатался в изображении Рембрандта, даже трудно себе представить в дурацкой алькогольной экзальтации. Его подъем светится изнутри, бликами поднявшихся со дна души, играющих интеллектуальных эмоций, ликование его перевито полосками белого света, естественно наклонное к нежному и меланхолическому минору. Вот что это за человек. При простоте профессии голландского мельника, культура в нём ощущается какая-то стародавняя, многовековая и седовласая. От такого именно человека, живого, страстного и вместе с тем вдумчивого и глубокого, мог родиться гениальный Рембрандт. Сына связывали с отцом многие кровнородственные черты: трепет здоровой плоти и вечно вибрирующая духовная струна.
Рембрандт любил видоизменять и наряжать в разные костюмы и головные уборы людей, которых он писал, даже и самого себя. Весьма естественно предположить, что для каких-то своих художнических экспериментов он представил отца своего бритым, тогда как в действительности, как это и видно из некоторых других портретов, почтенный старец носил бороду. Мы имеем несколько бюстовых портретов отца Рембрандта того же 1629 года и ближайших последующих годов, где он написан с усами и бородою, причём на одном из портретов, в шляпе и с пером, усы приподняты кверху для придания лицу дерзкой воинственной отваги. Но все ещё прямой и ровный, без какой-либо горбинки. Но хотя лицо сужено в скулах и украшено острой, кокетливо подстриженной бородкой, не трудно совсем узнать в нём лицо отца Рембрандта. Те же уши, семитического рисунка, та же выразительная черта губ и все тот же, изнутри льющийся духовный колорит интеллектуальности и внимательной апперцептивности. Глаза открыты для волевой фиксации мира. Но в них нет наивной молодости, свежей и голубой восторженности, а дано серое предвечное понимание того, что, может быть, глаза и видели когда-то и где-то. Хотя костюм на этом человеке условный и театральный, хотя лихо развевающееся над головою огромное перо совершенно не гармонирует с настоящим его обликом и сбивает впечатление от него на неверный путь, всё же никакой наряд, никакая бутафория, ни даже изменение в складе лицевых костей не может изгнать совершенно присущего ему основного характера. Это еврей. Портрет с пером, рассмотренный нами, находится в частной коллекции В. Чемберлена, в Брайтоне.
В целом ряде других портретов масляными красками отец Рембрандта выступает перед нами со всеми вышеобозначенными типичными для него чертами. Полуиератическая ермолка повторяется часто. Носу придается иногда чуть заметная горбинка. Усы и борода даны в их естественно растущем виде, без норочитой подстрижки и хитроумной прически, как на портрете с пером. Вдумчивость и душевная жизнь – всё та же: спокойствие в фиксации мира, нарушаемое лишь иногда сиянием подспудной, спрятанной приклоненностью к старым отцам. На портрете бостонского музея, всё того же 1629 года, старик изображен особенно трогательно, с морщинистою рукою, наложенною на груди, поверх отороченного мехом пальто. Ермолки нет, и обнаженная голова, всем своим архитектурно крепким черепом, предстает перед нами во всей своей реальности. Наклон головы отдает веками пережитых страданий. Точно из древнего утеса склонился к нам трепетный стебель горного растения. Всё старо, почти архаично, всё дышит мудрою покорностью. И при этом в общем очертании та неизбывная сладость, которая в моментах самоотрицания производит на нас особенно чарующее впечатление. Когда герои и подвижники иных рас свершают своё служение миру и людям, мужественно шагая через ограды себялюбивого я, от них почти всегда веет суровым и жестким дыханием аскетизма. Но еврейская жертва, как бы ни была она тяжела, лишена всякой трагической помпы. Никакого крика. Никакого церковно-колокольного звона. Никакой брезгливой отрешенности от мира. Евхаристия тут дана в неподчеркнутом преломлении телесного хлеба – хлеба повседневной реальной жизни. И всё реально, сладко и сладостно до безконечности. Точно кто-то с кем-то прощается, проливая восторженные слезы, с утешительным улыбающимся обещанием вернуться в самом скором времени. Такова еврейская истерика диаспоры, которой не заменить ничем на свете. Всё это имеется, всё это чувствуется в таких простых и на взгляд незначительных пустяках: рука положена на грудь как-то особенно тепло и мягко, голова склонилась в бок. Чутко лилейным контрпростным движением, какое не предносилось даже и Леонардо да Винчи – всё видно, всё ощутимо в своей фундаментальной расовой основе.
Имеется ещё несколько портретов отца Рембрандта, считающихся достоверными. В Копенгагене, в Гааге, в Инсбруке отец представлен в знакомых нам чертах, хотя и с некоторыми отличительными оттенками. Разнообразие причудливых костюмов мешает иногда отожествлять лицо с установившимся о нём представлении. Так портрет в Инсбруке дает нам этого человека в довольно пышным и фантастическом наряде. Особенно неестественным представляется его высокий головной убор, многоэтажное какое-то сооружение, частью напоминающее восточный тюрбан. Но черты лица узнаешь довольно легко. Нос с заметною горбинкою, но уши те же, что и на других портретах. В XVIII веке считали этот портрет изображением Филона Александрийского. Но когда сгруппировались все полотна Рембрандта и стали изучаться в своей совокупности, то черты отца художника до такой степени пригляделись, что их без труда различаешь среди множества других лиц. Да и внимание к работам Рембрандта, к его личности и творчеству, со второй половины XIX века, становится всё более и более пристальным и углубленным. Теперь уже мы знаем не только отца, но и братьев его, особенно Андриана, вообще почти всю его семью, весь ближайший круг людей, с которых Рембрандт писал свои картины и портреты. Повсюду отец Рембрандта – одно и то же существо, интеллигентное, с налетом жизненной мудрости, вдумчивое, но покрытое тяжеловесной материальностью. Плоть его суха, тяжка, крепка и физически добротна. Если строить человека только из такой плоти, то он выйдет грубым и прозаичным. Но если пронзить эту плоть духом, то получится существо действительно замечательное, каким, вероятно, и был отец художника.
На гравюре ван Флита, сделанной по красочному оригиналу Рембрандта 1630 года, мы имеем портрет отца за короткий срок до смерти. Всё лицо с потухшими глазами в трепете старческого бессилья. Скулы почти обнажились, щеки [об]висли, подбородок, вся нижняя часть лица, заметно осунулись. Нос опять лишен горбинки. Этою горбинкою, характерною особенностью хеттейско-семитического типа, Рембрандт постоянно оперирует для достижения разных эффектов. Однако, есть ли горбинка, или её нет, всё равно – лицо выдает себя и своё расовое происхождение. Но уши всегда одни и те же: приклоненные, вытянутые, слушающие, всегда настороже, всегда готовые к восприятию, всегда выписанные художником с необыкновенным рвением. И на глазах, открытых и пристальных, постоянно ощущается тонкая завеса стыдливой щепетильности. Расовая еврейская апперцепция иная, чем апперцепция других народностей праарийского корня: не колющая, не оскорбляющая, не раздевающая, не вожделеющая. Вот откуда и новозаветный запрет смотреть на женщину с вожделением, ибо такое созерцание равнозначно совершению настоящего прелюбодеяния в сердце своём. Но можно именно по иудейскому смотреть на женщину, без цинизма, без малейшей похоти, с открыто-закрытыми глазами, с тем теплым человеческим умилением, которое всё обращает в душевную маску. Такой взгляд успокаивает женщину и внушает ей доверие. Вот этот-то взгляд, взгляд разверзшихся очей, подернутых скромностью, почти иератический, какой-то молитвенно-богомольный, с нежными резервами в глубинах своих, мы и ощущаем в портрете отца Рембрандта. Если перефразировать слова Вольтера о боге, то можно сказать, что отец Рембрандта не еврей, [но] его по всей справедливости естественно было бы считать и называть таковым – за один этот взгляд, за одну эту целомудренно скромную апперцепцию, которая никогда не лезет на вас своею иглою.
Переходим ещё к одному портрету в заключение нашего анализа живописного материала об отце. Я имею в виду портрет, находящийся в портретной коллекции Вассермана и считаемый современными исследователями за достоверный.
Портрет замечателен. Это отец Рембрандта в прямоличном изображении. Весь лоб открыт к зрителю. Лицо вылито в законченный овал, борода и уши намечены верными штрихами. Линии губ сомкнуты между собою жестко, кричаще и почти трагически. Вообще по всему лицу проносится какая-то дикая экспрессия, близкая к состоянию некоторой исступленности. Мудрому человеку свойственно подавлять в себе тигра инстинктов. Он знает страсти, но умеет ими управлять, умеет от них эмансипироваться. Но иногда довольно какого-нибудь чрезвычайного повода, чтобы лик мудрости убежал, регулирующий аппарат расстроился, и чтобы перед нами оказался настоящий тигр. Тигр мудрого человека свирепее всех иных тигров. Если представить Сократа, лишившегося внезапно даров своей духовной гениальности, что за ужасный зверь предстал бы перед нами. Природа ревет в таком человеке всеми своими голосами, но голоса эти не слышны только потому, что их загнали в темноту иные высшие инстинкты. Возвращаясь к портрету Рембрандта, надо сказать, что художником тут схвачен один из характернейших моментов в биологии целой расы. Нет ничего ужаснее еврейского базара. Невыносим еврейский крик во время несчастья. Вы всем сердцем тут, вместе со страдающими людьми. Но вы в то же время отвращаетесь от разоблачившегося облика иной, звериной, прежде побежденной природы. Толпы мудрецов, с которых совлечена мудрость, просто отвратительны. Эти покрытые конвульсиями лица, эти исступленные жесты, эти сверлящие визги, бесстыдно оглашающие воздух – всё это, вместе взятое, производит отталкивающее впечатление. Дальнее подобие такого явления мы замечаем в лице отца Рембрандта на указанном парижском портрете. Глаза страшно открыты и вперены в даль бесконечных пространств.
Среди офортов Рембрандта, полностью собранных Ровинским, мы имеем почти все главные подобия уже знакомого нам облика. Здесь имеются портреты отца, как фантастического, так и реальные, во все главных вариантах.
Интимная игла офорта дает полный простор художнику при воплощении им некоторых семитических черт. Целый ряд графических портретов поражает совершенно еврейским видом лиц. Чего стоит одна эта продольная морщинка, от носа к губам и даже к подбородку, проведенная Рембрандтом на дисках или в разных состояниях одной и той же доски. Тут же мы имеем чудесные офорты профильных категорий, но повторенных ни в каких картинках. Некоторые из них представлены в многочисленных этапах офортной ретуши. Голова отца изучена во всех положениях и склонениях. В общем же его графическая иконография не дает новых материалов для нашего анализа в данном направлении. Подчеркнут семитический характер лица, но и только. Наконец, в заключение, отметим три портрета, из которых один в масляных красках – трагический, из коллекции Вассермана – нами только что изучен. Все эти три портрета, обычно помещаемые в сборниках рядом, Вольфганг Зингер считает образными копиями гравюр Ливена, из его серии восточных голов, причём Зингер допускает, что игла Рембрандта всё же прошлась по этим офортам. Это замечание исследователя ни в чём не меняет высказанных нами соображений.
Расставаясь на некоторое время с отцом Рембрандта, упомянем вскользь, что имя его Гармене не имеет в себе, по-видимому, ничего еврейского. Но при крещении имена постоянно менялись, причём обычно новое имя бралось из местных христианских словарей. Именно же Ровинского [То есть мнение. – Прим. ред), ничем не подкрепленное, о том, что «прозвище» Рембрандт относится к числу довольно распространенных в Голландии, не подтверждается ни расспросами, ни многочисленными справками, собранными мною на месте.
14 мая 1924 года
Мать
Изображение матери Рембрандта представляет собою явление исключительной важности. Мы имеем здесь ярко и проникновенно выраженный тип еврейской женщины, той фазы её развития, которую можно отнести в установленных нами общих подразделениях, к периоду духовного Сиона. Если относительно отца Рембрандта, Гарменса, ещё могут существовать какие-нибудь сомнения, то здесь всякие колебания покидают внимательный взор. При всей своей духовности Гармене хранит в себе и черты габимы: налет голландской культуры XVII века на нём весьма ощутителен. Потому-то Рембрандт и пользовался обликом отца при изображении разных светских фигур с самими фантастическими нарядами эпохи, никогда однако не вдаваясь при этом в карикатуру или невозможный шарж. Под наслоениями габимы всё же сквозит дух первородной, основной, семитической сущности. Но женщины еврейские консервативнее мужчин, и в облике матери Рембрандта мы уже не видим никаких черт местной ассимиляции, видоизменяющей первоначальную чистую индивидуальность.
Что такое еврейская женщина? Прежде всего, в биологическом отношении, это всегда и повсюду, во всех перипетиях жизни, потенциальная мать. Она может быть невестой, супругой и матерью, но не вольной подругой каких-нибудь романтических кутежей и увеселений. Следуя своему естеству, по прямой линии, без уклонений в сторону, она настраивает свои тонкие нежные струны на вечный лад будущих семейных волнений и радостей. Отсюда такая узкоколейность и элементарность её душевной жизни, на ранних ступенях её физического роста. Эротика её не похожа на романтику. Нет капризной разбросанности и безответственной игривости, нет пылающих огней, обегающих всё кругом, как это мы видим у столь многих арийских женщин. У этих последних женщин всё дано в прихотливых сочетаниях, всё пенится забавою минуты, и цель так же мало выражена в шаловливой романтике, как мало она ощущается в душе милой сильфиды. У еврейской же девушки всё серьезно, чревато будущими заботами, почти торжественно и высоко человечно в своём напряжении, в своём фатальном жертвоносном стремлении к единой существенной цели. Самое явление невесты было бы затеряно в человечестве, не будь на свете еврейской женщины. С ранних, почти детских лет своих она несет всегда эту целомудренную точечку будущего долга. И всё около этой именно точечки, в личной её биографии, свивается, закручивается и накапливается слой за слоем. Смеется такая девушка по-особенному. В голосе её звучит призывный колокольчик, а смущенное лицо заливается пламенем нежного и многозначительного румянца. Слезы у неё какие-то болевые, тяжеловесные, точно выливающиеся из той самой ткани, которой предназначено сломиться и разорваться и которой в эти именно секунды уже дано ощущение будущей катастрофы. Еврейская девушка всех типов, на духовном Сионе, как и в недрах культурной габимы, плачет долго, упрямо, с захватом всей её сущности, с такою цельною трагичностью, какой не встретить ни в каком другом народе. Вся душа в слезах, всё проплакано до мокроты, всё собрано в стихийном бурлящем маленьком водовороте. Вся миссия еврейской девушки располагается по пути тревожно заботливой и потенциально материнской отчаянной слезы. Вот где родилась идея Мадонны. Идеи этой нельзя сочинить. Её пришлось взять прямо из еврейского источника. Разлагаясь в условиях чуждого быта, испачканного страстью, распутными вдыханиями и всяческими исступлениями то в стиле Ваала, то в стиле Диониса, идея Мадонны всё же, даже в обломках своих, сохранила и продолжает сохранять до сих пор для европейских народов свое благотворное значение. Но длинные века христианской культуры, с её профанными высотами, с её ипокритной религией, и выставочной эстетикой, показали нам, что идея эта тут не на своей родной почве. Иудейская точечка где-то горит в миазмах болотного разложения, светится где-то в туманах теоретического богомышления. Но в жизни, какова она есть – плотской, грубой, насильнической даже в своих эротических подъемах, – её всё-таки нет. Жизнь протекает мимо этой точки в устроенном к иным берегам потоке. Но еврейская девушка, именно такая, какою мы её видим в реальности, с её постоянными вздохами, родильная мечтаниями и слезами в кредит неизбежных будущих несчастий, являет нам тип настоящей подлинной мадонны, перед которой бледнеют даже великолепные живописные подобия на эту тему Рафаэля. И черты мадонны эта девушка сохраняет до конца своей жизни, в глубочайшей своей старости.
Старая еврейская женщина это уже просто воплощённая слеза. Она вся – вздох, вся – молитва сердца, вся – сокрушение о пройденном пути и благоговейная сосредоточенность в интересах сегодняшнего дня. Её морщинистое лицо напоминает складки патетической гармоники, углубляющиеся по мере того, как она умолкает в руках играющего. В расцвете жизни и песнопенья, она втянута гладко и ровно: звук её чист, высок и звонок. Но на пути к умолканью складки собираются вместе, в плотном содружестве, как морщины на лице. Гармоника всё тише и тише, всё меланхоличнее и меланхоличнее, поет свою прощальную песню. Эти семитические гармоники можно любить до самозабвения – так хороша смерть в тихо умирающей музыке, среди тончайших звуковых вознесений, а не в катастрофическом падении в черную бездну. Это тоже одно из величайших созданий семитического гения: старуха-благая, теплая, понимающая и помнящая, хранящая в глубинах своих заветы Синая и наставляющая в них растущую юность. И такая она опрятная, юмористически игривая, с девчонской улыбкой на слабеющих устах, с нежно-худою кистью, в которой каждый палец – всё та же поющая струна. Как умеет еврейская старушка смотреть вам в глаза восхищенно и слезно, как умеет провести она ласковой рукой по вашим волосам – поцелуйным прикосновением, в котором ощущается молитвенная какая-то бенедикция!
Обратимся к матери Рембрандта. Целый ряд картин и офортов дает нам её лицо во всевозможных положениях и с такою отчетливостью, что оно становится вам совершено родным. Мы знаем эту женщину насквозь. Впервые мы встречаемся с ней в упомянутой выше картине 1628 года «Симеон-богоприимец». Хотя картина эта стилизована в итальянском духе, всё же характер матери Рембрандта уже намечен в существенных чертах. Тут вся патетичность умирающей гармоники. Но общая концепция картины неизбежно видоизменяет портретные детали, которые сейчас нам особенно нужны. Впервые мы видим её полностью в портрете 1629 года, находящемся в частном музее, со всеми её типичными особенностями еврейской женщины эпохи духовного Сиона. Это, несомненно, еврейская женщина, в чистом её виде, без примеси какой бы то ни было габимы, еврейская старушка. Лицо, его выражение, минорная экспрессия глаз, чутко сдержанный наклон головы, с покровом парика, всё отдает семитизмом. В полураскрытых губах, представляющих разительный контраст к губам Гарменса, слышится дыхание любвеобильного, но истомленного бурями жизни благородного сердца. Нет в них упрека – упрек так увлажнен слезою, что давно потерял свою горечь и остроту, обратившись, скорее, в попечительно-думную ласку. Нос мягкий и длинный, с проникшими крылышками, в одной из складочек лицевой гармоники. Глаза тихие-тихие. Лоб весь открыт и белеет своим большим световым пространством. Портрет представлен в яркой светотени, прекрасно отобразившей характер этой женщины со светлой психологией её негабимного существа. Вот настоящая старуха, в прошлом – мадонна, которая живет в ней неумирающей монадой. Белизна лица её как бы вырастает из белоснежной полоски воротника. Старуха не в будничном облачении, а в праздничном – субботнем костюме – молодая и вечная в одно и то же время.
15 мая 1924 года
Мы имеем несколько портретов матери, относящихся к тем же первым годам деятельности Рембрандта в Амстердаме. В 1630–1631 годах он пишет её всё в тех же значительных и глубокомысленных чертах. В лондонском портрете из частной коллекции Дональдсона она представлена с большим композиционным расчетом на эффект светотени. Темный, почти черный покров над головой широко распахнулся, обнимая равномерно со всех сторон ярко освещенное лицо, опять как бы вырастающие из светлого источника внизу, у шеи. Рот полуоткрыт. Гармоника кажется особенно дряхлою и глаза неопределенно померкли. Мать что-то видит перед собою, не отчетливо, скорее внутренним, чем внешним зрением. Что это еврейка эпохи чистого иудаизма – не подлежит никакому сомнению. Вся экспрессия насквозь проникновенно сентиментальная, нежно и тихо замирающая.
На другом виндзорском портрете мы имеем то же лицо, но как бы в более узком масштабе, с сомкнутыми губами, в так же распахнувшемся покрывале, почти сливающимся с общим темным фоном картины. Местами покров прорезывают белесоватые полоски. Но по прежнему лицо в световом отношении резко выделено, в контраст всему окружающему. Источник света не виден и не понятен. Как мы уже отмечали, лицо светится изнутри, как бы фосфоресцирует. Оно задумчиво, но глаза открыты, устремленность их определилась в общее выражение, при сжатом рисунке, вполне жизненное. В предыдущем портрете мы имеем, скорее, какую-то химеру. Тут же лицо довольно реалистично, как и на последующем по времени портрете, изображающем мать в чтении, за большим фолиантом. Обозначение на репродукции этой картины, столь простой и ясной в своей теме, относит почему-то изображение к категории библейских картин: это «пророчица Анна», читающая книгу. А между тем никаких атрибутов священного писания мы здесь не имеем. Единственным символом, выраженным светотенью, является яркая белизна книги. Из книги для еврея лучится свет. Представлена не пророчица, не сивилла, вообще, не существо из области иератической мифологии, а живая, реальная мать, со всеми знакомыми нам чертами, но всё более и более дряхлеющая, за делом, которое в субботний день весьма и весьма свойственно старой еврейской женщине. Она раскрывает молитвенник и углубляется в чтение. Она читает про себя, не вслух, не качая спины, без какой бы то ни было внешней экспансивности, читает иногда по складам, не понимая текста, но всегда и неизбежно с умиленным восхищением от всего написанного. Она знает, что это нечто священное, и гармоника ее лица растягивается и углаживается от внутреннего полетного согласования с музыкой света. Книга, находящаяся перед нею, спасительница еврейского народа, и старая женщина пиэтетно захватывает каждую страницу и бережно её переворачивает. Она у себя дома, отнюдь не в синагоге. Никакого истолкователя здесь нет перед нею. У католиков, у православных благочестивые люди редко читают священные книги. Они слушают их чтение в храме, в особой ритуальной обстановке, при посредничестве людей, осененных магической благодарностью. Только протестанты разрешают себе иногда чтение библии на дому, при том обычно вслух, главою семьи. Но в еврейской семье индивидуальное чтение, без иератической помпы, есть альфа и омега всякого благочестья, на дому, вне дома, даже в синагоге. Дом молитвы для еврея – это дом чтения. Чтение повсюду, во всех положениях, на ходу, в пути, в паузах ожидания – иногда устное, на память, иногда по молитвеннику, носимому при себе. Так и тут, в данном случае: мать Рембрандта уперлась глазами в раскрытую книгу, по строчкам которой она мягко ковыляет взглядом, помогая себе пальцами руки, спускающимися всё ниже и ниже. Мы не знаем, была ли мать Рембрандта искусна в чтении книг, но что она вкладывала в этот процесс всю свойственную ей сердечную музыку, в этом нет никакого сомнения. И судя по наряду, чистому и слегка торжественному, мы смело можем сказать, что Рембрандт представляет нам её за обычным делом в субботний день.
Мы имеем несколько офортов 1628 и 1631 года, в разных оттисках изменяемых мастером. Соответствующих этим доскам картин мы не знаем. Офорты эти замечательны во всех отношениях, если исключить при этом один офорт, представляющий ту же сидящую фигуру, с лицом обращенным влево. Этот последний офорт является обратною копией, с некоторыми видоизменениями, с превосходного оригинала Рембрандта. Как замечателен этот оригинал, имеющийся в нескольких интереснейших вариантах! Едва ощутимые детали различия придают каждому офорту своеобразную значительность. В двух основных офортах руки сложены между собою спокойно, мягко, с прикрытием левой, слегка-слегка согнутой кисти вытянутою правою ладонью. Так всё спокойно, так всё уравновешенно, и так художественно гармонично! Офортная игла тонко наметила ласковую дружбу двух старых рук, связанных между собою сотрудничеством целой жизни. При взгляде на этот офорт со стороны и издали, на коленях чудится лежащая книга, и следует признать, что вся пока как бы создана для изображения молитвенно задумчивого над книгою созерцания. И перед нами, несомненно, момент субботней светлой сосредоточенности, в глубоком вдыхании благочестивой души. Рот закрыт. Голова откинута слегка назад, но без малейшей спеси, запрещаемой молитвенником. Наряд торжественно-праздничный. Из-под головного покрова выбиваются довольно большими хлопьями пряди седых волос. На трех оттисках другого офорта, изучаемых сейчас по альбомам Ровинского, положение рук представлено уже иначе. Левая кисть приложена слегка согнутыми пальцами к груди. Она не спит и как бы сдерживает что-то, какую-нибудь бегущую складку одежды. Правая кисть опустилась на колено и лежит совершенно спокойно, опираясь полукругом на ручку кресла. Наряд изменен в восточном стиле, стиль, подходящий к еврейским лицам, с широкой фатой, спустившейся с головы. Большой открытый лоб смотрит в профиль. Глаза едва намечены и полузакрыты. Накидка богатая и меховая, то темная, то светлая, смотря по оттиску гравюры. Это, несомненно – мать Рембрандта, одна и та же на всех досках и на всех листах. Если спросить себя, что собственно выражает эта поза и это лицо, то вы должны будете признать, что перед нами гениально точное изображение религиозной настроенности именно в строго-реальном семитическом духе. Никаких фиоритур и никакого ипокритства, которые резко бросаются в глаза в христианских изображениях итальянских и иных образцов. Когда Франчма дает нам образ св. Цецилии, он берет обыкновенное итальянское лицо и покрывает его ипокритной маской. Я употребляю слово ипокрит, конечно, не в смысле лицемерия, а в античном значении, в духе древнегреческой филологии: закрывается нечто личное и открывается лицо мифологическое. Рафаэль хватает облики из уличной толпы мужчин и женщин, иногда довольно дешевого разбора. То же делают Ватто и Буше с Фрагонаром. Мурильо и Эль Греко то и дело вырывают с мясом и кровью целые клочки из окружающего быта, со всею их солнечной прожженностью, возводя потом всю эту красочную механику в перлы преображенных художественных созданий. Но на всех этих созданиях опять-таки лежит маска ипокритной идеализации. Здесь же у Рембрандта – ничего подобного. Благочестивая женщина представлена во всей своей реальной конкретности. Тут самая плоть религиозная, субботняя и вместе с тем не оторванная – ни на штрих, ни на секунду – от мира живых и живущих вещей. Такою именно мать Рембрандта и была в самой действительности. Присочиненного здесь нет ничего.
Имеется несколько бюстных изображений старой женщины, иными своими чертами напоминающей мать Рембрандта. Черты сходны между собою, но иногда они кажутся слишком плотными и массивными, и в них проблескивает иная психология. Три маленьких головы этюдного характера, относимых Ровинским к 1633 году, не возбуждают никаких сомнений. Это всё та же женщина, с теми самыми чертами, которые мы уже рассмотрели. Но бюст старой женщины, оторвавшейся от чтения и заложившей правую руку под одеждой на груди, контрастный с тремя такими же бюстами, но с молодыми лицами, вызывает уже довольно большие сомнения. Тут лицо матери с упрощенно мясистыми чертами, просто типичной старухи. Гармоника не играет. Поэзии куда меньше, чем в рассмотренных нами офортах. Офортная мгла Рембрандта чудодейственна только в полноте своей работы. Если хоть одну черточку исказить в его произведении, что-нибудь огрубить, что-нибудь слишком умягчить, что-нибудь утрированно переосветить, и вся магия его искусства сейчас же исчезнет. В каждой магии есть своя щепетильность, свои секреты и свои законы, ускользающие от непосвященных.
Мы имеем несколько оттисков одного офортного портрета, на котором следует остановиться с особенным вниманием. Лицо строгое, сосредоточенное, благочестивонастроенное, всё сомкнуто в молитвенном экстазе. О лице мы не скажем ничего нового: это то же лицо, те же черты его, которые мы достаточно изучали на предыдущих страницах. Остановимся на положении руки. Она, несомненно, собрана в кулак и лежит у сердца, в позе биения груди. Если бы левая рука эта просто лежала, без тенденции к биению, пальцы были бы вытянуты в той или другой степени и кисть находилась бы ниже. Тут же на портрете мы имеем именно биение, частое и ритмичное, согласованное со словами определенной молитвы. И весь офорт, при таком предположении, становится понятным, живым и интересным, давая почти документ о еврейском происхождении этой женщины. В Судный день, Иом-Кипур, когда прощаются грехи, совершенные по отношению к богу, молящиеся произносят длинную молитву, перечисляющую все отступления от закона, в которых они повинны. В строфах длительного перечисления, начинающихся одними и теми же вводными словами, произносятся все тяжкие самообвинения, и каждая строфа сопровождается биением груди. Грехов много-много, они разбиты на категории – рука всё время мягко постукивает по грудной клетке. Это не только придуманный иератический жест, но жест исключительно еврейский, во всей его типичности. Произносятся удивительные слова. Взяты даже такие прегрешения, которые уловимы только для тончайшей, быстро схватывающей апперцепции, причём литургисты разных эпох внесли сюда свои индивидуальные вклады. В целом изумительная молитва, прошедшая через творчество талмуда и отдельных религиозных компонистов, поражает обилием моральных оттенков, которые могли возникнуть только в процессе векового роста глубочайшей самокритики. Какие тут указаны грехи! Это трактат совести, естественной только в семитической литературе и глубоко отличный по духу от условной католической казуистики. Совесть еврейская совершает свои акты в молчании, одним помышлением, одним движением мысли в ту или другую сторону, даже и не выражаясь иногда в реальном действии. Она-то и следит за нашею жизнью, не только в её грубых мистификациях, но и тогда, когда она выступает в едва заметном дыхании, в тенях и оттенках каких-нибудь минутных помышлений, в неловком движении руки, в нецеломудренно открывшемся глазе, в несдержанном шепоте уст. «Закоснелость сердца» – это грех. «Исповедь не от сердца» – грех. «Подкупная рука» – грех. «Вытянутая спесью шея» – грех. «Бред уст», – «перемигивание глазами», «узость глаз», «жестокость чела» – всё это грехи, отнюдь не перед людьми, а только перед богом, и всё это перечисляется в покаянной молитве Иом-Кипура, с ритмическим постукиванием по груди без всякого пароксизма отчаяния. При этом постукивание частое, почти непрерывное, ибо в каждом таком грехе повинен более или менее всякий. Удар легок и безгневен, как легок и несмертелен грех – грех против неба, против солнца, против звезд. Если с этими соображениями и представлениями подойти к нашему офорту, который Рембрандт набрасывает на доску в 1631 г. и к которому впоследствии вернулся в 1636 году, то всё его значение почти исторического документа станет особенно понятным. Мать Рембрандта представлена в день Иом-Кипура бьющею себя в грудь. Для всех окружающих тут был глубочайший секрет. Под офортом при разных его репродукциях имеется подпись: «мать Рембрандта с рукою на груди». Но, конечно, это подпись каталогов, далеко не исчерпывающая всего изложенного в офорт содержания. Такая собранная в кулак кисть, притом поднятая столь высоко, должна иметь своё оправдание – особенно в работах Рембрандта, где на каждом движении изображаемого лица останавливалась мысль вдумчивого мастера.
Сделаем попутно важное замечание. Судя по многим изображениям, Рембрандт не придавал особого значения, правой или левой рукой исполняется то или другое действие. Иногда он переносился мысленно в положение зрителя, для которого левая рука изображаемого лица находится справа. Так, например, на офорте, сидя рядом с Саскиею, Рембрандт гравирует левой рукой. Но гравировался он правой, как это видно из знаменитого офорта 1645 года. Так и в данном случае: старуха-мать ударяет себя в грудь не правой рукой, а левой, но придавать какое-либо значение этой детали, по приведенным соображениям, не приходится.
В 1636 году появляется офорт матери с тем же иератическим жестом руки, но с прибавлением автопортрета Рембрандта, представленного сидящем рядом за столом и гравирующим. Офорт имеется в двух разных состояниях – более темный и более светлый. Существует и вариант этого офорта, где вместо матери представлена жена Рембрандта Саския. Всё то же самое, до мельчайших деталей, но всё светлее и яснее. Что касается матери Рембрандта, то она кажется прямо скопированной, даже скалькированной с офорта 1631 года. Не изменен размер лица, хотя следовало его значительно уменьшить по сравнению с лицом Рембрандта, сидящего ближе к зрителю. Это несоответствие размеров особенно бросается в глаза при одновременном рассмотрении обоих вариантов – с матерью и с Саскией. Лицо матери непомерно велико.
Ещё один портрет матери Рембрандта из венского придворного Музея. Он написан масляною краскою, в обычной для Рембрандта светотени. Мать представлена за год до смерти, беспомощно дряхлою женщиной, опирающеюся сложенными руками на палку. Всё в этом портрете говорит о том, что жизнь старушки пришла к концу: утомленные глаза, бесчисленные складки лица, выражение бессильных уст, уже не могущих говорить внятно и громко. Вся гармоника сжата в последнем движении. Только ещё один звук и вздох – и человеческое явление исчезло, всё готово! Невозможно было представить лучше этот финальный момент человеческой биографии. Свет в картине рассыпан тончайшими, слабеющими брызгами по утихающей плотской стихии, которая через несколько мгновений окончательно растянется и выгладится в последнем своём безмятежном сне. Рембрандт не представил своей матери на смертном одре, но мы сами видим её ровно и тихо вытянутой на последнем ложе. Чья-то рука отошла от гармоники, и инструмент рефлективным движением, слегка раздвинувшись, приобрел свой протоморфный вид. Так и лицо человека. В момент смерти слегка и вдруг разглаживаются морщины и наступает выражение первоначального и красивого покоя. Улыбка смерти, красота смерти, не были ещё предметами особого изучения со стороны живописцев, хотя такой замечательный художник, как «мастер смерти Марии», не раз подходил к этой теме с большою проникновенностью. Впоследствии мы и среди произведений Рембрандта найдем настоящий шедевр, который возвратит нас к этому вопросу.
Имеется ещё гравюра Риделя, сделанная по оригинальному портрету матери 1630 года. Гравюра эта не прибавляет ничего ко всему нами сказанному, и мы отмечаем её только для полноты перечисления. Перед нами всё та же еврейская женщина, которую Рембрандт изображал много раз – то масляною краскою, то иглою офортиста.
Успение Богоматери
Мы имеем большой офорт Рембрандта, изображающий успение Богоматери. Насколько это изображение отличается от изображения других нидерландских художников на ту же тему, мы можем судить по некоторым памятникам, которыми мы располагаем. Остановимся на двух мастерах, близких Рембрандту по традициям северного искусства, отложив в сторону Дюрера, с его интимной и проникновенной жизнью Марии, лежащей на высоком одре. Руки её сложены в молитвенном жесте, лицо осенено каким-то сияющим покоем – красивое, круглое, с задушевно мягкими чертами. Полузакрытые глаза, уже угасающие, что-то прозревают в отдалении, совершенно неподвижны. Всё в фигуре Марии разработано в иконографическом стиле первых нидерландских примитивов. Платье в полуантичных складках, белый платок на голове, вся экспрессия – решительно всё отдает нежною фламандскою иконой первых этапов. Это именно икона, в строгом смысле слова. Замечательный художник не взял из быта почти ни единой черты для отображения в красках подобия Богоматери. Всё условно, традиционно и ипокритично в высшей степени, и если тут есть какие-либо реалистичные особенности письма, то они не восстанавливают перед нами обстановку действительной Богоматери, а заимствованы из непосредственного опыта нидерландского художника. При этом окружающие его двенадцать апостолов представлены в различных позах, и выражение их лиц являет чрезвычайную пестроту, насколько неожиданную и, пожалуй, слишком шумную в иконописном произведении. Руки все жестикулируют пестро и экспрессивно, слегка в итальянском стиле произведений фра Филиппо Липпи и Боттичелли. Один из нынешних исследователей старого нидерландского искусства находит тут нечто патологическое, как бы отражающее мутнеющее в конвульсиях сознание художника. Мы на этом останавливаться не будем и отметим только одно, что при всём разнообразии лиц и жестов, живой антураж Богоматери остается в неподвижных рамках иконописного произведения. Этот почти правильный круг, образуемый собравшимися у одра апостолами в длинных хитонах с плащами, дающими и обильные складки, некоторые церковные детали, как низлетящий в белом облаке Христос, с традиционным нимбом над головой, с отверстиями прободенных, широко раскрытых рук, сопровождаемый двумя ангелами шаблонного типа – всё это живет в атмосфере ещё не умершего византийского средневекового искусства, живописною какой-то готикою в отголосках новой эпохи. И опять-таки всё ипокритично в самой высокой степени, и даже выражение лиц апостолов, при всей их индивидуальности, не свободно от налета ипокритности. О чертах еврейских тут не может быть и речи. Художник был бесконечно далек от мысли выхватить тут что-нибудь из чуждой ему исторической среды. Все физиономии на картине носят общечеловеческий характер, без каких-либо этнографических особенностей.
Смерть Марии в изображении антверпенского мастера, Иооса ван дер Бека, по прозванию ван Клеве (Meister des Todes Maria[48]) тоже является ничем иным, как пышною иконою, со всем мастерством, прошедшим не только итальянскую, но и замечательную брабантскую школу. В мюнхенском и кёльнском музеях мы имеем две картины этого художника на эту любимую мастером тему Всё расписано в свободной манере итальянского ренессанса. Широкий масштаб комнаты, нарядность обстановки, льющийся богатыми и мягкими волнами свет из окон и дверей – все картинно живописно и эффектно в лучшем смысле слова. Но в позах и жестикуляции главных действующих лиц ипокритность почти абсолютная. Петр в тяжелом парчевом облачении византийского иерарха, читающий в полусогнутой позе по молитвеннику, в позе не натуральной, торжественная натянутость которой бросается в глаза – на картине кёльнского музея – священнодействующий актер не очень высокого достоинства. Выступающее на полу, из-под плаща, пятно приподнятой ноги особенно режет глаз своею надуманностью. Тут чувствуется что-то чрезмерно театральное аффектированное. То же приходится сказать и об апостоле Иоанне в мюнхенской картине. В Кёльне Иоанн представлен с обликом, несколько напоминающем этого апостола в трактовке Леонардо да Винчи. Конечно, это не голова из «Тайной Вечери», но что-то неуловимое роднит её с фигурами не только Винчи, но и других мастеров флорентийской и римской школ. Мюнхенский Иоанн представлен в образе тонко-интеллигентного католического монаха, с иератически поднятым пальцем, склонившимся у изголовья Богоматери. Выражение лица у него церковное в полном смысле слова. Сама Богоматерь на обеих картинах, как и богоматерь Ван Дер Гуса, вся дышит условностями традиций, причем искусственность впечатления усугубляется ещё и тем обстоятельством, что в руках умирающей находится длинная горящая свеча. Католическая тенденция всё поставить на котурны, всё задрапировать в пышную мантию церковности, всё прикрыть торжественною порфирою внешнего благолепия, повсюду возжечь огни во славу неба, всё залить криками призывных фанфар – всё это сказывается в такой маленький, но типичнейшей детали. Зачем умирающей свеча, когда в ней самой уже все гаснут одна за другою. В блаженном успении Богоматери покаянные символы совершенно не нужны, а театральная иллюминация звучит почти кощунственно. Если смерть представляет собою нечто иное, как исчезновение светящегося явления – человек гаснет, тухнет, уходит навсегда из поля нашего зрения, – то орнаментировать её теми или иными красками живого спектра, значит допустить какой-то абсурд и странную, отталкивающую противоестественность. Умирающего человека можно только облечь в белую рубаху и прикрыть белым саваном. Человек расплывается в белизне космоса, которой он уже принадлежит. Иное дело орнаментировать окружающую обстановку. Можно поместить около умирающей Богоматери целое море огней в ознаменование горящих печалью дружеских сердец. Можно поставить целый сад из декоративных растений и цветов. Вырвана из куста жизни прелестная белая лилия, душистый цветок человеческой флоры – и пусть плачут все принесенные цветы. Можно всю комнату обтянуть черным сукном или крепом в означение глубокого траура или тьмы. в которой погас такой свет. Всё это понятно, и естественно, и трогательно. Итальянское искусство, особенно чуткое ко всему возвышенно поэтическому, постоянно пользовалось подобными эффектами при изображении жизни и смерти Богоматери. Быт итальянский до сих пор утилизирует цветочные украшения для всевозможных церковно-исторических конъюнктур. Но тут в картинах мастера Смерти горящая свеча находится в руке умирающей и только расхолаживает общее впечатление.
И таково вообще действие ипокритного искусства, хотя бы и в самых гениальных его проявлениях. Можно развивать своё эстетическое чувство, можно уточнить ощущения формальной красоты, можно постигнуть совершенства идеальных композиций и мудрую гармонию линий и красок, созерцая бессмертные полотна итальянского и голландо-итальянского мастерства. Боттичелли разовьет в вас интеллектуальную нежность с примесью изысканной любви ко всему растительно-пластическому. Аккорд его искусства, дуалистического и мягко-женственного, живет в нас долгими годами и рождает то и дело целые направления в творчестве людей. Андреа даль Сарто посвятил нас в очарование культурно свежих и экзальтированных женщин, с которых написаны его мадонны. Тициан и Джиорджоне будут нас безумно радовать богатствами своих красок и применением их к передаче тончайших вариаций человеческих скрипок. Но религиозно мыслить и чувствовать нельзя научиться у итальянцев, даже у таких художников как Джиотто и фра БеатоАнджелико. Все эти картины великих мастеров, все эти фрески, рельефы и статуи, не исключая гениальных скульптур Микель-Анджело, являют собою только широчайшим образом разработанную науку искусства в наглядных образцах индивидуального творчества на протяжении нескольких веков. Религиозная тема в них почти отсутствует, если смотреть на вещи из глубины. Могла быть написана книга «Рембрандт, как воспитатель», но никому не пришло бы в голову написать книгу «Воспитатель-Боттичелли», «Воспитатель-Джиоржоне». Педагогическая роль итальянского искусства, в отличие от германского с его разветвлениями, только эстетическая, преимущественно эстетическая.
Человек умер, ушел от нас куда-то далеко, стал невидимым. Только что он был между нами – и вдруг его нет. Он где-то здесь, в обширном смысле слова, но воспринять его тем или иным чувством нет никакой возможности. Он приложился к отцам. Иного слова ветхозаветная библия и с нею вместе иудейство, на всех этапах его развития, в эпоху Моисеева законодательства, в эпохи Габимы и храма Соломона, равно как и в трагические времена духовного Сиона – библия и иудейство не знают. Но если человек приложился к отцам, значит он жив. Иначе было бы сказано, что он исчез или пропал. Исчезнуть из космоса не дано человеку. Но если умерший, исчезнувший почему-то из поля нашего зрения, приложился к отцам в новом образе существования, то это свидетельствует о том, что мы осиротели. Мы постоянно сиротствуем, у себя на дому и в общенародном, общечеловеческом смысле слова, слабеем физически и духовно, мельчаем и дифференцируемся в процессе истории, а царство отцов всё растет и растет. Умер брат – и стал отцом. Умер сын – и стал отцом. Всё переходит в отцовство. Тут есть что-то и радостное, и печальное в одно и то же время, потому что, с одной стороны, что-то к нам интимно приближается и тем становится частью нас самих, а, с другой стороны, исчезает сладкая эфемерида эмпирического бытия, с его дурманящей эстетикой разъединенных пространственно-временных единиц. И вся история человечества, рассматриваемая под этим углом зрения, является ничем иным, как радостно-печальным сиротствованием в умерших отцах – живых, но не видимых. Мы слепнем с каждым часом, с каждой новой разлукой, но слепнем не навсегда. Будет когда-нибудь момент, когда глаза наши, перерожденные в потоке бесконечных веков, вдруг станут видеть всё. Вдруг исчезнет время, ночь и смерть, и всё засияет в новом каком-то, медленно утончавшемся и наконец окончательно уточнившемся свету. На последней ступени космической трансформации мир отцов внезапно выростет перед нашими глазами.
Таковы интимные верования еврейского народа. Оплакивается, в сущности говоря, не тот, кто умер, а тот, кто остался. Он делает надрез на своём платье и видит себя в печальном осиротении. Точно он чувствует чье-то покушение на своё зрение, и отчаяние его, громкое, откровенное, голосящее, разливается безграничным, бесконечным потоком по всему его существу. Евреи плачут, особенно еврейские женщины, с трагическим каким-то пафосом, в глубочайшим образом задетом индивидуально личном своём мотиве, как существа, лишающиеся реальной опоры в жизни. И при этом никакого иератического ипокритства, которого так преизбыточно много в литургической трактовке христианской смерти. Еврей кричит всеми своими нервами, потому что его самого коснулась секира времени. В нём бушует вся его кровь личной обездоленности, живой конкретно ощутимой открытой раны. В иных городках бывшей в России черты оседлости целые улицы иногда оглашаются диким рычанием осиротелых семейств, которые больше не увидят близких им людей. Насколько еврейские проводы отличаются от традиционно христианских проводов по разстанным улицам, с шествующим впереди духовенством в пышных облачениях, с хором певчих, стройно и музыкально исполняющих свои безмятежные и гениально шлифованные гимны. В одном случае всё – плоть и жизнь, а в другом – всё театр, всё священнодействие, и если тут существует ещё истинное горе, то лишь постольку, поскольку оно не христианское. Эти длинные в процессиях черные крепы и темные платья женщин, весь этот ипокритный наряд церковной церемонии, производит особенно тяжелое впечатление ненатуральности, почти ходульности, по сравнению с нищенскими проводами старозаветной еврейской семьи. Тут всё подлинно в своей большей реальности: горе тоже может быть валютным рядом с церковной ассигнацией.
Обратимся теперь к одному из замечательных офортов Рембрандта 1639 года. Изображено успение Богоматери. Всё в этом офорте заслуживает внимательного научения по всем его деталям. Балдахин на пышных разных столбах взят как бы из жреческой эпохи царя Соломона. При богатстве орнамента и откинутых портьер, балдахин этот дышит строгостью иудейского стиля. Это настоящий ковчег, в котором лежит расстающаяся с жизнью женщина. Кажется, что если собрать откинутые покрывала, то весь балдахин-шатер получит свою особенную архитектурную жизненность. В этом ковчеге жрец, со сказочно-высокой митрой, дополняет впечатление ветхозаветного ковчега. При всей помпезности явления в нём не чувствуется никакой декламации. Этот перво-священник воплощенная грусть. Сложенные почти до плача губы сдержаны великою мудростью семитической культуры. Это такая фигура, торжественная и вместе с тем простая, сошедшая с рельефа какого-то саркофага давно минувших столетий и перенесенная сюда на медную доску иглою великого воссоздателя, что глаз зрителя приковывается к ней с первого же взгляда на офорт. Стоящий рядом с ним храмовой служака держит высочайшую хоругвь: это единственная в картине деталь, где ощущается христианская тенденция, мало согласованная с остальными существенными чертами дивной композиции. Самая хоругвь эта, в своём обособлении от всего прочего, не может однако отравить общего впечатления и, даже напротив того, непомерно высокий, вертикально утвержденный, резной и великолепный тонкий столб возносит к небу мысль в общем её подъеме. Тут же рядом со служкою великолепная экспрессивная голова старца, наклонившаяся вперед, в направлении балдахина. В старике этом каждая черточка живая и бытовая и при этом строго серьезная. За столом, перед раскрытою книгою, сидит человек в восточной чалме, лица которого мы не видим. На одном из оттисков глазам мерещится увеличительное стекло в правой руке чтеца. Он приостановил чтение и, повернув голову, смотрит на умирающую Марию. Игла офортиста представила нам этого человека, при всём великолепии его наряда, в близком и естественном освещении. Иератический элемент здесь не преобладает и вытесняется человеческими чувствами. На правой от зрителя стороне представлено несколько замечательных фигур. При входе в покой, у занавеси, расположились на полу две служанки, не допускающие сюда посторонних посетителей. Слева от них три фигуры поглощены охватившей их скорбью. Одна из них, апостол Иоанн, протянула вперед руки, из которых видна только левая, живо напоминающая положением раскрытой ладони руку Христа в «Тайной Вечере» Леонардо да Винчи. Вообще фигура эта итальянизирована. Перед Иоанном – женщина на коленях, с молитвенно сложенными руками, изображает, надо думать, евангельскую Магдалину. Наконец, третья фигура, рядом с только что описанными, стоящая у самого балдахина, тоже женщина, застыла в безысходной муке. Кисти её, в отступление от молитвенной сдержанности, конвульсивно сомкнулись врезавшимися друг в друга пальцами. Лицо приподнято кверху, выражение глаз помутнело как бы от налетающей тьмы. Всё на этой женщине, аристократической по виду, по осанке, по стройности изысканной фигуры, в высшей степени иудаизировано. Это хорошая породистая еврейская женщина наших дней. Моя мать былая такая же. Я имел отраду видеть много таких благородных представительниц семитской расы в провинциальном быту. На них чудесный бывает иногда туалет – без кокетливых складок, прямой и гладкий, всегда благочестно прикрывающий ковчег тела. Туалет именно удивительно гармонирует с настроением описываемой фигуры. Она является как бы живой кариатидой в дополнение к столбам балдахина. Фигура в целом и в частях абсолютно иудейская, антиипокритная во всех смыслах слова, – по жестам, по выражению лица, по характеру приподнятой головы, столь интимно связанная с этнологией и психологией еврейского народа, что вытянуть такое создание из души мог только художник-еврей по духу или по происхождению. Это не фигура из калейдоскопов Гирландайо и Леонардо да Винчи, даже не из «Поклонения волхвов» этого последнего художника, где так же разительно слиты между собою декоративные части великолепных античных зданий и чистейшего проявления человеческого чувства. Это – настоящий Рембрандт.
Остается ещё рассмотреть центральную группу офорта вместе с самой умирающей Богоматерью. Вслед за плачущей женщиной фигуры этой группы располагаются по двум рядам – ближайший к постели и дальнейший. Один апостол, лохматый, с непокрытой головой, склонился над постелью, опираясь на неё обеими руками. В фигуре нет ничего иератического, и о волнующих её чувствах, реальных и обыкновенных, мы можем догадываться по общему положению тела и головы. Само лицо апостола прямо взято из толпы. В печальной его экспрессии нет ничего торжественного или условного, как на картинах нидерландских мастеров Ван дер Гуса и Клеве, о которых мы говорили выше. Недалеко от апостола помещен другой апостол, с головным убором и в широком плаще. Лица его повернулось влево и выражает тихую, вдумчивую, внимательную грусть. Привычным жестом врача он щупает пульс умирающей. Этот жест почти кардинален в картине. Если вспомнить высокие свечи, которые влагали в руки лежащей Богоматери другие мастера, придавая своим произведениям церковно-стилизованный характер, то естественное движение человеческой помощи и участья покажется почти тривиальным любителям сакраментального письма. Но эта-то тривиальность и составляет одну из главных прелестей несравнимого офорта. Простыми чертами, взятыми из реальной жизни, Рембрандт достигает эффектов гораздо более потрясающих, чем иконописные живописцы рассмотренных школ. Что такое ощупыванье пульса в таких условиях, как не справка о том, идут ли ещё часы угасающей жизни или они уже остановились? И такая справка, при горестном выражении лица, в котором нет ничего показного, при незатейливой скромности всего наряда, всего облика человека, производит огромное и в то же время освежающее впечатление. В христианском ритуале человеческая печаль тонет в море торжественной церемониальности. Свечи горят с безучастною возвышенностью, точно ни в этом, а в каком-то ином мистическом миру. По христианскому ритуалу, когда бы ни умер человек, ночью или в яркий полдень, свечи непременно горят. Но свеча, горящая при дневном свете, неизбежно приобретает значенье трансцендентального символа. Только ночью её свет нужен и понятен. Но и в темный час ночи такая свеча призвана не освещать внутренность комнаты, а быть светильником молитвенных настроений и устремлений, которым решительно и абсолютно это не нужно. Тут один подлинный взрыв внутреннего чувства, без малейшей помпы, изображенный со всею возможною реальностью, без малейшей идеализации, дает в картине весь тот эффект, который необходим для цели художника. Намекнуть, что часы жизни, в плоскости зримого и осязаемого, останавливаются, что отсюда пойдет темнота и слепота, что дорогое существо станет вот-вот невидимым, что отныне, с этой роковой минуты, общения с исчезающим человеком придется искать в других путях, средствах и формах, что, наконец, затерявшаяся индивидуальность может раскрыться лишь в чтении всеобъемлющей книги космоса – всё это значит придать картине небольшим штрихом, правдивым и интимным, действительно бесконечные перспективы момента. Это и сделал Рембрандт прикосновением офортной иглы. Такого эффекта мы не встретим ни на одном из холстов или графических досок мира.
Рядом вырисована фигура апостола Петра в типично еврейских чертах. Большая круглая голова, с редкими и всклоченными волосами, склонилась к Марии с выражением плачущей муки на лице. Левой рукой он подносит к её лицу платок с освежительною нюхательною солью или уксусом. Вот опять черточка из того же мира тривиальностей и столь же потрясающая. Вместо фимиама и ладана христианских курений, обонянию умирающей женщины предлагается насыщенное оживляющей влагою простое полотенце: всякую икону, с каким бы чувством её не писать, победоносно заменяет единая и вечная жизнь. Пётр правой рукой охватывает при этом подушку, слегка приподнимая таким образом голову Марии. Всё в общем трогательно, чутко, безманерно в своём индивидуально-человеческом рисунке. Не песнопенье к небу, а крик на земле, в сдержанном звуке и рыдании. Тут не все лица иудейские по своей трактовке. Но тут та простая и лично заинтересованная психика, какая не может быть представлена ни на какой сцене, никакими ипокритно-иератическими символизациями. И всё при этом почти наивно в своей простейшей элементарности. Всё это – еврейское, только еврейское.
Лица дальнейшего ряда столь же человечны, безыскуственны и просты. Одна утирающая глаз женщина с искривленным от подавленного плача ртом чего стоит!
Переходим к Марии. Лицо её представляет нечто замечательное. В нём достигнута малым числом штрихов такая чистота, такая свежая элементарность, какую можно подсмотреть только в реальной жизни. Около такого именно исчезающего лица, ставшего безмолвным и тихим до жуткости, до нервного испуга, вдруг начинают звучать невидимые вибрирующие струны. Лицо кричит – и се молчит кругом. Но вот оно умолкло, и воздух вокруг дрожит таинственно и звучно в неизреченной плачущей мелодии. Вот когда приходится приложить ухо к космосу, к иным часам иной невидимой жизни, всё пронизывающей около нас едва внятным голосом минувшего. Вот оно приложение к отцам – тут же, сейчас же, с наступающею остановкою осязаемых с пульсом часов. Руки Марии беспомощно простерты на постели и пальцы их бессильно согнулись, далекие от молитвенного жеста, к которому мы так привыкли на картинах итальянских и итальянизированных мастеров. Тело умирающей покрыто легким одеялом, под которым оно лишь чудодейственно ощущается – так изобразительна рембрандтовская игла. Обычное название «успение Богоматери» малоприменимо к такой картине. Тут нет никакого успения. Тут простая смерть. Тут на одре лежит обыкновенная женщина, и она умирает. Только по мелким деталям мы угадываем, что художник имел в виду какие-то традиционно исторические подобия, которые ему самому, трезвому, аполитическому внимательному наблюдателю жизни, были менее нужны, чем современному ему амстердамскому обществу. Тут последний вздох близких людей около одра смерти, и вздох этот, по глубине и способу его выражения, скрывает в себе мудрую философию целого народа. Представлен тот момент, предшествующий угасанью, когда жизнь ещё теплится последней вспышкой. Ещё можно на что-то безнадежно рассчитывать. Ещё можно ощупать пульс и оживить дыханье целительной влагой. Но в такую торжественную минуту всё кругом должно молчать. И всё действительно молчит на офорте Рембрандта, как и во всяком еврейском доме. Но вот всё кончено – и вопли рыдания, отпущенного от всяких стеснений, потрясают воздух. Искривленные молчаньем рты, свидетельствующие на офорте о последнем тяжком молчании, теперь раскроются для криков свободных и ничем не сдерживаемых. Несмотря на отмеченные два стиля в этом графическом шедевре Рембрандта – стиль итальянский и голландский – произведение это в целом, по всему своему духу, содержит в себе элементы подлинного еврейства, богато красками эпохи амстердамской габимы. В офорте много нарядных, вычурных и, пожалуй, даже не нужных деталей. Есть и блеск, и парад, и помпа. Не все представленные лица типичны для семитической расы. Но всё семитично во внутреннем своём аспекте, все души тут окончательно и всесторонне, в сокровенном смысле слова, совершенно иудейские.
19 мая 1924 года
Ханука
В дни зимнего месяца, 25 Кислева, начинается восьмидневный полупраздник Ханука. Это праздник освещения или обновления Иудою Маккавем, храма Соломона, пришедшего в раззорение и упадок. Полупраздник этот, веселый и полный исторических воспоминаний, народ еврейский называет также праздником Маккавейским. В Хануку совершаются будничные молитвы, произносится Кадиш в прямом или половинном объеме и зажигаются так называемые хануковые светильники – в последовательном порядке, в первый вечер один светильник, потом два, три светильника и, наконец, в восьмой день гражданско-религиозного триумфа – восемь пылающих светильников. Светильники эти теплятся мягким ласковым светом в память «чудес, див и военных побед», которые одержали в древние времена вечно живые отцы. Эти светочи не предназначены ни для какого жизненного употребления. На них можно только смотреть, радуясь высокою поэтическою радостью величию, некогда имевшему место в жизни еврейского народа. Это свет для реально бесполезного эстетического созерцания, не современности, не окружающего нас быта, а всей священной совокупности отлетевших веков. Это веселье глаз, обращенных назад, к прошлому, это ликованье и пенье очей, полных восторженных чувств в моментальном лицезрении лилиеподобных израильтян, изгнавших из священного храма Соломона пакость и мерзость Антиоха Епифана. Были времена, когда Иудеи казались и были действительно лилиеподобными. Это было так давно. Теперь евреи, потеряв прямоту и стройность, согнули спину под тяжестью веков и склонили голову, в радостном певучем сотрясении, перед величием небесного света. Но некогда они были лилиеподобными, высились чистыми деревцами на сочной и плодоносной почве святой земли. И народ не может этого забыть. Восемь дней горят светильники во славу чудесного прошлого. Народ тешится, радуется, пирует и ликует, вознося поминальный кадиш в честь отцов. От памяти отцов нельзя освободиться никогда, и молитва о них вносится тревожною нотою во все торжественные минуты жизни. Дверь всегда раскрыта для их прихода: они могут свободно и вступить в наш дом и принять участие в наших радостях и горестях, при свете лампад, которые делают для нас как бы явными, как бы видимыми их померкшие в быту лица.
В веселых восемь дней маккавеевского праздника пекутся блины традиционно для угощения ими домочадцев и гостей. Этою мелочью праздник делается простым и безыскуственно интимным явлением, согревающим и освещающим в течение нашей повседневной жизни. Это не разнузданное, безудержное ликование в духе античного Диониса, с обычным при таких эксцессах помутнением сознания и духа. Эллинизация, во дни проломившая стенные башни и осквернившая весь храмовый елей, может быть, всего больше и стремилась к вытеснению света аполлинического Элогима из сердца великого народа. Храм Соломона был обращен в капище насилием и пропагандою Антиоха Епифана. Елей оказался весь растраченным в общем запустении, и когда Иуда Маккавей очистил святилище от всего туда натасканного и постороннего, он нашел в кувшине за печатью первосвященника благовонного масла только на один день. Но эта капля масла чудом горела не один, а восемь дней, и утешительное об этом воспоминание символизируется из века в век в быту простого еврейского народа. Но всё при этом тихо и скромно выступает перед нами в своём почти будничном наряде. Скромен и сдержан еврейский Дионис, не только в условиях нынешнего быта, но и во времена былого могущества и блеска. Он прошел победоносно через габиму и вступил в эпоху храма, сдержанный и дисциплинированный своим великим бранхидским соперником. В дни же рабби Иоханана бен Заккая еврейский Дионис потерял уже все черты экстатичности и эвоической вакхичности, переродившись окончательно в существо скромное и песенно-духовное. Блины народной хануки отличаются бесхитростною целомудренностью и не заливаются никаким ядовитым вином. Всё и просто и вместе празднично. Всё тривиально и свято. Всё прозаично, но вывалено в алее и масле размеренного ликования.
Среди офортов Рембрандта имеется доска, представляющая, несомненно, именно этот праздник Хануки. Мы находим в альбоме Ровинского оттиски двух состояний этой доски: светлого и темного. Сидящая на низком табурете старуха, может быть, мать или бабушка Рембрандта, перекладывает на горячей сковороде пекущиеся на ней блины. Она делает своё простое дело неспешно, с неторопливой равномерностью тихого сердечного ритма. Какую прелесть представляет собою эта старушка, вышедшая из-под офортной иглы единственного в мире знатока еврейских нравов и обрядности. Старушка как- то врамилась в своё маленькое священнодействие. Она переворачивает блин за блином, не отвлекаемая шумом кругом неё, хотя внутри себя она вся неразрывно слита со всею происходящею тут же милою сутолокою. Арфа души поет неслышно, где-то в глубине, около светящейся точечки, в которой все – любовь и восхищение. А кругом неё кипит настоящая жизнь. Тут и дети, и взрослые, и даже собака, вскочившая на ребенка в желании вырвать полученный им от бабушки блин. Тут и ребенок на коленях, и повернутый к зрителю боком человек, тоже о чем-то говорящий с подростком, и склонившаяся над старухою фигура, по-видимому, ожидающая очередного блина. У края плиты примостился ещё один человек, лицом напоминающий (в молодую пору его жизни по всему видно, что это Рембрандт) самого Рембрандта: привет, веселье и усмешки сплелись на его лице в одно характерное целое.
Таков этот прелестный офорт, с несомненно еврейским, бытовым содержанием по всем чертам и оттенкам. Если по молитвеннику [праздник] Хануки есть ликование, то оно здесь налицо. Если по духу своему ликование это безмятежно и тихо, то оно представлено и здесь с бесподобною реальностью, в том именно среднем регистре чувств и настроений, который мы описали выше. Ни единой крикливой ноты, ничего помпезно декламационного, и при этом всё тем не менее исполнено света и тепла, достойных именно такого праздника, как Ханука.
Вот что значит высокий талант художника. Взята простая обстановка голландской кухни, без столов, убранных по-праздничному, со свежими белоснежными скатертями, с гостями в нарядных туалетах, с бокалами вина и обильными явствами в духе какого-нибудь Рубенса. Ничего этого здесь нет и в намеке. Жизнь показана как-то из угла в простоватом ракурсе, многолично бытовая, абсолютно реальная до последних мелочей, до детских голосов и до собачьего визга включительно, – и тем не менее в офорте передана и вся скромная торжественность полупраздничного дня. Так и во времена знаменитого своего соревнования с Леонардо да Винчи поступил и Микель-Анджело, сделавший картон битвы при Пизе и не представивший при этом никаких эпизодов войны и схватки. Солдаты купаются в реке, и, по раздавшемуся военному сигналу, спешно вылезают из воды, с мокрыми спинами, для предстоящего сражения. Сражения нет на картине, но она всё- таки есть. Так и здесь, в офорте Рембрандта изображена как будто не Ханука. Где её пылающие светильники, умножающиеся с каждым днем? Где внешние признаки молитвенной настроенности, хотя бы в едином намеке, в летучем каком-нибудь иудаистическом штрихе? Ничего этого нет в офорте. А между тем хануковые светильники, свечи или лампы тут всё-таки где-то горят и чудятся внимательному зрителю. Фимиам храма слит с уличной пылью в одно гармоническое целое, в органический синтез. Эта удивительно правдоподобная картинка из эллинистической эпохи Иуды Маккавея 164 г. до начала христианской эры настраивает душу на мирно торжественный лад. И опять-таки никакого ипокритства, никакой религиозной стилизации, и если бы игла офортиста могла сделаться сама еврейскою, она не нарисовала бы ничего иного.
21 мая 1924 года
Андриан Гармене ван Рин
Нам придется на пути нашего анализа часто менять его предметы и планы общих оценок и рассуждений. Мы имеем дело с такою мозаикой тем и настроений, что охватить их все в одном определении нельзя. В этом отношении искусство Рембрандта отдаленно напоминает нам трактаты и кодексы Леонардо да Винчи. Целые миры впечатлений, наблюдений, случайных откровений и точек зрения зарисовываются всеми доступными способами. Если во всей этой энциклопедии зафиксировать общую тенденцию художника, манеру его трактовки, то задача обозревателя всего этого безмерного богатства будет разрешена достаточно удовлетворительно. Надо решить вопрос о том, кто такой сам Рембрандт в психологическом, если не в расовом отношении, чтобы найти ключ к пониманию многих загадок его творчества.
Одну из таких загадок представляют физиономии близких Рембрандту людей. Физиономии отца и матери определены в настоящее время довольно устойчиво. Может быть, некоторые офорты рискованно отнесены к изображению самого Гарменса, родоначальника довольно большой семьи, и останавливая на них наш анализ, мы, в сущности говоря, вдаемся в некоторую ошибку: это не отец, а другой, близкий Рембрандту, человек. То же самое приходится сказать и относительно множества изображений матери как в красках, так и в офортах. Но одно несомненно, что, изучая калейдоскопический материал рисунков, офортов и картин в поисках не только его самого, но и всей семьи Рембрандта, мы постоянно натыкаемся на множество портретных физиономий, связанных между собою чем-то родовитым и общим. Рембрандт это какая-то физиономическая категория. Пусть это не отец и не дядя. Но что это физиономия кого-нибудь из родни, не подлежит ни малейшему сомнению. Не на одном, так на другом лице, мы найдем ту или иную черточку, типичную для этой многочисленной семьи. Остановимся для начала на портрете старшого брата Рембрандта, Андриана, данного в нескольких портретных изображениях, по-видимому, последних годов его жизни.
Адриан родился в 1597/1598 году и умер в 1654. По преданию он был сначала простым сапожником, а потом занялся мельницей отца и матери. Когда в 1641 году, по смерти матери, приступили к разделению оставшегося после неё имущества, Адриан взял на себя управление мельницей с обязательством выплатить Рембрандту довольно большую по тому времени сумму в 3565 флоринов. Вот всё то, немногое, что мы знаем из биографии Адриана, и, не имея никаких других, более выразительных данных, мы всё же можем с довольно большою точностью определить индивидуальную структуру этого человека: так экспрессивна, так знаменательна в своём роде его физиономия. На парижском портрете 1650 года он представлен мужественным и здоровым стариком. Правое ухо выписано со всеми деталями. Это ухо отца Рембрандта, продолговатое с длинной мочкой. Нос и губы не отцовские – их рисунок тяжел и груб. Мягкая черная шляпа надвинулась на невысокий лоб и придала всему выражению лица мужиковатую суровость. Щека широкая, мясистая, с ощущаемою под нею здоровой костью, переходит незаметно в короткую, могучую, налитую энергией шею. Адриан весь согнулся и как бы накренился вперед, но не согбенностью одухотворенных по-еврейскому людей, а сутуловатостью крупных и сильных работников определенного ремесла. Это именно не сладостная согбенность экзальтированного хасида, который не смеет голову поднять, потому что над ним бездонное небо Элогима, с таинственными светилами, а именно согбенность простого сына земли, реалистически настроенной натуры. Некоторая отдаленная одухотворенность присутствует и бредит по этому широкому лицу, но одухотворенность эта для него не типична. К отцам Адриан относится с поучительною симпатией, но и только. От Гарменса он взял преимущественно то, что было в нём тяжеловесного и материального, не захватив в свою душу всего потока интеллектуального света, который в нём ощущается. На парижском портрете Адриан держит в руке увеличительное стекло, оторвавшись от книги или собираясь в неё заглянуть. Самой книги на картине нет. Какая замечательная вещь: художник, набрасывая портрет, может быть, и не задавался никакими условными символизациями, но само собою, силою творческой интуиции, изображение оказалось адекватным существу человека! Адриана трудно вообразить себе за книгою, за фолиантом, за талмудическим комментарием к завету. Но далекое почтение к книге Адриан чувствует, и ему дано на картине увеличительное стекло. Это обстоятельство особенно останавливает на себе внимание, если сопоставить портрет Адриана с портретом его жены, держащей в руке раскрытый молитвенник. Таков Адриан в изображении Рембрандта – изображении типичном и выписанном со всем мастерством, свойственным великому художнику. Лицо у него белое, слишком белое, руки белые, – всё та же обычная для Рембрандта декламация светотени, ставшая для мастера настоящим самогипнозом. Он ничего не может сделать, не выкупав своей картины в глубочайшей тени и не пролив затем на неё струй магического сияния. Пожалуй, этот Адриан вышел бы несколько естественней при иной, более спокойной, более уравновешенной манере письма.
Мы имеем Адриана ещё в нескольких портретных изображениях, находящихся в Гааге и в частной портретной коллекции Феликса Потоцкого. В смысле живописи это настоящие шедевры. Вся суровость этого человека вылилась в изумительной лепке его лица, сосредоточенного и элементарно четкого. Виден человек, прошедший через тяжелую школу жизни многотрудной и многоопасной, но не сломившийся в ней до последнего её часа. Голова его ещё покрыта седою шапкою редеющих волос. Чувствуется сердечность, импульсивность, может быть, вспыльчивость, быстрая наливаемость кровью, что особенно характерно для таких примитивных людей с короткою бычачьей шеей. В глазах Адриана – притихший гнев, всегда готовый вспыхнуть и разлиться по лицу огненным потоком. Рядом поставленный в немецком альбоме похожий портрет из коллекции Потоцкого дополняет нашу характеристику Адриана. На лице этого человека, даже к годам старости, не могут отложиться никакие настоящие, в своём роде певучие морщины. Нет в нём выражений какой-либо мудрости. Гармоника этого лица, не играющего содружеством старческих складок, поет простые шарманочные мотивы труда и преодоления несложных жизненных тревог. Здесь блеск светотени, при всей своей преувеличенности, оправдался до некоторой степени, выделив чрезвычайно ярко типичные для Адриана черты: мясистый нос, упрямые скулы, седые усы, несокрушимую мощь всей вообще физиономии. С этим портретом Адриан становится нам совершенно знакомым и памятным надолго. И как бы Рембрандт ни переряживал свою модель, лицо остается всё тем же. Таков же Адриан в знаменитой картине «Золотой шлем», находящейся в берлинском королевском музее. Что-то солдатское, мужественное и бестрепетно упорное чувствуется в этом изумительном полотне. Может быть, Рембрандт тут подчеркнул бессознательно и нечто очень замечательное. Среди потрясенных
Сернах [?] голов духовного Сиона нет-нет промелькнет суровое лицо воителя, дальнего потомка завоевателя ханаанских земель. Были воины в Израиле, были пионеры и труженики земли, знавшие и горы, и пустыни, и тяжелые камни Египта. И это были евреи, стоявшие около той же Торы, загоревшими руками державшие наследственные свитки завета. Когда видишь таких людей около многокаратных камней ветхозаветной мудрости, блеск и сияние этой мудрости кажутся ещё ослепительнее. И кто знает, не будь таких шлемоносных людей – воителей, много не дошло бы до нас из фондов праведности и святости, над которыми дрожали тали1 в молитвенном экстазе – люди иного, более утонченного склада? Обо всём этом невольно думаешь, читая книги рембрандтовских лиц. Об этом поют их гармоники, каждая на свой лад.
Мы имеем портрет Адриана, писанный в год его смерти и находящийся в Эрмитаже. Если вообще можно сказать что старые люди становятся похожими на евреев, даже ими не будучи от рождения, то всё же надо признать, что бывают случаи, когда еврейский уроженец, старея, отходит от внешнего типа своего народа. В нём засело и отложилось много наслоений габимы, которые в течение ряда лет делали свою тихую, незаметную работу, и на склоне дней проявились вдруг всею совокупностью своих органических воздействий. Это бывает особенно с натурами недаровитыми, склонными преимущественно к восприятию неглубоких житейских влияний. Так и в данном случае. Сапожник и мельник Адриан, может быть, отдаленный выходец из среды испанских евреев, с минимумом семитической культуры в душе, под конец своей жизни всё более и более терял черты своего протоморфного, так сказать, происхождения. Рембрандт наметил серьгу в правом его ухе: это не еврейское украшение. Мужская
1 Заложники (старорусск.). – Прим. ред.
часть еврейства не украшает своего лица никакими дополнительными, туалетно-ювелирными уборами, и если еврейские женщины любят драгоценности, носят на руках часто многочисленные кольца, сверкают бриллиантами в ушах, то это может иметь свой глубокий этнографический и социальноисторический смысл. Обычно еврейская женщина украшает себя в дни праздников. Этим она воздает почет праздникам. Прекрасные трогательные субботние украшения, даже и впоследствии, когда ассимилированная еврейская дама отошла от преданий старины, сохраняют для неё былую магнитность, сливаясь с естественным тщеславием и суетностью женской натуры. Но первоначально, в древнем быту, как и в быту современных ортодоксальных семейств, это было не украшением себя в самодовлеющем каком-то настроении, а именно воздаянием через себя, через своебренное тело, через телесный свой ковчег, хвалы великим часам великих воспоминаний. Отсюда и некоторая бесвкусность таких утрированных на самих себе нарядов. Эти шелка, атласы и бархаты среди жемчугов на шее, бриллиантов и золота на пальцах, производят, в общем, довольно непривычное впечатление, превращая тело в гардеробный манекен. Отводишь глаза иногда с недоумением в сторону, чтобы не видеть бряцания фейерверочной мишурой – во дни, которые мужчина отдает молитве или строгому самоуглубленью.
Вот почему ювелирное украшение лица кажется таким антиеврейским в мужчине. Однако во времена, западноеврейского гетто некоторые ассимилянты именно внешними признаками старались слить себя с окружающей средой. В душе их оставался ещё звон старой музыки, но облик наружный становился каким-то иным и чуждым еврейству. Может быть, сапожники или мельники голландские времен Рембрандта носили тогда в ухе кольцевидную серьгу, и, чтобы не отличаться от них, такую серьгу надевает и Адриан. От этой мелочи лицо окончательно меняется, как оно изменилось бы у всякого другого человека. При этом лицо Адриана на портрете поражает опять своею белизною, особенно рельефно выделяющеюся при сопоставлении с темным до черноты костюмом. Белизна эта содержит в себе большие блики, точно получившиеся от сказочного освещения лучами горящего магния. Гармоника почти мертва. Но брошенный на лицо искусственный свет, дающий отблеск чуть ли ни по краям широкой шляпы, придает ему какую-то особенную выразительность. Точно оно плачет беззвучными и бессильными слезами, льющимися из недр чего-то поломанного и разбитого в душе. Биография Адриана не отличалась, как мы уже это говорили, особенною сложностью. Сначала он был сапожником, потом, на склоне дней своих, стал работать на мельнице – и в таких незамысловатых трудах прошла вся его жизнь. Иногда он заглядывал в книгу. Но книжное чтение, играющее такую высокую роль у людей мысли, не было для него необходимою для души утехою. А затем пришла смерть и так приложила его к отцам – бессловесного, не мудрого и не говорливого Адриана.
Адриан дополнительно освещается прекрасно расписанным обликом его жены. Она представлена Рембрандтом в нескольких портретах. На одном из них, большом и великолепном, хранящемся в Париже, она написана бюстом в профиль. Это поистине чудесное искусство, свойственное Рембрандту, в простом наклоне головы, в малейшем жесте руки дать всего человека – не в духе Гальса, т. е. не одного только внешнего человека, но всего его целиком, во всей его телесной и психологической характеристике. В этом смысле Рембрандт не профессиональный портретист в стиле Мирвельта, Морельзе, Теодора Кейзера, а выявитель и разгадыватель темных душевных глубин, равного которому среди живописцев всех стран мы не имеем. Жена Адриана держит в руках раскрытую книгу. Книга эта кажется даже не написанною. Она живая, такая же, как та книга, которая вот лежит на вашем столе, слегка потемневшая в окружающей теплой тени, трепетная и мыслящая от флуидов, текущих из ваших напряженных кистей. Книга эта в самом деле живая, в буквальном смысле слова: вы её читаете и она вам читает – свои строчки, свои молитвы, свои вещие намеки. Так именно это и бывает иногда, когда книга находится в руках благодарного интеллектуального медиума. Вы не слышите пения книги. Но в действительности книга поет. Вы не видите её шествия вместе с вашим духом куда-то вдаль. А между тем книга носится с вами на высоте, в звездном пространстве, среди блесков и светов расширенного космоса. Вот какая книжка находится в руках Елизаветы ван Левен, законной жены Адриана Гарменса! Левен, т. е. Левин, это одна из самых распространенных в еврействе фамилий, почти в этой же степени, как Коган, с его разновидностями, как Вейси Шварц. Еврейка, прелестная старая еврейка, сидит перед нами, в профильном очертании. Она еврейка не только по тому, как она держит книгу в руках – с благоговейным напряжением, а по всем особенностям, по всем деталям своего выразительного лица. Глаза смотрят в бок не сантиментальным расплывчатым взглядом, а как бы оторвавшись от чтения и задумавшись пиэтично над прочитанным. Ничто не расплылось в ней среди благоговейно песенного настроения. Молитвенная песня трепещет в душе, но среди трепета сердечных струн тонкая игла старушечьей апперцепции всё же чувствительно прорезывает накопляющиеся внутри горячие огненные туманы. Если спросить такую старушку, что именно взволновало её при чтении, и она даст вам простой и ясный ответ, не растерявшись при этом нисколько, не расплескав грубым словом никакого слоя. Как это великолепно! Как всё это чувствуется в портрете, в каждой складке выразительного лица, крупно вылепленного, костлявого и острого, с резко выдающимися скулами, бросающими в впадинах черную тень. Она молится глубокою молитвою. В руках у неё молитвенник. Она держит молитвенник плотно сдвинутыми, вытянувшимися пальцами. Пальцы эти сближены между собою так же, как сдвигаются ноги у евреев, совершающих молитвенное служение на дому или в синагоге. Если бы даже этот мелкий штрих был положен на полотно в порывах бессознательной интуиции, то и тогда говорил бы он о многом. Но на портрете Елизаветы Левен видна ясная преднамеренность мастера в изображении позы кистей. Не было бы этой гениальной детали, и всё лицо потеряло бы в своей изумительной экспрессии. Тут всё согласовано между собою, всё сгармонизи-ровано в одном общем впечатлении. И как это бывает между людьми, долго жившими в супружеском союзе, два человека постепенно начинают друг на друга походить в результате многолетней мимикрии. Так и портрет старухи, только что рассмотренный нами, если сравнить его с парижским портретом Адриана того, но частного собрания, представит разительные сходство мужа и жены. Адриан что-то схватил от своей жены духовного, а в ней самой что-то окостенело от его невозмутимого житейского прозаизма.
23 мая 1924 года
«Подвиг благочестия»
Мы имеем несколько замечательных портретных изображений, показанных в каталоге Адольфа Розенберга, как жена Адриана Гарменса, но с вопросительным знаком. Составитель обширного исследования о Рембрандте сомневается в собственной своей догадке. Некоторые из этих изображений французский художественный критик Эмиль Мишель относит к родственникам Гендриккии Стоффельс[49]. Эту последнюю догадку едва ли можно считать сколько-нибудь основательною. Рембрандт познакомился с Гендриккией через четыре года по смерти Саскии Уйленбург, в 1646 году. Это была простая рандолская крестьянка, с которой художник жил неповенчанным в течение многих лет. В амстердамских архивных делах сохранились сведения о том, что уже в 1654году Консистория делала этой женщине официальный запрос, на каком основании она живет открыто с Рембрандтом, не будучи его законной женой. В результате такого обвинения молодая крестьянка была даже лишена св. причастия. Таким образом, всё говорит о том, что Гендриккия Стоффельс была христианка. Да и самый факт таких запрашиваний по распространенному в те времена сожительству между собой людей, без участия церкви, тоже свидетельствует о том, что в данном случае было нечто для общественного мнения экстравагантное: христианка, живущая с еврейским уроженцем, если таковым был Рембрандт, – могла раздражать ортодоксальные церковные круги. Если же при этом рассмотреть упомянутые выше портреты старой женщины, то мы получим целый ряд новых доказательств того, что изображенная женщина не могла быть родственницей Гендриккии Стоффельс: это портреты подлинной еврейки. Будем держаться предположения Розенберга, что перед нами жена Адриана Гарменса. Близость этих двух лиц ощущается довольно многосторонне.
В Эрмитаже мы имеем несколько портретов старухи одного и того же типа, относящихся именно к этой теме. Здесь же находится и портрет Адриана, нами уже разсмотренный.
На одном из этих портретов an face[50] к публике Елизавета ван Левен представлена в широком платке, обрамляющем всё её лицо. Все черты выражают тихое и сосредоточенное спокойствие праздничного субботнего дня, свойственное еврейскою женщине. Если сравнить этот портрет с рассмотренным нами в предыдущей главе портретом в профиль, то вот что придется сказать: сходство есть разительное, но перемена положения лица, с профиля на прямое, ставит естественные затруднения в общей оценке, в общей характеристике. Лицо этой женщины собрано вместе, сомкнуто в своих линиях. Черта к черте – плотно, без промежутков, как пальцы к пальцам в профильном портрете, и как нога к ноге у молящегося еврея. Голова Елизаветы ванн Левен слегка склонена влево неутешным, почтительнейшим, благословляющим склонением, опять-таки весьма и весьма типичным для субботнего дня. На лице этом, в собранном его состоянии, в его изысканно тихом пафосе, разлилось сияние прелестной старушечьей красоты. Крупная лепка прелестных рельефных черт оставлена в своём виде, но разница в четыре прожитых года всё-таки дает себя чувствовать довольно заметно.
Некоторое подобие этого портрета мы находим в Копенгагене, в частной коллекции гр. Мольтке. Совершенно та же женщина, так же шестьдесят с чем-то лет, в таком же наряде. И те же мягко-вдумчивые глаза, и та же собранность прелестной, чудеснейшей гармоники, примолкшей на секунду для великого субботнего дня. Если это Елизавета ванн Левен, жена сапожника или мельника, то перед нами настоящая благородная стилизация, которою художник достиг первоклассного пластически-живописного аффекта. Он принарядил старушку, набросив на её голову великолепный, массивно-роскошный платок, и всё в этой старушке заговорило своими существеннейшими чертами. В душе её благочестие, религия, светящийся какой-то клубок, в котором лучи всех душевных эмоций собрались, сложились и спаялись в нечто единое, отобразившись затем на лице умилительным аккордом. Такая же это Елизавета ван Левен в замечательном лондонском портрете, при коллекции герцога Беклейха. Лицо выше всех оценок и в красочном и в графическом отношении. Вот лицо настоящей Сивиллы. Глаза её, с сорванной завесой, проникают вглубь читаемого далеко-далеко за пределы печатных страниц. Их открыла и устремила вдаль настоящая пророческая апперцепция, какое-то мудрое положение осенило их и придало всему лицу исключительную озаренность. Гармоника его в чудесном движении расправила свои морщинки и устремила вверх молитвенную песню. В раздвинутых руках эта женщина держит раскрытый фолиант – держит крепко, на весу, почти у самой груди с неподдающимся описанию благочестием, с тем самым благочестием, о котором говорит Буслаев, как о подвиге души. И замечательная вещь: Рембрандт представил раскрытую книгу источником магического света, исходящего от её страниц. Озаренная белая грудь является светлым ореолом книги, умаляющимся в своей интенсивности по мере удаления от неё. Лицо озарено в меньшей степени, чем праздничная одежда на груди. Хотя живописная символизация, как и всякая иная, хранит в себе возможность злоупотреблений, здесь она выражена так прекрасно и проникновенно, что производит неотразимое впечатление. И кто же эта женщина, как еврейка, и при том еврейка вне всякой тлетворной габимы, вся клочок духовного Сына, вся какая-то библейская Дебора нового исторического периода. До такой проникновенности Рембрандт мог дойти только путем тех интуиций, которые вытекают из общего с предметом изображения расового источника. Простая же интуиция естественно невольно сбилась бы на ипокритский шаблон.
Нечто подобное мы имеем и в нашем Эрмитаже. На одном из портретов, старая женщина, оторвавшись от чтения, прикрыла книгу правою рукою. Левая же рука осталась между переплетом и страницами. Старушка думает и чувствует всем существом своим. Весь человек в одном аккорде, в одной ноте.
Гармоника умолкла. Но вот маленькая деталь, которую следует отметить. На коленях у старушки еврейская книга. Это видно из того, что корешок её обращен к правой руке. Если книга читается справа налево, то она естественно и закрывается в том же соответствующем направлении. Так из пустяков иногда выплывают важные и значительные соображения: женщина, читающая на древнеиудейском языке книгу, не может не быть еврейкою. Такою же еврейкою, с тем же положением закрытой книги, мы имеем её и в другом Эрмитажном портрете. Всё та же женщина. Все та же реальная модель. Между пальцами покоится пенсне, которое она надевала при чтении: всё жанр и в то же время что-то большее, чем жанр, потому что всё пронизано интеллектуальностью высшего порядка, всё горит и светится в бесконечно благочестивой, серьезнейшей думе, совсем по-семитическому.
Чтобы думать и чувствовать так свято, так беспыльно чисто, таким всеохватывающим полностным ощущением своего бытия, нужно иметь за плечами весь длинный пройденный путь истории – маяк Синая, поверженную Габиму, чудный фантом храма Соломона и, наконец, тревожно вдохновенную диаспору с рабби Иохананом бен Заккраем в начале всесветного рассеяния. Каждая еврейка – старуха, даже если она няньчила своего брата десятилетнею девочкою. Каждый еврей – старик, будь он только задумавшийся юноша. Тут века стоят коэффициентами при каждой индивидуальной величине – и все старо в своей молодости, и все юно в своей старости.
Наконец, Эрмитаж дает нам ещё один портрет всё той же женщины. Некогда портрет этот ошибочно считали портретом матери Рембрандта. Но это не его мать, черты лица которой отличаются и большею крепостью и большею определенностью. Если это Елизавета ванн Левен, то с чертами, расплывающимися в старушечьей истоме. Руки сложены накрест почти безмолвно и слегка, апатично. Голова болезненно склонена к правому плечу. Всё на этой женщине как бы отдыхает и засыпает. Это другой момент в её биографии того же 1654 года, когда она была представлена с развернутой и раскрытой книгой на весу. Здесь иной момент. Старость вступает в свои права, приближается дряхлость, распад и гибель всего человека. Но и гибель тут с чертами еврейской расы: стынет стакан горячего чаю, в котором довольно и сахару, и лимона, и рома. Но он стынет со всеми своими ингредиентами. И вот еврейская смерть.
24 мая 1924 года
Так называемая сестра Рембрандта
В галерее женских портретов раннего периода деятельности Рембрандта мы находим портрет девушки, напоминающей самого художника своими чертами. По догадке Адольфа Розенберга это сестра Рембрандта – Мохтельт или Лизбета. Отметим попутно, что Ровинский считает имя Мохтельт не женским именем, а мужским, приписывая его одному из братьев художника, умершему до 1640 года. Как бы то ни было, перед нами лицо, которое в самом деле заключает в себе фамильные черты уже знакомой, описанной нами семьи. Портрет имеется в двух экземплярах: один в частной Гаагской коллекции, а другой в Амстердамской, тоже в частном собрании. Портрет в высшей степени типичен. Лицо круглое, ширококостное, полное жизни. Нос с раздутыми крыльями, напоминающими нос Адриана. Губы и подбородок имеют ясно выраженный характер чувственности. Рот велик, широк и напряжен: в нём чувствуется некоторая надменность. Глаза полны ума и жизни, давая впечатление неподдельной, бросающейся в глаза духовной свежести. Точно река этой жизни только что вырвалась из недр земли и течет в зеленых берегах. Голова осенена ореолом темных и густых волос, выделяющих светоносную белизну лица. Бывает иногда, что девушки поражают вас одною какою-то своею чертою и живут в вашем воображении именно этою своею типичною особенностью. Если это Лизбета или Мохтельт, то мы можем себе представить сестру Рембрандта, так просто и ясно, как если бы мы видели её перед собою живою. В комнату вошла сангвиничная девушка и сразу же поразила вас вздымающимся над её головою колтуном темных волос. Повернется вправо – голова в черном облаке, обернется влево – облако заслоняет собою всё другое. Волосы при этом скучены вместе, скопились в какую-то груду, не расчесанные, не убранные, клубящиеся в живописном беспорядке. Такая шевелюра существенно семитична. Такие копны черных волос мы видим и помним у множества молодых еврейских девушек, со скрытой в душе страстью, и внутренним пламенем, как бы вырывающимся из её существа и змеящимся в этих непослушных, упрямых, застывших в неподвижности прядях. Если расчесать девичьи волосы комами и перевить эти косы лентами, получается одно определенное впечатление, в зависимости от цвета, богатства и тяжеловесности волос. Волосы могут быть также собраны по-античному, шиньонами или простыми узлами на затылке – и тогда впечатление получается несколько иное, более женственное и спокойное. Это уже не Гретхень с косою, а юная матрона inpodentin. Имеется ещё прическа из гладких прядей, закрывающих уши боковыми бандо в духе Клео де Моркод. Такая прическа тоже женственная, почти целомудренная, возбуждающая в нашей душе ток мучительного любования, подчеркивает, стилизует личность, но не переделывает её существенно. Девушка остается сама собою, в миловидном рисунке настоящей искусительницы. Эти расчесанные и приглаженные лесные уборы растительной стихии играют огромную роль в гипнотическом действии девушки на окружающих людей. Вошла в комнату и разлила вокруг себя тревожные флюиды. Примазанные, точно маслом, волосы наполнили воздух сладким, удушливым ядом. Но девушка с волосами копной, вышеописанного типа, не страшна и не опасна, потому что бушующая в ней страсть отличается полнотой и здоровьем, не разодрана и не разорвана никакими противоречиями. И такая именно девушка, стремящаяся к материнству, не играющая сложною патетикой страстей, типично еврейская девушка, дочь Сиона, дочь благочестного и трезвого в своей основе народа. Еврейская девушка, как только она созреет, должна немедленно выйти замуж, не засиживаясь в девичестве. Её ждет парик, который прикроет срезанные на свадьбе волосы, потому что непристойно и неприлично всегда носить в жизни эту опасную стихию соблазна и искушения, разоблаченною перед глазами людей. Тут какой-то ритуал. Тут какое-то подобие мужского обрезания, с тождественными задачами: оградить воспроизведение рода от всех миазмов плотского наваждения. В платке, в парике, с распущенными косами, с льющимся с головы каскадом, в своих вьющихся и обвивающих тело лианах, женщина являет собою Сильфиду, Наяду, даже монаду, но не Ревекку, не Рахиль, не Сарру и не Руфь. В какой-то апокрифической легенде описывается праведник в Раю, связанный женскими волосами. Но это не эсхатологический рай будущего, в котором уже не будет такого сплетения святости с чувственностью, а скорее золотой век раннего Эдема, населенный призраками ещё не дифференцированных мечтаний и мироощущений.
Вот она сестра Рембрандта в своём типическом для еврейства виде, в каком она представлена на упомянутом портрете. По описанию каталога на ней дорогое меховое пальто, с богатой ювелирной застежкой на левом плече. Из-под плаща богато вырисовывается край расшитой кружевной сорочки, ярко белой и отражающей от себя полосу сияющего света. Де Грост указывает на то, что освещение портрета льется с правой стороны. Нос девушки, в самом деле, охвачен тенью слева. Но у Рембрандта никогда не знаешь истинного источника света. Этот пиротехник и режиссер манипулирует осветительным фонарем по произволенью, по минутному капризу, по вдохновению момента.
При этом тенденция к живописному шаманству, к логичности, его никогда не покидает, и тенденция эта уже была видна в раннюю лейденскую эпоху его творческой работы.
Мы имеем ещё несколько портретов всё той же Лизбеты или Мохтельт ванн Рин. В парижской коллекции барона Шиклера она представлена во весь рост, в шикарном туалете. Волосы отросли и спущены низ. Голову довольно безвкусно украшает перо. На ней богато расшитый плащ с драгоценными бляхами и камнями. На руках высокие перчатки, причём правая опирается на трость. На близ стоящем столе разбросаны вещи в качестве декоративных предметов. Рембрандт очевидным образом комбинировал тут, со свойственною ему замысловатостью, какую-то картину, и сестра позировала ему в качестве модели. Но две детали индивидуального характера прямо бросаются в глаза. Во-первых, голова не прикрыта не только париком, но и никаким платком. Во-вторых, в пышной юбке туалета резко выдается живот, образуя большой световой рельеф, как если бы Лизбета находилась в состоянии беременности. Впрочем, в истории костюма того времени встречаются юбки с передними фижмами именно такого рода. Лицо Лизбеты всё ещё поражает молодою свежестью и полнотою реалистического темперамента. Черты все те же, без заметной перемены. Слегка выпяченный бюст подчеркивает простоватую красоту этой девушки. Дочь мельника стоит, подбоченившись левой, по-видимому, могучей рукой. И хотя вся картина закутана пышными и вычурными покровами, представляет собою не то символ, не то аллегорию или, может быть, какую-нибудь библейскую воинственную деву, куда-то направляющую свой меч, еврейского мотива из нее изъять почти невозможно. Лицо из семьи Рембрандта, сияющее изнутри, хотя белый свет раскинулся коврами по стене и на полу. Он же играет на складках пышного платья. Всё блестит, сверкает и частью даже удручает обилием белизны, особенно в лице, освещенном магнием, почти без теней, почти бесплотном, фантастическом и химерическом. Это один из обычных моментов в живописи Рембрандта, где chiaroscuro в замену церковных ореолов искажает правдивое соотношение вещей между собою. Рембрандт дает свет там, где ему угодно: то ради композиционных целей, то ради выделения отдельных частей картины.
25 мая 1924 года
Субботняя хала
На других портретах той же особы, находящихся в разных европейских галлереях, мы имеем, в общем, почти тот же облик, но с такими новыми деталями, что характеристика так называемой сестры Рембрандта начинает колебаться. Вдруг это не одна и та же особа, а какая-нибудь другая из сестер Рембрандта или просто его родственница. Для нас этот вопрос особенной важности не представляет, ибо мы в нашем анализе ищем лишь единой расовой общности в большой семье лейденских и амстердамских ванн Ринов. На венском портрете из Лихтенштейновской галереи мы почти не узнаем ни девушки, представленной в гаагском портрете, ни той, которую мы рассмотрели только что на парижской картине. Впрочем, и эти два последних портрета весьма отличаются один от другого по строению черт лица. Когда в альбоме Адольфа Розенберга мы встречаемся с надписью «так называемая сестра Рембрандта», то возникает прежде всего вопрос, какая именно сестра. В одних случаях Розенберг добавляет имя Лизбета, а в других такого добавления нет. В данном случае, как и во всех последующих портретах, имя не дано, и мы вправе допустить, что и сам исследователь сомневается в правильности той или иной классификации. Во всяком случае, если исключить два рассмотренных нами первых портрета, то все остальные можно свободно признать изображающими одно и то же лицо. Это какая-то из сестер Рембрандта – кровное родство с художником чувствуется во многих и весьма существенных чертах. Лихтенштей-новский портрет представлен прямоличным. Волосы уже светлые, вьющиеся колечками, в мягком живописном беспорядке. В них чувствуется рыхлость душистого сена, располагающая к интимной ласке. Возьмешь такую детскую головку в руки, и всю её изласкаешь поцелуями гладящих рук. И глаза на Лихтенштейновском портрете младенческие, глядящие нежно-вдумчиво и вместе с тем как бы исподлобья, ясные и чистые своим утренним светом. Когда Микель-Анджело, на Сикстинском плафоне, изображает нам девушку, устремившую напряженный, неопределенно рассеянный взгляд в пространство, мы имеем перед собою несомненное девичество, но совершенно иного тембра. Тут густота пламенеющей какой-то смолы, зачатки трагического Эроса, который поведет юное существо по пути больших страстей. Здесь на картине Лихтенштейна нет и тени ничего подобного. Младенческое чистое девичество дано в совершенном отвлечении от всяких признаков вакхической экзальтации, хотя бы и высшего порядка. Перед нами тонкая-тонкая струна, ещё не поющая, почти не вибрирующая, протянувшаяся по всему существу девушки из недр материнского инстинкта. Девушка эта будет расти именно в музыке развертывающегося в ней космоса, со всею доступною ей внутренней серьезностью. Вся сексуальность её выражена в эмбриональном материнстве. Но это же и есть существеннейшая черта еврейской женщины, наиболее для неё характерная и вечная. Девушка должна выйти замуж. До замужества ни одна посторонняя мужская рука не коснется её лица, её тела. Когда заиграют скрипки, сопровождающие появление жениха, всё в доме невесты приходит в неописуемое одушевление и восторг. Кругом ощущается что-то необычайно торжественное. Приближается ключ к заповедной шкатулке, откуда, как из ящика Пандоры, могут посыпаться великие и обильные дары в умножение благочестной славы народа. Сама невеста предстает жениху каким то субботним видением, в белом платье, скромно украшенном цветами, покрытая с головы до ног добродетельной фатой, вся – и радостная и жертвенная в одно и то же время, вся – плач и улыбка в едином чувстве предстоящей судьбы. И всё у неё ответственно в выражении лица, в мимике жеста и походке. Вот эту самую девушку, которую Рембрандт представил на Лихтенштейновском портрете, можно вообразить в каких угодно комбинациях, за исключением одной: она не способна быть вакханкою простейших страстей и упоений. Какой у неё лоб – открытый, мягкий, с клочком костного овала, с просторным местом для будущих забот, которых у матери хоть отбавляй. Вся верхняя часть головы украшена подвесками серег, мерцающими, как две лампадки, как две свечи. А уши у неё ванриновские, с длинными мочками, мясистые, вместительные приемники со всех сторон льющихся звуков мира. О глазах мы уже говорили. Из них дышет на вас влагою надушенной ткани, надушенного обильно платка. Нос ванриновский, с расширенными крыльями. Губы, рот и подбородок дополняют картину общего целомудрия, особенно рот, запечатавшийся в надежной и совершенной невинности. В щеках и вообще в лице замечается легкая припухлость – тенденция к мясистым закруглениям, которая очень скоро скажется в намеке на второй подбородок. А на груди кружевная сетка-воротник, за которым следует нарядная отделка темного корсажа.
Вот и вся эта так называемая сестра Рембрандта. Не приходится почти подчеркивать, что это еврейка, по крайней мере, таково впечатление портрета, изученного нами во всех подробностях. Красивая ли это девушка, красавица ли она по чертам своего лица? Конечно, нет. Мы имеем дело именно с тем, что в просторечии называется симпатичным существом во всей своей телесно индивидуальной структуре. Не боясь вдаться в вульгарность уподобления, хочется сказать, что перед нами субботняя хала, праздничная, еврейская булочка, с маком, на сливочном масле, с пропеченной сверху корочкой, такая сдобная, вкусная рыхлая и плотная одновременно. Таких других девушек нет на белом свете. Они вырастают только в горячем луче Моисеевых заветов, в отчужденности от какой-либо тлетворной Габимы, и будут вырастать в духовном Сионе, на всём дальнейшем пути истории, пока не расхищен и не разрушен весь чудесный виноградник. Когда это случится, дочь Сиона погибнет навсегда. Будет вакханка, будет профессор, будет ученый и политик, но не будет Саронской девы. Из флоры человечества исчезнет драгоценный цветок.
В Миланской галерее Брера мы имеем ту же девушку с легким наклоном вправо. Семитические черты лица проглядывают яснее, как вообще это бывает, когда лицо из фасного положения приближается к профильному. Губы сложены для невинного приветственного поцелуя, а вместе с тем в них чувствуется что-то припадающее к материнскому соску. Щеки обрисовались во всей опухлости и округлости. Кольцевидные вьющиеся волосы рассыпались по лбу и по плечам. Это та же девушка, в том же чистая невинная в своих настроениях, но уже слегка приготовленная нарастающим материнским импульсом к дальнейшему раскрытию своего существа. С головы спускается сзади черное покрывало, и это придает девушке большую солидность. Волосы её, до сих пор покрытые и свободно купающиеся в окружающем воздухе, уже начинают собираться и связываться под темной фатой. Но совершенно бесподобное изображение сестры Рембрандта на ричмондском портрете из коллекции Фредерика Кука, в прелестном бархатистом берете со страусовым пером. На шее нитка крупного жемчуга. Костюм в общем тот же, те же серьги лампадками. Выражение лица близко к Лихтенштейновскому портрету. Но всему портрету придан оттенок лихости и шика, насколько могло это позволить столько далекое от всего показного лицо. Берет нахлобучен на бок, в стиле голландской жанровой живописи XVII века. Художник, поддаваясь гипнозам культурной габимы, с её веселой помпой политики, быта и раскрепощенных от испанского гнета нравов, с её веселыми пирушками и гетеровидными девами, с её разгулявшимися мужичками и кутящими горожанами, придавал иногда своим моделям самые несвойственные им положения. Так и в данном ричмондском портрете. Шапка набекрень, со всею её темпераментною лихостью, совершенно не идет к тихому и серьезному детскому лицу.
26 мая 1924 года
Супружеское ложе
Мы имеем ещё несколько портретов так называемой сестры Рембрандта. Повторяю и подчеркиваю с особенною настойчивостью: в конце концов, всё это только догадки, сближения и предположения, постоянно осложненные присущим художнику обыкновением варьировать те или иные детали изображаемого лица. То Рембрандт придает волосам другой цвет, другую форму, другую подчас экстравагантную прическу. Иногда он тенденциозно меняет и черты лица. Все эти мелочи находятся у него во встряхиваемом постоянно калейдоскопе. Сочетание красочных стеклышек многообразно и многотонно. Но для целей нашего исследования верно только одно: в существенном все лица между собою сходны и чем-то, какими-то повторяющимися из портрета в портрет чертами, напоминают облик самого Рембрандта. Лейпцигский портрет, если смотреть на него издали, представляет как бы бритую голову, прикрытую ермолкою. Лоб необозримо велик. Если закрыть рукой нижнюю часть и оставить только голову, с гладкою прическою и обвитою вокруг неё косою, и обнаженный лоб, то впечатление еврейского лица становится неотразимым. Девушка сидит и смотрит вперед, почти беспредметно, с незаконченным выражением лица, всегда сопутствующим неопределившейся мысли или не сформировавшемуся намерению. Туалет её незавершен, отсутствуют и другие детали, нет серег, нет ни бус, ни ожерелья. Волосы не украшены ничем. Портрет и в живописном отношении тоже не вполне закончен: в общем, он производит впечатление этюда, по сравнению со всеми другими изображениями этой девушки. Но глаза во всех портретах одни и те же – темные, круглые, слегка навыкате, среди молочной белизны яблока и век. Всё лицо вообще белое, с продолговатою тенью на левой щеке. Нельзя сказать, чтобы лейпцигский портрет производил сколько-нибудь эстетически приятное впечатление. Он только интересен, как всё решительно, выходящее из-под кисти Рембрандта. Но Рембрандт и не может считаться представителем того или иного эстетического направления в искусстве, поскольку речь идет о формальной красоте. Здесь опять приходится констатировать в Рембрандте определенным образом выраженную семитическую черту во всем его творчестве, в личных его вкусах и наклонностях. Когда на женском лице, например у Саскии, он уловит признаки пластической прелести, дуновение из мира платоновских образцов, из душистого сада внешних очарований, он непременно сгладит и сотрет всё это кистью художника или иного офортиста. Этому гению, как и Льву Толстому нашего века, красота в своей полноте, в своей цельности, совершенно не нужна. Он игнорирует эстетический покров, лежащий на человеке, чтобы заглянуть глазом философа в душевные глубины. В результате получается не портрет в буквальном смысле слова, а тот или иной трактат на интеллектуальную тему. Это сугубо иудейская черта. Современный еврей, как и еврей времени «Песни Песней», несмотря на всё влияние окружающей среды, несмотря на натуралистическую тенденцию стольких романистов и на крайний сексуализм, царящий всегда в этой области, никогда не станет приковываться словами и мыслями к тем или иным чертам женского тела. Это не в еврейском духе. Слегка одурманенный вином православный священник может еще соскользнуть в область блудливых восхищений и нещепетильных подглядываний, но это никогда не произойдет с еврейским духовным раввином, мысль которого фатально и почти трагично погружена всегда в бесформенную какую-то белизну – в бесплотно белую фантастику отвлеченного умозрения. Раввин уж, конечно, ни в какой степени не аскет. Он не бежит от женщины и её втайне не боится, как боятся женщины христианские святые. Но и в самом близком контакте с нею он не обращает женщину в инструмент удовольствия. Он смотрит на неё не как на орудие, а как на цель. Иное дело использовать человека для гаммы сладостных ощущений. Вы взошли на гору и смотрите кругом восхищенным взглядом. Иное дело быть рядом, плечом к плечу, рукой к руке, устами к устам, чтобы исполнить органический завет, вложенный космосом в наше бытие. Талмуд запрещает иметь удовольствие от женщины. Христианский альков не супружеское ложе, богомольное и тихое. Из него доносятся к нам крики Мэная, возгласы исступленных фавнов и далеких вакханалий. Еврейский же альков погружен в благочестную тишину. Для человека с эстетическими тенденциями и натуралистическим кругозором такое супружеское ложе кажется пустым и скучным. Но оно полно необъятного содержания для того, кто индивидуальный свой ритм способен слить с боем космических часов, или с божественной волей для того, кто верит в таковую.
Возвращаясь к лейпцигскому портрету, весьма замечательному в художественном отношении, мы начинаем ощущать в нём какое-то определенное содержание. Женщина вынула серьги из ушей, заплела волосы по-ночному, сняла с себя дорогое ожерелье. Сейчас сбросит она с себя тяжелый, шитый костюм и в рубашке направится к брачному ложу. Сколько святости во всех этих, в сущности, прозаических, обескрашивающих ⁄ разоблачающих, а не наряжающих. Человек идет к своему естеству, а не на бал. В таких чистых, безыскусственных формах проходит перед нашими глазами весь пророческий процесс библии, с его славными пастушескими романами и здоровой сердечностью сближающихся между собою полов. Чистота сексуальных отношений тускнела с годами. Габима вливала в это русло свои яды. Но ещё деды и прадеды наши рождались в условиях благочестного сотрудничества мужчины с женщиной, в благословенной атмосфере духовных воздействий синагоги, предания, общественного мнения и теплого сердечного внимания родных и соседей. Теперь раскрыты настежь все окна, врывающиеся ветры развевают все древние священные покровы. Христианский альков стал предметом чуть ли ни скандальной хроники дня. Но в иные времена всё тут было окружено молчанием и тишиной, хотя девическая честь ограждалась от всякой сплетни чуть ли ни задним числом, и всенародным ритуалом. Мать приходит к молодоженам в утренний час, для осмотра белья новобрачной, и радостная уходит к соседям, чтобы возгласить чистоту своей дочери до брачного союза. Она отдала потоку истории неповрежденное первозданно чистое существо.
В Стокгольмском портрете той же девушки она вся представлена в пышном наряде. Если лейпцигский портрет представляет собою ночь, то этот портрет мог бы быть назван олицетворением дня. По лицу разлился утренний свет, туалет заботливо закончен, надеты все драгоценности, великолепно украшен головной убор. В руке светло мерцающая резная, изукрашенная рукоятка веера. Это утро солнечного дня. На портрете так называемая сестра Рембрандта представлена с легким оборотом головы влево. Всё та же девушка. Всё те же соломенно светлые волосы, оттененные едва приметным головным убором. Убор этот скрывается в тени. На груди ряд бус и нитей. Выражение лица, глаза и уши – все знакомого нам типа. Два дивных портрета этой девушки в Париже и в Лондоне ничего не прибавляют ко всему сказанному. Но семитические черты девушки из года в год выступают в изображении Рембрандта всё рельефнее и рельефнее. На лондонском портрете, из коллекции Робинсона, перед нами молодая, пухленькая, с надутыми щечками, с невинно нетронутыми, честными глазами, настоящая евреечка. А темные глазки, как две изюминки на белом твороге, такие же бесхитростные и такие же сладкие. Венский портрет, из частного собрания Риттера фон Гутмана, не совсем удачный с точки зрения светотени – какая-то белая сова с мазком тени под самым носом – производит неблагоприятное впечатление. Если взглянуть на него с точки зрения структуры лица, то по общему его виду и выражению нельзя не признать его совершенно еврейским. Такому впечатлению содействует ещё и чрезмерная перегруженность украшений на голове и на теле, на плечах и на груди. Лицо становится обрюзглым. Намечается второй подбородок. Наконец, берлинский портрет из коллекции Голлитшера. В изюминках больших глаз появилось в своём роде мудрое выражение: это уже не девушка, а женщина. Даже самый контрпостный поворот головы, почти в три четверти, заключает в себе след личного опыта, уже некоторую зрелость. Иногда женщины смотрят вбок осмысленно апперцептивным взглядом, наполненным обширным внутренним содержанием. Это не первый взгляд открывающихся глаз, а повторно-контрольный взгляд, свойственный много жившим и много видавшим глазам. Так называемая сестра Рембрандта что-то схватила в душу, нарушившее былую безмятежную удовлетворенность. На губах печать скрытого протеста и недовольства, второй подбородок окончательно определился.
27 мая 1924 года
Расовый каркас
Можно пожалеть о том, что Рембрандт не оставил нам изображения своей сестры в офорте. Линии офорта точнее передают нам человеческий облик, чем краски, свободно налагаемые кистью. Конечно, и в линиях можно фантазировать до бесконечности, пересоздавая действительность по предвзятым планам. Так Леонардо да Винчи, в своих бесчисленных рисунках, оперирует над клочками действительной жизни с такою свободою, что объект в результате работы становится почти неузнаваемым. Портрет Изабеллы д-Эсте в обоих вариантах, углем и сангиною едва ли похож на оригинал, если судить о мантуанской герцогине по другим изображениям, но сам по себе рисунок может точнее передать изображаемый предмет, чем самая лучшая краска, развлекающая, отвлекающая и ослепляющая глаз. В рисунке внешняя форма предмета отражается со всеми его деталями. Игла и карандаш обязывают к определенности. Мастера германского возрождения являлись по преимуществу графиками. При этом они старались копировать каждую деталь, каждый волосок, каждую складку человеческого лица. В этом отношении они были настоящими воспроизводителями натуры, стоящей перед глазами. Заяц Дюрера, хранящийся в венской Альбертине, кажется совершенно живым. Видна чуть ли не пыль на его шерсти. То же самое надо сказать о голове старика-еврея Дюрера из той же коллекции. Вот повод провести параллель между евреем, в изображении типично германского художника, и евреем в изображении Рембрандта. У Дюрера рисунок дает нам слепок природы. Если бы Христос в самом деле отпечатлелся на полотенце Вероники, то он не мог бы быть более реально отражен, чем простой еврей на этом рисунке. Типичные еврейские волосы, обыкновенно вьются колечками – на портрете Дюрера большая густая борода старца вся в струях и кольцах. На голове ермолка, в которой виден каждый шов. Если сопоставить эту ермолку с лоснящимся пергаментом морщинистого лба, то получается жуткое впечатление такой верности передачи, что она кажется волшебною. Всё лицо, весь лоб, даже рука, подпирающая голову, в переплете самых разнообразных складок, как это и бывает на живом человеке. Никакая кисть, конечно, не способна изобразить ничего подобного: что-нибудь она смажет, что-нибудь затрет, что-нибудь слижет, что-нибудь прикрасит. Выражение опущенных, едва видных глаз старика обусловлено столь же правдивой передачей внешних деталей. Но мы стали бы напрасно искать в этом великолепном изображении семитической музыки, которая выплывает из каждого офорта Рембрандта, где голландский мастер отнюдь не гонится за воспроизведением реальной действительности во всех её подробностях. Это лицо старого еврея не рембрандтовская гармоника, то сжимающаяся, то раздвигающаяся, то в углубленных складках, то в складках расправленных, всегда поющая на еврейские мотивы быта и религии. Это именно только пергамент, только пожелтевшая бумага, почти безжизненный труп, каждый волосок которого зарисован. Во время своего раннего расцвета германское графическое искусство, если исключить из него островок кёльнских мастеров, неотменно держалось этого направления – погони за деталями. Гравированный Дюрером портрет Пиркгеймера 1524 года, будучи вообще шедевром портретного искусства, отличается такою же безмерною любовью к деталям. Забота о подробностях доведена до того, что в глазах видно отражение оконного переплета. После этого, в течение долгой ночи, наступившей в жизни Германии, в период междоусобных и религиозных войн, её графическое искусство, претерпев сильное французское влияние, воскресает в Ходовецком и затем в Менцеле, уже значительно освобожденное от старого пристрастия к подробностям. Только очень поздно, только у какого-нибудь Либермана, немецкая графика становится импрессионистическою. Она дает существенные детали в минимальном числе линий. Это искусство ограничиваться изображением квинтэссенций предметов, жертвуя мелочами и даже старательно их изгоняя, находит в Рембрандте такое воплощение, что Амстердамский мастер, по всей справедливости, может в этом отношении считаться главой и образцом для всех исканий новейшего времени. Рембрандт дает нам существо лица, иногда в двух-трех прикосновениях иглы, но совершенно ясно, резко и определенно. Если бы мы имели его сестру в офорте, перед нами была бы еврейская девушка, со всею её типичностью, со всею её лирическою напевностью, звучащею со всех других его иудейских офортов. Притом же в офортах злоупотребление светотенью не столь возможно, как в красках. Работает всё-таки игла, на доску из-под неё ложится мыслящая линия, а не играющий мазок. Перед нами был бы психологический документ большой важности, какой мы можем найти только в искусстве Рембрандта.
Но как мы сказали выше, такого офорта среди произведения Рембрандта мы не имеем. В нашем распоряжении находится зато гравюра Марсенэ, сделанная по оригинальной картине 1632 года, не дошедшей до нас. Гравюра эта очевидно передает нам сестру Рембрандта с возможною точностью и существенностью, свойственными графике. Те черты этой девушки, которые убегали от нас в потоке красок, здесь собрались вместе в один типический клубок. Волосы расчесаны с правильностью парика, с пробором на середине. Сестра Рембрандта украшена жемчугами настолько обильно, что сама гравюра получила название «Жемчужная Дама». Это уже штрих из мира еврейских праздничных туалетов. Но и лицо в этом праздничном великолепии совершенно еврейское, в живой простоте семитического типа. Глаза открытые, слегка неподвижные, во что-то упирающиеся. Нос длинный, чуть-чуть припухлый, со всеми погрешностями, свойственными семитическим носам. Вообще нос у еврея является почти всегда слабым местом его физиономии, иногда чрезвычайно красивой. Выражение рта при сомкнувшихся довольно полных губах, с их характерным разветвлением посередине, отражает капризную придирчивую, требовательную душу – с оттенком сварливости и даже злобы. Эта сварливость, эта злоба отдает почти старостью даже на молодом лице. Но не только эти раскалывающиеся губы, с разделительным углублением посередине, но и застывшие глаза на гравюре, больны тою же старостью. Как вообще определить впечатление от глаз еврейской женщины? В них всегда и неизменно есть какая-то тяжесть, даже порою удушливая тяжесть, – без игры, без кокетства, без той смеющейся забавы, с которою мы встречаемся у женщин других народов. Еврейская женщина вносит в свою апперцепцию весь груз веков, всю свою расовую старость. Вот она кокетливо всем улыбнулась, и в глазах выражение прежней серьезности. Но именно это сочетание серьезности с улыбкою внушает какое-до недоверие. Чудится пророческая усмешка там, где в действительности её нет: женщина легко и беспредметно улыбнулась вам навстречу, а вышло что-то не радующее и даже тяжеловесное. На пиршествах любви, когда сердце ищет легкой и возбуждающей утехи, еврейская женщина, в сознании исполняемого космического долга, всегда способна опечалить вас своею тяжкою торжественностью, не покидающею её, кажется, ни на минуту. Иная женщина – другой народности – поощрит и развеселит там, где еврейская стеснит и парализует вашу экстатическую предприимчивость. Нет звяканья драгоценностей, нет звона бокалов, нет взрывов непринужденного смеха в любовных интонациях еврейки. Ещё она невеста, а уже пахнет будущими пеленками, и безответственному чувству не разгуляться на свободе. Возвращаясь к гравюре Марсенэ, мы должны сказать, что все эти семитические черты, и прискорбные, и радующие в одно и то же время, нашли в ней отражение полностное и законченное. Перед нами еврейка во всех подробностях, выступивших с особенною наглядностью именно потому, что в ней нет глубокомысленной философии Рембрандта, с её сложными наваждениями. Человек жив – жив, всегда прикрытый своим прелестным подобием. Раса выступала в нём слабо, будучи заслонена светом универсального лика. Но вот умер человек. Маска-подобие слетела, и расовый каркас перед нами. Так и в этой гравюре Марсенэ. Она больше разобранных нами портретов отображает еврейский характер сестры Рембрандта, потому что она проще рембрандтовских картин, элементарнее и каркаснее во всех отношениях. Она дает нам ключ к разгадке одного из секретов рембрандтовского сложного, а иногда и запутанного искусства.
28 мая 1924 года
Автопортрет
Мы имеем автопортреты многих художников различных национальностей. Обозреть их все невозможно, но все они вместе взятые представили бы огромный интерес для изучения. Каждый портрет по типу и духу представляет собою почти замкнутое художественное явление. Дюрер и Лука Лейденский, Ватто и Леонардо да Винчи, Рейнольдс и Беклин писали свои лица в том или ином стиле. Иные художники, например, Мазаччи, фра Филиппо Липпи и Боттичелли вложили себя в разные сложные композиции, выходившие из-под их кисти. Это живая галерея индивидуальных самоотражений, характерных для эпохи, страны и для самих художников. Дюрер, гений тевтонской расы, изобразил себя углем на венецианской бумаге, в юности, а также и на склоне дней в чудесном ксилографическом портрете. Это создания серьезного духа, вдумчивые, совершенно честные, верные природе, как и упомянутый нами в предшествующей главе еврейский старец. Реализм полный, и если не хватает каких-либо деталей, отдельных волосков или морщинок, то это зависит только от самого материала творчества. Нельзя углем вырисовывать тончайшие черточки и нельзя их гравировать на дереве. Но в целом портреты Дюрера великолепно отражают стиль германского возрождения – точный и правдивый при высокой интеллектуальности, без декламаций, без позы, но и без формальной внешней красоты. Германский дух тяжел, дискурсивен, прям и моралистичен – таковы же и автопортреты Дюрера. Никакой игры карандашом, никакого шаловливого каприза здесь нет в намеке. Во всём вдумчивая наблюдательность без истеричных взлетов в высоту. Так же мало кокетлив и патетичен портрет другого художника германской расы, Луки Лейденского, этого нидерландца, открывшего в графике воздушную перспективу и давшего в условно-церковных религиозных картинах зачатки голландского бытописательства и жанра. Он изобразил себя в оригинальной гравюре, в левом профиле, с беретом на голове. По общему типу графической работы портрет отдаленно напоминает Меланхтона дюреровской гравюры. Но лицо Луки Лейденского менее сурово, менее торжественно, чем лицо Дюрера, при общей обоим художникам исключительной искренности в самом изображении. Если в картинах этого художника, как и в картинах родственного ему «пропущено» много религиозной муки и бури, при ипокритской разработке главных тем, то в автопортрете никакого ипокритства нет, всё сглажено и упрощено до яснейшего реализма. Это тем более замечательно, что в области церковно-библейских сюжетов Лука Лейденский явился родоначальником не только голландской живописи, но и чуждого ей целого направления антверпенских мастеров, с Гемскерком и Мартином де Фосом во главе, обслуживавших иезуитскую пропаганду своими декламационно торжественными картинами. Но в автопортрете своём этот великий двойственный художник выразил лучшую половину своей сущности, а именно – свою чисто германскую душу, склонную к благородной скромности в самооценке.
Какой скачок от Луки Лейденского к другому нидерландцу новейших веков, к великому валаамскому мастеру, Антуану Ватто, претворившему в себе французскую культуру до такой степени, что он не только сделался чистейшим французом, но дал имя целому виду рококо. Ватто представил себя в парке, рядом со своим другом и покровителем Жюльеном. Вся условная и вместе с тем поэтическая выспренность французской души того времени сказалась тут в общей
трактовке сюжета и обстановки. Деревья этого парка декоративно-сентиментальные, в духе настоящего Ватто. Вся будущая сентиментальность века чувствуется в этой ранней картине. Французский пафос вообще услащен изюминкой чувствительности, в нём слышатся веселые детские голоса, которые придают моменту подъёма характер шумной аффектации. По улицам льются рекою движение и восторг. Где-то глухо стучит топор гильотины. Но во всём движении, захватившем целый народ, проблескивает постоянно веселящими пятнами полудетская невинность, и на самый эшафот осужденный всходит с улыбками, с песнями, или с фразами в духе Андре Шенье или мадам Ролан. В автопортрете Ватто мы находим влияние той же <???>, но ещё в эмбрионе. Насколько в этом отношении Ватто отличается от Леонардо да Винчи! Автопортрет этого последнего художника, в рисунках сангиною. в профиль и enfoce представляет собою типичнейшие создания своеобразного гения. При всей значительности этих портретов в них есть ясно выраженный элемент самолюбования, без наивности французов и без суровой скромности германцев. Ощущается какое-то художественное…
Такой бороды, какую расчертил в туринском рисунке Леонардо да Винчи, в природе не существует. Эти бесчисленные кольца волос, струящиеся живописными потоками, не принадлежат никакому смертному. Да и самое лицо в провалах – это уже не старческая гармоника, о которой мы так много говорили, а целый орган, могущий пропеть любой ораториум. И несмотря на универсальность этого гения итальянского ренессанса, всё в автопортрете Леонардо да Винчи отдает духом Италии. Огромное волевое напряжение в театрально ипокритском костюме до мельчайших подробностей. Это не только автопортрет, но и автобиография, разрисованная со всем великолепием самопознания, переходящего в самогордыню. «Я Фауст – вот кто я такой», – как бы говорит нам художник с незабываемых листов. В душе Леонардо да Винчи было много секретов, лично ему принадлежавших. Никто хорошо до сих пор не разгадал изломов этой натуры в сексуальном отношении. На портрете от этих изломов – ни единой черты. Всё закрыто, запечатано и замкнуто тайным, неповторимым ключом. Немало было в жизни этого человека удач и неудач, триумфов и разочарования. То он всходил на высокую гору славы, ласкаемый герцогами и королями, то стоял с горечью в душе перед папою в Риме. То он у себя в родной Флоренции, то в праздничном Милане. То он в грохоте битв и в лагере Цезаря Борджиа, то в почетном изгнании в далеком, почти пустынном Амбуазе. Но вся эта сложная эпопея ничем почти не отразилась в автопортретах Леонардо да Винчи. Перед нами клочок космоса, клочок скалы, в котором всё – мир, воздух, земля и небо, что-то тревожно бесформенное и хаотическое, ничего минутного и индивидуального. Это полное противоположение германскому духу, сохраняющему во всём и всегда принцип индивидуальности, даже среди безбрежных своих обобщений, как и духу французскому и духу голландскому. Есть тут на этой высоте и некоторая игра. Но игра эта – игра почти титанического безумия, в которой вздымаются волны стихийного бытия. Что касается Рейнольдса, то этот великий портретист Англии сочетал в своей душе влияния фламандские и итальянские.
Картины большого масштаба, с мифологическим и иным содержанием ему не слишком удавались, и художник сиял преимущественно в портретах, особенно женских и детских, доставивших ему всемирную славу. В мужских портретах Рейнольдс соединял правдивую передачу сущности лица с подчеркнутой красотой позы, не оскорбляющей глаз никаким преувеличением. Точно так же он изображал себя не однажды, почти всегда с палитрой в руке. Это ряды автопортретов, достойных уравновешенного англосаксонского духа, с его замкнутыми крепостями – людьми, с его гипертрофированным индивидуализмом. Таким же выступал и другой отпрыск англо-саксонской расы, предтеча английской живописи XVIII века, Гогарт. Всё тут твердо в смысле рисунка и совершенно индивидуально. Наконец – Беклин, писатель германского гения, величайший немецкий живописец XIX века, уже далекий от традиции Дюрера, но всё ещё хранящий в своей душе тревожную пляску мертвых великого коллеги Гольбейна и всех позднейших гольбейновских подражателей в этом последнем мотиве. В мыслях о бренности существования написал Беклин и свою картину в <???>. Изображая самого себя в автопортрете, Беклин представил себя стоящим с палитрою в руке и со смертью за спиною в образе скелета. Это типично германский портрет. Тут вся любовь к деталям. Лицо художника выписано со всею реальною правдою. Интеллектуальный подъем ощущается решительно во всём. Но стоящая за спиною смерть свидетельствует о тенденции германского гения всё видеть и всё изображать в последних углублениях и обобщениях.
Но каждый автопортрет, к какой бы народности он ни относился, являет собою исповедь человека в той или другой степени правдивости, искренности и экспансивности. Тут вся биография художника в ракурсе житейской перспективы.
29 мая 1924 года
Ипокритство и актерство
Самопортрет есть вся автобиография, вся исповедь, которая может иметь откровенный характер. Есть люди скрытные и люди откровенные. Одни никогда не покажут себя на картине рядом с женою или возлюбленною, а другие, как Рембрандт, изобразят себя с женою на коленях. Скрытность имеет много видов и градаций. Это не всегда обман или укрывание чего-нибудь. Иногда это высокая и благородная сдержанность, не выступающая из границ, порою очень узких. Но и откровенности тоже имеют свои степени. Один человек покажет в слове, в письмо, в летучем рисунке, всего себя, без малейшего резерва, без всякой прикрасы, так полно и экспансивно, что мы видим всего человека. Он сбросил с себя идеальную маску и оказался перед людьми в совершенном обнажении: выспреннего на нём ничего не осталось, выставлено только всё зверино-человеческое. Другой человек кое-что приоткроет, но кое-что спрячет, или хотя и выставит вперед, на суд окружающих, но непременно в параде или торжественном великолепии. У такого человека даст себя чувствовать некоторая склонность не расставаться ни на минуту со своим идеальным подобием, и среди потоков откровенных излияний он то и дело вводит в рассказ слегка утрированную орнаментацию своей личности. Да и вообще можно поставить вопрос, что собственно представляет собою откровенное излияние со всею разнузданностью распахивающейся души, если сброшена при этом лучшая часть существа, привычки и порывы великодушного сердца, вся высшая потенция интеллекта. Получится ли тогда правильный или просто полный портрет. Мы можем в этом сомневаться. Так называемая правда, сказанная прямо в глаза – кухонный нот, который сует в вас несдержанный и неделикатный человек – эта правда-матка нашего поганого житейского обихода, эта правда на чистоту, говоримая злонамеренным грубияном, – что всё это такое, как не насильническая ложь, прикрытая претенциозною откровенностью. Чтобы сказать о человеке, хотя бы по отдельному случаю, настоящую правду, надо схватить всё целиком, не забывая ни дурных, ни хороших сторон, необходимо выразить нечто обобщающее, синтезирующее, а не разлагающее. Перечисление же недостатков ближнего или собственных своих недостатков всегда не только не полная правда, но даже материал для извращения, если не для карикатуры. Мы очень часто говорим сплошными гротесками, памфлетарно и пасквильно, и при этом, в силу странной иллюзии, убеждены в том, что изрекаем настоящую правду. Но правда эта – удел серединной части человечества, может быть и подавляющего большинства людей, над которыми отдельные индивидуальности, с щепетильным чувством скромности и беспристрастия, высятся редкими одинокими утесами.
Исповедь, записки, дневник могут писаться для себя или для других. Мария Башкирцева писала для себя, со всею женскою откровенностью, иногда со всею бабьею экспансивностью и тщеславием. Вы прямо входите в её душу. Вот почему, несмотря на выдающиеся моментами литературные достоинства её дневника, он является для нас настоящим человеческим документом. Тут и кровь, и слезы, и радость, и испуг – во всём калейдоскопе меняющихся настроений, летящих в вечность минут и мигов. Знаменитая исповедь Жан-Жака Руссо была писана им, при всей её распущенной откровенности, для других, для широкой публики. Человек, обнажая себя до полной наготы, доходил в своём рассказе до величайшей откровенности, но всегда сохранял тут же оглядку на читающие круги. При этом Жан-Как Руссо часто делался жертвою своих иллюзий и маний, вводя в заблуждение не только самого себя, но и других. То он воображает себя гонимым энциклопедистами, объектом каких-то заговоров, то он обвиняет самого себя в разных, не совершенных им преступлениях. То хватает из хаоса своей биографии невозможные или противоречивые дела, впадая моментами в страстный бред. Сообщительность Жан-Жака Руссо доходит иногда до невозможных пределов откровенности, не только в области душевных движений, где он является предтечею Достоевского, но и в описании интимнейших сторон своей сексуальной жизни. Величайший человек Франции всех времен, создатель теории общественного договора и народного суверенитета, первый по времени вздыхатель о равенстве людей, вождь и основатель литературного сентиментализма, этот гений из французских гениев купал иногда свою голову в грязи и откровенно затем выносил эту грязь на свет с настоящим упоением. Но вот черта, верная для целого народа в полной его характеристике, как и для самого Жан-Жака Руссо, в частности. Все откровенности этого человека, все интимнейшие его саморазоблачения, вся эта музыка двойственной натуры, переживающей вечные какие-то трагедии, всё это во всём своём объеме настоящее ипокритство. Как бы далеко ни заходил зонд его самоанализа, мы всё же в глубине глубин, могли бы найти нечто простое и неразложимое, чего Руссо всё-таки, в конце концов, не показал нам. В том-то и дело, что всё это ипокритство, вид защиты каких-то идей, каких-то правд. В исповеди своей, больше чем где бы то ни было, Руссо является настоящим барабанщиком ипокритского французского духа, ибо, скажем со всею откровенностью: галльские наследники Рима, с их пафосом, с их пышными тогами гражданских добродетелей, с их величественными рапирами, обнажаемыми в защиту тех или иных идей, – существенно театральны, как театральна и ипокритична сама Великая французская революция. И мадам Ролан – ипокритка и палач Сансон – ипокрит, спускающий над нею нож гильотины. Скажет человек резкое слово о самом себе, со слезами, с биением в грудь, с потрясающей интонацией, а между тем всё это – в сущности – ничто иное, как великолепная сценическая маска. В такой маске люди живут и умирают во Франции, ибо театральность – их вторая натура. Даже отдаленно я не имею в виду какого-либо обмана или притворства.
Французская история театральна в высшем смысле этого слова, и народ французский ипокритен во всём – в своей литературе, в своём пламенном красноречии, в своих костюмах, в быте и в жизни. Окружающие народы, созерцающие грандиозный спектакль в ипокритных масках, либо аплодируют шумно и упоенно, либо свистят в экстатическом раздражении. Ничего другого во Франции нет. Всё тут ипокритство, хотя ничто не отдает обыкновенным лицедейством и актерством.
Таков французский автопортрет, выраженный в литературе или на полотнах. Какой-нибудь живописец Лебрен, века короля-Солнца, стоит перед нами в своём автопортрете как римлянин, в торжественной мантии, в величественной позе. И если в XVIII веке Латур пишет себя иногда в юмористическом виде, то и здесь сохранен весь присущий французу ипокритный характер. Но именно такого ипокритства совершенно лишен еврейский народ. Он существенно лицедеен, актерен и бутафорен, но не ипокритен в высшем античном смысле этого слова. История выработала из еврея, проходящего свой путь в составе разных народностей, необычайный какой-то талант чисто-внешнего, неглубокого, прямо-таки поверхностного и потому легко распознаваемого ассимилянтства. Каждая бутафория имеет на него гипнотизирующее влияние. Он снял ермолку с головы и надел на себя цилиндр – вот он уже весь с ног до головы банковский какой-то франт. Берлинские еврейские дельцы похлопают вас по плечу с манерою природных немецких бюргеров и разразятся при этом потоком чисто берлинских витцев. Сколько еврейских актеров имитируют нравы богемы, им в сущности совершенно чуждые. Актерство в этом смысле слова, идущее от гипнотического действия всяких бутафорско-туалетных аксессуаров, в высшей степени свойственно евреям современной и былой диаспоры в мире ассимиляции. У себя, в ортодоксальном быту, у них царит полная, не только безактерская, но и безъипокритская, искренность. И вот почему самое актерство у евреев, жизни и на сцене, постоянно выливается в полу-юмористические формы. Есть представление о еврейском озорнике, шутке, смехе, театральном лицедействовании в веселый праздник Пурим, вообще, о человеке природного дара болтовни и баловства. Евреи называют такого человека летцом. Покажет ли летц что-нибудь из нутра, то непременно в невинно-лицедейском смысле этого слова. Покается в совершенном им воровстве, в чрезмерной любви к женщине, в учиненном им подвиге сквернословия, – всё это он сделает с такими забавно-угрюмыми гримасами, что невольно рассмеешься. Вот это летц. Ипокритства никакого, но актерства веселого, брызжущего остроумием, озорного и в чём-то одновременно мудрого, тут валяются перед вами целые бесконечные груды на полу.
30 Мая 1924 года
Летц
Еврейский летц бывает двух типов. Иногда это обыкновенный шутник и озорник. Он передразнивает голос человека, отвечая ему голосом без всякой интонации, в пустой с резонансом комнате. Вы разразились смехом, в воздухе прокатится раскат бесчувственного повторения, без малейшего человеческого оттенка. Это иногда производит жуткое впечатление. Евреи говорят, что вас передразнивает в таких случаях летц, не то Мефистофель, не то домовой. Летц вообще, в этом своём типе, ужасный кривляка, щекотун, паяц и гаер. При этом, смеясь вместе с вами, он может довести вас до колики в животе, до настоящей истерики. Другая разновидность летца – это человек с мудро уравновешенным лицом, но вместе с тем безпощадный высмеиватель ваших ошибок и промахов. В каждом слове его торчит иголочка, и все иголочки вместе представляют собою какую-то колючую крапиву, обжигающую и раздражающую наши смехотворные центры. Такой философический на вид летц говорит ядовитые слова с невинным видом лица. Он не снял с себя никаких шнуров, никаких ремней и поясов, не сказал ни единой злобной фразы, а между тем в самой структуре его речи ощущается что-то сатирическое: змея, каналья, шутник и озорник. Вот это второй тип летца. В этом направлении развивается и по настоящее время юмористика жаргонно-еврейской литературы. Журчит славная речка, не особенно глубокодонная, бесшумно мыльных волн, а солнышко весело играет по всем её струям. И плеск, и брызги, и дующий с ними вместе ветерок, вся воздушная стихия кругом – всё пропитано юмором, как морская вода солью. «Соль» вообще черта еврейская: вот почему и анекдот еврейский, благопристойный по содержанию, занимает в мировой сатире принадлежащее ему своеобразное место. Это шутит еврейский летц. Критика его будто бы легка и беззлобна на поверхности, но милая речка несет свои воды мимо больших дремучих лесов, мимо грозных скал и утесов, по дороге к финальному безбрежному морю. На дне речки копошится таинственная муть, отложившаяся тут от затронутых потоком элементов земли.
Если под этим углом зрения подойти к многочисленным автопортретам Рембрандта в красках и офортах, то перед нами откроется своеобразный во всех отношениях мир. Конечно, это не тот идейный и психологический материал, который мы находим в исповеди Жан-Жака Руссо. До чего Рембрандт несравним с Л.Н. Толстым в его автопризнаниях! Другие мерила во всём, иной горизонт, иное ощущение мира. Рембрандт тоже моралист, но отнюдь не проповедник. Мораль его кружится по космосу, рассыпанная в бесчисленных офортных мотивах из библии, из ритуала всех веков еврейской истории, из духовно-сионского быта. Не только в офортах, особенно повествовательных, но и во многих картинах Рембрандта – та же золотистая черта его великолепного искусства. Но какая огромная дистанция между Рембрандтом и Леонардо да Винчи. Кто больше Леонардо любил эксперимент – над собою и над другими? А между тем Рембрандт в этом отношении далеко превзошел гениального ломбардского мастера – и чем собственно превзошел? – Ничем иным как внутренней содержательностью своего рисунка, всегда передающего определенную тему, определенный текст притчи или анекдота. Экспериментальные рисунки Рембрандта в галерее его автопортретов являются клочками его автобиографии. Мы можем проследить его жизнь по этим клочкам, из стадии в стадию. Карикатуры же Леонардо да Винчи не затрагивают совершенно его личной биографии. При всей своей экспрессивности все эти уроды Леонардо отдают теоретичностью, совершенною оторванностью от теплой струи живого человеческого быта. Это какие-то абстрактные синтезы из черт, зарисованных с разных бродяг, старых женщин, юношей и посетителей итальянских таверн. Творя эти бесчисленные этюды и эскизы, художник не общался с объектом собственною своею сущностью, ни миллиграммом душевной своей субстанции он им не пожертвовал. Так зарисовывают водяных жуков, так именно Леонардо рисовал львов и слонов. Леонардо да Винчи ни с кем и ни с чем не мог поделиться своей душою в её верховном ипокритстве. Наука этого человека, во всей её грандиозности, все методы его исследования, вся многогранная и замысловатая работа его ума – всё это ипокритство, бесконечное ипокритство. Личная же жизнь Леонардо да Винчи осталась скрытою, где-то под землею, как неопознанный клад. Мы не знаем, любил ли он Джиоконду, Цецилию Галерани, вообще любил ли он кого-нибудь на белом свете и как любил. Он нежно опекал своих юношей и не забывал их даже в своих посмертных распоряжениях. Но цвета и тембра таких привязанностей мы тоже не знаем. Всё прикрыто ипокритством и непроницаемым ковром звездного неба. Всё горит миллионом глаз, всё блестит магическим светом. Всё святодейственно в высочайшем смысле слова. Но живой каркас ипокритства, сам человек, совершенно не виден.
Не то Рембрандт. Нельзя оторваться от его автопортретов: проходишь вместе с ним весь его путь, в его извивах, во всех его моментах и этапах. При этом чувствуешь Рембрандта всего, в интимнейшем пульсе. Чаще всего перед нами лицо с гримасою смеха и нервного исступления. Но иногда лицо уравновешенно спокойное, спокойное всего лишь на минуту, всегда готовое исказиться в веселом движении или в трагическом переломе. Два упомянутых вида летца стоят перед нами, как живые. И тут что-то большое, фатальное, вся двойственность благоприобретенного в диаспоре имущества. Если утвердиться на точке зрения, что Рембрандт был еврейским уроженцем, то в высшей степени естественным явлением кажется нам наблюдаемая в нём двойственность: при вечной готовности к сатире болезненно искренний полет в высоту. Тут Рембрандт сближается с далеким своим потомком Гейне. Великий немецкий изгнанник, почти во всех своих произведениях, и в лирике, и в путешествии в Гарц, и даже в описаниях меланхолического Северного Моря, не может воздержаться от юмористических, сатирических, а иногда и шутовских выпадов по адресу врагов, друзей и наблюдаемых явлений. Самый эрос исполосован у него молниями всё того же шутовства. Вздохнет, поплачет, зальется слезами, и тут же вонзает в собственную грудь всё тот же сатирический нож. Вот он типичнейший летц во всемирной литературе. С Мефистофелем, сводником любви, он не имеет ничего общего. Еврейский Летц, нечто особенное. Он единственный в своём роде – отдельный, ни на кого не похожий, не увековеченный никаким памятником, кроме случайного монумента, воздвигнутого на острове Корфу влюбленной в его память трагической австрийской императрицей. Всем немецким классикам поставлены памятники: Гейне его не имеет. И это так понятно! Нельзя поставить памятника Летцу. Его слава облачается в иные формы, более долговечные, чем бронза и мрамор. Летцам не ставят памятников, а при жизни их ненавидят. При жизни они одиноки. А Лев Толстой, в котором нет ни черточки летца, будет всегда окружен фимиамом и поклонением. Этот Толстой, неугомонный проповедник, до надоедливости, до тошноты, в особенности, когда речь заходит о курении табака, вегетарианстве и всяких воздержаниях. Рембрандт же всегда в хедере, в народной школе, обучающий, но отнюдь не проповедующий. Имеются типы еврейских проповедников, но проповедники эти, не залезая вам в душу, наклонны, скорее, к пророчествам и почти всегда к комментаторству. Никогда не ипокритичные, часто оживляя своё изложение веселыми выходками летца, эти меламеды только разъясняют и поясняют, показывают и демонстрируют.
31 Мая 1924 года
Норблен (Шутки Летца)
До чего дух летца может оказаться заразительным, мы видим из одного достопримечательного эпизода в истории графики. В XVIII веке жил в Польше французский живописец и график Норблен де ля Гурдэн (1745–1830). Художник этот подпал под обаяние Рембрандта, заразившись его склонностью перерабатывать обыкновенные вещи в необыкновенные, по методу летца. Установим прежде всего несколько анекдотических фактов, сюда относящихся. У князя Адама Чарто-рийского, в числе арендаторов, был один еврей, своим лицом чем-то напоминавший Мазепу. Его так и называли в обиходе, во всем околотке, Мазепою. Этого Мазепу Норблен представил в замечательном офорте, обратившем на себя всеобщее внимание. На офорте значилась надпись иглою: Мазепа. У этого Мазепы длинная, раздвоенная большая борода, высокая шапка с пером, в духе маскарадных головных уборов Рембрандта. На нём шуба с драгоценными большими бляхами, играющими роль застежек. Всё в офорте Норблена выдает подлинного еврея: нос, выражение губ, уравновешенное настроение лица – решительно всё. Но тем не менее офортный портрет Норблена попал в знаменитый словарь гравированных русских портретов Ровинского, там воспроизведен, как портрет исторического Мазепы. Ровинский, кроме того, не ограничился, одною лишь этою регистрациею. Он поместил новоявленный портрет Мазепы даже в своих «Материалах для русской иконографии». Только новейшие изыскания в этой области, при участии польского исследователя Батовского, установили, какой конкретный еврей был этим именно Мазепою. Вот что значит шутка летца, всё равно воплощен ли этот летц в гениальном художнике, или в талантливом его подражателе. Всё дело в методе. Я беру уличную грязь и превращаю её в золото. Беру ничтожный эпизод быта и возвожу его в библейское создание. Простая баба от кухни – вот вам пророчица Анна. А офицеров, магнатов, Мазеп, я могу сотворить из каждого замызганного еврейчика сколько угодно. Тут и художнический пафос и веселая шутка летца сочетаются в одно неотразимое действие, захватывающее и обманывающее даже тонких и глубоких исследователей позднейших времен. Простой шнорер, как мы видели выше, был изображен на холсте с тщательностью и назван апостолом Павлом. Это тоже только трюк летца и вместе с тем какой-то бессознательный, верховный протест против всякого ипокритства в искусстве. В самом деле, никогда не следует забывать, что тот же апостол Павел совсем не был римским сенатором, римской куклой в тоге. Это был паршивый еврейчик с подслеповатыми, и, может быть, гноящимися глазами, но с гениальной головой. Эти трюки летца имеют высокий смысл. Вот где революция в самом фундаменте искусства, в самых его основах, вот где подлинный ренессанс. Поезд истории шел по верхам, где-то в надзвездных пространствах, среди планетных бурь и вихрей. Всё было в серебре. И вдруг всё сорвано вниз, на землю, рукой гениального и дерзкого летца. Вы упаяете глаза блеском золотого слитка какого-то несбыточного мифа. Но берите, как бог, простую глину земли и творите из неё всё, притом творите не как трудолюбивый демиург, механически складывая между собою готовые элементы хаоса, а по методу библейского генезиса. Перед вами простая глина – скажите, чтобы она стала человеком, перед вами поле костей – скажите, как Иезекииль, чтобы кости оделись в плоть. Так именно должен действовать художник, и от времени до времени в истории искусства появляются гениальные летцы, чтобы напомнить нам об этом. Но такое искусство, велением слова, велением духа, велением одной лишь мысли, – и есть чисто-иудейское искусство. Таким оно рисуется нам в памяти легенды о законодателе Моисее. Первая строка Библии о сотворении мира – вот ореол и венец его славы. Но и сам Моисей некогда погрешил против собственного канона. В пустыне он извлек струю воды из скалы ударом жезла. Бог вменил ему это в преступление и жестоко его за это покарал. Моисей один только раз в жизни не использовал духовного рычага своего слова и за это именно – только за это – умер на горе, не войдя в Ханаанскую землю. Он мог видеть эту землю предсмертным взором только издали. Таков талмудический комментарий к великой легенде.
Норблен жил в Польше среди ортодоксальных восточных евреев, наблюдая их быт и нравы. В своих записках он говорит, что никто из художников мира не изображал евреев так бесконечно правдиво, проникновенно и верно, как Рембрандт ванн Рин. Вот почему Норблен и проникся к голландскому художнику такой приверженностью, таким почти слепым преклонением, что обратился в его alter ego[51] в восемнадцатом веке. Сейчас передо мною листы заботливо составленного в Галиции собрания редких офортных работ, найденных в австрийской Польше одним русским собирателем. Рассматривая эти редкие подлинники, я едва могу освободиться от величайшего изумления. Передо мною как бы офорты самого Рембрандта в издании Ровинского. И все евреи и евреи, на этот раз даже в ермолках и с пейсами, прямо выхваченные из нашей бывшей черты оседлости. Вот перед вами на одном листе маленький офортик, приклеенный на том же листе, где находится и портрет Мазепы. Это настоящий хасид из свиты польского цадика. Ермолка дешевая, не показная, не стилизованная по-рембрандтовски. Пейсы в буклях, курчавые, только что примоченные влажными пальцами. Всё лицо этого блаженного еврейчика лоснится от влаги внутреннего хасидского веселья. Я не могу оторваться от офортика по чувству внутреннего какого-то с ним родства, несмотря на все погибельные трансформации, наложенные на пишущего эти строки культурною европейскою габимою. Но я отрываюсь к другим персонажам Норблена. Вот мелькает облик отца Рембрандта, но с такими упрощенными деталями, каких не могла дать даже игла голландского офортиста. Возможно, что у Норблена имелись кое-какие затерянные офорты Рембрандта, бывшие тогда ещё в пренебрежении европейской публики и недооцененного собратьями. Но легко допустить, что перед нами стилизация или переделки мотивов Рембрандта в польские варианты. Так мы видим портреты Гарменса в костюмировке и деталях, не попадающихся в известном нам живописном и графическом наличии произведений Рембрандта. Но вот и целая композиция – Мадонна с младенцем и стоящим за подушкою Иосифом. Мать придушила сосок, предлагаемый младенцу, жестом крепким и привычным, я бы сказал даже авторитетным, совершенно так, как это делают именно еврейки. Еврейки давно пеленают и классически кормят своих детей. А лицо этой женщины, празднично-субботний убор головы, этот спустившийся на колени широкий рукав платья – всё это насквозь семитично в русско-польском стиле. Некоторые офорты, меньше почтовой марки, едва распознаваемы, но и в них явственно ощущается всё та же манера Норблена передавать жизнь, в тонах еврейского быта. Один старичок стоит к нам спиною. Спина эта сгорблена еврейским удручением, какою-то общенациональною ношею старого народа. Не нужно и видеть лица старика: всё понятно, всё ясно и без него. Имеется на тех же листах рассматриваемой коллекции и молодой еврей с хеттейским носом, имеется и очевидно переодетый по-восточному еврей с тюрбаном на голове – всё это подобие рембрандтовских гениальных шуток, на [ «пропущено»] в следующем после него веке. Но я не могу обойти молчанием ещё одной изумительной композиции. Представлено поклонение волхвов, но как оно представлено! Старый согнувшийся еврей с фонарем в руке. Через плечи его, по всей спине, свисает нищенская торба, за стариком ещё трое таких же невзрачных евреев. Всё это волхвы. Всё это волхвы из грустно-веселой фантазии летца. Старичок впереди фонарем своим освещает мать с младенцем, спеленутым на коленях. И тут же крайне невзрачный Иосиф в меховой подорожной шапке. Сопоставить только такую вещь с пышно-ипокритным спектаклем на ту же тему Леонардо да Винчи или какого-нибудь Мартина де Фоса, где к царственному младенцу на слонах и декорированных верблюдах стекаются великолепные придворные! Творцы-ипокриты всегда торжественны и помпезны. Но летц глубоко человечен, замызган и жалок.
1 июля 1924 года
Еврейская душа
В комнату вошел молодой человек, в длинном капоте, в шапке, скромный, тихий и умный. Ещё вы не знаете его сколько-нибудь близко, а чувствуете, что это умная головка. Что-то опрятное в моральном отношении, что-то отличительное от прочего мира – в особенности от мира христиан. Смотрит вдумчиво, проницательно и спокойно, а в начавшемся за столом разговоре, особенно в субботний день, может вдруг оказаться человеком огромных знаний, начитанности в священных книгах и остроумия. Это – еврейская душа. На женщин такой юноша смотрит просто и честно, без любопытствующего заглядывания и приглядывания, что-то всегда синтезируя с окружающим миром. Среди таких юношей, если в комнате их будет даже несколько, женщина чувствует себя спокойно и свободно. И общий разговор может приобрести оттенок горячего спора, в котором мозг кипит присущею ему лавою. Но вот час дружеской беседы окончился, разговор утих, юноша встал и ушел. Закрылся живой шкапик, который только что был открыт. По улице же еврейский юноша, благонравный и приличный, ходит всегда закрытым шкаликом, в отличие от юношей других народностей, у которых дверцы шкапа даже на улице часто настежь открыты. Такова молодая еврейская душа. Вовсе не требуется при этом, чтобы это был человек бестемпераментный, без шутки, без юмористического экивока. Здесь вполне возможен летц. Важно только одно, чтобы это была еврейская душа, такая душа, в которой всегда звучит синагогальный рог, при совершенном отсутствии ипокритства, аскетизма и проповедничества.
Перед нами возможный или сущий меламед в идейном смысле этого слова, ходячий изъяснитель и комментатор священных текстов.
Таким рисуется нам ещё совсем юный Рембрандт в картине Геррита Доу, находящейся во владении Кука в Ричмонде. Рембрандт представлен с мольбертом в руке, за работою над окончанием картины. Он весь застегнут, в длинном халате. Лицо его повернуто к зрителю спокойное, с молодым мягким выражением. Весь облик, вся установка, всё явление в целом производит неотразимое впечатление. Ноги раздвинуты как-то скромно. Стоит прямо, легко, со свободною, почти воздушною вертикальностью. По лицу было бы невозможно установить с точностью его национальность, но общее впечатление всё же приближает нас к мысли о еврее. Всё остальное в рассматриваемой картине Геррита Доу не представляет для нас никакого интереса. Это обыкновенные аксессуары в ателье художника. Но центр картины – фигура Рембрандта – сразу же ставит нас около той темы, которая нас ближайшим образом интересует, и этому особенно помогает длинный халат, в общем, вполне гармонирующий со всею внешностью представленного нам живописца.
Но мы имеем несколько замечательных автопортретов Рембрандта, относящихся к ранним годам его живописной деятельности. Находящееся в Парижской коллекции графини Делаборд самоизображение представляется особенно замечательным. Вы видите лицо молодого Рембрандта во всех подробностях. Госте де Гроот тонко замечает, что портрет производит впечатление не выписанными в нём мелочами отделки. Портрет исполнен на меди. Впечатление от него действительно монументальное, хотя каждая мелочь в частности, всё на лице, всё выражение глаз, производит на зрителя незабываемое действие. На лбу, между бровями, пролегла вертикальная морцинка. Сразу же, одним этим штрихом, художник внес в портрет черту интеллектуальности, и вынуть её из портрета, забыть или не заметить – невозможно. Но лоб виден не весь. Он больше, чем на половину, прикрыт копной волос, густых, красивых и богатых, которые ощущаются, несмотря на шапку, во всём своём хаосе. Под не особенно густыми бровями – глаза. Что это за глаза! Описание критика здесь совершенно бессильно. Если сказать, что это глаза просто умного человека, это мало. Тут ум, богатая душевная жизнь, ранняя проницательность, какая-то особенная ясность ещё юношеской апперцепции. Глаза пленительны и интересны. Сразу виден кто-то, кто-то большой и значительный. Но особенно поражает зрителя именно ясность, прозрачная глубина вод, видных почти до самого дна, вообще раскрытость в них иного высокого мира. Что-то подобное испытываешь от головы праксителевского Гермеса: вы видите гениальность в свету всеозаряющего ума. Эти глаза Рембрандта являются как бы дверьми, открывающими перед нами безбрежные, веселые и трагические в одно и то же время стихии его мысли. Нос у молодого Рембрандта плотный, крупный, с широкими крыльями, распластавшийся над здоровыми, чувственными губами. Ухо только проглядывает из-под густой шевелюры, но мочка его – отцовская мочка – достаточно видна. Щеки, подбородок и намечающийся пушок бороды, вместе с куском белеющей шеи, – всё завершает впечатление высокой интеллигентности. Таков Рембрандт в отдельных чертах и деталях, которые можно только искусственно, только в целях критики, описывать изолированно друг от друга. На портрете всё слито воедино, в цельный характер, в определенную гармоническую индивидуальность. И главное в этом портрете – именно чудо слитной монументальности, полученной не от сложения величин, не демиургическим путем механического комбинирования, а творческим актом всесильной, рождающей из себя, из своих пламенных недр, великой мысли. Эта голова рождена словом. Вот что важно и существенно. Всё остальное, прелестная светотень, мазки мягкой кисти, солнечно теплый тон раннего утра, нежная аристократичность фактуры – всё это только детали. С какой бы стороны ни посмотреть на это лицо, его нельзя никак отнести к типу голландских лиц, столь хорошо нам известных и увековеченных в многочисленных художественных образцах. Ничего голландского ни в чертах, ни в мысли, ни в типе духовности. Но к какой бы народности, европейской или даже внеевропейской, ни отнести это лицо, одно можно сказать с уверенностью: оно произведено одним формующим дыханием, одним актом огненного веления. Но и само лицо тоже еврейское, со всеми скрытыми под ним муками то побеждающих, то побеждаемых габим, со всею патетическою интеллектуальностью эпохи духовного Сиона. И при этом перед глазами настоящее чудо высокого благородства, безупречной выдержанности стиля, то самое, что старая бабушка назовет еврейской душой. «Еврейская душа»– это термин, это определение под расовым углом зрения. Человек выражает свою расовую стихию в чистоте – это и значит быть аристократом по духу, а не по случайности и высоте положения. Надо быть осколком расовой скалы, чтобы быть избранным существом. И всё еврейство в целом, насколько оно сохранило свой облик неповрежденным, не смотря на гипнозы веков, самый аристократический народ в мире, в научном смысле этого слова. Это двигающийся в пространстве времени, по руслам истории, расовый какой-то корабль, всё с тем же флагом, с тою же оснасткою, с теми же парусами. Представленный Рембрандтом автопортрет – это изображение молодого раввина, в крови которого нельзя отыскать ни одной частички, ни пылинки ассимиляции, все семитично в полном смысле этого слова, всё отдает древним брамнидским аполлоном в его субботнем энтузиазме. Мне кажется, что я мог сказать, что лицо это полно аристократической изысканности, хотя перед нами человек простого демократического происхождения. Перед глазами благородная, отборная, утрясенная и крепко отстоявшаяся крупчатка еврейского народа. Есть ли в этом лице хотя бы одна черточка ипокритства? Ни единой черты, ни намека на ипокритство. Всё подлинно и законченно в своём самодовлении. Принадлежит ли это лицо человеку педантически серьезному, с выравненною в одну линию жизнью? Отнюдь нет. Если молодая гармоника эта расхохочется цельным смехом в одном цельном движении, она пропоет всё тот же мотив слезной радости, которым полна еврейская экспрессия, рождена ли она в Израиле или же в позднейших смешанных поколениях. Во всяком случае, на высших ступенях человеческих эманаций семитический или точнее: праарийский корень обнажается несомненно и всегда. Еврей ли Рембрандт с его внешним типом, в близком или далеком происхождении, всё максимальное в нём, всё окончательно типичное, всё душевное носит на себе печать гиперборейского света. Перед нами человек с иудейскою структурою мышления и чувствования.
27 Июня 1924 года
Физиономия Рембрандта
Разобранный нами портрет относится к 1628 году и писан, по всем вероятиям, в Лейдене. Мы имеем так же автопортрет Рембрандта, писанный через два года и находящийся ныне в будапештской национальной Галлерее. Это почти тот же облик еврейского юноши, несколько изменившийся, от того, что лицо обращено к зрителю почти en face. В этом портрете, как и в предшествующем, мы не видим ещё никаких следов так многочисленных и разнообразных экспериментов, которые Рембрандт обычно проделывает над физиономией своею и чужою. Оттого-то эти два ранних портрета нам особенно дороги. Здесь ни летц, ни франт, ни щеголь, ни кутила в брутальном духе, а просто Рембрандт – молодой и смотрящий на мир почти новорожденными глазами. Именно глаза в этом портрете, как и в предыдущем, представляют исключительный интерес. От этих глаз лицо Рембрандта, лицо по чертам своим замечательное, но всё-таки лицо, как лицо, вдруг получает определенную физиономию. Не следует смешивать эти два названия, ибо в каждом из них скрыт свой смысл. Нельзя ударить человека по физиономии. Если не говорить в аллегорическом порядке, его можно ударить только по лицу. Но по физиономии человека можно угадать в той или иной степени его характер, не его идеальное подобие, плывущее в высших каких-то эманациях космоса, а именно его характер почвенно-национальный, почти осязаемый и реальный во всех отношениях – то, что в новогреческом словоупотреблении передается термином vyos. И тут глаза на первом плане. Вообще глаза – второй язык человека. Смотря в лицо собеседнику, мы смотрим ему в глаза и следим за их выражением. Мы имеем тут дело с самою подвижною стихиею человеческого существа и самою экспрессивною. То они смотрят совершенно естественно-безоглядочно на себя, вперед от своего лица и как придется. В таком естественном взгляде человека, мы читаем как бы самую его душу. Но вдруг, по тому или другому импульсу, человек подумал о собственном выражении и придал ему искусственный характер, и вся картина, вся физиономия, весь облик существенно изменились. Это знают и чувствуют все проницательные люди, все наблюдатели, профессиональные следователи, и в совершенстве владеют таким искусством изменять выражение лица – актеры. Тут именно всё то, что отделяет нынешнего актера от античного ипокрита. Ипокрит надевал материальную, неизменную маску. Физиономия была тут не причём. Современное ипокритство, давно ушедшее вперед на этом пути, от наивного лицедейства древности, самое лицо превращает в маску – столь же неподвижную и становящуюся второю внешностью человека. Человек зарисовывает на себе окончательными чертами физиономию, с ним неразлучно пребывающую, будь то сановник, или департаментский сторож. Есть только три основных типа, три состояния человеческого лица: натуральная физиономия, летц и ипокрит.
Вернемся к глазам. Именно в глазах все рычаги тайно-действия летца. Лицо то соберется комочком, и комочек затуманится. Глаза при этом смотрят меланхолически. Если комочек собран искусственно, для внешнего эффекта, с хитроумным рассчетцем, то глаза поблескивают горячею влагою в тон физиономий. Иные такие комочки, с дьявольскими глазками, производят у женщин непреодолимое впечатление. Дрожащий голос и задушевность кокеток стоит больших денет богатому поклоннику. Лицо может распустить все ремешки и пояски, являя некую пассивную готовность или чтобы явить такую готовность пойти на уступки, внять чужой просьбе. В одном случае выражение глаз, согласуясь естественно с экспрессией лица, с распластанной физиономией человека, устало спокойное, утомленно дремлющее. В другом случае, при имитации экспансивности глаза заливаются тающим дымком приверженности и несопротивляе-мости. И всё в этих глазах – этих вождях физиономии, в этих резервуарах всякого хитроумия и хитрословия, эквилибристические фокусы сидящего в них летца. При этом мотивы летца в высшей степени разнообразны. Они могут быть своекорыстны, построены на том или другом расчете эффекта, или же полусознательно кокетливы, наконец, совершенно бескорыстны и даже самогипнотичны. В рассматриваемом лице Рембрандта мы имеем всю натуральную его физиономию, без единого следа летца. Лицо это кажется особенно бледным, почти болезненно бледным, будучи обрамлено ореолом густых, темно-черных волос. Нос всё тот же, щеки те же, губы и подбородок, с пушком растущих волос – всё те же. Еврейский характер лица, почти неоспорим, особенно если иметь в виду физиономию и духовный тип.
Но вот перед нами два других автопортрета Рембрандта совсем иного типа, одного и того же периода в жизни художника. Оба эти портрета относятся к 1629–1630 годам лейденской его жизни. Один из них, из частной коллекции Ступа, весьма замечателен. Шапка надвинута на затылок, лицо собралось гармоникой и всё смеется. Смех в высшей степени искусственен, напряжен и переходит в гримасу. Рот скорее оскален, чем открыт. Торчат два ряда сравнительно мелких зубов, по-видимому, не безупречных. Все черты лица изменились, хотя узнать их вполне возможно. Французский санкюлот, как и французский Робеспьер, был ипокритом, и смех его был демоничен, еврейский же санкюлот, как и еврейский Робеспьер, только разновидности универсального летца. Такой летц сейчас перед нами. Эти ясные в повседневном быту глаза, показывающие самое своё дно, переменили свой ровный свет на зыбь и трепет. Бегают какие-то отвратительные блики, в которые нельзя смотреть. Может быть, Рембрандт тут экспериментировал над собственной своей физиономией для придания ей чудовищной экспрессии слегка под влиянием чуждого ему голоса. Еврейский тип в этом лице сохранен и усилен впечатлением пейсовидной пряди на висках. Всё в нём, поворот головы, костюм, распахнутая шея, даже свет, прерываемый темными пятнами, всё отливает контрастами и остроумием, привлеченным к служению чему-то отвратительному. Это не юноша, который веселится. Всё надумано и маскарад но именно в том стиле вульгарной ужимки, которая особенно неприятна в человеке вообще интеллигентном.
В другом портрете, находящемся в Гаагском музее, мы имеем такой же парадокс рембрандтовской кисти. Но только лицо здесь изображено возмужавшим. Имеются усы, довольно большая бородка, кожа лица утратила юношескую свежесть. Гримаса почти так же отвратительна. В винчианских уродах проблескивает какая-то монументальность. Они ипокритны, как сам художник, но составлены из благородной в основе глины. Здесь сам человек пытается сделать из себя урода, совершая тот таинственный грех, который в Евангелии называется грехом против духа святого. Из своего благородного, озаренного мыслью лица, он вырабатывает смехотворную физиономию летца, почти невыносимую для глаз. Это весьма и весьма замечательно. Гениальный Рембрандт никогда не искал формальной красоты, и можно думать, что способность к эстетическим восприятиям у него отсутствовала органически. Есть в его произведениях, может быть, та же духовная красота, во всей её необъемлемой пространности, но красоты материальной, в подлинном смысле слова, красоты формальной, физической, внешней, у Рембрандта искать не приходится. В такой черте его искусства сквозит что-то очень от нас далекое, я сказал бы даже праарийское, первичное и, несмотря на всю свою значительность, ещё рудиментарное. Ни в Библии, ни в ведантах нет понятия красоты. Красота рождена не праарийскою культурою и в лоне её великих восточных наследниц, а в позднейшей Европе, в Греции, в художниках, писателях и философах, среди новоарийских культурных завоеваний, как утверждение на веки веков индивидуального принципа совершенства совершенной личности. У евреев Израиль, Иуда, Ефрем – вообще народ, что-то компактное, соборное и слитное, чуть ли не с самим Элогимом. Народ растет, славится и множится, но личность в нём забыта, затеряна и затерта. Она возникла в Европе, в делосских яслях Аполлона, и шла затем вперед своим гордым, триумфальным путем под флагом красоты. Две реки текут в истории мира по лицу земли: река Ефрема и река Аполлона. Их синтез – задача ещё далекого будущего, которое нам только грезится. Сейчас же мы пребываем только среди уродливых конфликтов двух начал, равно великих и вечных.
3 июня 1924 года
Леса и бугры
Мы имеем целый ряд автопортретов Рембрандта, как офортных, так и красочных, в которых художник представил себя с открытою головою. Портреты эти так же относятся к первым годам его карьеры живописца. Волосы у Рембрандта вьющиеся и курчавые, густыми копнами покрывающие голову и напоминающие иногда волосы так называемой сестры, на первом из разобранных её портретов, до такой степени, что может прийти в голову мысль, не пожелал ли великий летц изобразить себя однажды женщиной. Волосы – характерная черта определенного расового типа. Волосы краснокожих американских индийцев прямы и длинны. У всех африканских туземцев черной расы волосы коротки и курчавы. Лица китайцев и японцев почти безбороды. Французские волосы, как и вообще волосы романских народностей, гуще и темнее волос германских племен. Человек вообще, как животный вид, как homo sapiens брюнет – наделен черными волосами, блондины же составляют настоящее исключение в составе человечества. В своём целом еврейский народ черно- или темно-волосен. Эта черта сама по себе не выделяла бы его ещё из ряда других восточных народов. Но курчавость волос имеет особенное значение во внешней характеристике этого народа и составляет общий штрих с африканскими племенами. Что такое курчавость? Сухие волосы вьются колечками, намоченные же, сильно увлажненные, они завиваются с трудом. Чтобы укрепить слишком буйные кольца пейсов, простонародный еврей то и дело смачивает их пальцами. Отсюда можно сделать предположение, что волосы евреев особенно сухи, лишены жирка, от которого лоснятся волосы у многих других народностей. Перед вами большая кудлатая голова, целый бугорок в локонах, прядях и кольцах, производящий особое впечатление. Точно упорные элементы какой-то взбунтовавшейся стихии, нуждающейся в разглаживании и успокоении, предстают перед нами в этом непослушном головном уборе. Если курчавость не абсолютная, не негритянская, а только обусловливает постоянное и естественное завивание волос, то такое вьющееся их состояние являет один из элементов красоты. Женщины великим трудом добиваются искусственным образом таких волос, вредя им горячими щипцами и проводя часы перед туалетным зеркалом. То же делалось и делается с париками. Волосы вьются – это красиво. Но когда они переходят в совершенную баранью курчавость, мы стоим перед уродством в нашем европейском смысле слова и перед красотою в понимании африканских народов.
Если в Европе мы встречаем человека с естественно вьющимися волосами, то он может не быть евреем, но всегда есть некоторый шанс, что это еврей. Судя по всем названным выше автопортретам Рембрандта, мы можем с уверенностью сказать, что волосы у него были курчаво-вьющиеся. Курчавость его далека от негритянской, но волосы вьются у него всё же очень упорно и заметно. На кассельском портрете все волосы в кольцах без конца, и светотень подчеркивает их обилие. Человек хотел сказать о себе, что у него кольцевидные волосы темного цвета, подчеркивающего по-восточному законченную и даже замкнутую в своих основных особенностях индивидуальность. Индивидуальность вообще в производимом ею внешнем впечатлении усиливается двумя фактами из области волос: во-первых, их темным цветом, резко выделяющим отдельную голову из хаоса толпы, и, во вторых, их курчавостью. Прямые волосы своею плавностью, своею сливаемостью с другими, какими-то соединительными нитями, какими-то растительными струнами, связывают людей между собою. Если поставить рядом десяток голов с такими волосами, они могут слиться в общем впечатлении леса – цельного и целокупного. Но вот группа курчавых еврейских голов. Леса уже нет – перед нами круглые бугры разделенных и обособленных существ. Базар полон евреев, шум ужасный, но стада нет, толпы нет: каждый еврей виден в своей отдельности, в своей буйной индивидуальности, в своём неукротимом темпераменте. Такое именно впечатление замкнутой личности производят и головы Рембрандта. Перед нами бугры и бугры.
На кассельском портрете – настоящий бугор. В герцогском музее Готы такой же бугор, но только с более выразительным контрпостным движением головы. Такой же бугристый характер, благодаря обильным волосам, дает нам и глазговский портрет, с поразительно иудейским выражением лица. На темени, благодаря особенной темноте волос, чудится как бы ермолка. В действительности её, может быть, и нет, но она чудесно шла бы к этому благородному еврейскому лицу. Волосы спустились с головы на плечи большим водопадом. Немало струй ровных и довольно прямых. Но голова местами вырезана в хаосе отдельною величиною, отдельною индивидуальностью. Где еврей, там индивидуальность – индивидуальность особенно рельефная, заносчивая, почти вызывающая с дерзкими притяжениями, дерзостною независимостью. Да и весь народ еврейский, в целом, сложенный из таких индивидуальностей, тоже оказывается особым самобытным человеческим пятном, вызывающим глухую вражду в стадных массах европейского мира. Ещё несколько портретов с непокрытыми головами, всё тех же ранних годов деятельности Рембрандта, завершают общее впечатление ни с кем и ни с чем не сливающихся единиц еврейского типа.
Перед вами головы людей, которые не побегут, как послушные собачки, ни за кем, не растают ни в каком умилении или упоении. В христианском мире ужасно много гипнотиков чужих слов, всегда склонных даже обожествить человека. Вот вам и Христос в преломлении истерически гипертрофированного европейского сознания. Евреям такая черта совершенно чужда, и никакая габима не могла её вкоренить в сознание и тело упрямого народа. Собеседник может понравиться еврею. Голова на будапештском или гаагском портрете может принадлежать еврейскому юноше, слушающему раввина с великим почтением. Он весь – внимание, но не преклонение. Если это человек не из хасидского рода, с его ханаано-мистическими экзальтациями, а из иудейского рода чистого Синайского типа, он никогда не сможет окончательно слить свою душу с душою другого. Он слушает и только слушает, не теряя раздельности в потоке живой беседы. А этот дивный юноша из Гаагского музея, с женственно мягкими волосами, с этими набухшими бугорками на голове, являет собою тип какого-то нового еврейского Аполлона в его своеобразной красоте.
Когда смотрим на двадцать пятую страницу Альбома Ровинского, видим восемь оттисков головы Рембрандта, с копною вьющихся змейками и живыми кольцами волос. Что-то в художественном смысле слова исключительно бесподобное. Это какой-то сухой кустарник, библейская горящая купина, с мелкими пламенными язычками, среди пустыни. Художник, по-видимому, хотел придать своему лицу всё, что угодно не еврейское, преимущественно голландское из окружавшего его быта. Но семитические черточки прорываются сами собою, торжествуя над всеми проделками летца. Волосы же всё-таки еврейские и их не переделать и не укротить. Такую голову, безнадежно – индивидуальную, умножьте хоть до тысячи, а толпы всё-таки не будет, по той простой причине, что как ни крути, как ни манипулируй, а стадности не вдохнешь в собрание чудовищно-самобытных голов. Какой бы мелочи ни коснулась игла гениального офортиста, он всегда заденет тот или иной мировой вопрос и притом непременно, почти фатально, в направлении иудейском. Так и сейчас думаешь об исторических судьбах еврейства. В истории стада людей сражаются – одно стадо с другим. А еврейский народ, разделенный на колена, всегда раздираемый междоусобиями, никогда не единодушный в стадном смысле слова терпит поражение за поражением, и только в диаспоре, в эпоху духовного Сиона, на рынке вечных человеческих ценностей, делает подлинные, бескровные завоевания. Имеются далее офортные головы, смотря на которые издали, можно подумать, что на листе изображены дикие туземцы каких-нибудь островов Меланезии или Папуазии: какие-то пятна бугров, способные внушать страх и даже лишить сна иного фантастически настроенного бесгамедрика. При этом постановка каждой головы необычайно устойчива, с надменно самоутверждаемым видом. А пламенные змеи волос вьются радиально во все стороны, как неаполитанской медузы. На других листах Ровинского те же головы даны в целой градации экспрессивных типов, имеющих ясно выраженный драматический характер. Но повсюду эти головы индивидуальные, то с огрубелыми чертами, то с чертами выразительно интеллектуальными, всегда стойкие, крепко изолированные друг от друга. Иногда же перед нами головы почти обезьяноподобные, бесконечно превосходящие леонардовские карикатурные головы патетической экспрессией, исступлением и внутренним огнем.
4 июня 1924 года
Рыжие волосы
Ровинский по поводу автопортрета, изображающего Рембрандта с женою, в Дрезденской галерее, рисует себе художника следующим образом. Он думает, что мастер представлял полную противоположность своей красивой жене. «Плотный», «плечистый», с вьющимися рыжеватыми волосами, Рембрандт должен был производить впечатление человека простого происхождения. Это простое происхождение подчеркивалось выдающимися скулами и лицом красноватого цвета. «Во всей фигуре мало изящного, и только одни глаза, небольшие, но полные ума и огня, обличают в нём великого художника». Так представляет себе Рембрандта русский исследователь Ровинский. Что касается рыжеватых волос, то едва ли это слово вполне передает общее впечатление от картин и офортов. Что голова Рембрандта выделялась из толпы, это совершенно допустимо и возможно. Цвет волос был, как я думаю, не рыжий в буквальном смысле слова, а темно-каштановый, с рыжеватым или медно-красным налетом. О том, что волосы были, кроме того, вьющиеся и копнообразные, мы говорили выше подробно. При таких условиях голова Рембрандта должна была обращать на себя всеобщее внимание и едва ли в симпатически-благоприятном смысле этого слова. Рыжеватая голова всегда выступает оригинально и волнующе на фоне окружающего, что заметно не только у взрослых, но и у детей. Черный цвет волос отграничивает человека от среды. Голова выступает в своей отдельной раме. Светлые волосы сливаются с окружающим в белом прозрачном пятне. Волосы с оттенком огненности своею навязчивостью вторгаются в зрительное восприятие и этим раздражают и волнуют, чем, может быть, и объясняется общенародная антипатия к рыжим. При этом такие волосы выделяют всякое несовершенство в лице, в его цвете, чертах и выражении. Несомненно, что если женщина ослепительно красива, то, при рыжих волосах, красота её внедряется в глаза особенно ярко и впечатлительно, хотя и не без оттенка волнующего какого-то колебания и сомнения. Отсюда естественным представляется стремление многих женщин, даже и не столь красивых, иметь волосы рыжего или рыжеватого цвета. Многие всемирно известные красавицы были рыжеволосыми. По легенде Афродита Книдская была рыжая. Рыжею была прославленная Эмма лэди Гамильтон, пленившая Гёте и Нельсона. Венецианские куртизанки, в стиле Тициана и Джиорджионе, а также дамы из высшего круга венецианской знати, проводили целые часы на крышах домов, распуская волосы под солнцем и смачивая их разными кислыми эссенциями, чтобы придать им искомый медно-красный оттенок. И сейчас такая мода господствует по всей Европе. Женщины стремятся не только броситься в глаза, но и взволновать, инстинктивно постигая, что всякое возбуждение, с плюсом или минусом по отношению к ним, ведет к одному и тому же: к взрыву страсти. Мужская же рыжая голова может быть только естественною, но производимый ею эффект неизбежно и всегда окажется исключительным. Человек входит в общение с нами в пылающем облаке. Что касается плотности, плечистости и выдающихся скул, то всё это, несомненно, присуще Рембрандту и только значительно смягчено на картинах, если сравнить их с офортами, с которыми имел, преимущественно, дело Ровинский. Что же касается «простого происхождения» Рембрандта тут, в этом вопросе, впечатление Ровинского вызывает сильнейшее сомнение. Скорее всего, это впечатление сановного бюрократа, слегка смешивающего благородные расовые черты с чертами наносно-искусственными, даваемыми так называемым социальным происхождением человека. Ровинскому тот или другой великий князь мог казаться отменно аристократичным. Переоденьте, однако, носителя такого громкого титула в скромный пиджачок, и весьма нередко перед нами окажется лакей, притом не европейски-культурного типа. Но еврейский раввин не нуждается ни в какой пышной мантии, ни в каких орденах, ни в каких аксельбантах, потому что всё это его только изуродовало бы. Это всё та же черта неипокритности, самодовлеющей человечности, которая столь свойственна еврейскому типу.
Перед нами несколько портретов Рембрандта в красках, всё из тех же ранних годов его художественно-живописной деятельности. В автопортрете 1629 года, находящемся в Бостоне, перед нами Рембрандт в пышном плаще, в шляпе с высоким страусовым пером. Плащ украшен цепью дорогого ожерелья. Конечно, это прелестный ипокритный костюм, во фламандском стиле, господствовавшем в Голландии, где при всём демократизме, сохранялось пристрастие к модам и вкусам бывших кельтских соотечественников. Но если на одну минуту отрешиться от впечатления аристократического туалета рубенсо-вандейковского типа, заслонить в портрете всё решительно, кроме лица и вьющихся двумя темными облаками волос, то перед нами предстанет, несомненно, еврейский юноша со всеми его слегка сантиментально-превыспренными чертами. Что-то чувствуется ошибочное в этом лице, не красная, а бледная краска от измученного умствования, прямо бросается в глаза. Юноша столь же мало офицероподобен, своею природною экспрессией, как рассмотренный нами выше шнорер мало походит на апостола Павла. В той картине детерминативом апостольства является меч, ничего другого от аллегорически представленного апостола, в ней нет и следа. Просто старый, умный и ученый еврей – и ничего другого. Тут же детерминативы светской импозантности и величия – опять-таки, при полном отсутствии подлинного оправдания всему этому. Перед нами молодая еврейская душа, с открытыми, апперципирующими из мягких бездн глазами, на фоне, может быть, и темно-рыжеватых, индивидуализирующих волос – и ничего другого. Костюм идет к этому юноше, потому что евреи вообще обладают магическим талантом лицедейного актерского перевоплощения. Но суть всё-таки не в костюме, и это чувствуется определенным образом. При этом, несомненно, мы имели бы лицо со значительно изменившимся выражением, если бы была снята с головы шляпа с пером. Вообще рембрандтовское лицо меняет свою экспрессию, свою физиономию, как только оно предстает перед нами без головного убора. В офортах оно грубеет именно в шапке, как мы это увидим ниже.
Другой автопортрет в том же лицедейно помпезном типе. Опять плащ необыкновенно пышный, с драгоценной цепью на груди, с мягкими складками нижнего хитона на шее, с темно-бархатной мягкой шляпой, живописно украшенной высоким, развевающимся пером. Что-то вельможно принаряженное, рассчитанное на внешнее впечатление, что-то стилизованное и показное для парадного выступления. Но опять-таки прикройте рукою всю окружающую роскошь, и лицо, молодое и свежее, не очень скуластое с чисто еврейскими глазами, горящими внутренним светом, предстанет перед вами в своём старом очаровании. Расово-еврейских черт не забить никакою мишурою, никакими ипокритными нововведениями габимы. Они остаются всегда неподвижными в хаосе переменных величин исторического процесса, как неподвижны звезды в текучем небесном дыму. И, наконец, третий портрет, в котором Рембрандт схватил что-то с женственной палитры Джорджионе. Художник раскрыл кокетливо шею, налил глаза томным сиянием, показал нижнюю нарядную рубашку в светлых сборках, покрыв экстравагантную шляпу густыми перьями, взял в старую руку дорогой посох – вообще портрет, скорее, напоминает венецианско-флорентинского Эфеба, нежели сына лейденского мельника. Но и тут, если исключить всяческие детерминативы и сосредоточиться только на лице, мы опять получим отображение еврейского бохура, с чертами сантиментального жениховства. Рембрандт вообще жил жизнью страстей, с ранних своих лет, и в данном портрете не имеем ли мы в интересном изображении интенсивный момент того весеннего периода его биографии, когда он особенно прихорашивался и женишился, попав в атмосферу столичного амстердамского быта. Портрет прекрасен своими габимно-художественными прелестями. Но всё же опять и опять перед нами всё тот же человек еврейского типа.
6 июня 1924 года
Шапка Рембрандта
Переходя к графическим изображениям Рембрандта в шляпе, предпошлем этому изображению несколько общих слов. Мужском костюм, в частности головной убор, вступил с начала XIX века на путь удобства причём лишь в качестве нелепого атавизма ещё сохраняют во многих странах ужасный цилиндр, котелок и фрак. Когда-то шляпа должна была украшать голову человека. Дикарь втыкал в свои густые волосы перья птиц. Это увеличивало его рост, придавало ему более воинственный вид. Целые уборы и пучки перьев носили впоследствии и европейские воины, на касках, украшенных всем, чем возможно, даже и султанами из конских волос. Этот старый инстинкт орнаментации головы ещё не совершенно исчез у современных европейцев. Иной франт долго убирает перед зеркалом фетровую шляпу. Он не только сдувает с неё пыль, но и обожмет её бока в нужном направлении, проложит где надо глубокий канал, чтобы придать себе вид лихости или нарочитой артистической небрежности. Можно шляпу надеть просто. Можно надвинуть её на лоб или на бок. И всё это меняет выражение лица. В XIX веке мужская шляпа становится до известной степени интернациональною, в том смысле, что ни одна страна не руководит её модами. Шляпа женская до сих пор послушна парижской модели. Мужская же шляпа приготовляется с тем же успехом в Лондоне, как и в Вене, и только манера носить её остается ещё на долю личной инициативы и вкуса. Француз любит в этом отношении шик и условный блеск. Во Франции даже рабочий наденет в воскресенье цилиндр. А какой-нибудь апаш проявляет истинную виртуозность в пользовании шляпою. Если нужно, он сожмет её в живописный комок, или же расправит, посадив ловко на голову. В Англии шляпа благонамеренна. Она не притязает ни на лихость, ни на экстравагантный блеск. Она только безукоризненно прилична, располагаясь на голове каким-то комфортабельным и чистым котеджем. Итальянская шляпа хулиганна и содержит в себе далекие реминисценции комедии dell’ arte[52]. В ней есть что-то арлекинское, во всяком случае, в манере её носить. В Испании шляпа широкополая, темно-певучая, облакообразная и массивно декоративная. Что касается евреев, то хотя головной убор у них играет как бы очень большую роль – голова обычно покрыта шляпой или ермолкой, но на самом деле у них нет и следа заботы о внешнем впечатлении. Еврей не надевает шляпы, а её нахлобучивает, как придется. Была бы голова покрыта – и больше ничего. Меньше всего еврей заботится при этом о красоте. Он почесал голову, двинул шляпу, и тут же об этом забыл, совершенно так же, как забывает он и вздернутые на лоб очки. Есть в этой небрежности что-то нигилистическое, черта какой-то природной глухоты ко всему эстетическому, если задета только внешность человека. Понятие франта заключает в себе нечто поносительное в устах простого, ортодоксального еврея, и само явление франтовства внесено в еврейскую жизнь только процессом ассимиляции, как один из внешних культов габимы. Да и к чему еврею наружное украшение, все эти ордена, перья и шляпы, когда в облике его духовный элемент выражен и сам по себе с такою определенностью и полностью. Я не знаю, могут ли украсить православного иерарха столь любимые им драгоценная панагия, орден и крест. Но раввина никакая мишура не украсила бы ни в каком отношении. В этом смысле не только раввин, но и каждый еврейский юноша является каким-то антиорнаментальным существом.
Обращаясь к шляпе Рембрандта, мы должны сказать, что она так особенно бросается в глаза именно по изложенным причинам. Она для этой головы не органична, что особенно рельефно выступает в офортах, где идейная сторона преобладает над живописною. С самых ранних лет, ещё не покинув лейденского своего местожительства, Рембрандт возится с этою деталью своего туалета, примеривая к голове шляпы всевозможных видов и образцов. То шляпа на нём упрощенной формы, пухлая, тяжелая, пушистая, из странных, малопонятных волос. Перед нами пять оттисков офорта с такою шляпою, необычайно отяжеляющею лицо. Под грузом этой шапки лицо теряет свою интеллигентность и заметно грубеет, точно это не гениальный Рембрандт, а подлинный сын мельника. Ещё брутальнее выглядит физиономия Рембрандта на нескольких офортных оттисках, относящихся к тем же ранним годам его деятельности. На нём опять-таки пушистая, квадратообразная, мягкая шляпа с глубоко-положенным каналом. Лицо окончательно изменилось. Из-под правой ее стороны выбегают волосы длиннейшими волнистыми прядями, простираясь ниже плеч. Нос страшно огрубел. Губы сложились резко и жестко. Глаза едва видны в глубокой тени, бросаемою шляпою. Это лицо, скорее, подозрительного какого-то проходимца, разбойника или контрабандиста. Если это не маска лицедейного преображения, то мы имеем тут дело с простым эффектом экстравагантной шляпы на голове, видоизменяющей всю внешность человека. На пяти других маленьких офортах новая шляпа – низенькая, ермолкообразная, подорожного типа. Волосы из-под неё выбились со всех сторон, но уже не поражают длиною. А лицо с оскаленным ртом – из пьяной голландской таверны.
Ещё несколько автопортретных офортов, обращающих на себя особенное внимание. Один из них представляет Рембрандта с шарфом на шее. Низенькая шапка, круглая и мягкая, надвинута совершенно на правый бок. Левая вся прядь волос – богатая, пышная, огненно волнистая, во всей свободе расположилась на голове, захватив спину. Шапка сдвинута на бок с тою целью, чтобы открыть простор этим великолепным волосам. Глаза обращены полутрагическим контрпостным движением вбок, что придает всему лицу выражение сосредоточенно-настроенного заговорщика. Еврейского во всём этом ужасно мало. Перед нами чистейший маскарад экспериментирующего художника и летца, обладающего талантом бесконечной перевоплощаемости. На другом офорте Рембрандт представил себя соколиным охотником, с соколом, сидящим на руке. Офорт относится к 1633 году, когда Рембрандт успел уже врамиться до известной степени в быт и жизнь амстердамской буржуазной среды. Летц видит себя ловцом зверей, в шляпе с большим пером, с широко по бокам распущенными волосами. Хотя всё это вместе взятое, во всей своей нарочито сумбурной беспорядочности, ужасно мало к нему идет. Дух Рембрандта прямо блекнет под этими тяжестями. Наконец, мы имеем в разных состояниях – прекрасный офорт, изображающий Рембрандта в изящно накинутом плаще, в белом гофрированном воротнике и с мягкой полукруглой шляпой на роскошных каскадных волосах. Рука затянута в перчатку. Вся фигура производит впечатление нарядного голландца, одетого по фламандской моде, в духе блистательного Рубенса или элегантно-благородного Ван-Дейка. После всех рассмотренных нами трансформаций, производит успокаивающее впечатление. Общие еврейские черты физиономии Рембрандта проблескивают с полною отчетливостью. Хотя и являясь в доспехах настоящей ассимиляции, художник не теряет своего еврейского подобия и только отдает щедрую дань габиме, эксперименту и лицедейному шутовству не покидающего его летца. Такого лицедейства не знал Леонардо-да-Винчи и тогда, когда карандаш его тоже экспериментировал над своим и чужим лицом. Именно летца в нём не было.
7 июня 1924 года
Смех Рембрандта
Мы имеем набросок Рембрандта смеющимся. Портрет относится к 1633 году и хранится в парижской коллекции Варнека. Исследователи отмечают явно возросшее в этюдном портрете искусство художника. Но если оставить в стороне вопрос о совершенстве техники и взглянуть на самое содержание холста, то придется сказать, что представленный смех производит почти отталкивающее впечатление. Смеющийся Рембрандт антипатичен. Вообще натуры не цельные, недостаточно гармонические, лишенные детской чистоты и простора, смеются надрывным смехом, никого не заражающим и никого не восхищающим. Так смеется у нас в России Владимир Соловьев – с отвратительным визгом и гримасоподобно. Пассовер только улыбается. Я никогда не видел его смеющимся и не мог бы себе даже и представить его хохочущим. Едва ли Достоевский красиво смеялся, хотя никто, как он, ценил фонетику смеха и его душевные корни. Не смеялся также, если судить по легенде, Христос, даже не улыбнувшийся ни однажды. По страницам Евангелия ни разу не проблеснул светлый смех. Но Пушкин, цельный, гармоничный и всегда законченный, не только смеялся, но и хохотал навзрыд, увлекая за собою всех. Смех выплескивается из открытых дверей открытой души, а не через щелочку души затворенной. Возвращаясь к Рембрандту, отметим ещё и то обстоятельство, что, кроме натуры дисгармоничной и замкнутой, не располагавшей к смеху, он являл собою экс-периментующего летца. А что может быть противнее улыбки не натуральной, деланной и притворной? Я оставляю совершенно в стороне вопрос о том, что в живописи, и даже фотографиях, невыгодно изображать быстро преходящие движения, закрепощение которых, дольше определенного момента, создает гримасу. Смех мгновенен, и в пределах даже секунды играет и изменяется. Как же можно такому динамическому факту придать статичность на все времена? Вот почему смех Рембрандта в живописных самоизображаниях сугубо неприятен. Рот раскрыт. Зубы иногда оскалены. Широкий нос раздулся. Лицо потеряло всякую культурность. Глаза, столь замечательные и ясные, убежали в узенькие щелки. Так и слышишь брызг не совсем опрятного хохота, с оттенком показной ассимиляции с окружающей пьяной средой. Не забудем, что Рембрандт в самые ранние свои годы попал в среду амстердамских кутил и собутыльников, которым невольно должен был подражать юноша, по всему своему типу, весьма и весьма пригодный для самозабвенного отсиживания синагогальных скамей. Черты льстивых габим в освободительную революционную эпоху голландской жизни были особенно завлекательны для такого человека, каким был молодой Рембрандт. Экспериментатор в нём смешивался с летцом, художник кисти – с исключительным талантом глубочайшего философа, чуть ли ни богослова. Две сочетавшихся в нём стихии, преемственного Синая и бегущей мишуры исторического дня, создали трагический надрыв, из которого волчьим воем вырывалось насильственное гоготание. Смешные маски, которые человек этот надевал на своё лицо, в высшей степени неприятны.
В июне месяце 1634 года Рембрандт женился на Саскии Уйленбург. Это была богатая девушка, внесшая в жизнь художника многообразные удобства и элемент настоящей чувственной любви. К первым же годам женитьбы Рембрандта относится картина, находящаяся в Дрезденской Галерее. Картина эта изображает самого художника с Саскией, сидящей у него на коленях. И Рембрандт, и молодая жена его повернули головы резким контрпостным движением в сторону предполагаемого входящего посетителя. Рембрандт мягко обнял Саскию за талию левой рукой, подняв в правой руке высокий бокал с вином. Такова картина в целом, и великолепие её увеличено веерообразным павлиньим хвостом в правой руке Саскии. Веер этот простерся цветным и праздничным орелом над белым пером шляпы Рембрандта.
Производит ли эта картина со своими живописными деталями завлекательное впечатление? Мне кажется, что решительно нет. Подходишь к ней и отходишь от неё с звонкой сенсацией в душе, но без трепета тонкого эстетического нерва. Тут все элементы веселой интимной пирушки налицо, но нет синтетической певучести, заглавной темы глубокого и настоящего эротического переживания, в котором черта скромности и общечеловеческой благопристойности играет всегда выдающуюся роль. Нельзя сделать заглавным титулом картины деталь сексуальной перипетии. А это именно и сделано в картине. Что, может быть, удалось бы Франсу Гальсу или Яну Стону, то болезненно отвращает от себя в применении к Рембрандту. Хотя остроумный летц и переоблачил себя в голландского офицера утихшей революционной эпохи и придал своему лицу выражение веселой экстатичности, но глаз зрителя всё-таки не удовлетворен. Неприятны выпяченные глаза Рембрандта, неприятна улыбка, отдающая цинизмом, и только белая рука, безмятежно положенная на талию Саскии, проливает некоторое успокоение. Контропостный поворот головы кажется искусственным. Наконец, сидение на коленях Рембрандта производит во всей позе Саскии не вполне натуральное впечатление. Если человек посадил женщину на колени и если никого при этом нет в комнате, то вряд ли он будет картинным жестом поднимать кверху бокал с вином. Он или приблизит бокал ко рту или поставит его на стол и займется женщиной. В картине Рембрандта лицедейская нарочитость летца доминирует над всем. Всё выставочно, всё напоказ. Это и отвращает от картины, писанной Рембрандтом в годы упоения сенсуальными страстями. Все нидерландизировано, стилизовано под чужой образец, но на самом же деле – лица еврейские, абсолютно не гармонизирующие с бутафорией и со всем представленным спектаклем.
Это особенно чувствуется по прелестному личику молодой жены художника, может быть, единственно красивому женскому личику, которое изобразила его кисть. Она слабенько смотрит полунапуганными глазами, лишенными всякой оргийности. Поворот её головы хотя и довольно резок в своей дуге, но сам по себе мягок, плавен и безгреховно сладостен. Она и сидит на коленях Рембрандта не так, как сидят куртизанки, обнимающие мужские ноги всею полнотою своих форм. Не только куртизанки, делающие своё дело привычно и почти профессионально, но и вообще новоарийская женщина в этом отношении сексуально сообщительна и экспансивна. Она знает всю гамму телесных соприкосновений, практикуя её свободно и непринужденно. Не такова еврейская женщина, лишенная сладострастной романтики. Саския сидит у Рембрандта на коленях почти неощутимо, попирая и загромождая его ноги складками тяжелого пышного платья и ничем решительно не давая ему никаких острых и волнующих впечатлений. Все только спектакль наружный и поверхностный, аранжировка летца, без единого эротического отклика, безо всякого сексуального оправдания. Картина очень прославлена в широкой публике. Но тонкие ценители искусства и фанатические любители Рембрандта вряд ли ею когда-либо серьезно увлекались и увлекаются в настоящее время.
Основная фальшь темы видна и совершенно гармонирует с неискренностью рембрандтовского смеха.
Перед нами картина аллегорических детерминативов. Какой уж Рембрандт офицер? Какая Саския гетера? Чем спасает всю эту несообразность павлиний хвост, выписанный довольно детально? Декоративная птица на блюде – тоже только детерминатив. Высоко поднятый в воздухе бокал с вином довершает расписанную комедию веселья последним вычурным штрихом. Wein, Weib und Gesang[53] являются тут только простою аллегорией – и ничем другим.
8 июня 1924 года
Скрипка Элогима
Имеется лондонская картина Рембрандта, в Букингемском дворце, представляющая контраст только что рассмотренной дрезденской картине. Саския изображена у туалетного стола, примеривающею разные драгоценные уборы к своей голове. Превосходно переданным движением рук она оправляет серьгу, чтобы лучше рассмотреть её отражение. Рядом с нею стоит Рембрандт, держащий наготове крупную жемчужную нить. Есть что-то в этой картине семитически-еврейское и мягко-певучее в скрипичном тоне. Всё кругом спокойно и покойно, всё дышит приятною невозмутимостью семейной жизни. Но в любовании Саскии драгоценными камнями ощущается такая интенсивность, какая присуща именно еврейской женщине. Дочери Израиля питают настоящий культ драгоценных камней. При этом камни заботят их не столько, как украшение, но сами по себе. В таких камнях что- то переливается, сияет и играет, находя консонанс в душе смотрящей женщины. Все женщины в мире в большей или меньшей степени растения и цветы, все женщины, кроме евреек, которых хочется уподобить ничему иному, как именно драгоценным камням их субботних уборов. Под густым праздничным покровом, их тяжелых брокатных или бархатных материй, очертания тела совсем не видны. Перед вами стоит и ходит живой гардероб. Только самоцветные камни, жемчуг и бриллианты сверкают и мерцают на пышных тканях. Еврейская женщина выхвачена из природы и освящена. Мораль густит её, и к каким-нибудь тридцати годам, имея уже двух, трех детей, она являет собою большой кусок неподвижного камня. Вся Библия усыпана такими подобиями. Рахиль, Ревекка, Сарра, Суламифь и Эсфирь – неужели это произведения Флоры? Той мягкой растительности, той расплавленной пластичности, которые ощущаются в женщинах иных народов, мы в них не находим. Приходится разве лишь подумать о Ниобее, окаменевшей от горя, чтобы образно представить себе душевные облики этих чудесных женщин. Даже жена Лота, оглядываясь назад в нарушение божественного веления, обращается в каменный столб, а не в растение, как Дафна, отвергшая Аполлона. Дебора почти камень стенобитного орудия. А Юдифь, идущая в лагерь к Олоферну не стальная ли стрела, пущенная народом в сердце врага? Все камни и камни на всём пути еврейской истории. Для самих евреев, особенно полу-габимского типа, они подчас становятся довольно тяжкими. В быту слишком мало цветов. Нет отдыха на мягкой травке, на нежной мураве домашнего быта, которая всегда к услугам новоарийской семьи. В объятиях европейской женщины человек чувствует себя, как будто в саду, среди цветочных гирлянд, открытых обозрению, осязанию и обонянию. Рядом же с еврейской женщиной у него ощущение чего-то сгущенно тяжкого и хлопотливого. Игры никакой, а только послушание заветам и велениям природы. Тут скрываются проекты и возможности событий величайшего исторического значения. Контрастные женские черты создают арену для габимных ассимиляций, запрещенных законодательством Моисея. Но история идет своими путями, более естественными, чем нормальными и еврейские камешки не в силах сдержать напора бегущей в даль нигилистической реки.
Возвращаемся к картине Рембрандта. Каким-то непонятным прямо-таки магическим штрихом художник явил нам каменную натуру еврейской женщины. Глядится в зеркало живой драгоценный камень, творящий литургию самоукрашения камнем же. Сам Рембрандт стоит около, вытянувшись во весь свой рост. Он почти не характерен сам по себе, несколько даже банален. Лицу не придано большого сходства с оригиналом. Рембрандт не согнулся, не направил на молодую жену своего восхищенного взгляда. Мысль его занята чем-то другим, Но картина всё-таки полна единой музыки, играемой для самого себя. Это чисто еврейская черта – играть для самого себя, для домашних, для близких, но не для толпы. Есть такие еврейские музыканты, которые не годны для оркестра: они слишком индивидуальны. Они не годны также и для шумных пирушек или свадеб: для этого они слишком меланхоличны. Такие музыканты играют только для самих себя, и игра их полна переливающихся слез, вздохов, ошибочных мечтаний и фантастических блужданий по самым неведомым краям мира. Такова скрипка Израиля: не всеспасительная, не освободительная, в европейском смысле слов, а покорительная и элогимная в таинственно гиперборейском значении этого понятия. Она и плачет неведомо для кого, торжествует талмудическим каким-то ликованием, имеющим на внешний взгляд почти эквилибристический характер. Но всё несется в горячем порыве вверх. Смотришь на невинную картину Рембрандта, и видишь скрипача, играющего на скрипке украшенным драгоценными камнями смычком. Выставки в картине никакой. Саския не любуется самою собой. Всё её внимание сосредоточено на жемчуге серьги, Этот жемчуг – центр картины. Сюда сходятся все радиусы изображенных на холсте мыслей и чувств. И хотя у критика нет никаких прямых указаний на то, что Саския и Рембрандт евреи, самая трактовка темы в высочайшей степени гармонирует с духом и типом израильских мотивов. Женщина превращена в камень, а созерцательный возлюбленный ушел своими мыслями в неведомые пространства.
Насколько Рембрандт выглядит в своих портретах симпатичнее и глубокомысленнее, если летц не экспериментирует особенно сложно над выражением своего лица! Мы имеем целый ряд таких портретов в Вене, в Париже, в Берлине, в Гааге, в Лондоне и в других местах. В частной коллекции барона фон Гутмана портрет Рембрандта дает нам типичного молодого еврея. Усы едва намечены. Опушен слегка подбородок. Но всё остальное в лице Рембрандта отсвечивает знакомою нам экспрессией. Портрет писан в год женитьбы на Саскии и во всём его habitus[54] чувствуется некоторая рождающаяся солидность. Рембрандт всегда был смычком в руках своего духа. Сейчас этот смычок упитан канифолью и готов к серьезной игре. В Луврском портрете Рембрандт очень наряден, облачен чуть ли ни в бархатный костюм с драгоценною цепью, накинутою на грудь. Но лицо, слегка приукрашенное, всё то же и то же. На двух других портретах 1633–1634 года художник представлен всё в том же типе, с налетом голландской военщины, мало, в сущности, идущей к лицу Рембрандта. Это портреты, по-видимому, лицедейные, со всеми онерами внешнего праха и блеска. На луврском портрете 1633 года даны однако вертикальные на лбу складки, которые бесконечно дороже всей орнаментальной суеты. Представлено что-то помпезное, но с портрета глядит нам в глаза думающий семит, с мгновенным налетом габимы. Следуют затем и явно габимные трансформации того же лица. Рембрандт то вельможа, то офицер, то знаменосец в пышном султане, то просто амстердамский франт, женатый, богатый, могущий себе позволить большую роскошь в одежде. Все эти портреты простираются до 1638 года и знаменуют одно и то же явление: Рембрандт ассимилируется с окружающею его жизнью, перелицовывает себя на всевозможные лады, но расовые черты продолжают сквозить через искусственные напластования эксперимента и щегольства. Под боевою каскою виден всё тот же человек, которому библия в руке шла бы гораздо больше, чем шлем на голове. Особенно прекрасен Рембрандт, когда лицо эго молчит. Можно молчать и молчать. Под иным молчанием стелется пустота: холодно и беспредметно. Даже инстинкты молчат, всё оцепенело в безжизненной апатии. Но бывает молчание, где зреет дума, где ветер колышет спелые колосья на всём безграничном поле засеянной души, – молчание активное, богатое, содержательное, чреватое будущими делами. Человек молчит, а всё кругом уже как будто бы кричит. Такое молчание, хотя и в первоначальном намеке, мы и наблюдаем иногда в автопортретах рассматриваемого периода. Женатый Рембрандт о чём-то глубокомысленно думает, со всею страстью, свойственною семитической натуре.
9 июня 1924 года
Средний регистр
На среднем регистре смычок, захватывая две струны, дает звуки аккордов полных, гулких и сочно-компактных. Такими именно аккордами и была полна недолгая жизнь Рембрандта вместе с Саскией в Амстердаме. Но и гармоника лица играет в такую эпоху на средних октавах, полнозвучных и богатых воздухом. Всё складывалось в жизни Рембрандта довольно благополучно, были в ней и материальный комфорт и теплота хорошей привязанности с оттенком романтического ухаживания за молодою красивою женщиной. Но годы творчества для большого таланта полны внутренних тревог, которых не преодолеть ничем. Я держусь своей гипотезы. Если Рембрандт еврей по происхождению, то всё в окружающей его жизни и собственный его обиход, так или иначе прилаженный к местной обстановке, должны были находиться в дисгармонии с основными склонностями его духа. Голландская культура несмотря на её германские корни всегда была лишена глубокомыслия. Тяжеловатый флегматический оттенок в умственном складе голландского народа мог быть иногда принимаем за нечто созерцательное и в самом себе сосредоточенное, но это было только видом духовной конституции определенного типа и темперамента. Бурной жизни умственной здесь не замечалось, никогда, даже и в эпохи, когда голландская морская торговля завоевала мир и возбуждала тревоги Англии. В самых пирушках голландских, в высшей степени тяжеловесных и мужиковатых, не слышно легкого, остроумного юмора французов и сантиментальных вздохов немецкого студенчества. Можно в один день объехать эту микроскопическую страну, выпив утреннее кофе в Гааге, позавтракав в Гарлеме, пообедав в Амстердаме, чтобы затем опять ночевать в Гааге. По-на всём этом пути вы не найдете ни одного кабачка ни в Мюнхенском, ни в Нюренбергском типе. И замечательная вещь: повсюду вы встречаете здесь таверны простейшего вида, где вы вспомните не раз грубые оценки Ocmade, но дух Рембрандта совершенно отсутствует во всей стране. Он умер вместе с Рембрандтом раз и навсегда, и если Рембрандт в этом отношении не представляет собою единственного явления в целом мире, то он вполне и абсолютно исключителен для своей страны. Это одно обстоятельство уже дает право на построение самых смелых гипотез.
И так, жизнь Рембрандта в упомянутую эпоху должна была таить в себе общий какой-то недуг. Приходилось ему вталкивать насильственно всю свою психологию в чуждые рамки чуждого быта. Необходимо было расширять свои материальные средства, превратив ателье художника, весь свой дом, в торгово-промышленную контору, где, под общею фирмою Рембрандта, многочисленные ученики сбывали произведения своих рук, по которым только прошлась ретуширующая кисть мастера. Возможно, что в громадном числе картин, приписываемых Рембрандту, много произведений Боля, как на этомне без фактических оснований настаивает Лаутнер, но не подлежит сомнению, что концепции всех таких композиций принадлежат всё-таки Рембрандту, ему одному, его исключительному творческому гению. Тут что-то слышится в высшей степени иудейское и типичнейшее для еврейского народа. Создать мысль, однажды высказать её в импонирующей форме – это совсем по-еврейски. Но наполнить этою мыслью десятки томов, разметать и размазать её во всевозможных вариантах и отражениях – это уже дело иного духа. Под гипнозом такого человека, как Рембрандт, особенно когда он вошел в среднюю, максимально плодотворную фазу своей жизни, могли работать целые школы. Материально не всё, продававшееся под ярлыком Рембрандта, могло быть подписано его именем. Но духовно всё это было его несмотря на то, что художники вроде Боля, Ливенса, Флинка сами по себе обладали выдающимися талантами. Так работал в эту эпоху великий Рембрандт. Сея кругом идеи и офортируя без конца, уступая то и дело кисть и иглу разным ученикам и подмастерьям, он переходил от одной темы к другой, повсюду внося свою исключительную точку зрения, свой рационализм, свою апперцепцию.
В таких условиях лицо художника должно было претерпеть большие видоизменения. Из гармоники, полнозвучно игравшей в среднем регистре, начинают вырываться протяжные звуки – меланхолические и непреодолимо тоскливые. Такую гармонику видим мы перед собою, разглядывая один из автопортретов Рембрандта 1638 года. Лоб уже бороздится намеками на будущие морщины. Шапка надета почти нормально, только слегка откинутая на бок. Прежнего щегольства с оттенком хохочущего летца не видно. Лоб таков, что хочется на него смотреть и смотреть: так он серьезен, содержателен и явно символичен для каких-то больших мыслей. В глазах под этим прекрасно моделированным лбом ощущается след психического утомления. Они остановились в раздумье на мокром месте, в скрытых слезах. Прежде они смотрели с серафическою ясностью куда-то вдаль, через головы и души людей. Теперь же они прониклись горестною житейскою мудростью. Всё кругом богато и пышно, а внутри неудовлетворенность и начинающийся разлад. Еврей живет страстями только поверхностно, и потому долгая его жизнь с женою на протяжении многих и многих лет, легко объяснима и естественна. Никаких трагедий на почве эротической, никаких конфликтов. Но если это талантливый человек, тронутый габимою, со склонностями к ассимиляциям, с тенденциозно развиваемым внутри дифирамбическим культом, он непременно вдается в излишества и через каких-нибудь несколько лет пошатнется и дрогнет во внезапном и великом утомлении. Как рано состарился Рембрандт! Средний регистр его творческих настроений обрывается иногда почти без переходов. Гармоника лица чуть-чуть дает уже складки, особенно около шеи, около юношеской линии, идущей от уха к подбородку. Уже нет прежней чистоты и упругости. Таков Рембрандт к тридцати двум годам цветущего человеческого возраста. Рубенс старел незаметно. У него не было никакого разлада со средою, где он жил царьком, но как первый из равных. И рембрандтовского срыва у него быть не могло. Рембрандт же, иной по духу, если не по расе, жестоко и преждевременно расплатился за все шутки летца и за всю габимную измену здравым нормам Синая.
На лондонском портрете 1640 года, в Национальной Галерее, Рембрандт сидит в важной позе, в широком, обшитом мехом плаще, опершись правою рукою на балюстраду. Шапка уже совсем спокойно насажена на голову, без малейшего оттенка былого фиоритурного не то озорства, не то щегольства. Лицо тоже спокойное. В усах, однако, при стилизованной моложавости физиономии, как будто бы уже мелькают отдельные седые волоски. Вся поза уравновешена серьезно и слегка торжественно, в ощущаемом гармоническом созвучии с подпольными основами духа. Такой человек может являться и летцом, но в основе своей это изысканно серьезная натура, всегда и во всём. Глава затуманены печалью, хотя и повернуты вбок любопытствующим контрпостным движением. Наконец, ещё два портрета эпохи среднего регистра, 1640 и 1643 года. В портрете, принадлежащем герцогу Гедфордскому, мы имеем настоящее великолепие в мужском облике. Точно человек переоделся для субботнего дня, смёл с себя прах недели и предстал перед глазами абсолютно чистый. Туалет и лицо находятся между собою в редком согласии, одно поет к другому протяжной баритональной октавою именно среднего регистра. Шею прикрыл стоячий меховой воротничек – и это ласково хорошо для созерцающего глаза. Чувствуется, что шея ласкается в пушистых волосах меха. Но воротник этот от внутреннего кафтана, на который наброшен большой, темный и пышный плащ, тоже ласково висящий на плечах художника. Бывают редкие случаи, особенно в мужском костюме, когда туалет живет и поет на человеке. Вот такой случай и сейчас перед нами. Рембрандт на этом портрете весь слился со своим костюмом и выставил из него свою голову, глаза – руки, выставил их из недр материи во славу духа. Мы не знаем жизни художника изо дня в день. Ни одна биография не может заглянуть в такую глубину, к тому же удаленную от нас на три столетия. Но всё-таки, вглядываясь в изображенные черты, в глаза, в склад широких губ, в рабочую руку, придерживающую меховой край плаща, чувствуешь в человеке минутную высокую гармонию, покрывшую спокойною мыслью треволнения среды и быта. Великолепнейший в художественном отношении портрет может служить иллюстрацией для конца периода жизни, охарактеризованного нами. Через два года по написании этого самоизображения Саския умерла, и в жизни Рембрандта начались иные течения и наметились иные пути.
10 июня 1924 года
От жены к жене
Саския умерла 15 июня 1642 года, оставив двухлетнего Титуса на руках Рембрандта и кормилицы Гэртген Диркс. Потеря жены, да ещё любимой, обычно является определяющим событием для душевных настроений людей. Возможно, что Рембрандт и пережил некоторую бурю, лишившись Саскии. Но буря эта не могла быть слишком длительного характера. Не в духе людей иудейского склада растягивать вдовство, наполняя его мистическими вздохами. Семья требует присмотра, человек не может жить один. Перипетии Рембрандта вслед за постигшим его ударом довольно разнообразны и весьма для него характерны. Сначала Гэртген Диркс в течение четырех лет была временной спутницей Рембрандта, преданной ему и Титусу, что видно, между прочим, из завещательного распоряжения, оставленного ею в пользу мальчика, а затем с 1646 года начинается продолжительная эпопея с Гендриккией Стоффельс. Эту Гендриккию Стоффельс Рембрандт продержал у себя в качестве служанки, хозяйки и наложницы вплоть до 1654 года, когда начались неприятности на этой почве с консисторией, упомянутые нами выше. Он женится на ней и делает её совместно с сыном от Саскии чуть ли ни распорядительницей своих запутанных материальных дел, по управлению торговлею художественными произведениями его фирмы. Гендриккия Стоффельс умерла в 1662 году, за несколько лет до смерти самого художника, но тотчас же, по свидетельству авторитетных исследователей, на которых ссылается и Ровинский, Рембрандт женится на Катерине ван Вник, с которою и доживает до 1669 года, до своей кончины. От этой Катерины ван Вник художник имел двух детей, будучи уже шестидесятилетним стариком. Умирая, великий и плодовитый художник не оставил по себе ничего, кроме носильного платья и рабочих инструментов. Довольно большой капитал, завещанный ему Саскией, весь очевидно был растрачен в шатких торговых предприятиях, складывавшихся около его знаменитой по тому времени фирмы. В последние годы его жизни кредиторы Рембрандта доставляли ему особенно много огорчений. Они расхищали остатки его состояния, в котором лепта Саскии являлась основным фондом.
Из всей этой многословной семейной истории можно заключить нижеследующее. Рембрандт переходил от женщины к женщине неизбежно и надежной поступью древнего израильтянина. Он любил Саскию всею доступною ему любовью. Рембрандт ценил в ней друга, спутницу, мать детей и, наконец, благодарную модель. Да и финансы, облегчавшие ведение дела и ублажавшие жизнь, играют тут не последнюю роль. Но того неоарийского пафоса, который превращает женщину в культ, который делает человека иногда верным самому призраку исчезнувшей подруги, в Рембрандте не было и следа. Этот человек любил в женщине то, что надо: тело, как орудие деторождения, и скрытые в ней возможности делового совета, надзора и ухода на тяжелом жизненном пути. Это мать. Это пасхальная «матка» – царица. Это святой сосуд, к которому прилепляется плоть мужа, не знающего легкомысленных авантюр и новоарийских измен. Пока Саския была жива, Рембрандт был ей верен. Но вот она умерла, и Рембрандт бестрепетно сходится с другой, не ища её на стороне, а беря живущую тут же воспитательницу Титуса. Будь тут сестра Саскии, он женился бы на ней. И так дальше, на всём его жизненном пути. Гендриккия Стофельс, Катерина ван Вник – всё это имена женщин, сменявших друг друга, не в кабаке, а тут же под домашней кровлей, на ответственном посту
Имеется веймарский автопортрет Рембрандта от 1643 года, написанный через один только год после смерти Саскии. Но в этом же году, имея при себе и своём ребенке грубую заместительницу Гэртген Диркс, он пишет также посмертный портрет своей покойной любимой подруги. В чертах веймарского портрета мы читаем серьезный сосредоточенный взгляд уже не юношеских глаз, а в формации подбородка – приближающуюся старость. В посадке шляпы ни тени щегольства: былой летц совершенно исчез. Какая-то музыка бессилья, какая-то трогательность чувствуется в этом лице, и зритель проникается к нему же неподдельным и глубоким человеческим участием. Складки лица, видимо, сглажены кистью, и только двойного подбородка художник не решился скрыть. Туалет скромен, но ещё богат. И тут же, рядом с этим портретом, мы видим живописный памятник Саскии. Рембрандт писал её на память и вложил в портрет ту меланхоличность, которою был полон он сам. Взята какая-то зыбкая секунда в жизни человека, или, может быть, вернее сказать, секундный трепет самого художника овеществился тут в образе всё ещё любимой женщины. Это преломление образа в движении сердечного ритма, – имеющего исключительно субъективный характер. Какой-то наглядный монострофический дифирамб, в котором всё поется на свой собственный лад, в своей личной манере, в своей персональной потрясенности, а не в чертах объективной действительности. Не такою была Саския даже и в последние свои годы. При всей природной, чисто еврейской тяжеловесности в ней всегда было и что-то уносящее вверх, полуарийская какая-то превыспренность, что мы не видим хотя бы в слабейшем отблеске в посмертном портрете. Но в панихидной строфе последнего песнопенья Рембрандт мог изобразить Саскию только такою, какою рисовалась она ему в апперцептивной памяти, удерживающей лишь существенные черты человека. Сложная в жизни женственная амальгама предстает перед глазами освобожденною от всего наносного. Рембрандт видит свою жену еврейкою, когда думает о ней в своих последних воспоминаниях.
С 1645 года мы имеем ряд портретов Рембрандта, доводящих его образ до последнего дня. В истории живописи нет ведь ничего даже отдаленно подобного такому упорному и последовательному живописному дневнику, такой постоянной исповеди себя на холсте. Рембрандт как бы каждый день становится на молитву и творит её со всею серьезностью и правдивостью. Есть что-то в этом потрясающее и даже не совсем понятное для новоарийского глаза, избалованного формальной красотой и парениями ипокритного духа. Здесь же Рембрандт говорит иудейским слогом на иудейскую тему, почти библейскими подобиями. «Таков я в прахе земли, от которой взят. От одной жены входил в другую, и от каждой из них имел детей. Пятеро детей у меня было от возлюбленной Саскии, и один только сын остался живым, Стоффельс дала мне любимую дочь, которую я назвал по имени моей матери. От Катерины ван Вийк у меня тоже было двое детей. Я наполнил мои дни трудами, плоды которых мне не пришлось пожать. Теперь я иду, год за годом, продолжая трудиться, к неизбежному концу – приложиться к отцам». В самом деле, обозревая эти портреты, в которых только минутами, только секундами мелькают старые габимно-голландские черточки, приходишь в полное, небывалое изумление от торжественности, лишенной всякой ипокритной помпы. Перед нами угасающий в трудах и испытаниях человек. Не идейная какая-то маска, как, например, у Леонардо да Винчи, а сам человек, святая плоть земли, умирает. Гармоника всё больше и больше замыкается. Складок уже не обозреть, морщины глубоки. Глаза, некогда смотревшие из сияющих бездн, потухают. Слух, когда-то такой чуткий к звукам скрипки Элогима, всё слабеет и слабеет. Ореол вьющихся по-еврейскому волос побелел. Но во всех портретах ещё присутствует старая вертикаль, старая выправка, без согбенности, без горбов. Несмотря на все удары судьбы, эти портреты являют какое-то неистребимое самоутверждение.
11 июня 1924 года
Отход к отцам
Мы можем отныне следить почти год за годом за переменами во внешнем облике Рембрандта, в процессе нарастания времени, забот и огорчений. На одном портрете, находящемся в частной северо-американской коллекции, сорокалетний Рембрандт, через три года по смерти Саскии, поражает застывшей установившейся серьезностью. Точно в нём что-то умерло. Второй подбородок уже наметился. Вертикаль его тела кажется слегка напряженною. Лондонский портрет в Букингемском дворце несколько напоминает портрет «Национальной Галереи» своим спокойствием, своею живописною законченностью, любимым жестом бездействующей руки, полуприкрытой плащом. Серьга в правом ухе здесь показана со всею наглядностью. Память Саскии стирается и заслоняется новыми связями и знакомствами, в перипетиях всё время меняющейся тревожной жизни. Всё лицо в скорбном комке, где начинают концентрироваться будущие огорчения, утомления, и элементы надвигающейся старости. Человек уже совершенно не озабочен тем, чтобы придать свисающим грубым усам хоть какое-нибудь живописное положение, в противоположность тому, что было раньше. Не для кого выкидывать утонченные фокусы летца. Вместо прелестной и нарядной Саскии теперь в жизни его имеются иные, более простые, более элементарные женские фигуры, как грубая кормилица Диркс и деревенская девчонка Гендриккия Стоффельс. Карлсруйский портрет, относимый Розенбергом к этим печальным годам в жизни Рембрандта (1647–1648), производит цельное, художественно совершен-
ное в этом отношении впечатление. Рембрандт одет нарядно. Воротник верхнего платья изукрашен нашитыми на него блестками. В серьге драгоценный камень, по-видимому, благородный и скромный жемчуг. Лицо круглое. Складка второго подбородка очень смягчена нежной кистью. Вообще портрет выписан очень любовно, штрих за штрихом, в теплом медленном дыхании. И в целом это настоящая поэма грусти. Если дата Адольфа Розенберга верна, то портрет относится к тому моменту, когда знакомство с Гендриккией Стоффельс уже состоялось и подготовлялось вступление этой девушки в роль полновластной хозяйки в доме Рембрандта. Пришлось напряжением всех сил, чуть ли ни при содействии судебной власти, очищать для неё место, занятое притязательной и внедрившейся в быт Рембрандта женщиной – Гэртген Диркс. Стоффельс окончательно вытеснила эту женщину только к Ему Октября 1649 года, меньше, чем через год по написании карлсруйского портрета. Трудно вычитывать эмпирические события в жизни людей по их изображениям в живописи, особенно если произведения эти отдалены от нас пространством нескольких столетий. Но тем не менее, сживаясь всё более и более с обликами Рембрандта, начинаешь чувствовать связь реальных вещей с далекими символизациями в мастерстве и кисти. Приходится быть физиономистом, приходится распознавать по чертам лица повесть лет и дней, представляющих огромный интерес для художественной критики. Да и самый метод критики становится в таких случаях чисто повествовательным, чисто биографическим, даже в узком смысле слова, почти исповедным, насильственно исторгающим, как жезл Моисея, скрытые потоки душевных движений из безмолвных каменных глыб. Космически говоря, искомая связь жизни и творчества, несомненно, существует. Только открывать эту связь необходимо с величайшею осмотрительностью. Сам художник мог и не ставить себе тут никаких определенных целей. Он писал свой портрет, по всем вероятиям, даже в полном забвении тягостной обстановки, в которой жил. Может быть, он искал в этих занятиях некоторого рассеяния. Но кисть непреднамеренно набрасывала черты действительности, во всём омуте её горьких деталей и осадков. Так и в рассматриваемом портрете, пробуждающем в зрителе опять чувство бесконечной человеческой жалости. Тут и нарядность начавшейся новой любви, и следы мутной борьбы с навалившейся на Рембрандта кошмарною повседневностью. В линию рта замечаются уже совершенно ясные уклоны краев книзу – типичное выражение горечи и брезгливого недовольства.
Три портрета 1650 года представляют собою интенсивное изображение переживаемого Рембрандтом тяжелого периода. Материальные фонды Саскии таяли с каждым днем. Совместная жизнь с Гендриккией Стоффельс стала сплетаться с неприятными скандалами и притеснениями церкви. Что-то в душе Рембрандта откликалось на всё это тяжелым, надрывным эхом. На лейпцигском портрете тень от надвинутой широкой шляпы закрывает глаза траурной фатой. Белеет только часть лица с правой стороны. Но общее выражение горестного раздумья и какой-то безнадежности разлито по всему мерцающему облику. Портрет поэтичен и гениален, не смотря даже на некоторую эскизность исполнения. Что-то трагическое слышится во всей картине. Но трагедия рассматриваемого лица не шумна и не криклива, а льется широкой волной – почти торжественно, с величайшею серьезностью по плотной стихии этого человека. Портрет написан мазками, гармонирующими с настроением художника. Мелькают в импрессионистической передаче минутные тяжелые чувства, связываемые вместе всё тою же единою, крепкою, привычною к страданьям расовою тканью. Еврей никогда не убивается до конца, не доходит до края отчаяния. Всему, всякому чувству он кладет в самом себе разумный и стойкий предел. Элемент вечности присущ всем временным движениям его духа – неизбывный, неистребимый, постоянно возрождаемый и возрождающий всё новую и новую энергию в человеке. Гармоника лица Рембрандта вся начинает собираться в своих бесчисленных складках, и преждевременное угасание этого человека бросается в глаза. Художник вступил уже явно и ощутимо для всех на путь отхода к отцам.
Я не останавливаюсь на модельном кэмбриджеком портрете того же года, не представляющем интереса для критики. Портрет сам по себе хорошо написан, с великолепными художественно-орнаментальными деталями. Но для задачи настоящего исследования он не дает новых материалов. Но опять лондонский портрет 1650 г. из частной коллекции одной фирмы дополняет всё сказанное некоторыми лишними штрихами. Морщины на лбу очень углублены. Небрежно отодвинутая шляпа обнаружила носимую художником ермолку. Из глаз струится скорбный свет.
Гендриккия Стоффельс жила в доме Рембрандта уже четвертый год. В августе 1652 года Рембрандт имел от неё ребенка, прожившего совсем недолго после родов. К этому именно году относится картина, представляющая семейную жизнь художника довольно типично и, по всей вероятности, в период беременности. Стоффельс позирует своему мужу почти совершенно голая, едва прикрытая свисающей рубахой. Личико молодое и свежее, но тело в обычном рембрандтовском рисунке, натуралистическом и лишенном всяких признаков формальной красоты. Почти нет грудей, бедра тяжеловесны и бесформенны, ноги без намека на стильность. Только головка, шея и кисть правой руки, высунувшаяся из рукава рубахи, производят мягкое впечатление. Легкий контрпостный поворот верхней части тела тоже отдает приятною женственностью. Сам Рембрандт сидит за мольбертом, с палитрой в руке. Хотя он и устремил испытующий взгляд на модель, но, в общем, лицо его довольно спокойно, не выражает ничего особенного: мастер только зорко присматривается к натуре, думая о какой-нибудь купающейся Диане. Великий художник, собиравший в своем домашнем музее немало интересных древностей, был совершенно чужд пониманию поэзии и культуры античного мира. Не было на свете двух народов, так полярно друг другу, как эллинский и еврейский. Тут всё противоположно и почти во всех существенных отношениях. Греки любили голые женские тела и видели эти тела сквозь призму идеалистической фантазии. Точной портретности у них не было, они изгоняли из всех своих пластических искусств индивидуальность, давая лишь общечеловеческие образцы совершенной красоты, так что по художественным памятникам Эллады отнюдь нельзя представить себе даже и приблизительно, чем были на самом деле эти греки. Всё было у них мандатно и ипокритно. Но, смотря на картину Рембрандта, мы верим, что Гендриккия Стоффельс, от которой он имел двоих детей, обладала именно таким телом, какое написано на картине. На дрезденском холсте, рассмотренном нами выше, мы видели дуэт людей одной и той же расы, и хотя картина в целом риторична, всё же она дает цельный торжественный аккорд. Здесь же оба представленных существа живут раздельною духовною жизнью, каждый в своём отдельном внутреннем мире. На глазговской картине Рембрандт и Стоффельс даже конкретно далеки друг от друга, и композицию в целом плохо спасает висящая на стоне материя в складках. Между обеими фигурами легло слишком большое пространство, не лишенное и некоторой для данного случая символичности. О былом патетическом аккорде двух душ здесь не может быть и речи.
12 июня 1924 года
Благородная вертикаль
Последние годы в жизни Рембрандта совпадаютс возрастанием забот и хлопот материального свойства. [Долги] увеличивались, дела запутывались, в 1658 году был продан самый дом Рембрандта, а за год перед тем были распроданы с публичного торга все его большие коллекции художественных ценностей, которые он собирал в течение многих лет. Рембрандт был объявлен несостоятельным должником. Он жил с Гендриккией Стоффельс, с сыном от Саскии Титусом и Корнелией, дочерью от второй жены. Делами всеми управляла Гендриккия вместе с Титусом (об этом между ними состоялось соглашение и Рембрандт являлся лишь опекуном, получающим определенное жалование, которое выплачивалось ему двумя долями – от Гендрикии и от Титуса). Так складывалась тяжелая жизнь художника в годы его старости. Но работа иглой и кистью не прекращалась. Рембрандт мог упасть, только сломленный бурей, но он не сгибался даже под сильным ветром. Лицо его выражает в глубокомысленной экспрессии то, что происходило в душе, но благородная вертикаль головы сохранила свою мягкую прямоту. Замечательная вещь: чем старее человек, тем больше он приближается к еврейскому типу. Мы упоминали об этом выше. Все старики евреи. Человек, всё более и более снимая с себя напластования всевозможных внешних культурных влияний и преходящих гипнозов, возвращается к чистым, основным своим корням. Евреи, как мы уже говорили, наименее ипокритны из всех народов, наиболее человечны в натуральном смысле слова. Вот почему, когда лицо утрачивает покров ипокритности того или другого рода, оно непременно начинает приближаться к праарийскому типу. Даже седые славянские иерархи, с их длинными белыми бородами, похожи в старости на евреев. В портретах последних лет Рембрандта эти семитические черты обрисовываются всё явственнее и явственнее, и такому впечатлению помогает более естественная, спокойная посадка шляпы, а ермолка создает порою настоящую иллюзию. Иногда, впрочем, и самый берет надет назад, как ермолка, и от такой мелочи, которая не имела бы значения ни для какого другого лица, физиономия Рембрандта выигрывает в подлинной своей серьезности. Хочется сказать, что в такой серьезности есть что-то ттротоморфное,
