Читать онлайн В самое вот самое сюда. Стихи 2020–2023 бесплатно
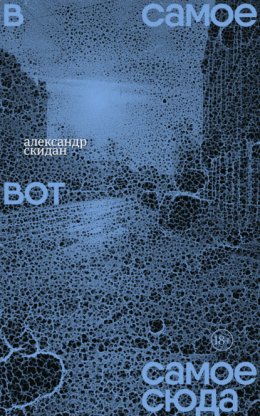
© А. В. Скидан, 2024
© И. В. Булатовский, предисловие, 2024
© Н. А. Теплов, оформление обложки, 2024
© Издательство Ивана Лимбаха, 2024
Игорь Булатовский. И вся недолга
Возможно, нас не должно здесь быть. Возможно, нас здесь и нет. Возможно, мы есть, но только по старой привычке считать Литейную часть местом нашей поэтической социализации, местом сообщности живых и мертвых поэтов, и не важно, мертвые мы или живые, есть мы или нас нет.
Много лет назад после моего чтения здесь, в Музее Ахматовой, в Сарае, Саша (странно, что он там вообще был) сказал, что язык моих тогдашних стихов уже не язык, а какая-то ветошка языка. «Но это же лирика, лирика», – почему-то ответил я. Еще через много лет в приложении к Сашиному избранному «Membra disjecta» я с удовольствием обнаружил одно двустишие, удивительную медитативную пару: «Ветошка языка / и вся недолга». С тех пор такого рода Сашины тексты, напоминающие экспромты, короткие и краткие (это разные характеристики), я про себя называю «ветошками». Из них в основном составлена «Контаминация», их было много и после «Контаминации».
В них дана ветхость поэтического языка (речи, письма), и в смысле его использованности, и в смысле его уязвимости, изъязвленности. Как бы мы ни укрепляли (читай обновляли) поэтический язык (синтаксически, аналитически, философски, политически, ассоциативно, документально и т. д.) он, этот язык, прежде всего «ветх» в своем предельном состоянии – перед лицом катастрофы, перед лицом того «поздно», которое двадцать четыре раза повторяется в Сашином тексте, написанном 1 марта 2022 года.
После начала войны многие, работающие поэтический язык, стали говорить и до сих пор говорят о том, что слова умерли, убиты и т. д. Но умерли не слова, разумеется, умер синтаксис (там, где он был жив, конечно, и вдвойне умер там, где был мертв), синтаксис умер как залог удовольствия. Все слова будто бы стали падать строго вниз без отклонения, без оплодотворяющего, творящего клинамена. Каждое слово стало тавтологией самого себя. Отсюда, возможно, особый вес тавтологии (псевдотавтологии, омонимии, паронимии) в Сашиных стихах после 24 февраля.
В первом же тексте «Контаминации» есть двойная, как мне кажется, отсылка: «и гёте гёте в рюкзачке». Это отсылка, с одной стороны, к «Поручению» Кузмина, а с другой, возможно, – к Багрицкому («А в походной сумке / Спички и табак, / Тихонов, Сельвинский, Пастернак»). Но меня интересует первая. Саша цитирует «Поручение» уже в «Схолиях» («В красном смещении»): «и Гёте Гёте конечно!» Если отвлечься от биографического контекста, «Поручение» Кузмина 1922 года (сто лет) – о связи тавтологии и ужаса. Там, если вы помните, две Тамары – Тамара Карсавина и Тамара Персиц (издательница Кузмина), обе уже живут в Германии, и Кузмин напутствует странника навестить их. И если первая Тамара – старая знакомая, которой можно запросто рассказать о безбытной послереволюционной, послевоенной жизни, то вторая – бездна, на нее нельзя смотреть («Но если ты поедешь дальше / и встретишь другую Тамару – / вздрогни, вздрогни, странник, / и закрой лицо свое руками, / чтобы тебе не умереть на месте»). Такова функция тавтологии в последних Сашиных стихах, стихах последнего времени, последних времен.
Я назвал бы это «оплодотворением ужаса». Это своего рода речевые фрикции в надежде вызвать минимальное подергивание, отклонение сигнала осциллографа: «презентация / презентация // публикация / публикация // нормализация / нормализация // видео / невидимо // малер / мюллер // ‹…› закройте ебаное небо / закройте ебаное небо // h2o / h2o // которая была вначале / которая была вначале // накрой ебаную землю / накрой ебаный стыд»). Можно представить себе, что каждый первый элемент тавтологии произносит солист, а второй элемент тавтологии отдан хору, тому, который, как известно, и гибнет в «настоящей трагедии».
И тогда «ужас разражается», как неточно цитирует Саша «Исследование ужаса» Липавского (и поправляет себя: «разражается не ужас / а взрыв»). И тогда ужас разрождается. То, с чем мы имеем дело в последнем периоде Саши, – это даже не пресловутая «решетка речи», это ребра речи, это поэтическая речь, обглоданная до костей, торчащих из падали фактически. Из падали говорящего субъекта, parlêtre, словенина, как пугающе переводит этот неологизм Лакана Александр Черноглазов (у Саши этот субъект превращается в субчика). Это та неприглядность, которая лежит в основе большого поэтического языка, это его основа, истонченная, истертая, пережитая, пережеванная, использованная до ветоши: «поэт ты тряпка половая / а думаешь что рана ножевая». Этим стихам нечего терять, кроме молчания. Их почти что может не быть и поэтому не может не быть. Это стыдная, замаранная, триггерированная, замусоренная, сорная внутренняя речь интеллектуала – такая вот музыка. Мы знаем стихи, которые растут «из сора», но есть стихи, которые дают себе мужество, совесть и страх расти в сор.
Мы знаем, какая традиция актуализируется здесь. Это традиция бедности языка, словесного отщепенчества. Саша всегда был по-своему близок к этой традиции в смысле поэтики фрагментарности, теперь он полностью в нее укладывается, как его парафраз стихотворения Яна Сатуновского, который в свою очередь иронически меняет модальность «Брожу ли я вдоль улиц шумных» с уступительной на вопросительную, впуская текст Пушкина в быт советского литературного отщепенца: «Брожу ли я вдоль улиц шумных? Брожу, почему не побродить? Сижу ль меж юношей безумных? Сижу, но предпочитаю не сидеть». У Саши: «хочу ли я культурных потреблений? / хочу, отчего же не хотеть // хочу ли мира потрясений? / хочу, но предпочитаю не хотеть».
Это традиция, полагающая поэтическое знание не в словах, из которых «ни одно не лучше другого», а в пустоте между ними и вокруг них. Это традиция, «пародирующая абсолютное знание», традиция по сути бесстыдная, входящая «не спросясь» в «стихотворного ряда тесноту» и выходящая к пушкинской «бездне-на-краю», но в качестве бычка Агнии Барто: «бездна ты качаешься / и что-то не кончаешься». Это традиция, для которой нет особой разницы между гельдерлиновско-хайдеггеровским «но что остается, то учредят поэты» и хармсовским «скажу вам грозно: лишь мы одни – / поэты, знаем дней катыбр». Я бы назвал это традицией «остаточного наслаждения» как гарантии от смерти, как способа сохранить себя, как способа продолжать («Чтобы писать, нужно писать»). В духе «мертвого господина» Введенского, которого Саша оживляет с помощью русских стихов Рильке: «вбегает мертвый господин / он так один // ‹…› он и хотел бы время удалить / да вот приходится вбегать и снова жить».
Возвращаясь к своей давней наивной реплике «но это же лирика, лирика», я вижу в этой традиции залог того, что сформулировано Сашей предельно ясно и цинично: «поэзии ребяческие сны / вернутся к нам не ссы».
