Читать онлайн Тюдоры. Любовь и Власть. Как любовь создала и привела к закату самую знаменитую династию Средневековья бесплатно
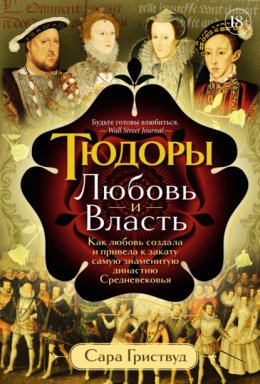
Sarah Gristwood
THE TUDORS IN LOVE:
The Courtly Code Behind the Last Medieval Dynasty
© Sarah Gristwood, 2021
© Филосян А., перевод на русский язык, 2024
© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2024
КоЛибри®
* * *
Мастер-класс по тому, как можно соединить огромный канон академических исследований и восхитительное увлекательное повествование.
Элисон Уэйр, писательница, автор книг «Королевы завоеваний», «Елизавета Йоркская», «Леди Элизабет»
Проза Гриствуд такая же обольстительная, как и ее предмет. Будьте готовы влюбиться!
Wall Street Journal
Гриствуд увлекательно освещает разницу между романтикой и реальной политикой.
The Times
Захватывающе и завораживающе.
Кейт Уильямс, историк, автор книг «Young Elizabeth: The Making of the Queen», «The Betrayal of Mary, Queen of Scots»
Куртуазная любовь разбивается о жестокость политики, и мы получаем захватывающую – и разбивающую сердце! – историю о женщинах королевской семьи, попавших в ловушку…
New York Times Book Review
Одна из самых важных книг, которые были написаны о Тюдорах в последние годы.
Трейси Борман, историк, писательница, автор книги «Частная жизнь Тюдоров»
Замечательный анализ того, как династия Тюдоров использовала «стильную и стилизованную игру» куртуазной любви… восхитительные дополнительные детали раскрывают личные связи между историческими личностями. Свежий и манящий взгляд на столь тщательно изученную династию.
Publishers Weekly
Пролог
Ристалище, Йорк-хаус, 2 марта 1522 года
Празднества по случаю Прощеного вторника[1] были тематическими – посвященными теме сердца. Пульсирующее, беззащитное, пронзенное множество раз – этот символ встречался везде и всюду.
Граф Девонширский и лорд Рус сражались на турнирах в костюмах из белого бархата с вышитым сердцем, поделенным надвое цепью. Вышивку обрамляла надпись «Сердце мое между отрадой и болью». Энтони Кингстон и Энтони Книвет облачались в пунцовый атлас с изображением сердца, окаймленным голубым кружевом и золотой надписью «Мое сердце связано». Одеяние Николаса Дэррела из черного атласа было усеяно сердцами, поверженными наземь или разорванными на куски, а вышитый серебряными буквами девиз гласил: «Мое сердце разбито». Однако наибольшее значение для эпохи имело лишь одно сердце – сердце короля Генриха VIII.
По свидетельству хрониста Эдварда Холла, скакун короля был накрыт серебряным полотном, расшитым золотыми буквами. Его эмблема изображала «израненное сердце мужчины», а девиз гласил: Elle mon coeur a navera[2]. Любящего мужчину возвеличивали чувства к даме, державшей его на расстоянии, – это было старинное пристрастие к возвышающему страданию, которое с давних времен всецело подчинило воображение аристократов Европы. Неудивительно, что в более позднюю эпоху такую любовь прозвали «куртуазной» – то есть придворной. Столь же неудивительно, что Тюдоры – эта цепкая, хваткая, изощренная династия – предались куртуазной любви с особым пылом.
Основатель династии Генрих VII использовал легенды о короле Артуре и рыцарские штампы, чтобы обосновать вступление Тюдоров в королевский клуб. Генрих VIII считал куртуазную любовь оправданием своей весьма бурной брачной жизни. А дочь Генриха VIII Елизавета в конце концов преобразила образ куртуазной любви, чтобы подарить голос своей противоречивой женской монархии.
Ритуал рыцарского турнира с его тщательно отрепетированным боевым спектаклем олицетворял всю пышность тюдоровского двора. В мире, где одним из важнейших атрибутов монарха было королевское «величие», ключевую роль играла культура парадности, подчас доходившей до притворства. Драматизм присутствовал во всем. На пиршестве сама еда была призвана скорее удивлять, чем удовлетворять голод: по залу описывал торжественный круг то запеченный павлин с хвостом из собственных перьев, то мифическое существо «кокатрис» (передняя часть петуха соединялась с задней частью свиньи). Гости с нетерпением предвкушали, какими изощренными фантазиями поразят их воображение на этот раз, и отдавали должное хозяевам возгласами восторга и изумления.
В тот Прощеный вторник, после рыцарского турнира, главный советник Генриха, кардинал Уолси, устроил званый ужин в честь короля, его придворных и послов. Йорк-Плейс (позднее – дворец Уайтхолл), огромное лондонское имение Уолси, являл собой настоящее воплощение роскоши и расточительности. Очевидцы свидетельствовали, что в коллекции Уолси было столько баснословно дорогих гобеленов, что он мог полностью обновлять убранство дворцовых стен каждую неделю. Библейские сцены изображались на них столь же колоритно (во всех смыслах), как и сюжеты античной мифологии; сцены из повседневной жизни – охота и сбор урожая, любовные утехи и игра на лютне – переосмысливались и превращались в безвременные исторические картины. (Величайший гобелен, известный как «Триумф целомудрия над любовью» и восходящий к поэме Петрарки, по иронии судьбы в итоге оказался в коллекции короля.)
Во время трапезы бесконечное разнообразие мясных блюд сменялось изобилием овощных салатов и сыров. В конце концов, на подходе была унылая пора Великого поста, как бы искусно повара короля и кардинала ни умели готовить угрей, вяленую треску, морскую и пресноводную рыбу. Дальше гостей провожали в огромный зал, украшенный ветвями деревьев и дорогими восковыми свечами.
В глубине зала стоял зеленый деревянный замок – одна из тех роскошных причуд, которым суждено прожить всего один вечер и в которых так преуспел двор Тюдоров. Длинные списки королевской отчетности содержат детальные описания расходов на эти короткие, но полные драматизма постановки: на блестки и костюмы, на древесину и плотницкие работы. Всего несколько лет спустя в течение нескольких недель двор восхищался военным оснащением еще одного подобного замка-обманки, с восторгом постановив, что его «невозможно взять натиском, только измором». Современным эквивалентом таких представлений можно считать сценографию театральной постановки или павильон для кинопроизводства[3]. Но происходило это за полвека до того, как на Британских островах, в Лондоне, был построен первый театр. И хотя в церемониях и народных зрелищах того времени преуспевала в первую очередь церковь, для того чтобы принять новую, светскую религию рыцарства, нельзя было придумать лучшей сцены, чем королевский двор.
Замок венчали три башни, над каждой из которых развевалось знамя: на первом было изображено три повергнутых сердца, на втором – женщина, сжимающая в руке сердце мужчины, а на третьем – дама, крутящая мужское сердце в руках. Замок был одной из зрелищных «маскировок», олицетворявших либо опасность, от которой дам нужно спасать, либо само сердце дамы. Дамы, которые защищали крепость, выбрасывая из нее розы, фигурировали и в средневековом бестселлере о куртуазной любви – «Романе о Розе». Три башни замка занимали восемь женщин, одетых в белый атлас с вышитыми золотом именами: Красота и Честь, Милосердие и Щедрость, Постоянство и Упорство, Доброта и Сострадание – именно такими качествами должна была обладать идеальная галантная дама. Такие «живые картины» можно считать домашним эквивалентом рыцарского турнира – той же ареной для соревнований и демонстрации умений – с той только разницей, что главная роль здесь отводилась женщинам.
Перед замком, как комичные карикатуры, стояли еще восемь «дам» (мальчики-певчие из Королевской часовни, разряженные в «индийские» одежды) с такими именами, как Надменность и Ревность, Презрение и Черствость. Они замерли, готовые защищать Château Vert[4]. Потом в зале появились маски: переодетые лорды в золотых шляпах и синих накидках с именами, олицетворяющими рыцарские добродетели: Благородство, Юность, Верность, Учтивость. Их представитель, Страстное желание, был одет «с ног до головы в алый атлас с узором из горящих золотых факелов». Рыцари умоляли дам спуститься к ним, но Презрение и Надменность ответили отказом, и тогда Страстное желание отдал приказ к атаке.
За пределами здания раздались залпы из настоящих пушек, и рыцари обстреляли замок финиками и апельсинами. Дамы нанесли ответный удар розовой водой и леденцами (а у поддельных дам – Презрения и компании – в ход пошли «банты и шары»). Но вот «наконец крепость пала». Презрение и Надменность спаслись бегством, а лорды схватили «благородных дам» под руки и свели их вниз из башен замка, после чего те и другие «вместе исполнили прелестнейший танец». Продуманные па придворного танца соответствовали тщательно спланированным этапам любовной игры, напоминавшим ходы в любой игре на удачу или ловкость. Преуспевающий куртье – будь то мужчина или женщина – должен был демонстрировать мастерство во всем, в том числе в luf talk – галантном языке любви.
Но кто та самая дама, которой удалось на этом замысловатом празднестве пронзить сердце Генриха стрелой любви? Это должна была быть законная жена Генриха, Екатерина Арагонская, с чьей лентой он так часто выступал на рыцарских турнирах. В конце концов, прием был специально организован в честь послов ее королевского дома. Но Екатерина, приближаясь к 40 годам и выходу из детородного возраста, старела понемногу, со степенным благородством, омраченным лишь горьким сознанием того, что она так и не подарила Генриху жизнеспособного сына.
Той дамой могла быть и Мария Болейн, ставшая любовницей короля благодаря своему очарованию и покладистому характеру. И лишь задним числом можно отметить, что на празднестве (и это станет ее первым засвидетельствованным появлением при английском дворе) присутствовала еще одна дама, которая войдет в историю. Брюнетка, отнюдь не слывшая красавицей, но, подобно драгоценному камню, отшлифованная до яркого блеска в юности, которую провела при нескольких европейских дворах. Искусная актриса и меткая лучница, чьи стрелы угодили прямо в сердце Генриха, которая, однако, сама пала жертвой куртуазных причуд.
На исходе вечера гостей ждал пир: кульминация изысканного показательного выступления. Заварные пирожные и цукаты, позолоченные пряники и ароматизированные вина – но сначала актеры сняли маски. Никто из гостей не удивился (как бы искусно они ни изображали изумление) тому, что предводителем лордов оказался сам король Генрих. За маской Красоты скрывалась его сестра, Мария Тюдор. Доброту, как нетрудно догадаться, играла Мария Болейн. Маска Постоянства принадлежала Джейн Паркер, которая вскоре выйдет замуж за брата Марии, Джорджа Болейна, а маска Упорства – их сестре, той самой новенькой при дворе, искусной исполнительнице куртуазного спектакля… звали ее Анна Болейн.
Предисловие
Эта книга повествует о том, как любили Тюдоры – династия, чьи смертельные драмы опровергают мнение, что они были одержимы идеей любви. Династия, в которой последний отблеск Средневековья отразился столь же ярко, насколько забрезжил современный мир, где станет нормой брак по любви (наряду с быстрыми углеводами, денежной экономикой и конституционной монархией).
Однако эта книга посвящена еще и истории куртуазной любви – неуловимого, но всепроникающего идеала, который доминировал в истории европейской мысли в течение многих веков. Именно в этом феномене кроются ответы на самые интригующие вопросы о династии Тюдоров. Зачем Генрих VIII женился шесть раз? Почему Анне Болейн суждено было умереть? Почему фавориты Елизаветы I – Лестер, Хэттон, Рэли и другие – чествовали ее как богиню, сошедшую с небес?
Взгляд на сагу о Тюдорах сквозь призму куртуазной любви как ничто другое проливает свет на самую экстравагантную королевскую династию Англии. Но чтобы отыскать корни этой иллюзии, нужно исследовать период, предшествующий эпохе Тюдоров, – отправиться еще на 300 лет назад. Только восстановив контекст прошлого – далекого прошлого даже для самих Тюдоров, – можно по-новому взглянуть на события, которые могут показаться странными или необъяснимыми, если рассматривать их исключительно с перспективы дня сегодняшнего.
Именно кодекс куртуазной любви сделал возможными столь длительные ухаживания Генриха VIII за Анной Болейн, и в конце концов, вероятно, именно он стал причиной ее падения. Увлечение Анной – своего рода профессиональный риск для всех, кто изучает историю Тюдоров. В процессе работы над этой книгой я поймала себя на том, что вьюсь вокруг нее, как осторожный охотник, в страхе, что сам мой энтузиазм интереса заставит добычу насторожиться и ускользнуть. Однако при всем бесконечном многообразии мнений и теорий о фигуре Анны настоящей ересью для ее истинных сторонников будет утверждение, что ее удивительная судьба – лишь одна из глав очень долгой истории.
То же самое куртуазное вероучение – обновленное и переосмысленное – сыграет незаменимую роль в становлении суверенитета дочери Анны, королевы Елизаветы. В период ее правления эта идея, по всей видимости, издаст последний вздох. Но изучение Тюдоров сквозь куртуазную оптику не только открывает нам новый угол зрения на хорошо известные сюжеты, но и придает новую значимость, к примеру, истории племянницы Генриха, леди Маргариты Дуглас, и так называемой Девонширской рукописи – сборника стихотворений, с помощью которых она общалась со своими друзьями. Куртуазная оптика также проливает новый свет на фигуру сестры Генриха, Марии, на поздние браки Генриха и даже, вероятно, на историю его зятя, короля Испании Филиппа II. Она дает и некоторое понимание максимально запутанной и поэтому малоизученной связи Елизаветы с графом Эссекским в последние годы ее жизни, хотя к этому времени куртуазные идеи приняли вид несколько искаженный.
Помните, какой восторг в детстве вызывал у нас калейдоскоп? Когда впервые его встряхиваешь, подносишь к глазам и наблюдаешь, как крошечные цветные частицы по волшебству складываются в идеальный узор. Примерно таким же образом идея куртуазной любви становится ключом или кодом для большинства любовных союзов, сформировавших XVI век. Я заканчивала эту книгу на фоне глобальной пандемии и переживания тяжелой личной утраты. Но мне придавала сил мысль, что еще никогда на протяжении 20 лет исследования тюдоровской эпохи у меня не было такого сильного ощущения, что эта история хочет, чтобы ее поведали миру.
Куртуазная любовь зарождалась как литературная фантазия – элегантная стилизованная игра, достаточно прорывная, чтобы захватить воображение интеллектуалов, и достаточно масштабная, чтобы в нее ударились широкие массы, лишь смутно постигавшие ее тонкости. В центре этой фантазии находился образ любящего рыцаря, обязанного служить своей даме, – служить, если нужно, без надежды на вознаграждение, поскольку нередко его возлюбленная была замужем за другим или имела более высокое положение в обществе, чем он.
Фантазия совершенно не соответствовала реальности, поскольку дело происходило во времена, когда по закону женщины были вынуждены во всем подчиняться мужчинам, а брак между аристократами оставался лишь вопросом родительских договоренностей, передачи права собственности, династического продвижения и политической необходимости. Но несмотря на это – а может быть, именно благодаря этому, – власть куртуазной фантазии над сердцами и умами европейской элиты очень долго не утрачивала силу. Идее куртуазной любви очень быстро стало тесно в рамках литературы. В конце концов, нам ли в наш век фейковых новостей не знать, что в этом мире нет ничего мощнее интересной истории.
Мечта о куртуазной любви родилась из реальной человеческой потребности: люди были недовольны жесткими ограничениями, которые церковь и государство стремились наложить на область человеческих привязанностей и чувственности. Если правила твердят нам, что брак относится к сфере прагматизма и политики, если удовлетворение полового влечения допустимо лишь в целях деторождения, почему бы нам самим не изобрести законы альтернативной, более приемлемой реальности? Прежде чем стать основой для любовных представлений династии Тюдоров, это мощное воображаемое строение уже простояло более трех столетий. И вполне могло пережить их самих.
Обычно, если в названии книги фигурирует слово «любовь», хочется держаться от этой книги подальше. За таким названием может легко скрываться шоколадный кекс с затхлым запахом фиалкового крема. Тема куртуазной любви, напротив, вызывает живейший интерес своей неоднозначностью. Знаменитый медиевист и автор «Хроник Нарнии» К. С. Льюис в своей программной работе 1936 года «Аллегория любви» характеризовал куртуазную любовь как многовековую силу, в сравнении с которой «Ренессанс – легкая рябь на поверхности литературы»[5]. Тем не менее само ее существование за пределами чисто литературной игры ставится под сомнение многими современными историками. В 1968 году, в эпоху, которая гордилась тем, что стряхнула завесу с вопросов сексуальности, Д. У. Робертсон сетовал, что концепции куртуазной любви недостает интеллектуального веса, а некоторые его коллеги «преподают средневековые тексты под мелодии группы Hearts and Flowers[6]». И многие с ним соглашались – хотя на самом деле сага о куртуазной любви среди прочего повествует о крайних формах насилия, одержимости и эмоциональной жестокости[7].
Мало кто сегодня мог бы предположить – а это игриво изображали литераторы XII века и дотошно исследовали ученые много столетий спустя, – что Алиенора Аквитанская и ее современницы председательствовали в настоящих «судах любви», пытаясь найти ответ на сложный вопрос, может ли любовь, то есть чувство, существующее по свободному велению сердца, в принципе существовать в рамках повседневной рутины супружества. Но отвергнуть эмоциональную силу концепции, лежащей в основе художественной жизни четырех столетий, значит лишить себя доступа к целому спектру переживаний. (Не говоря уже о роли куртуазной любви во взращивании широких представлений о романтической любви, которые до сих пор господствуют в общественном сознании.) Такое лишение самих себя права голоса представляется особенно странным решением на фоне того, как – отчасти из-за пандемии COVID-19 – мир то съеживается, то распахивается перед нами в зависимости от наших собственных представлений о нем, независимо от шума и суеты внешней реальности.
Принципы, которыми руководствовались Тюдоры, и их эмоции заслуживают изучения не меньше, чем законы, которые они принимали, и битвы, в которых сражались. Возможно, некоторый скептицизм по отношению к куртуазной любви объясняет тот факт, что она, по крайней мере теоретически, ставила женщин выше мужчин, да и в целом эмоциональная сфера традиционно считалась чисто женской прерогативой. Другие подходы к тюдоровской или средневековой истории – военный, дипломатический, юридический, конституционный – неизбежно тяготеют к выдвижению на первый план опыта мужчин, которые вели войны и принимали законы.
Биографический подход нередко акцентирует внимание на историях нескольких выдающихся женщин, чья жизнь достаточно подробно описана. Но таким описаниям зачастую недостает информации о внутренней жизни героини, которая остается для нас такой же двухмерной, как иллюстрация в старинной рукописи. Несколько лет назад в процессе работы над книгой «Сестры по крови: женщины, стоящие за Войной Алой и Белой розы» (Blood Sisters: The Women Behind the Wars of the Roses) меня болезненно поразила история Сесилии Невилл – матери Эдуарда IV и Ричарда III. Хотя нам известно, что ей пришлось стать свидетельницей казни одного из ее сыновей, герцога Кларенса, по приказу другого сына, а третьего подозревали в убийстве ее внуков, Тауэрских принцев, мы не располагаем никакими свидетельствами о том, что она по этому поводу думала или чувствовала, на чьей была стороне. Вероятно, одна из причин нашего непреходящего увлечения Тюдорами заключается в том, что для их эпохи острый дефицит доступных исторических источников внезапно сменяется обильным пиршеством: это позволяет нам не чувствовать себя жертвами досадной неопределенности.
Вместо того чтобы подвергать сомнению обоснованность идеи о куртуазной любви, лучше поразмыслить о ее пользе – прежде всего, для самой династии Тюдоров, воспользовавшихся старыми историями, чтобы укрепить доверие к новому режиму. И хотя, оглядываясь назад, мы можем заключить, что они положили начало современной эпохе, сами Тюдоры страстно желали изобразить себя легитимными наследниками долгой и благородной традиции средневековой монархии. Какими бы перспективными новшествами ни отличалось правление Генриха или Елизаветы, монета, которую они разыгрывали, – именно прошлое, а не будущее. Куртуазные идеи были полезны и для женщин, изо всех сил пытавшихся найти свое место в авантюрном XVI веке и жадно державшихся за кодекс, который, казалось, дарил им не только автономию, но и превосходство.
Сегодня изучение куртуазного кодекса полезно еще и для тех, кто стремится проникнуть в сознание средневекового человека. Оно дает нам редкую возможность говорить с Тюдорами на равных, наслаждаясь одними и теми же произведениями исторической беллетристики. Они, как и мы сегодня, были потребителями куртуазных фантазий. До нас не дошло ни одной иллюстрации осады Зеленого замка на пиршестве 1522 года, но мы можем составить представление о ярком образе, который вдохновил его создателей.
На 300 с лишним великолепно иллюминированных пергаментных листах Псалтыря Латтрелла, созданного по заказу благородного господина из Линкольншира в первой половине XIV века, группа безвестных иллюстраторов, дав волю воображению, изобразила идеализированные сцены повседневной жизни, размышления о карьере и рыцарстве сэра Джеффри Латтрелла и странные фигуры полулюдей-полуживотных, с помощью которых Средневековье выражало темную сторону своих догматов. Среди прочего художники изобразили и осаду Замка любви: образ, уходящий корнями в башни и форты неприступного целомудрия Девы Марии. Пока рыцари в позолоченных доспехах деловито пытаются взобраться на стены башни, укрывшиеся в ней дамы энергично (хоть и не очень эффективно) защищаются, сбрасывая из башни цветы. Создается впечатление, что рыцарям не составит труда взять этот замок. Но вот следует ли им это делать… Именно этот вопрос отражал суть куртуазной идеи, хоть и казалось, что к XVI веку он уже разрешился в пользу мужчин.
Осада Замка любви – это образ, скорее взывающий к фантазии, чем призванный отражать реальность. Столетие спустя появится еще один образ, который, на мой взгляд, послужит той же самой цели. На одной из створок так называемого триптиха Верля, созданного в Кёльне в 1430-х годах, а сегодня хранящегося в мадридском музее Прадо, предположительно, изображена святая Варвара за чтением. (Средневековые изображения читающих женщин-святых встречаются на удивление часто, что, конечно, внушает оптимизм.) Поглощенная книгой, одетая в роскошную, но удобную одежду, она восседает на пышных подушках, рядом с ней в вазе стоит ирис, а за спиной в камине горит огонь. Окно ее комнаты открыто, за ним в отдалении видна строящаяся башня – место ее будущего заточения. Именно по этой детали можно идентифицировать девушку как святую Варвару, чей отец-язычник запер ее в башне, тщетно пытаясь уберечь от пагубного влияния кавалеров и христианства.
Мы можем предположить, что книга, которую девушка поднесла к лицу, посвящена христианской теологии, но при этом и книга, и открытое окно символизируют воображение, отпущенное на волю. Напрашивается параллель с современным миром, но это одна из ловушек, в которую очень легко угодить историку, если тот будет игнорировать глубочайшие различия в убеждениях между нами и людьми той эпохи. И все же трудно здесь не задуматься о нас сегодняшних – о любом современном начитанном подростке с развитым воображением.
От триптиха из музея Прадо и башни XIV века перенесемся в 1970-е в провинциальный английский кинотеатр «Одеон» – такой вот прыжок сквозь столетия. Но не будем забывать, что эта книга повествует еще и о долгой загробной жизни призрака, именуемого куртуазной любовью, а тот самый начитанный подросток впервые познакомился с ней среди потертых ковров и коробок с пакетированным соком на утреннем субботнем сеансе фильма-мюзикла «Камелот» (Camelot).
Эта лента впервые вышла на экраны в 1967 году, а потом из года в год возвращалась в прокат и стала для меня первым по-настоящему важным фильмом. Я мечтала походить на королеву Гвиневру в исполнении Ванессы Редгрейв в сверкающих белых мехах и посеребренных перчатках, обожаемую двумя мужчинами, из слегка ироничной фантазии Лернера и Лоу[8]. А главное – я была слишком молода, чтобы осознать эту иронию. Но очень хотела иметь такие перчатки. Ну что сказать: Средневековье встретилось с космической эрой.
Разумеется, дальше я посмотрела «Тысячу дней Анны»[9] с Женевьев Бюжо в главной роли, где трагедия оборачивается триумфом. А еще девчонки моего поколения выросли на телерекламе, в которой мужчина проделывал разные рискованные трюки, чтобы исполнить желание требовательной возлюбленной. Слоган гласил: «И всё это – ради любви леди… к батончикам Milk Tray». Путь от двора Тюдоров до Камелота не такой уж и длинный – на самом деле, в свое время его проделали сами Тюдоры. Путь от рыцарского кодекса чести до приторного шоколадного батончика может показаться подлиннее. Но таков он, этот призрак. Именно так он и работает. Плотно закройте все двери, повесьте решетки на окна, но призрак куртуазной любви все равно будет тут как тут.
Хорошо это или плохо, но сама идея – идеал – все еще жива, несмотря на то, что ее стандартизировали до неузнаваемости в романах, фильмах и песнях (как классических, так и популярных – можно сказать, от средневековых манускриптов до Мита Лоуфа[10]). Всепроникающая романтическая одержимость, называемая куртуазной любовью, до сих пор управляет нами. В ее долгой истории кроется великий вопрос: продлится ли волшебство? Выживет ли оно в браке, особенно в его сегодняшнем варианте? Куртуазная литература берется и за другие головоломки. Должна ли любовь причинять боль? Должен ли я любить кого-то только потому, что он любит меня?
Призрак куртуазной любви – это движущая сила наших самых опасных романтических установок и самых традиционных знаков внимания. Он был рядом, когда на палубах «Титаника» места в спасательных лодках первыми занимали дамы. Он и сегодня дает о себе знать всякий раз, когда мужчина открывает дверь перед женщиной. Он появляется на взлетной полосе в «Касабланке», когда Хамфри Богарт передает Ингрид Бергман мужу и гордо отворачивается, облагороженный любовью, словно какой-нибудь рыцарь из глубины веков. Все тот же призрак маячил на горизонте, когда Уильям Батлер Йейтс восхвалял в стихах ирландскую революционерку Мод Гонн – «наполовину дитя, наполовину льва», новую Елену Троянскую, чья «мощь красоты, натянутой, как лук»[11] сразила его наповал, в конце концов променявшую его на другого:
- За что корить мне ту, что дни мои
- Отчаяньем поила вдосталь, – ту,
- Что в гуще толп готовила бои…[12]
Если перейти от возвышенного к земному, а то и слегка нелепому, – вероятно, все тот же призрак дал о себе знать, когда принц Гарри заявил британскому двору: «Меган хочет – Меган получает».
Возможно, именно в этом кроется одна из причин нашей очарованности Тюдорами: мы узнаем в них эту до боли знакомую игру, только сыграна она до последнего, фатального предела. Но изучение куртуазного кодекса также может помочь нам (особенно женщинам) понять немало собственных глубинных установок. Романтическое заблуждение, у которого мы до сих пор в плену, предлагало женщинам власть в эпоху, когда на самом деле у них ее не было и в помине. Но эта власть – смертельная ловушка.
Если у мужчины было право действия и свобода выбора, то женщине полагалось быть пассивным идеалом. И хотя в парадигме куртуазной любви разделение женщин на «мадонн и блудниц» упразднялось, женщина все равно считалась либо целью, либо наградой, либо богиней, либо уже обретенным, доступным трофеем. То есть вещью одноразового употребления. Анна Болейн не стала последней из тех, кто обнаружил, что ее образ меняется от одного к другому, во время романтической истории со своим известным возлюбленным. И сегодня, когда мы подвергаем сомнению многие наши установки об отношениях между полами, именно в этой сфере необходима общественная дискуссия, причем чем скорее, тем лучше. Система романтической любви, которая, казалось, подтверждала право женщины на физическую неприкосновенность, в конце концов привела к нормализации «символического» сопротивления (которое в итоге нам предстояло преодолеть) как части куртуазной игры. Тщательно исполненный спектакль отказа дамы становится просто одним из ходов на игральной доске.
В то время я не могла этого знать, но, когда киношники начали работать над своими магическими иллюзиями о Гвиневре и Анне Болейн, Жермен Грир[13] работала над книгой «Женщина-евнух». Феминистки середины и второй половины XX века, по-видимому, считали важным исследовать тему куртуазной любви во всей ее сложности. В главе «Миф среднего класса о любви и браке» Грир отмечает, что «не так давно господствовало совершенно иное представление о любви, не только отличное от добрачного ухаживания, но и совершенно враждебное браку».
Я родилась в 1960-е годы, с которыми так прочно ассоциируется феминизм Грир, и принадлежу к поколению, которое выросло, зная, что наши матери боролись за право сказать «да». За право быть теми, кто задает вопросы. Чего не хватало нам, так это права сказать «нет»: проблема, к которой только в наши дни удалось подступиться движению #MeToo. Мировоззрение, которое дотянулось до нас сквозь века, со времен зарождения куртуазной любви, казалось, было в состоянии вернуть нам это право, хотя цена могла оказаться весьма высокой.
Несмотря на то, что главной целью куртуазного искательства обычно провозглашалась дама, ее линия как самостоятельного персонажа могла быть поразительно неразвитой. А все, что позиционирует женщину главным образом как объект сексуального влечения, или «сексуальный объект», создает климат, в котором может иметь место сексуальное насилие[14].
В книге «Придворный», вышедшей в эпоху Тюдоров, Бальдассаре Кастильоне утверждал, что женщина должна «придерживаться некой трудной середины, словно составленной из вещей противоположных, доходя в точности до некоторых границ, но не переступая их»[15]. Сегодня каждое дело об изнасиловании на свидании показывает, насколько трудным остается поиск этой середины по сей день. Стоит ли удивляться, что мощный натиск таких неоднозначных напутствий сбивал с толку впечатлительных девушек?
Один из друзей молодости принцессы Дианы Спенсер рассказывал, что в 1970-е она без конца просила его возить ее на машине вокруг Букингемского дворца. Она говорила, что было бы очень здорово выйти замуж за принца Чарльза, «как Анна Болейн или Гвиневра». То, что уровень образования леди Ди был весьма ограниченным, – это известный факт, но могла ли она не знать, как кончили эти двое? Одной отрубили голову, другая балансировала на грани между сожжением на костре и заточением в монастырь. Скорее всего, Диана все-таки это знала, но все равно видела в них фигуры, чье мифическое влияние придавало им определенное могущество. Кто бы наставил тогда на путь истинный бесцельную, но не лишенную амбиций молодую девушку… Вероятно, мы с ней, принадлежа к одному поколению, просто смотрели одни и те же фильмы.
Любопытно, что Гвиневра наравне с Анной Болейн – главные героини моей истории. Это были женщины, которые отказались оставаться на вторых ролях.
Дил, графство Кент,январь 2021 года
Часть I
Истоки
Куртуазность, куртуазия (Cortezia, cortoisie) – добродетели влюбленного в виде свода правил поведения при дворе, которым необходимо следовать.
Джон Гауэр. Исповедь влюбленного, ок. 1389
- Чего она желает, то и я.
- Когда присядет, рядом преклоню колени.
1
Кретьен, графиня и капеллан: XII в.
На протяжении веков «королева былого и грядущего» появлялась в разных обличьях. Однако главный образ жены короля Артура, королевы Гвиневры, среди дошедших до наших дней был создан Кретьеном де Труа при дворе графа Шампани во второй половине XII века.
- Увидел рыцарь, как она
- К нему склонилась из окна,
- Что под железною решеткой.
- Ее приветствует он кротко,
- Она ответствует ему.
- Взаимна страсть, и потому
- В речах, которые вели,
- Вы б ноты фальши не нашли,
- Была чужда обоим низость.
- В мечтаньях предвкушая близость,
- Друг друга за руки держали,
- Но ближе быть могли едва ли,
- Сердились в сердца глубине,
- Кляня решетку на окне[16].
На ней были – описывает Кретьен в своем «Ланселоте» – «сорочка белого белей» и «короткий только плащ прекрасный, подбитый мехом, ярко-красный»[17]: вероятно, это эквивалент моих вожделенных перчаток из фильма «Камелот»! Ланселот похваляется, что, если королева позволит ему попасть в свои покои, его не удержит железная решетка на окне. И хотя железо рассекает плоть его пальцев, он не чувствует боли и вырывает мощные прутья из оконного переплета.
- И королева жестом плавным
- Ему объятья распахнула
- И сразу к сердцу притянула,
- Когда на ложе увлекла.
- Она героя приняла
- Тепло, и ласково, и страстно,
- Зане Любви в ней всё подвластно,
- А так велела ей Любовь.
- Пьянило счастье Ланселота,
- Ведь государыня с охотой
- Горячим ласкам отвечала,
- В свои объятья заключала,
- А он держал ее в своих.
- Ему был сладок всякий миг
- Лобзаний, ощущений нежных,
- И в наслаждениях безбрежных
- Такой восторг объял его,
- Что о подобном ничего
- Не говорили, не писали.
- Я умолкаю, ведь едва ли
- Повествовать об этом след.
- Но радостей на свете нет
- Изысканнее, слаще сих.
- Рассказ мой умолчит о них[18].
Странность этого пассажа бьет наотмашь, как пощечина. Замужняя женщина в пяти минутах от адюльтера – причем с лучшим другом мужа – подается как идеал красоты и чуткости? Масла в огонь подливает и абсурдность происходящего: любовь Ланселота к Гвиневре – куртуазная любовь – достигает такого градуса ослепления, что сегодня выглядит абсолютным сумасшествием.
Ранее по ходу истории Ланселот находит на обочине дороги гребень с прядью золотых волос королевы на зубьях и заводит песнь:
- Благодаря в душе судьбу,
- К глазам, к устам, к лицу, ко лбу
- Он подносил ее и млел,
- И от восторга пламенел[19].
Кретьен пишет, что Ланселот не обменял бы прядь волос королевы и на целую телегу драгоценных камней. Он наблюдает за Гвиневрой в окно и, дождавшись, когда та исчезнет из поля зрения, пытается вылезти из окна и разбиться на смерть о землю. Потом ради ее любви он подвергает себя позору, забравшись в телегу для перевозки обычных преступников (отсюда альтернативный титул Ланселота – «Рыцарь телеги»). Гвиневра еще и винит его за то, что, прежде чем сделать это, он на мгновение помедлил. Дальше, чтобы спасти ее, он, окровавленный, ползет по мосту, состоящему из клинков мечей, и – самое сложное – подчиняется приказу королевы, чтобы угодить ей, изо всех сил стараться не победить, а проиграть на турнире[20].
Церковь считала женщин дочерьми грешной Евы: Тертуллиан называл их «вратами дьявола», а святой Иоанн Златоуст – самым опасным среди всех диких зверей. И все же Ланселот Кретьена, покидая покои Гвиневры, преклоняет перед ними колени, словно перед религиозным святилищем. Для средневекового общества, в котором командует церковь и доминируют мужчины, это выглядит крайне необычно и приводит в замешательство даже по современным меркам – ведь историю Ланселота и Гвиневры на протяжении многих лет рассказывали бесчисленное количество раз и продолжают пересказывать по сей день[21].
На протяжении более чем 800 лет тайны куртуазной любви не перестают очаровывать нас. Мы продолжаем впечатляться и некоторой абсурдностью происходящего (все-таки надо признать, что их губы рановато соединились в поцелуе), и центральной дихотомией «страсть против принципов» – или, скорее, того места, которое на самом деле занимали высочайшие принципы или долг. Однако во времена, когда в реальном мире у женщин было юридическое положение движимого имущества, а замужней даме, заводившей любовника, грозили роковые последствия, все международное аристократическое общество склонило голову и вдохнуло пьянящий запах этой причудливейшей фантазии.
Что же все-таки стояло в те времена за понятием «куртуазная любовь» – или куртуазия, куртуазность, галантная любовь? (Термин «куртуазная любовь» вошел в обиход только в XIX веке.) Социальный ритуал? Коллективная фантазия? Игра? В пользу последней свидетельствует распространенная среди современников аналогия культа любви с игрой в шахматы. Само это явление зародилось как устная литературная традиция трубадуров, которые с конца XI века буйным цветом расцвели на юге Франции, сочиняя на родных языках из группы ланг д’ок. До нас дошло около 450 имен поэтов-лириков – бунтарей и рок-звезд своего времени (в том числе около 20 женщин– трубадуриц (trobairitz)), которые нередко обретались в аристократическом обществе и осмеливались свободно комментировать принятые в нем порядки и религиозные догматы.
Вскоре в Северной Франции появились свои поэты – труверы, сочинявшие на языках ланг д’ойль; а через некоторое время те же идеи распространились по землям Италии и среди германских миннезингеров. Сочинение Кретьена де Труа было переведено не только на немецкий, но и на средненидерландский, древневаллийский и древненорвежский языки. Популярные песни о деяниях (chansons de geste) – эпические сказания о подвигах, рассчитанные на мужскую аудиторию, – приобретали более утонченные оттенки любовных песней (chansons d’amour) и романов, которые сочетали военные приключения, обожание дам и стремление к нравственной цели, а нередко и элементы сверхъестественного.
Куртуазная любовь развивалась в условиях того века, в котором зародилась. (Что интересно, отголоски части этих условий будут звучать и в эпоху Тюдоров.) Служение влюбленного даме сердца было построено по образцу феодального договора, который устанавливал, в чем состоит служение виллана своему господину или рыцаря – королю. К. С. Льюис указывал, что слово midons, которым влюбленный обращался к своей даме, «этимологически восходит к обращению „мой господин“, а не „моя госпожа“»[22]. Трубадур Бернарт де Вентадорн, сопровождавший Алиенору Аквитанскую в Англию, в одной из песен обещает служить своей даме «как служил бы доброму господину».
Но и сам феодализм не стоял на месте. Часть ученых считает, что к этому моменту он начал приходить в упадок: управление становилось все более централизованным, экономика – все более денежно-ориентированной, а главное – в рядах дворянства появлялись все новые люди. Новоиспеченная знать была кровно заинтересована в мировоззрении, утверждавшем, что благородство основывается не на происхождении, а на поступках. Именно это явление стало одной из основ эпохи Тюдоров.
Это был период, когда, по мнению медиевиста Д. Д. Р. Оуэна, у западной цивилизации «появилась потребность в переоценке». Происходил широкомасштабный сдвиг от общественного к частному, внимание постепенно смещалось на личные чувства, индивидуальный образ действий. Исследователь эпохи Возрождения Стивен Гринблатт назвал этот процесс формированием нового «я»[23]. Так называемый «ренессанс XII века» предвосхитил «перерождение» Европы несколько веков спустя, не в последнюю очередь благодаря новому пониманию текстов классической античности, получившему развитие в течение последовавших столетий.
«Ренессанс XII века», помимо строительства величественных готических соборов, ознаменовался развитием письменности на местных языках, которое породило новый рынок читательниц, не владевших латынью. Большая игра куртуазной любви была частью общего смягчения нравов, характерного для периодов, когда люди начинают жить лучше, больше читать и путешествовать. В эту эпоху церковь и зарождающиеся национальные государства стремились направить ничем не стесненный класс конных воинов либо в крестовые походы на Святую землю (похожие на походы рыцарей Камелота), либо на более безопасные и регулируемые рыцарские турниры. Нетрудно догадаться, насколько полезны для пропаганды могли оказаться истории о короле Артуре. Еще одним источником компенсаторной фантазии о куртуазной любви стало социальное устройство аристократического общества, которое характеризовалось огромным дисбалансом между полами[24]. В средневековом замке, где даже домашнюю работу в основном выполняли мужчины, их численность могла превосходить количество женщин даже в десять раз. В XII веке это явление усугублялось походами на Святую землю, когда женщины оставались управлять хозяйством за мужчин. Этот дисбаланс продолжал наблюдаться и при королевском дворе, а позже стал особенно заметен при Елизавете I, которая, несмотря на собственную принадлежность к женскому полу, предпочитала, чтобы ее придворные не объединялись в пары.
Вопреки всем предписаниям церкви и феодального общества о сексе и браке, куртуазная любовь стала своего рода жестом против того, что сегодня принято называть «суровым авторитарным миром с мужским доминированием». Причем доминированием как политическим, так и внутрисемейным. Возможно, неслучайно мечта о куртуазной любви зародилась как раз в тот момент, когда обществом все сильнее завладевал институт брака, соседствовавший с культом безбрачия. Лишь к концу XI века брак стал священным таинством, которое мог отправлять только священник, а безбрачие – обязательным требованием ко всему духовенству. В результате женщины все больше лишались прав и возможностей. Главное событие их жизни – брак – попадало под контроль церкви, которая считала их агентами греховной сексуальности. К тому же у женщин становилось все меньше возможностей получать образование и заниматься наукой, которые теперь сосредоточились в новых, исключительно мужских университетах.
Согласно догматам церкви, Ева была слабой, греховной стороной Адама. В куртуазной литературе, напротив, дама превозносилась как арбитр, третейский судья и даже повелительница, морально превосходящая мужчину. Возможно, такую реакцию вызывало неприятие любой сексуальности, которое церковь проявляла с XII века. В XIII веке монах Винцент из Бове напишет, что «мужчина, очень сильно любящий жену свою, есть прелюбодей»[25]: да, конечно, прелюбодеяние было злом, но не меньшим злом считались и радости брачного ложа. Неудивительно, что люди, которым, как известно, свойственно ошибаться, узнали, что любое удовольствие от секса греховно, и решили, что в таком случае один грех ненамного хуже другого.
Кроме того, куртуазная любовь рассматривалась как мирской эквивалент культа Девы Марии – ее называли «религией мирской любви». (Исследователь Роджер Боуз считал трубадуров «предвестниками Реформации».) В XII–XIII веках культ почитания Богоматери становился все популярнее, причем в персонифицированных, почти эротических выражениях его насаждали писатели-мужчины. Святой Бернард Клервоский, основатель-реформатор цистерцианского ордена, ратовал за более чистую веру, в которой Мария призвана быть заступницей человека перед Богом, а рыцарей святого Бернара величали «рыцарями Марии».
Согласно еще одной теории, куртуазная любовь «выросла из катарской и альбигойской ереси». Движение катаров достигло расцвета на юге Франции как раз во времена зарождения куртуазных идей и терпело все бо́льшие гонения, когда они достигли своего апогея. Катары, как и трубадуры, выступали против папства и ратовали за возвращение к «простоте и чистоте» апостольской церкви. По мнению Боуза, катары «проповедовали половое воздержание и в идеальном мире отказались бы от брака, который узаконивал половую жизнь». Куртуазная любовь, «будучи целомудренной и прелюбодейной» одновременно, идеально отвечала их требованиям.
Часть верований катаров, например отрицание верховенства папы римского, чтение молитв за умерших и вера в чистилище, перекликается с доктринами реформаторского протестантизма. Во многом движение катаров обязано поддержке знатных дам, которые сыграли не менее важную роль в движении за церковную реформу в начале XVI века.
Куртуазная любовь даже рассматривалась (хотя свидетельства этому весьма скудны) как один из пережитков языческого культа Кибелы и дохристианской матриархальной традиции Северной Европы, предписывавшей почитать женщину за божественную силу. Еще одна версия гласит, что куртуазная любовь произошла от народных традиций и ритуальных танцев Европы, особенно тех, что были связаны с ритуалами весны. Песни трубадуров о кельтском празднике костров, отмечавшемся первого мая, традиционно высмеивали брак. Ассоциация с весной все еще лежит в основе наших представлений о любви. Как мы очень скоро убедимся, та же ассоциация характерна и для периода династии Тюдоров – хоть это и походило порой на заевшую пластинку.
Однако самая распространенная теория происхождения куртуазной любви утверждает, что ее завезли на юг Франции из мавританской Испании, находившейся под сильным влиянием культуры, поэзии и философии арабов, которые долгое время правили на большей части полуострова. Явные переклички можно заметить в музыке и музыкальных инструментах, рифмах и поэтических формах – даже в том самом использовании формы мужского обращения к даме, в акценте на «патологической природе любви», в возвеличивании дамы и подчинении поэта, а также в особой тяге к таинственности. Даже сам глагол trobar («сочинять стихи»), от которого происходит слово «трубадур», по одной из версий, происходит от арабского tarab («музыка» или «песня»). Влиятельный персидский мыслитель Ибн Сина, известный на Западе под именем Авиценна, заявлял в XI веке: если человек «любит благую форму по умственным соображениям» – в противоположность «животному желанию», – «то это следует расценивать как приближение к высшему благу и преумножение доброты». А его современник Ибн Хазм в трактате «Кольцо голубя» изображает не только веру в облагораживающую силу любви, но и безрассудные требования дамы, подобные тем, что Гвиневра предъявляет Ланселоту.
Между маврами и христианами существовала масса точек соприкосновения, проложивших путь изустному обмену идеями, – вплоть до династических браков. В 980 году король Наварры выдал свою дочь замуж за аль-Мансура, и она «впоследствии стала ревностной последовательницей ислама». Ричард I Львиное Сердце пытался выдать свою сестру за брата Саладина. К тому же Ричард I был автором проникновенной поэзии. Однако в Аквитании его обвиняли в том, что он похищал жен и дочерей подданных «силой и делал их наложницами», а потом передавал их своим людям. Так что у рыцарства была своя темная сторона. В каждую княжескую свиту входили мавританские музыканты, а целых два выходца из христианских королевских семей отпраздновали свадьбу во дворцах арабских принцев. В следующие столетия мавры и христиане часто оказывались в состоянии военных конфликтов, достигших кульминации в конце XV века, когда Фердинанд и Изабелла изгнали арабов из Испании. Тем не менее дочь Фердинанда и Изабеллы Екатерина Арагонская выросла среди садов, наполненных звуками журчащих фонтанов и чарующей мавританской поэзии, которую оставили после себя арабы, – садов Альгамбры.
Все эти теории вовсе не противоречат друг другу. Чтобы породить столь необычайное общественное явление, потребовалось стечение самых разных обстоятельств. Куртуазная любовь возникла из противоречий и парадоксов[26]. Как ни странно, именно эта гибкость наших представлений о куртуазной любви позволяет ей не терять актуальность по сей день.
Возвеличивание женщин в куртуазной литературе не привело к реальному улучшению их положения – юридического, экономического или физического. Мужчины, самодовольно внимавшие куртуазным историям, похоже, не чувствовали никакого побуждения перевести свои моральные принципы на язык неудобной действительности. За одним лишь исключением…
К чему привели эти истории – так это к осознанию своих возможностей: если не в представлениях рыцаря, то хотя бы в представлениях дамы.
* * *
По мере распространения куртуазной любви по свету в ее русло вливались разнообразные течения: одним из самых широких оставался пласт легенд о короле Артуре – не только о Камелоте, но и о Тристане и Изольде[27].
История короля Артура сама по себе была известна задолго до версии Кретьена де Труа, хоть он и добавил ей романтического звучания. Легенды о короле Артуре восходят к кельтскому военачальнику V или VI века, защищавшему Британию от саксонских завоевателей. Но валлийский священник Гальфрид Монмутский в своем труде «История британских королей» (Historia Regum Britanniae) придал им гораздо больше убедительности для эпохи Средневековья. Вероятнее всего написанный в 1130-е годы, труд Гальфрида сегодня по большей части читается как художественное произведение. Но в то время он воспринимался как первая авторитетная и исторически правдивая версия истории короля Артура.
Произведение Гальфрида Монмутского стало настоящим бестселлером. До наших дней оно дошло примерно в 200 средневековых рукописях, тогда как большинство текстов тех времен дошли только в двух-трех сохранившихся списках – даже «Кентерберийские рассказы», написанные столетия спустя, сохранились всего в 84. Гальфрид нечасто упоминает жену короля Артура Гвиневру, несмотря на то, что ее измены и бесплодие сыграли важную роль в падении его королевства. Однако в самых ранних текстах она все же появляется довольно часто: в основном в образе волшебницы, чудотворицы или персонажа, символизирующего ярость или могущество. Большой перечень имен жены короля Артура фигурирует в средневековых рукописях валлийских триад[28]: дочь Гурыта Гента Гвенвивар, дочь Утыра, сына Грейдьяула, Гвенвивар, дочь Огрвана Гавра Гуенхивар. Но лишь в романе Кретьена де Труа Гвиневра обретает тот самый образ романтической героини, к которому стремилась любая средневековая дама. И только Кретьен выводит на сцену возлюбленного Гвиневры – Ланселота, а также впервые описывает Камелот. С самых первых легенд Гвиневру вновь и вновь похищают – с ее согласия или без такового: то потусторонний правитель «летней страны» Мелвас, то племянник Артура Мордред. (В самых ранних легендах о Гвиневре ей приписывают адюльтер не с Ланселотом, а именно с Мордредом. В одной особенно жуткой истории Мордред окажется заперт в камере с разлагающимся трупом Гвиневры до тех пор, пока его не заставят им отобедать.) Если Гвиневра соглашается на свое похищение или соблазнение, ее осуждают как жену-изменницу, представляющую опасность для королевства. В романе Кретьена Гвиневру тоже похищают, но лишь затем, чтобы ее спас величайший рыцарь собственного мужа. И поскольку это была игра по новым правилам куртуазной любви, Гвиневра и Ланселот не считаются виновными в последующем прелюбодеянии, а напротив, превозносятся за особое любовное рвение.
Конечно, зачастую остается неясным, приводила ли страсть куртуазных влюбленных к реальному, физическому прелюбодеянию. Один из первых трубадуров, знатный Джауфре Рюдель, известен тем, что придумал концепцию любви на расстоянии (дословно: издалека, amor de lonh), но при этом ему принадлежат строки: «Я предпочту любить и трепетать за ту, / Что не откажется от своей награды». В этом вопросе куртуазная литература существенно отличается на разных территориях, от практических любовных руководств у французов до более поздних образцов духовных высот у итальянцев. Противоречия по этому вопросу могут встречаться даже в рамках одной и той же истории.
Вновь и вновь в легендах о короле Артуре дама, находящаяся в опасности, обращается к рыцарю за защитой и получает ее. При этом дамы одновременно фигурируют в легендах в качестве рыцарского трофея и предмета обмена. Явление куртуазной любви представляло и опасность, и возможность для женщин – точнее, для дам, поскольку женщинам из низших слоев общества в нем не уделялось практически никакого внимания.
Любопытно, что образ дамы, составляющей предмет одержимости для куртуазного сочинителя, временами бывает до странного неопределенным, будто свидетельствуя о том, что автора больше занимают свои проблемы и эмоциональное состояние. Еще один знатный трубадур, Раймбаут Оранский, сравнивает себя с Нарциссом, который влюбился в собственное отражение, будто почет, который он мог заслужить одним фактом любви, не был в конце концов важнее самой возлюбленной дамы…[29]
Однако история куртуазной любви никогда бы не обрела своего воплощения без покровительства одной знатной дамы и ее семьи.
Многое в тексте Кретьена остается туманным, но предельно ясно одно. В предисловии к «Ланселоту» он заявляет, что «сюжет и замысел сказанья»[30] ему подсказала его покровительница Мария, графиня Шампанская, дочь Алиеноры Аквитанской от первого мужа, Людовика VII Французского. В прологе к «Ланселоту» в образцовом куртуазном стиле Кретьен изображает самого себя послушным исполнителем приказаний Марии («владычицы Шампани») «как раб усердный госпожи»[31].
Родившаяся в 1145 году, Мария Французская еще в детстве осталась на попечении отца после расторжения брака родителей. Потребность Людовика заручиться союзом с могущественным графством Шампань привела к тому, что Марию обручили с графом Генрихом Щедрым, чья территория приобретала все большее значение в товарообмене тканями, красителями и предметами роскоши, такими как меха, специи, лекарства, монеты – и идеи. Сначала Марию отправили в аббатство шампанского городка Авене учиться, а в 1164 году она стала графиней Шампани.
Двор графской резиденции в Труа становился одним из важных литературных центров. Мария, как и ее муж, была покровительницей литературы, однако если граф предпочитал религиозные тексты на латыни, то Марию больше интересовали сочинения на местном языке. Именно при дворе графа Шампани работал Гас Брюле, один из первых и самых известных труверов, воспевших куртуазную любовь.
Незадолго до того, как в 1179 году муж Марии, Генрих, отправился паломником на Святую землю, двор посетил валлиец Вальтер Мап. Он прибыл из Англии, где ему приписывали авторство «Ланселота» в прозе – или его перевод по заказу короля. Мап, несомненно, мог быть одним из распространителей артуровских сюжетов. В отсутствие мужа Мария была назначена регентом: ту же роль она впоследствии исполнит вновь от имени малолетнего сына (Генрих умер вскоре после своего возвращения в 1181 году).
Вероятно, поэма Кретьена была написана во время паломничества Генриха или незадолго до него. Мы многого не знаем о Кретьене, в том числе о его отношениях с Марией. Именно она поручила ему создать роман о «Ланселоте», однако, написав около 6000 строк, он прекратил работу и предоставил другому сочинителю дописать еще тысячу, вероятно, сочтя тему непристойной. Однако гипотетически этому может быть еще одно объяснение.
У Марии был сводный брат – англичанин Генрих, сын от второго брака ее матери Алиеноры с Генрихом II Английским. Он умер, не успев взойти на английский престол, и остался в исторической памяти под именем «Молодой король»[32]. Запомнился он главным образом как яркая звезда новомодных рыцарских турниров и как герой сноски на полях истории о величайшем рыцаре Уильяме Маршале, которого его биограф Томас Эсбридж называл Ланселотом во плоти, а другие авторы, постоянно балансирующие между фактами и вымыслом, – источником вдохновения всех остальных Ланселотов, которые скоро появятся на этих страницах.
Безземельный младший сын мелкого дворянина, Маршал поднялся, как и герои множества артуровских сюжетов, благодаря своей доблести, чести и, что немаловажно, амбициям, которые позволили ему стать правой рукой целых пяти королей. Поговаривали, что у Маршала были интимные отношения с женой Молодого короля, королевой Маргаритой. Об этом не сохранилось никаких свидетельств: эта история дошла до нас только благодаря ее гневному опровержению в биографии, написанной по заказу потомков Маршала. Однако между Молодым королем и его давним другом действительно возникла неприязнь, а Маргариту весной 1183 года, незадолго до преждевременной смерти мужа, отправили обратно во Францию.
Мог ли Кретьен отказаться от продолжения романа (или отредактировать текст и выдумать коллегу, на которого можно было возложить вину) не столько из-за своего неудовольствия, сколько из-за того, что тема вдруг стала для него слишком щекотливой? В дальнейшем он написал еще несколько книг об Артуре, и в двух из них Гвиневра предстает в высшей степени обходительной и уступчивой королевой, лишенной каких-либо сомнительных прелюбодейных устремлений. Книгу Кретьена «Ивен, или Рыцарь со львом», в которой герой покидает, а потом вновь завоевывает жену, можно интерпретировать как ниспровержение представлений о куртуазной любви; а в его романе о короле Артуре «Клижес» содержится явное неприятие супружеской неверности.
Тем не менее любовники в «Ланселоте» Кретьена думают и говорят образами из песен трубадуров, а за действиями Ланселота стоит сила моральной правоты. Спасая Гвиневру от (ложного) обвинения в адюльтере и одновременно – из неволи в королевстве Логрес, этим действием он символически освобождает всех подданных Артура.
Но не указывает ли Кретьен читателю еще и на ловушку для женщин? Хотя в Логресе многое делается для защиты дам, по обычаю этой земли любой рыцарь может взять – то есть изнасиловать! – любую даму, если победит сопровождающего ее рыцаря. И, опять же, уровень преданности, который Кретьен изображает в «Ланселоте», настолько низок, что критики до сих пор задаются вопросом, чем же занимался Кретьен: возвеличивал куртуазную любовь или скорее высмеивал ее.
То же сомнение возникает в отношении еще одного великого певца куртуазной любви, чья карьера тоже зависела от графини Марии Шампанской.
Девять хартий 1182–1186 годов, выпущенных при дворе Марии, заверены подписью некоего придворного чиновника Андреаса. Мы не можем быть стопроцентно уверены, что это тот самый Андрей Капеллан, автор труда, известного под названием «О любви» или «О науке учтивой любви», однако в пользу этой версии говорят частые отсылки в книге к Марии и ее окружению, а также тот факт, что в течение нескольких следующих веков автора регулярно называли королевским капелланом, и несколько поколений ученых склонны придерживаться именно этой версии.
Андрей повествует о том, что Мария с матерью Алиенорой и другими видными дамами председательствуют в настоящих «судах любви». В чуть более позднем романе «Мерожис де Портлегез», вышедшем из-под пера другого автора[33], Гвиневра скажет своему мужу: «Все суждения в вопросах любви принадлежат мне».
Вероятно, знаменитые суды любви существовали лишь в форме литературной причуды: не существует никаких свидетельств того, что в это время Алиенора встречалась с Марией. Однако в фантазии Капеллана дамы-судьи призваны выносить решения по таким запутанным вопросам, как, например, возможность любви между мужем и женой по нормам куртуазного кодекса. Мария считает, поскольку истинная любовь должна даваться человеку свободно, а не принуждаться долгом, любовь между мужем и женой невозможна. А вот Эрменгарда Нарбоннская, вынося суждение по другому делу, более тактично отмечает, что «супружеская привязанность и солюбовническая истинная нежность»[34] – это попросту две разные вещи.
Эрменгарде приписывается целых пять приговоров «суда любви». Наследница виконтства Нарбонна, она стала могущественной фигурой политической и культурной жизни, а одним из ее поклонников был правитель викингов Рёгнвальд II, впоследствии провозглашенный святым. Кроме прочего, Рёгнвальд был поэтом, и ему принадлежат такие строки о виконтессе:
- Ты плывешь в ароматах и золоте,
- Свысока наблюдая за нами.
- С плеч спадают шелковые волосы,
- Остроумной улыбкою манишь.
Еще одной судьей была Изабель, племянница Алиеноры Аквитанской, графиня Фландрии и Вермандуа, правившая в тандеме с мужем Ральфом. Однако сама судьба Изабель демонстрирует разное отношение к адюльтеру в литературе и в жизни.
Один из хроникеров XII века повествует о том, как, обнаружив неверность Изабель, Ральф приказал забить ее любовника до смерти и захватил контроль над ее землями – и это всего за несколько лет до вероятной даты написания произведения Андрея Капеллана. Не кроется ли сила куртуазной литературы именно в попытке воздать женщинам в фантазиях то, что было недоступно им в реальности?
Первые две части сочинения Капеллана основаны на труде «Искусство любви», написанном древнеримским поэтом Овидием почти за 1200 лет до этого. На протяжении всего Средневековья, вплоть до эпохи Тюдоров, Овидия очень часто цитировали, копировали и комментировали. На самом деле используемые им любовные образы – стрелы, раны, пламя желания – до сих пор в ходу. Однако, дивясь актуальности и здравому смыслу его любовных советов (например, он советует читателям-мужчинам: не спрашивайте, сколько женщине лет, и никогда не забывайте о ее дне рождения), мы должны помнить, что Овидий известен как писатель-циник, умеющий в нужный момент придать написанному комичность. Что касается Андрея Капеллана, его советы настолько радикальны, а дилеммы, которые он ставит, настолько замысловаты, что, как и в случае с Кретьеном де Труа, его серьезность тоже можно подвергнуть сомнению. Быть может, на самом деле он пытался высмеивать и критиковать крайности, к которым может приводить любовь?
Именно с этим соображением в уме нам следует читать «правила» Капеллана, которые больше напоминают учебное пособие. Так, в книге первой читаем:
5. Полностью избегай любой лжи.
6. Избегай большого количества посвященных в свою любовь.
7. Во всем выполняя волю дам, всегда стремись служить Любви.
В конце концов именно Андрей постановил:
12. Практикуя любовные утехи [секс], не иди против воли своей возлюбленной.
При этом возлюбленной, которой дозволено самой распоряжаться своим телом, могла быть только дама, занимавшая определенное положение в обществе. Если куртуазному любовнику, пишет Капеллан, довелось влюбиться в женщину низшего сословья, следует «не колеблясь, взять ее силой… используя умеренное насилие в качестве надлежащего лекарства от ее бесчувственности». Наряду с концепциями любви с первого взгляда, облагораживающей любви и любви-болезни, идея о том, что есть люди (женщины), которые чего-то стоят, и те, что не стоят ничего, – это еще одна установка, закрепленная куртуазным кодексом и передаваемая из поколения в поколение с молоком матери. Однажды открыв эту дверь, общество уже не могло закрыть ее снова. В более поздней средневековой литературе, одновременно исследующей и разоблачающей куртуазную традицию (например, в текстах, вошедших в манускрипт Carmina Burana[35]), встречаются случаи, когда даже счастливая влюбленная, однажды принужденная к сексу через сопротивление, утверждала, что на самом деле она получила удовольствие.
Именно Андрей Капеллан впервые прямо задал вопрос, подразумевает ли куртуазная любовь секс как таковой. «Чистая любовь, – пишет он, – доходит лишь до поцелуев в губы, объятий и целомудренного контакта с раздетым возлюбленным, но последнего контакта положено избегать, ибо он не дозволен тем, кто желает любить целомудренно». «Смешанная любовь» – тоже достойная, но стоящая на ступеньку ниже чистой любви, – напротив, дозволяла выход «всякому удовольствию плоти, обретая завершение в последнем акте любви».
Вполне возможно, что Андрей Капеллан во второй половине XII столетия так же ловко скомпрометировал общепринятую идею, как либреттист мюзикла «Камелот» Алан Джей Лернер – во второй половине столетия XX. В этом и состоит часто упоминаемый и всегда достойный повторения тезис, что для удачной сатиры требуется высмеять любое общепринятое убеждение. Если же никто не в силах распознать, что именно поднимается на смех, шутку попросту никто не поймет. Кроме того, легенды о короле Артуре, которые шли рука об руку с мечтой о куртуазной любви, вот-вот должны были обрести новое воплощение, став инструментом во вполне реальном деле пропаганды и восславления династии Плантагенетов.
В 1190 году монахи, проводившие раскопки на территории аббатства Гластонбери в Сомерсете – «летней стране» из артуровских легенд, – сообщили, что нашли могилу короля Артура и королевы Гвиневры. Внутри могилы был якобы найден большой каменный крест, который летописец Джеральд Уэльский, как он уверял, «видел собственными глазами». На кресте было вырезано: «Здесь, на острове Авалон, покоится прославленный король Артур вместе со своей второй женой Гвиневрой». Свидетели утверждали, что мужской скелет был гигантского размера, а женский хранил следы былой красоты. Джеральд также повествует о том, что в могиле был найден локон золотых волос, но, «когда один из монахов жадно схватил его и поднял над головой, локон тотчас рассыпался в прах».
Здесь не обойтись без предыстории. С одной стороны, именно в Авалоне (название происходит от имени кельтского полубога Аваллока, правившего подземным миром), по некоторым легендам, Гвиневру заключил в свой замок на холме Гластонбери-Тор король Мелвас. Отвесно возвышаясь над Сомерсетскими равнинами, замок все еще довлеет над местом, где, по легенде, Иосиф Аримафейский закопал святой Грааль. Здесь же издревле отправлялся кельтский языческий культ, поэтому место стало целью первых христианских миссионеров и до сих пор притягивает всех, кто любит благоговейно порассуждать о силовых линиях и энергетических точках земли.
С другой стороны, если перейти к прозе жизни, в 1184 году в Гластонбери сгорело норманнское аббатство. От великолепного сооружения, построенного всего за несколько десятилетий до этого, теперь остались только один предел и колокольня, возвышавшиеся среди пепла. Монахи срочно нуждались в деньгах на восстановление аббатства.
По свидетельству Джеральда, незадолго до своей смерти в 1189 году сам Генрих II указал монахам место для раскопок, основываясь на «свидетельствах из своих книг». Генрих был вторым мужем Алиеноры Аквитанской и первым королем новой английской династии Плантагенетов. Трудно представить лучший пропагандистский ход для его династии, чем связь с самым долговечным мифом Англии. (Три века спустя те же выгоды привлекут Генриха VII.) Да и вечно беспокойным валлийцам, живущим по ту сторону реки от Гластонбери, небесполезно было узнать, что «король былого и грядущего», которым они похвалялись, благополучно умер и никоим образом не собирается оспаривать трон Генриха II[36].
Позже сын Генриха и Алиеноры Ричард Львиное Сердце придумал еще один способ извлечь выгоду из этой истории. В могиле был обнаружен меч короля Артура. В 1191 году, остановившись на Сицилии по пути на Святую землю, Ричард обменялся дарами с правителем Сицилии Танкредом. Тот подарил ему пятнадцать галер и четыре грузовых корабля. Ричард же подарил Танкреду тот самый меч – Экскалибур. Современники явно сочли обмен равноценным. Это был, безусловно, один из ярчайших примеров того, что художественный вымысел мог быть воспринят как неоспоримый политический факт – и поставлен на службу.
В дальнейшем эту игру, в свою очередь, мастерски освоит династия Тюдоров.
2
Реальная политика и «Роман о Розе»: XIII в.
На страницах книги уже несколько раз появлялось имя этой королевы – в качестве матери, жены, святой покровительницы, тетки и даже героини фантазий Андрея Капеллана. Однако Алиенора Аквитанская, безусловно, заслуживает большего, чем простое упоминание в контексте чужой истории. Еще за четверть века до того, как Кретьен де Труа стал придворным поэтом графини Шампани Марии Французской, нормандский поэт с острова Джерси по имени Вас преподнес свой перевод хроники Гальфрида Монмутского на нормандский язык матери Марии, Алиеноре, которая по уровню известности превосходила дочь. Считается, что именно Алиенора «завезла» в Англию идею куртуазной любви, а еще – что она стала источником вдохновения для создания известного образа возлюбленной короля Артура, Гвиневры. В ранних работах Кретьена прослеживаются четкие параллели с реалиями английского двора.
Дед Алиеноры, герцог Аквитании Гильом IX, был одним из первых трубадуров и слагал песни о том, что его Прекрасная Дама в гневе может убивать, а в радости – излечивать больных. (Ему же принадлежат строки: «Жизнь продли мне Бог, я б держал руки лишь под ее плащом»[37], – позволяющие поставить крест на идее о том, что куртуазная любовь всегда была целомудренной и не имела плотских проявлений. В XIII веке его биограф писал, что это был «один из самых галантных мужчин в целом мире, а также один из величайших обманщиков женщин».)
Многое в истории Алиеноры вызывало противоречия еще при ее жизни. Так, во время ее путешествия на Святую землю с первым мужем, королем Франции Людовиком VII, появились слухи о том, что по дороге у нее случился роман с собственным дядей. Ее пагубную страсть (да и само присутствие Алиеноры) считали причиной провала всего крестового похода – подобно тому, как любая женщина, которая оказывалась вовлечена в поиски Грааля, подвергала их серьезной опасности. Когда Алиенора присоединилась к сыновьям в восстании против второго мужа, короля Англии Генриха II, архиепископ Руанский предупредил ее, что она «станет причиной всеобщего краха», подобно тому, как Гвиневру считали виновницей смуты в Камелоте. Профессор Оуэн отмечает, что «на фоне того, как репутация Алиеноры в обществе становилась хуже, постепенно ухудшался и характер Гвиневры [в художественных изложениях]». Но лишь после смерти Алиеноры в 1204 году (последовавшей за 16-летним заточением и другими «приключениями», которые сопровождали ее до глубокой старости) начала по-настоящему складываться окружающая ее имя «черная легенда».
Примерно в 1260 году с легкой руки одного менестреля из Реймса Алиеноре приписали роман с мусульманским лидером Саладином. (Согласно более правдоподобным версиям, она имела любовную связь с Готфридом, отцом ее мужа Генриха.) Одна из легенд елизаветинской эпохи даже гласила, что именно у нее, а не у ее невестки, был роман с Уильямом Маршалом, «заклятым другом» ее сына Генриха.
Еще одна вымышленная история – об убийстве Алиенорой любовницы мужа Розамунды де Клиффорд по прозвищу Прекрасная Розамунда – впервые упоминается в XIV веке, однако наиболее известная ее версия появилась не ранее чем два столетия спустя. В ней Алиенора гонится за Розамундой по лабиринту в небольшом английском городке Вудсток и в конце концов предлагает ей выбор: погибнуть от кинжала или яда. Однако Розамунде из этой легенды еще крупно повезло. Согласно другой версии, опубликованной в XIV веке во французской Chronicle of London, ее обнаженной поджарили между двух костров, а потом положили в кипящую ванну истекать кровью с ядовитыми жабами на груди. Весьма любопытно, что вымышленная Гвиневра подвергается в народном предании примерно такому же изощренному насилию.
Вероятно, именно Алиеноре Аквитанской принадлежит заслуга первоначального покровительства созданию большого французского цикла прозаических романов об Артуре, написанного в начале XIII века анонимным автором или авторами и дошедшего до нас под названием «Вульгата» (Vulgate Cycle).
К тому моменту у артуровской королевы были два лика: темный и светлый. «Вульгата» решала эту дилемму, допуская существование двух Гвиневр: «истинной» и «ложной». Причем ложная приходилась истинной Гвиневре незаконнорожденной сводной сестрой. Ложная Гвиневра соблазняет короля и выдвигает ложные обвинения против настоящей королевы, которую должен защищать Ланселот.
Обвинения, выдвинутые против ложной Гвиневры, в итоге приведут к тому, что реальную королеву приговаривают к сдиранию кожи с головы:
…потому что она объявила себя королевой и носила на голове корону, которую не следовало носить. После этого ей сдерут кожу с ладоней, потому что они были посвящены и помазаны, как не должны быть руки ни одной женщины, если только король не женится на ней по доброй воле и всем правилам.
Когда Гвиневру и Ланселота застают вместе, Артур приговаривает ее к казни на костре. Однако этот суровый приговор встречает всеобщее неодобрение: в конце концов, раньше сам Артур заявлял, что вместо того, чтобы разрешить Ланселоту покинуть двор, он лучше позволит ему любить королеву. Истинная добродетельная Гвиневра, si douce, si debonnaire, et si franc[38], всегда прощает Артуру его суровость и грубое обращение. И хотя разные легенды из цикла «Вульгата» не всегда демонстрируют единодушие по этому вопросу, именно прелюбодеяние с Гвиневрой мешает Ланселоту достичь Грааля и в конце концов приводит к краху Камелота.
Идея куртуазной любви – а может, тень Гвиневры – преследует английских королев. Еще одна невестка Алиеноры, Изабелла Ангулемская, жена короля Иоанна Безземельного, который известен составлением Великой хартии вольностей, возможно, стала покровительницей цикла «Вульгата» в более позднее время. О прекрасной Изабелле ходили мрачные слухи: хотя, как и во множестве других случаев, связанных с молодыми королевскими невестами, несложно представить, что любым ее мнимым прегрешениям имелось оправдание.
Выйдя замуж за Иоанна в 1200 году (в возрасте от 9 до 15 лет), она была вынуждена поселиться в доме то ли одной из его любовниц, то ли его бывшей жены Изабеллы Глостерской, которую он бросил под предлогом необходимости нового политического союза[39]. Неудивительно, что и новая Изабелла нуждалась в поддержке. Во время первой беременности она потребовала присутствия в Англии своего старшего сводного брата Пьера де Жуаньи. Ходили слухи, что у них был роман.
Один из хронистов, современник Изабеллы, утверждал, что ее «часто обвиняли в инцесте, колдовстве и прелюбодеяниях, так что король-муж приказал казнить ее любовников, пойманных с поличным, посредством удушения веревкой прямо в ее постели». Это описание событий следует воспринимать не столько как указание на несомненный адюльтер Изабеллы (реальных доказательств которого не существует), сколько как характерное для описаний такого рода стирание границ между фактом и вымыслом. Или скорее как способ придать факту чаще всего вымышленный, но всегда правдоподобный оттенок женской вины. Тем не менее в 1216 году, после смерти Иоанна, Изабелла не только сбежала обратно во Францию, но и вышла там замуж за человека, который был помолвлен с ее дочерью…
Далеко не последней в ряду королевских жен, обвиненных в чрезмерном продвижении родственников и обогащении, была невестка Изабеллы, жена ее сына Генриха III Элеонора Прованская. Однако, несмотря на ненависть со стороны множества подданных ее мужа и колоссальное недовольство народа во время восстаний 1260-х годов, она пользовалась достаточным доверием короля, который даже назначал ее регентом, когда уезжал за границу.
Благодаря хорошему образованию Элеонора была с детства знакома с литературой провансальских трубадуров, которым покровительствовал ее отец, и сама нередко покупала недешевые тома романистов. Ее невестка и преемница в качестве королевы Англии – еще одна Элеонора, в этот раз Кастильская, – тоже выросла при дворе, славившемся глубоким интересом к литературе, и стала покровительницей и популяризатором книг, в том числе романов о короле Артуре. (Впрочем, это была еще одна королева, любившая деньги сильнее легенд.) Ее муж Эдуард I по прозвищу Молот шотландцев, отвоевавший у Шотландии реликвийный Скунский камень, тоже проявлял большой интерес к Артуру. Он даже обращался к папе римскому с требованием поддержать свою претензию на управление всеми британскими островами по аналогии с «предком». В качестве доказательства он приводил цитаты из Гальфрида Монмутского.
В 1278 году Эдуард и Элеонора отправились в Гластонбери, чтобы еще раз вскрыть многострадальную могилу Артура и Гвиневры и перенести ее поближе к высокому алтарю главной часовни аббатства. Кроме того, Эдуард отвоевал «корону Артура» у поверженного валлийского правителя Лливелина и опирался на связь с королем Артуром, чтобы удерживать Уэльс в подчинении и возводить там свои замки.
С приходом к власти его сына Эдуарда II в 1307 году и бракосочетанием нового короля с Изабеллой Французской интерес королевской семьи к легенде о короле Артуре, как и английская королевская жизнь в целом, примет новый, более драматический оборот.
Впоследствии Изабеллу Французскую будут критиковать за жестокость и нарекут Французской Волчицей, однако существует версия, что она была вынуждена прибегать к насилию из-за влияния на ее мужа целой череды его фаворитов. Ее выдали замуж в 12-летнем возрасте за Эдуарда, которому было едва за 20. В дальнейшем она обнаружила, что причитавшиеся ей имущество и положение были дарованы Пирсу Гавестону, звезде рыцарского турнира, который организовал Эдуард, чтобы продемонстрировать доблесть Гавестона.
В 1312 году, когда Гавестон был убит разъяренными баронами ее мужа, казалось, больше нет никаких препятствий тому, чтобы Изабелла заняла свое законное место. Она подарила Эдуарду сына, была живым залогом его отношений с Францией и дипломатом между страной, где родилась, и страной, в которой вступила в династический брак. Но когда Эдуард попал под влияние могущественных и жестоких отца и сына Диспенсеров, Изабелла вновь оказалась не у дел: у нее конфисковали земли и забрали детей из-под опеки.
Затем Эдуард совершил стратегическую ошибку, отправив несовершеннолетнего сына, наследника Англии, с посольством во Францию в сопровождении Изабеллы. Из Франции Изабелла написала Эдуарду необыкновенное письмо: «Я считаю, что брак – это союз мужчины и женщины, твердо намеренных жить вместе. [Но] кое-кто встал между мужем и мной и пытается разрушить нашу связь»[40]. Изабелла начала носить роскошный вдовий траур и заявила, что из-за действий мужа их браку пришел конец так же бесповоротно, как если бы он умер. Призвав на помощь французскую семью, Изабелла – от имени сына – предложила стать представителем всех, кто был возмущен правлением Диспенсеров. В этом деле ее поддержал лишь недовольный лорд Роджер Мортимер, который, как вскоре выяснилось, стал ее любовником.
От имени юного принца Изабелла и Мортимер пронеслись по всей Англии, сметая все на своем пути. Как отмечается в прозаической хронике Брута, «народ сей страны был вынужден подчиниться ее воле». Увы, вскоре после заключения Эдуарда II в тюрьму (сообщалось, что его приговорили к казни раскаленной кочергой) стало ясно, что правление Изабеллы и Мортимера будет не менее разбойническим, чем правление Диспенсеров. В конце концов спокойствие в стране было восстановлено, лишь когда 17-летний Эдуард III устроил собственный переворот против любовника матери. Мортимер отправился на виселицу в Тайберн, а Эдуард заявил, что его мать просто стала жертвой коварства Мортимера. А Изабелла продолжала вести экстравагантный образ жизни еще более 30 лет, до самой смерти в 1358 году.
Хронист Джеффри Ле-Бейкер увековечил Изабеллу как ferrea virago – «женщину, которая подражает мужчине», отказавшись от женских добродетелей, чтобы стать твердой, как железо. Однако вполне вероятно, что этот образ совершенно не совпадает с тем, как она сама воспринимала себя в реальности и в фантазиях. Изабеллу очаровывали артуровские сюжеты: в парижской библиотеке ее матери было несколько романов и целый том легенд о короле Артуре, переплетенный в изысканную белую кожу. Много лет спустя она даже пожалует два романа – о святом Граале и о сэре Ланселоте – французскому королю. Не менее очарован Артуром был и любовник Изабеллы Мортимер: за год до своей гибели он сыграл короля Артура в паре с Изабеллой, исполнявшей роль Гвиневры, на зрелищном рыцарском турнире, после которого устроили пир за круглым столом. Однако поклянется основать новое братство Круглого стола не Мортимер, а сын Изабеллы, Эдуард III, который в 1348 году учредит рыцарский орден Подвязки.
В действительности романтические увлечения членов семьи Изабеллы имели ужасные последствия. Поговаривали, что сама Изабелла во время своего визита в Париж в 1313 году сообщила королю-отцу, что обнаружила признаки адюльтера у жен двух ее братьев. Жену третьего брата действительно уличили в тайных свиданиях с любовниками, которые она устраивала в Нельской башне. Двум королевским дамам обрили головы и заточили их в подземных темницах. Любовников кастрировали, потом заживо содрали с них кожу, колесовали и обезглавили. Следует признать, что после дела Нельской башни доверие французского общества к женщинам резко упало – и, как следствие, популярность куртуазной литературы тоже.
К этому моменту куртуазную любовь уже начинали высмеивать в комических и часто непристойных песенках фаблио, которые исполняли не трубадуры в замках, а жонглеры на рыночных площадях. Женщины в этих песенках изображались подчас развратными, ленивыми, похотливыми… Эти обвинения, может, и не столь серьезные, как церковные, но не менее стойкие.
Однако в XIII веке на поле появился еще один игрок – не просто важный, а поистине великий, если судить по популярности среди современников. «Роман о Розе», превосходивший по распространению даже «Историю британских королей» Гальфрида Монмутского, дошел до нас примерно в 300 экземплярах на разных языках (часть из них была издана уже с появлением книгопечатания, в эпоху Тюдоров). Это внушительная по размеру поэма объемом около 20 000 строк. Первые 4000 или около того написал некий Гийом де Лоррис в 1230 году, а остальные 16 000 – Жан де Мён в 1270-е, более 40 лет спустя. По крайней мере, так сообщает в тексте Жан де Мён. Другой информации о де Лоррисе нет – даже никаких свидетельств того, существовал ли он на самом деле.
Повествование ведется от первого лица и представляет собой пересказ сна, который рассказчик видел в мае месяце несколько лет назад. Прогуливаясь по прекрасному саду, он набредает на источник любви и видит в нем отражение идеального бутона розы. Пока он разглядывает бутон, в него вонзается стрела Амура, «что, в глаз войдя, попала в сердце». Отдавшись власти любви, он становится одержим идеей сорвать розу. Аллегория, очевидно, олицетворяет одержимость куртуазного любовника своей дамой.
Однако после того как нить повествования подхватывает де Мён, на столь легковесный каркас навешивается толстый слой рассуждений по целому ряду тем, от науки до философии. Объем информации настолько велик, что читатели могли использовать «Роман» чуть ли не как энциклопедию. Среди прочего, он охватывает и тему женской природы, к которой де Мён относится более спокойно, чем его куртуазные предшественники. Сновидец обращается за советом к Природе и к Гению; ему помогает Прекрасный Прием; препятствия на его пути учиняют Отпор, Страх и Стыд. Последняя часть поэмы даже включает в себя частичный перевод труда «Об утешении философии» христианского теолога VI века Боэция (позднее переведенного также Елизаветой I). Как напишет три столетия спустя Томас Миддлтон в пьесе «Оборотень», «Любовь умна по-своему. Она / Из всех наук дотошных выбирает / По капле знанья… / И сносит все в заветный свой тайник…»[41].
Кроме того, можно утверждать, хоть и с меньшей уверенностью, что в Средние века само сексуальное желание рассматривалось как шестое чувство. Так, в цикле шпалер «Дама с единорогом», созданных около 1500 года, наряду с пятью сценами, изображающими аллегории чувств, есть шестая, которая многие годы вызывает немало споров. Сцена изображает даму у входа в шатер, увенчанный девизной лентой с надписью Mon Seul Desir[42]. На самом деле вся традиция куртуазной любви – и ее ценность – обретает больше смысла, если рассматривать ее как один из способов взглянуть на мир под другим углом.
Ученые не могут прийти к единому мнению об истинном значении «Романа о Розе». Был ли Гийом де Лоррис автором однозначно куртуазного текста? Можно ли считать, что, создавая вторую часть поэмы, Жан де Мён просто продолжил путешествие влюбленного в более мирском духе последующих десятилетий? Или он на самом деле хотел выразить своим текстом протест против самой концепции куртуазной любви, подрывая основы более ранней части произведения, несмотря на все свои заявления о том, что продолжает дело де Лорриса?
Более того, быть может, и сам де Лоррис решил немного поразвлечься, сочинив экстравагантно-наглядные рекомендации для влюбленного – не менее наглядные, чем рекомендации Андрея Капеллана, и, как и у Капеллана, восходящие к Овидию:
- Кто ткань умело раскроит,
- Костюм чудесный смастерит.
- Чтоб рукава сидели ладно
- И ты в нем выглядел нарядно.
- И туфли ты приобрети,
- За чистотою их следи.
- Перчатками обзаведись
- И поясом ты подвяжись.
- Пусть туфли будут со шнуровкой,
- И затяни её ты ловко;
- Кошель шелковый раздобудь.
- Всегда старайся как-нибудь
- Поэлегантней сшить наряд[43].
Де Лоррис повествует, как его герою, поэту-мечтателю, бросает вызов дама Разум, спустившаяся из своей башни, чтобы защитить идею целомудрия и попытаться убедить мечтателя вообще не срывать розу. В XIII веке тема целомудрия вызывала оживленную дискуссию. Церковные ученые постоянно спорили о том, нужно ли непременно считать блуд грехом, – ведь без него человечество бы попросту вымерло. Можно ли считать блуд допустимым только в целях продолжения рода – или все-таки позволительно, как выразился теолог XIII века Ричард Мидлтон, «умеренное удовольствие»? В «Романе о Розе» Природа жалуется на то, что человек не смог использовать данные ему «инструменты» для поставленной ею цели: рожать детей для продолжения человеческого рода. Все противоречия дискуссии церковников здесь налицо. «Любовь есть мир, вражду таящий, / Враждебность с нежностью горячей… Греховное в любви прощенье, / Прощеное в ней прегрешенье»[44].
Если де Лоррис пишет о том, как завоевать любовь дамы, то де Мён переходит к тому, как получить от дамы то, что нужно (то есть секс), не попав при этом в любовную ловушку. Вероятно, значение имеет и то, что Амур с самого начала изображается не пухлым младенцем, а юношей-охотником, чьи стрелы таят в себе большую опасность. Возможно, разница между двумя частями «Романа» на самом деле отражала недоверие к женщинам и сексу, нараставшее в обществе в течение всего XIII века.
Любовь Гвиневры сделала Ланселота тем, кем он стал, – рыцарем. Но она же помешала ему достичь высшей рыцарской цели. В одной из книг цикла «Вульгата», посвященной поиску Грааля, женщины, искушавшие целомудренных рыцарей Персиваля и Борса, в итоге оказываются дьяволицами. Будучи отвергнутыми, они исчезают в клубе дыма. Галахад, самый чистый рыцарь из всех, встречает на своем пути только девственниц – тех, кого он спасет, и ту, которая указывает ему правильный путь. Есть версия, что они олицетворяют добродетель души и даже фигуру самого Христа. (Что ж, авторами «Вульгаты», вероятнее всего, были монахи: это последний раз, когда легенды о короле Артуре попали в руки религиозных деятелей.) Единственной добродетельной женщиной, в противоположность морали более ранних времен, теперь оказывалась девственница. В последние десятилетия XIII века папа римский предписал провести расследование опасных взглядов, а парижский епископ Этьен Тампье выпустил ряд «Осуждений» с официальным выступлением против сочинений Андрея Капеллана.
Расширение свобод, характерное для XII века, сменилось все более суровым климатом века XIII с его мрачным представлением о самой природе человека. Историк Йохан Хёйзинга в каноническом труде 1919 года «Осень Средневековья» характеризует «Роман о Розе» как «бревиарий [то есть молитвенник] аристократии»[45], добавляя: остается лишь удивляться, что церковь, столь нетерпимая к инакомыслию, в течение стольких лет позволяла разрастаться его влиянию на умы. Не потому ли пресыщенный взгляд де Мёна на женщину – непостоянную, недостойную, одновременно лживую и легко поддающуюся обману – все больше совпадал со взглядами церкви? Вероятно, тема куртуазной любви могла иссякнуть уже тогда, растворившись в скуке схоластических споров (посвященных, в частности, тому, могут ли несколько ангелов находиться в одном и том же месте одновременно, а то и сколько ангелов может танцевать на булавочной головке).
Однако совсем скоро из Италии начнет пробивать себе дорогу совершенно другой импульс для переосмысления старого идеала. Ошеломляющий эффект гуманистических наук, появившихся в эпоху, которую мы называем Ренессансом, вдохнет новую жизнь в литературу о куртуазной любви – и придаст ей новое нравственное измерение.
3
Комедия, Чосер и Кристина: XIV в.
Новый поворот в истории куртуазной любви относится к последним годам XIII века: в 1284 году во Флоренции один 18-летний поэт стоял на перекрестке и смотрел, как мимо проходит девушка его мечты. Его звали Данте Алигьери, и он был отпрыском мелкой флорентийской знати. Впервые он увидел ее на майском празднике девятью годами ранее, когда ей было восемь (юный ангел, облаченный «в благороднейший алый цвет, скромный и пристойный»[46]), а ему – всего на год больше. Ее личность позднее установил первый биограф Данте, Джованни Боккаччо: это была Биче Портинари, и происходила она из гораздо более знатной семьи, чем он. Данте назвал ее Беатриче. «Ее образ, постоянно пребывавший со мной, давал Любви силу, чтобы властвовать надо мной»[47].
И вот, облаченная в белое, Беатриче в сопровождении двух дам постарше идет по одной из улиц Флоренции, примыкающей к мутным водам Арно. Взгляд ее падает на оробевшего поэта, она любезно приветствует его – «столь благостно, что мне показалось тогда, будто вижу я предел блаженства»[48]. Уединившись в своей комнате, он уснул, и ему приснился дивный сон.
К нему приближалась гигантская фигура Повелителя Любви, который нес на руках обнаженную женщину, прикрытую алой тканью. Это была Беатриче. В одной руке Повелитель держал какой-то предмет, полностью охваченный огнем. Он обратился к Данте: «Взгляни на сердце свое». Затем он разбудил Беатриче и понудил ее съесть пылающий предмет, который держал в руке. Современные литературные критики до сих пор пытаются разобраться в значении этого сна – как при жизни Данте его пыталась разгадать группа друзей-поэтов, которых он называл Fedeli d’Amore – «Верные Любви». Несомненно одно: с этого момента Данте и Беатриче отправились в путешествие, в котором им предстояло вознестись в Дантов «Рай» – и навсегда попасть в историю литературы.
