Читать онлайн Война, мир и книги бесплатно
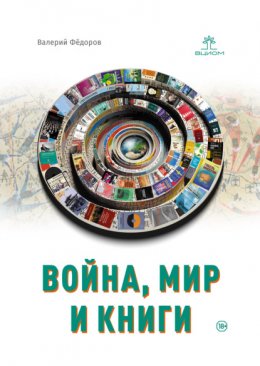
* * *
Исключительные права на публикацию книги принадлежат АО «ВЦИОМ».
Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
© Фёдоров В. В., 2024
© АО «ВЦИОМ», 2024
Предисловие
Мне не нравятся книжные рецензии Валерия Фёдорова. Они умные, системные и точные. Порой даже более системные и точные, чем книги, которым посвящены.
Не нравятся же они мне потому, что уж очень адекватно и цепко выхватывают главные мысли из колоссального объема информации, зачастую делая ненужными остальные части выдающихся произведений социальных мыслителей. В то время как многие заслуживают более пристального внимания!
Надо признать: это прекрасный результат работы рецензента и критика в наше время ограниченного внимания и «информационных пузырей». Но при этом он создает у читателя ощущение, что дело сделано, идеи автора освоены и саму рецензируемую книгу можно не читать. А зря.
Я тоже регулярно пишу рецензии, но очень короткие. Скорее, провоцирующие интерес к прочтению книги, чем объясняющие ее содержание, стимулирующие читателя к собственной работе. Правда, я не уверен, что мой читатель действительно возьмется за рекомендуемый труд.
С этой точки зрения рецензии Фёдорова полезнее, потому что даже поверхностное знакомство с ними оставляет у читателя важную часть знаний и нужной информации, которые в противном случае он бы не получил.
Вышедший некоторое время назад сборник рецензий Фёдорова «Ума палата» мне показался очень удачным. Продуктивное разделение на три крупных блока (мир, общество, культура и хозяйство) и группировка произведений по темам (государство, нация, мнение и т. д.), во-первых, создавали представление об актуальной повестке, методах и способах анализа по определенным темам. Во-вторых, позволяли сравнивать работы несравнимых при других обстоятельствах авторов. В-третьих, давали возможность работать с текстами в связке, усиливая их преимущества.
В следующем издании, которое вы держите в руках, эти сильные стороны сохранились. Добавились новые темы и новые разделы. Это лишний раз показывает, насколько широк круг интересов Валерия Фёдорова и насколько эффективны его методы работы с текстами и смыслами. Фёдоров не архивирует оригинальные авторские тексты, не останавливается на оценках и достижениях прошлых лет. Он пробрасывает идеи авторов в будущее, тестирует их, создает новое, оригинальное пространство для творческой работы.
Все это позволяет резонно предположить, что мы имеем дело не с набором отдельных текстов, а с целостным самостоятельным произведением, которое создает представление о ключевых трендах в интеллектуальной жизни и о том, какие проблемы нам предстоит решать в ближайшем будущем.
Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры
Россия
История России
Сергей Нефёдов
История России. Факторный анализ.
Том I. С древнейших времен до Великой Смуты
М.: Территория будущего, 2010[1]
Крупный русский историк, наш современник Сергей Нефёдов задался целью понять, возможно ли объяснить основные моменты в историческом развитии России, опираясь на современные научные знания. «Реальный механизм действия прослежен лишь для немногих движущих сил истории», – напоминает он, так что придется довольствоваться четырьмя факторами: демографическим, технологическим (включая экономику), географическим и фактором внешних влияний (включая войны). Теория факторов описывает их совместное действие: «численность населения и технология являются переменными, динамическими величинами, в то время как природные условия остаются относительно постоянными… Географический фактор является формообразующим». Демографическая динамика в земледельческом обществе (у кочевников свои особенности) реализуется в виде циклов освоения вмещающей экологической ниши – быстрого роста численности населения – аграрного перенаселения – демографической катастрофы. Технологический фактор описывается тремя взаимодополняющими теориями: диффузионизма (распространения изобретений), военной революции и модернизации. Диффузионизм объясняет историю через фундаментальные открытия. Совершив такое открытие (часто это создание нового оружия), народ-первооткрыватель обычно запускает волну завоеваний. Те, кто ее счастливо избежал, под угрозой завоевания перенимают оружие и обычаи агрессора. Так формируется «культурный круг» – область распространения фундаментальной инновации и связанной с ней культуры народа-завоевателя. В его рамках происходит культурный и социальный синтез привнесенных инноваций и местных традиций, который периодически прерывается традиционалистской реакцией (отторжением инноваций).
Итак, для каждого фактора просчитана своя элементарная последовательность событий. Задача факторного анализа в том, чтобы «представить исторический процесс в виде суммы, суперпозиции» этих последовательностей. Первым на эту тропу ступил знаменитый английский историк Уильям Мак-Нил, его находки развили Питер Турчин и Джек Голдстоун. Современная версия факторной концепции описывает развитие общества с помощью демографически-структурной теории. Последняя оперирует тремя главными категориями: народ, государство и элита. «Демографический рост элиты в условиях ограниченных ресурсов влечет за собой дробление поместий и капиталов, то есть оскудение… Элита начинает проявлять недовольство и усиливает давление на народ и на государство с целью перераспределения ресурсов в свою пользу. Кроме того, в рядах элиты усиливаются дифференциация и фрагментация, отдельные недовольные группировки… обращаются за помощью к народу и пытаются инициировать народные восстания». Для государства аграрное перенаселение означает падение собираемости налогов и финансовый кризис – на фоне голода, народных восстаний и элитных заговоров. Впереди – революция и крах государства. На демографические циклы иногда накладываются «волны завоеваний, порожденных… фундаментальными открытиями. За этими завоеваниями следуют демографические катастрофы, социальный синтез и трансформация структуры, в ходе которой рождается новое общество и новое государство».
Нефёдов применяет трехфакторную модель к истории развития государств, существовавших с древности до начала XVII века на Русской равнине. Многое в судьбе России объясняет уже географический фактор: Русская равнина была огромным лесным массивом, зажатым в клещи между южными степями и «северной Пустыней» (Скандинавией). Южные кочевники неизменно преобладали в военном отношении над лесными земледельцами. Время от времени «инновации в применении кавалерии давали кочевникам новые военные преимущества, и с востока, из Великой Степи, в Причерноморье приходила очередная волна нашествия непобедимых и жестоких завоевателей». Всего таких волн автор насчитывает семь, от скифской до монгольской. Скудная природная ниша «северной Пустыни» время от времени создавала свой аналог кочевых армий – с тем отличием, что норманны двигались с севера на юг по рекам, а не с востока или юга на север или запад по степям. Завоеваний с севера было два: готское и варяжское. Во всех случаях нашествий – с севера или с юга-лесные народы (славяне и угро-финны) неизменно терпели сокрушительные поражения. Выжившие интегрировались в состав возникавших государств в качестве податного (непривилегированного) сословия. После окончания завоеваний начинался период социального синтеза и культурного взаимообмена между победителями и побежденными. Создавалось государство «ксенократического» типа (наподобие того, что возникло в Англии после прихода Вильгельма Завоевателя): пришельцы присваивали богатства и устанавливали свою власть, местные жители обращались в рабов и зависимых данников.
После частичной стабилизации государство начинало испытывать мощное политическое, культурное и религиозное влияние более развитых и богатых цивилизаций, которые обычно располагались южнее. Таким заимствованиям способствовали как внутренние причины (необходимость соединить в одном государстве без излишнего насилия завоевателей и их жертв), так и внешние, прежде всего включение в международную торговлю со странами Юга в качестве поставщиков мехов и рабов и покупателей предметов роскоши. Заимствования запускали частичную трансформацию по образцу южных соседей (скифы заимствовали культурные образцы у греков, готы – у римлян, хазары – на Ближнем Востоке, варяги – у Византии, московиты – у Османской империи). Это всегда вело к укреплению и централизации государства, этатизации общественного устройства. По мнению Нефёдова, «на Русской равнине самодержавие всегда было пришлым, оно было результатом диффузионного влияния с Юга». Самодержавные тенденции периодически вызывали традиционалистскую реакцию со стороны военного сословия, требовавшего сохранения своих привилегий. Со временем это приводило к квазифеодальной раздробленности, которая ослабляла государство, делая его легкой добычей для очередной волны завоевателей. Те же, покорив народы равнины, со временем консолидировали их новым самодержавием, опять позаимствованным у кого-то из богатых и культурных южан.
Итак, примерно до XV века демографический фактор в развитии России не был определяющим (исключение составляли неплодородные земли Новгородчины). Главную роль играли процессы диффузии фундаментальных (чаще всего военных) открытий. Все происходило по схеме, напоминающей цикл, описанный знаменитым арабским ученым Ибн Халдуном: завоевание – социальный синтез – трансформация государства по ближневосточному образцу – господство этатизма – традиционалистская реакция – распад – новое завоевание. Московское царство отступило от этой последовательности, ведь оно первым на Русской равнине возникло не в результате завоевания, а сложилось в недрах деградировавшей Золотой Орды. Поэтому первые два этапа – завоевание и синтез – были пропущены, и сразу стартовал этап централизации и строительства самодержавия по ближневосточному образцу. Царям удалось построить мощную армию османского типа (стрельцы, поместная конница, артиллерия), которая начала большие завоевания. «Это был первый случай, когда завоевательная волна исходила из славянских земель и славяне принуждали другие народы перенимать их порядки». Московский цикл, однако, завершился к середине XVII века почти полным распадом государства. Течение Смуты было осложнено аграрным перенаселением: демографические закономерности впервые заработали в полную силу. Перенаселение достигло пика уже к 1550 г., полномасштабный социально-экономический кризис разразился в 1570-х годах. Таким образом, наших знаний, утверждает Нефёдов, уже сегодня вполне достаточно для объяснения основных моментов русской истории, – включая даже такие загадочные, как опричнина Ивана Грозного.
Новая имперская история Северной Евразии
Под ред. Ильи Герасимова
Казань: АB Imperio, 2017
Илья Герасимов сотоварищи – группа историков из Казанского федерального университета, уже два десятилетия издающих известный в профессиональной среде журнал Ab Imperio. Он посвящен прежде всего проблемам Российской империи, но не только. Постоянные авторы журнала разработали курс истории нашей страны и окрестностей, основы которого изложили в двухтомной монографии. Они рассматривают территорию Северной Евразии, сегодня занимаемую преимущественно Российской Федерацией, как пространство конкуренции различных государственных проектов. Специфику государственного строительства на этой громадной территории авторы видят прежде всего в том, что она «воплощает саму идею управления различиями через стихийную самоорганизацию». Совершенно не предопределен никакими объективными обстоятельствами тот факт, что столь разнообразный, географически разбросанный регион в какой-то момент сложился в единой целое – и в этом качестве стал частью мировой истории. «В отличие от древних исторических центров Китая или Месопотамии, не было здесь никаких предшествовавших традиций организованной политической жизни с развитыми письменными культурами, которые способствовали бы обоснованию и воспроизводству политических границ или притязаний на господство». Напротив, здесь протекали процессы самоорганизации различных молодых обществ, вступавших со временем в интенсивный контакт, что требовало «нахождения некоего общего языка для понимания Другого».
Это была одна из древних форм глобализации, спонтанно охватившей пространство между Атлантическим и Тихим океанами. Именно так – через разнообразие, конкуренцию, конфликт и поиски форм сотрудничества – и рассматривается в книге история нашего региона мира. «Новая имперская история» понимается как история складывания сложного, гетерогенного общества, а отнюдь не история одного конкретного народа или одного конкретного государства (в Северной Евразии их насчитывается даже не десятки, а чуть ли не сотни). «Имперская ситуация» есть ситуация сложности, соседства и взаимодействия. Здесь нет места той мифологизированной единой и вневременной имперской силе, которая пронизывает большинство популярных вариантов российской историографии. Империя – это только «способ упорядочения человеческого разнообразия и управления им», причем таких способов много. Они вырабатываются и меняются в ходе исторического творчества людей, заимствуются, адаптируются и перепридумываются. История страны не может быть одой великой династии, единственно верной идеологии, величайшей культуре, лучшему народу на Земле и т. п. Она возможна только как «история людей, самостоятельно ищущих ответы на универсальные проблемы в уникальных обстоятельствах».
Первый том монографии охватывает тысячелетие с VII по XVII века, начинаясь Хазарским каганатом и завершаясь Московским царством первых Романовых. Именно в хазарские времена на рассматриваемых территориях впервые «появляются политические образования, осваивающие пространства, а не приспосабливающиеся к ним». Запускается оригинальный процесс государственного строительства, вовлекающий эти полуизолированные территории в общемировой исторический процесс. Стержнем его стало взаимодействие земледельческих и кочевых народов в разных формах – от разорительных набегов до тесного сотрудничества. Хазары, в отличие от многочисленных предыдущих кочевнических конфедераций, столкнулись с проблемой в виде Арабского халифата. Решить ее привычными для Степи способами – интеграцией арабов в свой каганат или собственной интеграцией в их халифат, то и другое без особых внутренних изменений, – они не смогли. Пришлось меняться, и всерьез! Вектор изменений – «развитие государства как механизма поддержания социального порядка путем перераспределения внутренних ресурсов» (а не просто грабежа и набегов). Это потребовало установления налоговой системы (вещь для кочевников почти невозможная), огромных преференций для транзитной торговли, строительства городов в Степи и даже принятия иудаизма как государственной религии.
Полуцентрализованный Хазарский каганат интересен тем, что его правители «создавали новые формы государственности, не имея возможности использовать опыт предшественников, покоренных или добровольно принявших новую власть». В качестве моделей для заимствования использовался опыт соперников и соседей – Византии и Арабского халифата. Но прямое копирование было невозможным ввиду огромных различий культурного и хозяйственного плана, а также острых военно-политических противоречий с великими соседями (отсюда экзотический выбор религии). В результате такого исторического творчества возникло «совершенно самобытное политическое образование Северной Евразии». Это был огромный прорыв, ведь прежде на этих землях никто и никогда «не собирал налоги с целью финансирования общественно значимых работ, не пытался править четко ограниченной территорией и не описывал общество иначе как в категориях родственных связей или племенного единства». Хазарская модель была переходной, гибридной, новаторской и по разным причинам долго не просуществовала, но начало было положено. Дальше стали возникать другие ранние государства. Одно из них по мере развития приняло в качестве государственной религии ислам (Волжская Булгария), другое – христианство (Русь). Последнюю авторы называют «Роуськой землей», стремясь подчеркнуть такую особенность ее формирования, как широко известное «призвание варягов», или «роуси».
Кто их призвал и зачем? Боевитые скандинавские дружинники, как полагают историки, понадобились местным племенам разных языковых групп (прежде всего славянской и карело-финской). Цель – поддержать безопасность на прибыльном торговом пути из Балтики на арабский Восток (а вовсе не «из варяг в греки»). По нему передвигались: с юга – серебро, с севера – меха и рабы. Призвали варягов на четких условиях, заключив с ними «ряд» (договор). Такие впоследствии Новгород регулярно заключал с приглашаемыми князьями. «Ряд» обеспечивал князю и дружине прокорм, племенам – защиту, обеим сторонам – высокую прибыль от международного товарообмена. Князь и дружина стали первыми институтами раннего государства, основанного уже не только на грабеже, но и на договоре, а в перспективе – и на законе. Так возникла «Роуськая» земля – «объединение в общее социальное и (впоследствии) культурное пространство территорий и сообществ, которые никогда прежде не составляли единое целое». Решающий поворот в сторону закона и институциализации государства сделала княгиня Ольга. Ее как истинно государственного деятеля авторы противопоставляют князю Святославу, который вел себя скорее как вождь скандинавской разбойной дружины. Со временем славяне, финны, скандинавы и даже тюрки слились в противоречивое, но цельное сообщество. Распадаясь и вновь соединяясь, воюя между собой и защищаясь от внешних захватчиков, они постепенно сформировали самобытную форму развитой государственности. Ту, наследником которой является в том числе и Российская Федерация.
Борис Кагарлицкий[2], Всеволод Сергеев
История России. Миросистемный анализ
M.: URSS: Ленанд, 2014
Больше десяти лет назад Борис Кагарлицкий*, крупный современный обществовед неомарксистского направления, опубликовал книгу «Периферийная империя. Циклы русской истории». С тех пор она неоднократно переиздавалась под разными названиями, но содержание на 99 % оставалось неизменным. Вариант «История России. Миросистемный анализ», на мой взгляд, наиболее удачно описывает ее тематику. Речь действительно идет об истории нашей страны – с IX века примерно до 2009 г. Собственно новых исторических фактов приводится немного, ценность же книги в том, что история проинтерпретирована в духе теории мир-систем Иммануила Валлерстайна и благодаря этому выглядит совершенно иначе, чем нас учили в школе и университете.
В основе подхода Кагарлицкого* и Сергеева лежат три главных источника: работы русского историка-марксиста начала XX века Михаила Покровского, известная экономическая теория «больших циклов» Николая Кондратьева и уже упомянутый мир-системный анализ Валлерстайна. Взятые вместе, они позволяют рассматривать Россию не как уникальную цивилизацию с собственным путем развития, а как часть глобальной капиталистической мир-системы, глубоко интегрированную в международное разделение труда. Истории России, пишут авторы, «просто не существует вне европейской и мировой истории… Российская специфика и даже „уникальность“ есть лишь своеобразное проявление общемировых процессов. Зачастую – проявление экстремальное».
Эта интеграция осуществляется всегда на зависимой основе – как периферийной зоны, в то время как управляющий и эксплуатирующий центр находится на Западе. Периферийное положение в мир-системе – тот ключ к пониманию нашей истории, которым Кагарлицкий и Сергеев открывают многие, казалась бы, прочно закрытые замки. Россия на протяжении всей истории, даже будучи независимым и влиятельным европейским государством, демонстрирует черты периферийного, то есть отсталого, бедного и неразвитого (по сравнению с центром) общества. «Именно логика накопления и концентрации капитала ведет к тому, что он систематически перераспределяется в пользу мировых „лидеров“. Даже резкий рост экономики на периферии не меняет положение дел радикальным образом… Чем лучше страна работает, тем больше там возникает „свободный“ или „избыточный“ капитал, перераспределяющийся в пользу основных центров накопления» (это к вопросу о постоянной утечке капитала на Запад – вчера и сегодня). Вырваться из этой ловушки дано немногим, примеры можно пересчитать по пальцам. Россия в этот список, увы, не входит. СССР – входил (здесь ученые возражают Валлерстайну, отрицавшему независимый от Запада характер развития СССР).
Какова же интерпретация авторами ключевых эпизодов отечественной истории? Возникновение государственности они связывают прежде всего с экономическим бумом IX–X веков в Византии и Западной Европе и вызванной этим подъемом международной торговлей. На перекрестках водных и караванных путей из варяг в греки, из Персии и Арабского халифата – в Европу и Скандинавию стали возникать укрепленные стоянки путешествующих купцов-разбойников, на месте которых позже сформировались городки и города. Обосновавшиеся здесь торгово-посреднические элиты создали паразитическую экономику, изымая – через дань или прямой грабеж – продукты труда у жителей сельской округи, продавая их скандинавским, византийским и восточным купцам. Потребность в обеспечении безопасности международной торговли дала стимул к созданию в короткое время единой державы на громадной территории: «само государство возникает как следствие торговой экспансии… Торговый путь между Черным морем и Балтикой оказывается выгоден и необходим. Но его нужно поддерживать и охранять. Нужен „порядок“».
Современный этап российской истории авторы называют реставрацией. Сталин силовым образом вырвал страну из оков капиталистической мир-системы и стал строить альтернативную, социалистическую. Его наследники, попавшись в 1970-х годах в ловушку зависимости от экспорта нефти и газа, вынужденно отказались от столь амбициозной программы. Они (мы) вернулись в глобальное разделение труда, построенное в интересах транснациональных корпораций. От этого Россия не стала развитой – наоборот, воспроизвелись характерные для предреволюционного периода черты периферийного капитализма: «работники во многих случаях зависели от своего предприятия в большей степени, чем от рынка труда, бюрократия оставалась самодостаточной силой… а собственность, незаконно захваченная, не могла быть эффективно защищена законом». В то же время «зависимое положение работника, нищенская заработная плата и старый внутренний рынок оказались конкурентными преимуществами для сырьевых монополий, ориентированных на спрос мирового рынка». Взгляд исключительно мрачный, но более чем реалистичный. Желающим разобраться в сложной паутине причин и следствий исторического развития России – строго рекомендуется.
Эдуард Кульпин
Путь России
Генезис кризисов природы и общества в России
M.: URSS, 2008
Эдуард Кульпин
Золотая Орда.
Проблемы генезиса Российского государства
М.: URSS, 2014
Советский и российский востоковед Эдуард Кульпин-Губайдуллин (1939–2015) известен как основатель школы «социоестественной истории» (СЕИ) – междисциплинарного направления на стыке гуманитарных и естественных научных дисциплин, развивавшегося им на протяжении нескольких десятилетий. В фокусе исследований СЕИ – взаимодействие и взаимовлияние природы и общества в историческом процессе. Один из изучаемых аспектов – системы ценностей различных этносов и цивилизаций, их формирование и трансформация в связи с изменением исторических условий обитания и развития человеческих обществ. Находясь в определенном «канале эволюции, границами которого являются представления людей о мире и о себе», общество рано или поздно ломает эти границы. Происходит катастрофа, «комплексный социально-экологический кризис», захватывающий одновременно природу и общество. Это время бифуркации, в рамках которой должен быть выбран новый «канал эволюции». Решением становится принятие обществом новой системы ценностей – «центра представлений о мире и о себе, стратегии развития… этноса и суперэтноса». Этот процесс происходит стихийно и неосознанно, через борьбу.
В рамках работ школы СЕИ были реконструированы системы ценностей двух полярных автохтонных и независимых друг от друга цивилизаций – европейской и дальневосточной. В первом случае главных ценностей две: личность (объект) и развитие (вектор). Им подчинены такие ценности, как свобода, равенство, солидарность, труд, собственность, эквивалентный обмен, закон. Для дальневосточной же цивилизации главными ценностями являются государство (объект) и стабильность (вектор). Им подчинены ценности мира, порядка, традиции, иерархии, ритуала, прошлого знания. Выбор системы ценностей так важен, поскольку он непосредственно влияет на «технологию – правила игры, по которым происходит хозяйственное взаимодействие человека и природы» в данном обществе. Так, для дальневосточной цивилизации, построенной на рисоводстве, хорошо подходят ценности иерархии, ритуала, прошлого знания и др., поскольку ирригационные системы, связывающие воедино мелкие террасированные поля, – это сеть, «требующая неукоснительного и четкого соблюдения технологической дисциплины», а также внешней защиты, «поскольку разрушение на одном участке грозит гибелью всей системы».
По мнению Кульпина, «именно такая система ценностей создавала оптимальные условия для заливного рисоводства, и, в свою очередь, именно эта высокопроизводительная технология традиционного Дальнего Востока стала мощной опорой конфуцианской системы ценностей». В отличие от нее, западная система ценностей внутренне напряжена, изобилует противоречиями (например, равенство против свободы, труд против собственности и др.). Она менее равновесна и сбалансирована, но зато динамична и открыта изменениям – именно за счет «напряженного неустойчивого непрерывно меняющегося равновесия между элементами». Это важно, ведь «если система чересчур гомеостатична, если она практически не способна меняться, то при изменении внешних условий, очень часто после тщетности мобилизации всех внутренних потенций, она разрушается». Неслучайно за феноменальным двухтысячелетним периодом социально-экологической стабильности Китая, завершившимся в XVIII веке демографическим взрывом, последовал жесточайший длительный кризис, неразрешенный и до сих пор.
Россию автор считает самостоятельной цивилизацией, слабо связанной и с Дальним Востоком, и с Европой. Она развивалась во многом самостоятельно, искала и находила собственные ответы на вызовы природы и общества. Катастрофический социально-экологический кризис, сформировавший российский суперэтнос в его нынешнем виде, он относит к XV–XVII векам. Этот кризис захватил одновременно лес и степь, то есть ареалы проживания восточнославянских и тюркских народов соответственно. Золотая Орда не смогла найти ответ на этот кризис и распалась, просуществовав чуть меньше двух столетий. Московское царство – смогло, прежде всего путем перехода от подсечно-огневого к навозному пашенному земледелию, для которого требовались обильные земли Поволжья. Разгром Золотой Орды и ее наследников – Казанского и Астраханского ханств – позволил захватить эти земли. Устранение соперников и территориальная экспансия на восток сделали Москву единственным центром кристаллизации российского суперэтноса.
Однако систематизировать российские ценности Кульпин затрудняется, выдвигая только некоторые предварительные гипотезы, еще только подлежащие проверке.
Так, взаимодействие государства и общества в нашей стране, похоже, определяется двойственной формулой: «государство обязано решать проблемы народа – народ обязан служить государству». Отсюда – ценность всеобщего служения (крестьяне – помещикам, помещики – государю, государь – всему народу). Другая ценность – экстенсивное развитие: из кризиса Россия обычно выходит, расширяясь пространственно и вовлекая в хозяйственный оборот новые территории. Когда этого не получается, начинается новый кризис. С другой стороны, покорение чрезмерно отличающихся и принадлежащих к другим цивилизациям народов (Польши, Средней Азии, Закавказья) «требовало растущего напряжения и приводило к безвозвратным материальным и человеческим потерям». Необходимость отказа от экстенсивного развития становилась все более настоятельной, хотя сама эта ценность никуда не исчезала. В XIX веке российская цивилизация получила усиленный впрыск европейских ценностей – свободы, равенства, эквивалентного обмена, частной собственности и закона. Это привело к глубокому конфликту, разрешенному только революцией 1917 г. Она представляла собой ценностный регресс: порядок пришел на место личности, служение – на место труда, исчезли ценности частной собственности и эквивалентного обмена. Закон стал охранять не человека от государства, а государство от человека. Советскую систему ценностей можно определить так: государство – экстенсивное развитие – служение. К ним добавляются иерархия, ритуал и прошлое (марксистское) знание. Однако эта система просуществовала исторически недолго, и сегодня Россия вновь находится в поиске ценностей, обеспечивающих выход из очередного социально-экологического кризиса через собственный «канал эволюции». Либо же – через присоединение к другому (скорее всего, европейскому) каналу и тем самым растворение в чужой цивилизации. Борьба продолжается!
Ричард Пайпс
Россия при старом режиме
М.: Захаров, 2004
Выдающийся американский историк-русист Ричард Пайпс известен своей концепцией России как «вотчинного» (патримониального) государства. В своей книге 1974 г. он описывает историю нашей страны с IX века и до 1880-х годов, рассматривая формирование государственности и параллельно – основных сословий нашего общества: крестьян, дворян, духовенства и даже… среднего класса! Центральный вопрос, которым озабочен Пайпс: почему в такой европейской стране, как Россия, общество не смогло ограничить самоуправство власти? Почему на протяжении всей истории оно остается для власти скорее жертвой и кормовой базой, чем господином или заказчиком? Ответ, по мнению автора, лежит главным образом во взаимосвязи между собственностью и властью. Разграничительная линия между ними в России весьма зыбка – или даже почти отсутствует. Если на Западе власть денег и власть политиков постепенно смогли разойтись достаточно далеко, то у нас такое разделение «случилось с большим запозданием и приняло весьма несовершенную форму». Эта форма – «вотчинное» государство, где «власть мыслится и отправляется как продолжение права собственности, и властитель является одновременно и сувереном государства, и его собственником». «Вотчинный режим» автор трактует в смысле, предложенном Максом Вебером: как тип неограниченной личной власти, основанной на традиции. В нем экономический элемент, так сказать, поглощает политический, и «политическая структура становится, по сути дела, тождественной структуре гигантского княжеского поместья». Право суверенитета и право собственности в вотчине сливаются до степени неразличимости, конфликтов между ними нет и быть не может – как не может быть и четкого разграничения между властью и обществом.
«Вотчинное» государство образовалось не само по себе, а как ответ на ряд важных вызовов. «Природа, на первый взгляд, предназначила России быть раздробленной страной, составленной из множества независимых самоуправляющихся общностей», но геополитика этому воспротивилась! Экстенсивный характер неустойчивого земледелия на скудных почвах вечно гнал русских вперед, к колонизации новых пространств, которые можно было распахать, а затем, по исчерпании плодородия, бросить и двинуться дальше. Пограничные войны стали постоянным явлением во многом именно из-за колонизации. Поэтому Россия должна была иметь сильную армию – без нее колонизация остановилась бы. Можно было бы ожидать, что Россия станет государством азиатско-деспотического типа. Но этому помешали два обстоятельства: с одной стороны, «не было нужды в том, чтобы власть помогала извлекать богатство из земли». Россия была страной мелких хозяйств, а не латифундий, «и понятия не имела о централизованном управлении экономикой» вплоть до 1918 г. С другой стороны, отсутствие дорог и надежной связи на огромных пространствах страны исключало реальную возможность азиатского типа управления. Итак, налицо противоречие: «экономические обстоятельства и внешнее положение требовали создания в России высокоэффективной и, соответственно, политической организации», – но возможности реализовать это были крайне ограничены.
Способ разрешения этого противоречия, по Пайпсу, и дает ключ к пониманию политического развития нашей страны. «Государство не выросло из общества, не было оно ему и навязано сверху. Оно скорее росло рядом с обществом и заглатывало его по кусочку». Все началось с личного княжеского поместья, или двора, где князь был одновременно и сувереном, и собственником, располагая абсолютной властью. Со временем князья распространили свою власть и на вольное население за пределами своих поместий. Наконец, «ставшая во главе страны Московско-Владимирская княжеская династия» превратила Россию в одно гигантское поместье. Возможностей реализовать этот принцип на практике сначала не было, и пришлось «отдать большую часть страны на откуп помещикам, духовенству и чиновникам в обмен на определенную сумму налога или службу». Классический период русской вотчины Пайпс датирует XII–XVII веками, после чего она начинает трансформироваться сверху, под давлением самого правительства. По мере развития контактов с Западом такая система демонстрировала неэффективность и все больше входила в состояние внутреннего напряжения. Военные поражения привели к разочарованию российских верхов в собственных силах. «Преодолев первоначальное замешательство, Россия затеяла процесс внутренних реформ, который, то ослабевая, то усиливаясь, продолжается и по сей день».
Поначалу планировалось «просто пересадить западные новшества в организм вотчинного строя и так насладиться достоинствами обеих систем». Со временем, однако, «элита общества сама принялась давить на монархию, добиваясь от нее тех прав, которые та ей предоставлять не намеревалась». За сто лет (1762–1861) были ликвидированы три из четырех важнейших элементов вотчинного порядка: получили свободу крепостные; «чины» преобразовались в сословия, которым было разрешено преследовать собственные интересы, а не просто служить государю; корона отказалась от притязания на владение всеми богатствами страны. «Вотчинному духу нанесли сильный удар», однако этот дух не исчез: династия не желала поступаться монополией своей политической власти. «В интересах национального могущества и престижа население побуждали образовываться, обогащаться и вырабатывать у себя государственное сознание… В то же самое время ожидали, что оно будет терпеть излишне опекающий его режим, который не признает для себя ни ограничений, ни норм». Власть боролась с этим напряжением всевозможными административными и полицейскими методами – и делала в этом большие успехи, но причина конфликта неустранима в принципе, потому что избежать контактов с Западом, в том числе военных, не получалось.
Таков, по автору, источник трений, «пронизывающих всю историю послепетровской России». Старый порядок сменился странным коктейлем из прежних и новых элементов. «Такое устройство постепенно урезало власть, которой некогда пользовались русские государи, не предоставляя им в то же время преимуществ либерального и демократического правления». Результатом стали размывание царской власти и общая политическая дезорганизация. Самодержавие постепенно «перестало обозначать безраздельный контроль монархии над страной», вместо этого обратившись в «удерживание общества от участия в выработке политических решений». Отсюда революционный взрыв 1870-1880-х годов, на который Романовы ответили созданием полицейского государства. Увы, это тоже не помогло, и конец «старому порядку» положили революции 1917 г. Вотчинный дух, однако, не исчез, а реанимировался на советской идеологической, организационной и технической основе. Россия, по мнению Пайпса, оставалась вотчинным государством на момент написания книги, пусть и деформировавшимся и ослабленным. А значит, лишенным будущего в нынешней форме и обреченным на радикальное изменение – возможно, что опять революционным путем…
Дмитрий Травин
Русская ловушка
СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2023
Известный петербургский исследователь проблем модернизации Дмитрий Травин посвятил свою книгу главной русской ловушке. Таковой он считает крепостную зависимость, ликвидированную сильно позже других европейских государств, что предопределило историческое отставание России от стран мирового центра. Но были и другие… Под ловушкой автор понимает институциональное решение, в момент его принятия казавшееся вполне рациональным и эффективным, но много лет спустя, при изменении исторических обстоятельств, превратившееся в тормоз для дальнейшего развития. Ловушкой его делает то, что совокупность могущественных общественных сил продолжает извлекать из этого института значительную выгоду – и потому препятствует его упразднению. Крепостничество, не реформированная церковь, абсолютистское государство и чрезмерная регламентация жизни общества – четыре исторических ловушки, которые разбирает Травин.
Начнем с крепостничества. Применяя к нашим реалиям идеи Чарльза Тилли, автор утверждает, что оно утвердилось у нас прочно и надолго отнюдь не из-за «рабской культуры», наследия ордынского ига или вотчинного характера русского государства. Причина – в потребностях обороны страны, точнее, в трудностях ее финансирования. Военная революция XIV–XV веков, связанная с распространением огнестрельного оружия, заставила европейских монархов отказаться от феодальных ополчений как основы своих армий в пользу наемных солдат. Это потребовало гигантского увеличения военных расходов, на что оказались способны немногие. На Руси отсутствовали богатые города и финансовый капитал, а также месторождения драгоценных металлов, зато в избытке имелась земля. При Иване III неэффективные боярские феодальные ополчения уступили место профессиональным военным, обязанным московскому князю службой в обмен на предоставление помещикам земли и прикрепленных к ней крестьян. Возможно, за образец была взята турецкая или молдавская помещичьи системы.
Постепенно возник самоподдерживающийся механизм: поместная система укрепила армию, что позволило побеждать врагов и присоединять их земли, а новые территории использовались для раздачи помещикам, составлявшим костяк армии. При Иване IV к помещикам добавились стрельцы, на содержание которых пришлось вводить специальный налог, но денег все равно не хватало, поэтому стрельцам пришлось совмещать службу с торгово-ремесленной деятельностью. Эффективность такой полупрофессиональной армии сильно уступала западноевропейским наемникам, а основу русского войска по-прежнему составляли помещики.
Другой «русской ловушкой» Травин считает отсутствие Реформации. В Европе урбанизация и формирование городской буржуазии создали обширный рынок для «духовных предпринимателей» – преобразователей церкви. Пока их подвижничество прельщало только низы общества, Риму удавалось их подавить. Реформация Лютера удалась не столько из-за высокой медиатизации Европы (привет Гутенбергу!), сколько благодаря союзу с немецкими князьями, увидевшими в протестантизме свой шанс ослабить императора и присвоить церковное имущество и доходы. Этот странный союз имел много последствий, среди которых – подрыв церковной монополии на истину, освобождение умов для научного поиска и усиление капиталистического духа. В России при слабости городов и ограниченности контактов с Западом «духовные предприниматели» не смогли заключить союз ни с монархом, ни с князьями и потерпели поражение. Вместо Реформации у нас произошел Раскол, обусловленный совершенно другими причинами. В ходе Русско-польской войны за Украину перед Москвой замаячила перспектива превращения из периферийного царства в настоящую православную империю, но это требовало унификации обрядности с греческими – нормативными для украинцев, молдаван и других православных – образцами. Церковная реформа Никона была нацелена на устранение препятствий на пути к такой империи, чему противились консервативные низы общества. Старообрядцы не стремились к обновлению веры, они пытались сохранить национальную русскую церковь во всей ее косности и замкнутости.
Третий сюжет книги посвящен формированию современной государственности на базе средневековой феодальной раздробленности. Этот процесс стал следствием взаимодействия трех социальных сил: городских слоев (бюргерства), наемных армий (выигравших историческую конкуренцию у феодальных ополчений) и Реформации, ставшей духовной опорой государей в тех случаях, когда им для обеспечения устойчивой власти не хватало грубой силы. «Предприниматели, сформировавшиеся в ходе коммерческой революции Средних веков, создали финансовую базу для наемной армии. Военные предприниматели непосредственно эту армию создали и отдали в руки предпринимателей, строивших модерное государство». «Духовные» же предприниматели сформировали идеологию, мобилизовавшую сторонников нового государства и легитимировавшую его. На следующем этапе это государство взяло под контроль коммерсантов (через проведение меркантилистской политики), устранило независимых «духовных предпринимателей» (через репрессии) и установило монополию на насилие, уничтожив военное предпринимательство.
На Руси ситуацию отличало отсутствие богатых городов и невозможность для монарха опереться на них. Армию пришлось создавать через раздачу земель помещикам, а не через формирование наемного войска. Но эту землю сначала надо было забрать у бояр и удельных князей, что и было сделано. Сначала Василий Темный, опираясь на татарские отряды, отобрал земли у своих многочисленных феодальных оппонентов. Затем Иван III захватил Новгород Великий и раздал его земли своим помещикам. Наконец, Иван Грозный сформировал опричнину, которая экспроприировала земли у последних крупных феодалов и дала царю возможность раздать еще больше земли помещикам. Репрессивный характер передела собственности в ходе создания Московского государства Травин объясняет именно дефицитом средств у великих князей, вынужденных отнимать землю у бояр и удельных князей ради создания современной армии, которая затем помогла им укрепить свою власть и монополизировать насилие. Так возник русский абсолютизм – не хуже и не лучше западноевропейских аналогов, но со своей спецификой. Это был большой успех, позволивший сформировать на русских землях централизованное государство. Которое затем, по прошествии времени, само превратилось в историческую ловушку…
Николай Костомаров
Руина
М.: Чарли, 1995[3]
Одна из фундаментальных работ замечательного историка XIX века Николая Костомарова посвящена «Руине» – драматическому этапу в жизни Украины (1663–1687). Его результатом стал раздел страны на несколько частей, принадлежавших разным государствам, и превращение одной из них – правобережной Украины – в настоящую безлюдную пустыню. Освободительная война, начатая Богданом Хмельницким, принесла лишь ограниченный успех: Россия смогла твердо защитить только Левобережье с Киевом. Сил на то, чтобы изгнать поляков с правого берега, не хватило. Цели освободительной войны не были достигнуты: вместо единства состоялось разделение, вместо независимости – подчинение русскому царю. Согласиться с этим украинское общество не было готово. И украинский правящий класс – казацкая «старшина», и высшее православное духовенство, и народ – простые казаки и «поспольство», то есть гражданское население, – лелеяли мечту о едином государстве. Следствием этого стала многолетняя гражданская война, отягощенная прямым участием сначала двух, а затем и трех империй. Воевали с трех сторон сами казаки при поддержке польских, русских, турецких войск и татарских орд. Каждая из империй поддерживала своих креатур, так что одновременно страной управляли два-три, а то и четыре гетмана, и еще отдельно – кошевой атаман Запорожской Сечи.
Война шла за контроль не только над территорией, но и над населением: огромные потоки беженцев перемещались с правого на левый берег и дальше на «Слободскую Украину». Эта русская земля, где позже возникли Харьков, Ахтырка и Сумы, со временем была так плотно заселена украинцами, что гетман Левобережья просил царя передать ее под его непосредственное управление. Все стороны пытались завлекать людей к себе льготами, посулами, а то и угрозами, поджогами и проч. Широко практиковался «сгон» людей с чужих территорий на свою, что подрывало экономическую базу противника. Да и сами украинцы по своему желанию часто меняли место жительства в погоне за лучшими условиями. «Положение края было самое смутное и шаткое; малороссияне сами не знали, что с ними будет, в ту или иную сторону выгоднее будет им обратиться». Ожидать независимости в такой ситуации было нельзя. Речь шла уже только о том, кто и с какими потерями сможет консолидировать под своей властью большую часть страны – и что после этого останется на ней живого. Здесь безусловное преимущество было на стороне Москвы, поскольку с ней украинцев сближали православная вера, самоназвание (русская земля) и отчасти язык. Польша же упорно отказывалась уравнять в правах православных с католиками и лютеранами и оставалась адресатом ненависти подавляющей части и народа, и элиты.
Однако и переход под руку Москвы имел свою цену, причем немалую. Прежде всего, ограничивалась украинская автономия, ведь Москва «всегда хотела быть централизованной державою, а не федеративною». Ее единство должно было поддерживаться не только верховной властью, как это было в Речи Посполитой. Важно было установить единство законов, экономики, культуры. Поэтому украинцам «ничем нельзя было так угодить Москве, как самим предупреждать ее всегдашнее тайное желание – скрепить возможно теснее связь Малороссии… и умалить отдельную самобытность присоединившегося края». Чем и занималась регулярно часть казацкой старшины – конечно же, с целью выпрашивания новых милостей и подарков от царя. Голубой мечтой любого из ее лидеров было стать гетманом, что без согласия Москвы было невозможно. Будучи избран, гетман старался как можно сильнее укрепиться. Как? Путем устранения всех противников, раздачи выгодных постов сторонникам и родственникам, захвата доходных местечек и прав. Обойденные и ограбленные начальники затаивали злобу и строчили в Москву доносы на гетмана. Их количество умножалось, тем более что поводов для споров между гетманом и Москвой всегда было множество. «Старшины, не любившие гетмана за его высокомерие, алчность и самоуправство, смекнули, что настало время, когда их доносу поверят». И вот наконец царь соглашался отрешить гетмана от должности, сослать в Сибирь, а имущество конфисковать. Один из доносчиков приходил ему на смену. И все по новому кругу… Так сложилась судьба всех трех левобережных гетманов периода «Руины».
Кроме борьбы за власть, противоречия между Гетманщиной и Москвой имели и экономическую основу. Украинское хозяйство было исключительно аграрным и строилось на выращивании зерновых, пчеловодстве и коневодстве. Большие доходы давало винокурение, производство дегтя и табака. Зерно и скот шли на экспорт, преимущественно в Польшу, спиртное и табак – в Россию, в основном нелегально. Налоговая система строилась на «орендах», или откупах на винокурение, деготь и табак. Налоги царю Гетманщина не платила. Наоборот, Москве приходилось финансировать свои гарнизоны на Украине, а еще щедро одаривать старшину. Попытки же распространить сюда московские законы и порядки встречались в штыки: «малороссияне стали испытывать чуждое им великороссийское управление… Обдирательства, взятки, грубое обращение, чем отличались великороссийские приказные люди, – все это появлялось в Малороссии, конечно, с крайней наглостью, как в покоренной стране». Речь шла о деньгах, которых всегда не хватало и за которые шло соперничество. Сил на войну с Польшей до победного конца Москве не хватало. Часто направленные на Украину части разбегались, даже не доходя до границы… Для казаков же принципиальным оставался вопрос единства страны: «для всех было прискорбно, что дело свободы малороссийского народа остановилось на полдороге; все видели, что виной тому поляки». Но Москва смотрела на ситуацию шире. Для нее Польша со временем начала казаться уже не столько противником, сколько потенциальным союзником против прочих врагов – Швеции и Турции.
Если бы всю Украину удалось объединить под царским скипетром, от этого больше выиграли бы казаки, чем Москва. Вес их в Московской державе в этом случае резко бы вырос, как и их стремление «удержать свою национальную самобытность». Но «московское правительство никогда не согласилось бы сделать того, что было угодно для малороссиян, но что казалось опасным в видах московской политики». Осознание этого привело часть старшин во главе с правобережным гетманом Петром Дорошенко к экзотическому решению: отдаться под власть турецкого султана. Османы могли стать по-настоящему могущественным союзником. Пример Молдавии и Валахии, сохранивших под властью турок как политическую автономию, так и православную религию, вдохновлял. Увы, результатом новой войны стали еще большие разрушения и массовый угон людей в плен. Дорошенко потерял поддержку казачества и лишился гетманской булавы. Варшава и Москва отказались от претензий на значительную часть правобережья Украины на том условии, что турки не будут заселять эти земли. Так богатейшие и многонаселенные территории, которые казаки осваивали с начала XVI века, были разорены и оставлены в запустении. Три империи выдохлись и закончили войну компромиссом за счет украинского народа. До его настоящего воссоединения, уже в составе Советского Союза, оставалось еще два с половиной века…
Уильям Мак-Нил
Степной рубеж Европы. 1500-1800
Ереван: Независимый центр оборонных исследований, 2023[4]
Темой одной из своих работ знаменитый канадский историк Уильям Мак-Нил выбрал судьбу «степного пограничья» Европы. Великая Степь, протянувшаяся от Китая до Венгрии, на протяжении нескольких тысячелетий была коридором для движения масс кочевников. Их жертвами многократно становились земледельческие государства и целые цивилизации. Угроза со стороны кочевников была устранена только в XVIII веке, и добилась этого Российская империя. Это был беспрецедентный поворот! По мнению историка цивилизаций Арнольда Тойнби, именно победа над кочевниками и прочное завоевание агрессивной Степи стали уникальным вкладом России в мировую историю. Мак-Нил же рассказывает, каким образом этот обширнейший регион Восточной Европы – Причерноморье и Подунавье – перестал быть источником витальной угрозы. Из полупустых земель, пригодных только для скотоводства и хищнических татарских набегов, он превратился в житницу Европы. Эта житница обеспечила континент дешевым хлебом и тем самым подтолкнула процессы урбанизации и индустриализации.
История начинается с распада Золотой Орды. Ее могущество, вопреки стереотипам, зиждилось не на набегах, а на контроле над торговыми путями и тесных связях с итальянскими торговыми городами. Распад Орды на несколько маломощных ханств и возвышение Османской империи в конце XV века поставили крест на этих торговых маршрутах. Уничтожение черноморской торговли зерном и рыбой заставило татар вернуться к хищнической «набеговой экономике». Теперь они могли поддерживать существование своего общества только постоянным захватом рабов. В арену их набегов превратилось все Причерноморье. Главным же рынком сбыта рабов стал Константинополь, чьим вассалом было Крымское ханство. Рабы были нужны Османам, так как на них строились и могущество армии (корпус янычар), и эффективность госаппарата (сплошь состоявшего из личных рабов султана). Ежегодные завоевательные походы в Восточную Европу обеспечивали огромную добычу, позволявшую вознаграждать гигантскую армию и держать умеренную налоговую ставку. Христианские государства Восточной Европы, чьи государи не могли создать крупные постоянные армии из-за систематического противодействия собственного дворянства, терпели одно поражение за другим – и быстро переходили в разряд провинций или вассалов Османской империи.
Хищнический механизм османского государства впервые начал давать сбои в ходе покорения Венгрии. Выросли расстояния, на которые приходилось передвигаться армии, осложнилась логистика. Оставалось слишком мало времени на взятие множества крепостей, которыми венгры и австрийцы укрепили границу. Даже в случае победы взятый в разоренной Венгрии куш не окупал затраченных усилий. Поэтому военных походов становилось все меньше, власть султанов ослабевала, янычары из элитного войска превратились в смешанное сословие военизированных ремесленников и торговцев. Пришлось поднимать налоги, а османский аналог дворян, больше не получавший достаточной добычи, принялся усиленно эксплуатировать крестьян. Сельское население стало разбегаться, госаппарат был поражен тотальной коррупцией. По инерции османское господство в Восточной Европе сохранялось, но все уже было готово к большому переделу. Его начали Габсбурги, вышедшие окрепшими из Тридцатилетней войны. Они смогли заставить дворян и горожан платить налоги, достаточные для содержания постоянной армии, с помощью иезуитов создали новую систему образования, сформировали из сербов-эмигрантов собственный аналог казачества – «граничар». С конца XVII века военная фортуна все чаще изменяла туркам, австрийцы же стали постепенно отхватывать у них все новые и новые куски восточноевропейской территории.
Усиление земледельческих государств и их конечная победа над кочевниками, считает Мак-Нил, стали результатом медленного технологического прогресса в сельском хозяйстве. К концу XVII века это позволило приступить к широкомасштабному освоению степных почв. Такая возможность «сделала завоевание и оборону безлюдных степных земель безусловно выгодным предприятием». Это стоило дорого, но отдача обещала быть – и действительно стала – огромной. Ни одно из мелких полунезависимых государств Восточной Европы, от Венгрии до Украины, не было способно осуществить крупномасштабные организационные и политические мероприятия, которые бы позволили их населению безопасно осваивать Степь. Земледельцам требовалась защита, которую могла дать только современная профессиональная армия. Армия нуждалась в огромных денежных средствах на содержание и оснащение. Средства невозможно было собрать без эффективной налоговой системы. Заставить население платить налоги могла только сильная власть. Такую систему удалось выстроить габсбургской Австрии и романовской России, и это воздалось им сторицей. Все мелкие страны были ими поглощены и встали на путь интенсивного развития. Меньше повезло тем, кто остался под властью все более деградировавшей Турции.
Решающий вклад в дело колонизации причерноморской Степи, признает историк, внесла Россия. После петровских преобразований она начала медленное, но неуклонное движение на юг. Победы екатерининских армий над огромными, но слабо организованными и технически отсталыми османами привели к тому, что Черное море перестало быть «турецким озером». Крымское ханство упразднилось, все северное черноморское побережье перешло под власть Санкт-Петербурга. Этот гигантский регион, названный Новороссией и разделенный на три губернии, к моменту прихода русских оставался малозаселенным. Но за генералами пришли администраторы, которые строили города и порты. Императрица щедро раздавала новые земли царедворцам и офицерам, побуждая их переводить сюда крепостных. Приезжали и свободные люди, привлеченные внушительными налоговыми льготами и привилегиями. Огромный поток иммигрантов двигался из Центральной и Западной Европы. Вся Новороссия обратилась в цветущий сад. Всего за несколько десятилетий Одесса, основанная на месте захудалого турецкого поселка Хаджибей, стала крупнейшим портом империи, а затем и третьим по величине городом России. Выращиваемый здесь хлеб превратился в главный экспортный товар империи, рынок сбыта для которого – вся Европа.
Гавриил Попов
Истоки российской беды. Русский вариант выхода из феодализма в XIX веке – причина трех революций XX века
М.: Международный университет в Москве, 2008
Не самая актуальная тема и не самый уважаемый в наше время автор… Однако, прочитав эту книгу, я понял, что строго рекомендую ее всем интересующимся современной российской историей и политикой. В ней удачно схвачены и весьма ярко и понятно изложены ключевые моменты главного события XIX века для нашей страны – освобождения крестьян, без которого вступление России в капитализм было бы невозможно. Освобождение произошло не само по себе, это было решение государства, а значит, предмет борьбы влиятельных групп и общественных классов. Борьба эта была долгой и упорной, ибо на кон было поставлено очень многое. Неслучайно три подряд императора – Павел, Александр Первый и Николай Первый – размышляли об освобождении и готовились к нему, но реализовать его не смогли. И это в самодержавной России, где власть императора, как известно, была ограничена только удавкой дворянского переворота! Итак, борьба за освобождение крестьян достигла кульминации после проигранной Крымской войны, когда полувековое доминирование России в Европе и на Ближнем Востоке завершилось унизительным поражением. Это поражение оказалось тем более важным стимулом к решительным действиям, что отказ от извлечения уроков из войны и от радикальных перемен, которые бы сделали повторное поражение невозможным, грозил непосредственно императору и династии Романовых в целом. Николай Первый заплатил за Крым жизнью, а за следующий провал, волне возможно, пришлось бы заплатить не просто его сыну, но и всей династии.
Таким образом, перемены превратились в предмет личного интереса императора. Благодаря этому многолетние вялые и безрезультатные обсуждения крестьянского вопроса в многочисленных придворных и правительственных комитетах перешли наконец в фазу энергичной и последовательной подготовки к реальной отмене крепостного права. Вывод Попова: в самодержавно-бюрократической системе только личный интерес первого лица, его воля и умение справляться с сопротивлением бюрократической иерархии и правящего класса способны привести к реальным глубоким изменениям. Однако воли и умения недостаточно, важен расклад общественных сил. Автор подробно описывает перипетии почти пятилетней подготовки Манифеста об освобождении крестьян, анализируя интересы сторон и стратегию их продвижения. Попов совмещает в этом анализе классический классовый подход с особым вниманием к роли государства. В отличие от марксистов, он рассматривает государство (в лице императора, его семьи, отчасти двора и высшей бюрократии) как автономную силу, пусть и тесно связанную генетически, социально, политически и экономически с правящим классом (дворянством). Этот момент принципиально важен, ибо расстановка социальных и политических сил в послекрымской России была такова, что у проекта освобождения крестьян, по сути, отсутствовали влиятельные сторонники. Большая часть дворянства, как низшего, так и высшего, была категорически против отмены крепостной зависимости; купцы и горожане относились к нему индифферентно; протестная активность в среде самого крестьянства была минимальной; узкие группы революционных демократов и либеральных помещиков значимым влиянием не располагали.
Так что инициативу освобождения крестьянства пришлось взять на себя лично императору – и далее упорно преодолевать не только бюрократическую инерцию самодержавного государства, но и сопротивление (когда скрытое, а когда и откровенное) правящего класса. Союз императорской семьи (не только Александр Второй, но и несколько его ближайших родственников стали главными борцами за освобождение крестьян) с небольшим числом либеральных помещиков и просвещенных высших бюрократов позволил запустить процесс подготовки реформы, подготовить основные документы и начать обсуждение. Не дать «замотать» процесс уже в самом начале удалось оригинальным приемом, которого всегда страшится бюрократия: сделать его гласным, открытым для общественности, действовать быстро и напористо, вовлекать в обсуждение широкие слои. «Лайфхаков» было изобретено много, и уже сам их перечень представляет особый интерес для любого наблюдателя за российскими реформами (в наше время, думаю, освобождение крестьян имеет собственную аналогию – реформу контрольно-надзорной деятельности, стартовавшую уже давно, но пока так и не принесшую ощутимых результатов. Уверен, ее инициаторам нелишне было бы познакомиться с опытом и наработками своих предшественников полуторавековой давности – в бюрократической практике мало что меняется).
А затем, когда процесс набрал собственную инерцию и стало понятно, что освобождение все-таки состоится, центр борьбы сместился на условия освобождения. Вот здесь уже классовая борьба разгорелась вовсю! Ведь речь шла ни много ни мало о выживании дворянства как класса: если бы крестьяне освобождались бесплатно и с землей, дни дворянства были бы сочтены, а если за плату и без земли, то это могло вызвать катастрофическое разорение крестьянства, крах госбюджета и исчезновение мобилизационного ресурса для армии. Государство, показывает Попов, пошло навстречу прежде всего дворянству – и обеспечило его финансовые и материальные интересы на полвека вперед. Однако «прусский путь развития капитализма», защищаемый крупнейшими землевладельцами (имеется в виду быстрое освобождение крестьян, но совсем без земли), в России все-таки не реализовался. Вместо него сформировался «русский пусть», сложный, противоречивый, труднореализуемый, полный компромиссов и отсрочек. Такой путь затягивал капиталистическое развитие страны, затруднял его, сковывал действия всех социальны сил – и для своего продвижения требовал активных и деятельных усилий государства, его посреднической, модерирующей, арбитражной роли. Все классы России после освобождения крестьян ослабли («порвалась цепь великая, порвалась и ударила – одним концом по барину, другим – по мужику»), и только государство усилилось!
Это был выдающийся успех русского самодержавия: гибко маневрируя и торгуясь, навязать обществу, причем всем его слоям, от низших до высших, такой вариант реформы, который отвечал интересам не их самих, а прежде всего самого самодержавия и высшей бюрократии. Этот успех позволил отодвинуть решение аграрного вопроса на полвека, затянул и осложнил развитие капитализма в России, но главное – сохранил власть в прежних руках, спас (на долгое время, но не навсегда) династию и самодержавие. «Абсолютизм и его бюрократия сознательно выбирали такие варианты реформ, при которых потребность страны в машине абсолютизма не просто выросла, но и стала повседневной». Старое, абсолютистское начало в русской жизни не только спаслось, но и укрепилось. В этом-то, по мысли автора, причина всех революций XX века: «реформа 1861 г. создала условия для того гигантского взрыва, который смел и самодержавие, и весь его аппарат», а заодно и помещиков с буржуазией. Избранный самодержавием путь, как показывает весь опыт России рубежа XIX–XX веков, «не снимает исторический конфликт старого и нового, а только отодвигает, делая его в перспективе еще более острым и более катастрофическим». Урок, не выученный последующими поколениями российских и советских правителей: не проводя назревшие изменения с учетом интересов широких масс, готовишь своим наследникам гибель и разорение.
Александр Пыжиков
Взлет над пропастью. 1890-1917
М.: Концептуал, 2018
Недавно ушедший из жизни историк Александр Пыжиков известен своими ревизионистскими, то есть отличными от устоявшихся в историографии, взглядами, но это отличие совсем не похоже на тот тип ревизионизма, который исповедуют историки либерального направления. Его работа посвящена событиям последнего двадцатипятилетия перед крушением Российской империи, пришедшегося в основном на правление Николая II. Пыжиков формулирует новый подход к изучению этого важнейшего периода, иначе расставляет акценты во внутриполитической борьбе поздней империи, тесно увязывает ее с экономическими реалиями и взаимоотношениями России с другими мировыми державами. Главный объект его исследования – чиновничья верхушка времен последнего императора, группировавшаяся прежде всего в Государственном совете и Минфине. Как показывает Пыжиков, в этой среде резко сокращались аристократические и родовитые дворянские элементы – они замещались выходцами из пореформенной интеллигенции. Этот новый управленческий слой на рубеже веков заявил о себе как о самостоятельной силе, нацеленной на модернизацию страны по собственному варианту. В традиционной историографии этот субъект отсутствует от слова «совсем», несмотря даже на такой важнейший факт, как принадлежащее его членам авторство николаевской Конституции (Основных государственных законов Российской империи) и многих других основополагающих нормативных актов того времени.
Пыжиков перетолковывает предреволюционную историю с учетом позиций этого слоя (его можно назвать «технократы»), его программы и управленческой деятельности. Программа этой группы ставила во главу угла требования модернизации страны – но по консервативному сценарию, без рывков и шапкозакидательства, с опорой на идеологию популярной в конце XIX века немецкой «исторической школы», требовавшей вместо бездумного внедрения в жизнь «общеобязательных» прогрессивно-либеральных рецептов обязательного учета действительных обстоятельств и особенностей каждой страны. В отличие от российских кадетов, настроенных на ускоренную либерализацию России по примеру Англии и Франции, имперские технократы уделяли большое внимание культурным и ментальным особенностям народов России, подчеркивая, что неизбежные негативные издержки бездумного реформирования не только перечеркнут все выгоды от него, но и надолго перекроют возможности для дальнейших изменений в избранных сферах. В отличие от дворянской верхушки, группировавшейся вокруг императорского двора, технократы настаивали на индустриализации страны, разрыве с полупатриархальной сельской Россией. В отличие от торгово-предпринимательской буржуазии, обогатившейся на реформах Александра II, они весьма подозрительно относились к частной инициативе, усматривая в ней (с учетом печального опыта дорогого и неэффективного железнодорожного строительства и «банковской горячки») скорее казнокрадство и обирание государства и потребителей сверхжадными «олигархами».
Организующая роль государства в экономике, прямое участие госбюрократии в управлении банковской системой, отстранение частных предпринимателей от командных высот – таково кредо технократов, на котором строилась их линия на модернизацию страны. Линия, входившая в конфликт как с интересами аристократии (частью требовавшей дорогостоящей поддержки стагнирующего дворянского землевладения, частью – казенного финансирования заведомо убыточных коммерческих афер великих князей и прочих приближенных императора), так и с интересами купечества, группировавшегося в Москве (и требовавшего дешевого, а то и безвозвратного государственного кредита, но не желавшего вкладывать значительные средства в индустриализацию и к тому же не имевшего знаний и навыков индустриального типа). В конечном счете этот конфликт, по мнению Пыжикова, и разрушил империю: если сначала московское купечество рассчитывало взять власть через парламентаризацию монархии и контроль над Государственной думой, то со временем, разочаровавшись в ней и будучи обойденным петербургской финансовой бюрократией, сделало ставку на прямое свержение монархии. Отсюда известные случаи финансирования революционных партий видными московскими купцами, начиная с Саввы Морозова.
В конфликте между столичными финансистами и московскими купцами симпатии автора, очевидно, на стороне первых. Именно они привлекли в страну иностранный капитал, без технико-производственных знаний которого (не говоря уже о деньгах) имперская индустриализация просто не состоялась бы. Именно они, а не известный виртуоз саморекламы Витте, подготовили и организовали стабилизацию расстроенной войнами и реформами российской финансовой системы (знаменитый «золотой рубль», сделавший возможными постоянные крупные заимствования капиталов на Западе). Именно они перестроили слабую и низкоэффективную банковскую систему, доставшуюся в наследство от эпохи Александра II, заменили ее топ-менеджмент и сделали петербургские банки консолидирующими центрами огромных финансово-промышленных групп, способных модернизировать и расширить целые отрасли промышленности. По сути, это были уже не частные банки, а правительственные агенты, тесно сообразовывавшие свои вложения с государственной политикой, а не с интересами доморощенных олигархов или иностранных акционеров. Эти банки стали инвестиционными окнами, в которые поступал необходимый индустрии западный капитал – в то время как московские банки оставались маломощными олигархическими структурами, «где заправляли купеческие тузы, изображавшие из себя лучших сынов родины».
В модернизационной программе петербургской бюрократии (ее лидерами автор считает Вячеслава Плеве и Дмитрия Сольского) видится явная перекличка с современной китайской стратегией государственно-частного партнерства под жестким контролем государства. «Догоняющая модернизация в патриархальных экономиках не может начинаться с провозглашения свободного рынка. В отсутствие необходимых традиций и институтов запуск полноценной либеральной модели – это путь к верному краху», – констатирует историк. Шанс на такую модернизацию для России существовал и был отчасти реализован, но еще большие перспективы он сулил на послевоенный период: реорганизованная и расширенная промышленность в сочетании с многочисленной и дешевой рабочей силой грозила завалить Европу и мир продуктами и товарами российского производства (тем самым предвосхитив экономическое возрождение Китая и его превращение в «фабрику мира» на рубеже XX–XXI веков). Увы, эта модель была сломана уже в конце 1915 г. погружением империи в общий кризис: «отказ Николая II утвердить правительство, ответственное перед Думой, резко усилил оппозиционный настрой в элитах. В этих условиях управленческая бюрократия как самостоятельный субъект начала размываться». Победило московское купечество, представленное в Думе кадетами и заручившееся поддержкой военной верхушки. Организованное ими Временное правительство попыталось «устранить со своего пути все, что препятствует олигархическому разгулу, и превратить государство в „служанку“». Увы, скоро стало ясно, что эта победа оказалась пирровой – если что москвичам и удалось, «так это уничтожить и предать забвению наработки правительственных технократов», а затем – самим оказаться «унесенными ветром» Октябрьской революции.
История СССР
Отто Лацис
Перелом. Опыт прочтения несекретных документов
М.: Политиздат, 1990
Как всех нас учили в советской школе, молодого Володю Ульянова в свое время буквально «перепахала» одна книга, после которой он встал на путь революционной деятельности. Эта книга – «Что делать?» Николая Чернышевского, ее потом пришлось штудировать нескольким поколениям советских подростков. Как пишут биографы, была такая «перепахавшая» книга и у самого радикального реформатора в нашей новейшей истории – Егора Гайдара. Он в свое время прочитал «самиздатовскую» рукопись, ходившую по Москве, – «Перелом» советского экономиста Отто Лациса. Эта книга, написанная в 1972 г., при Брежневе издана быть не могла, потому что ставила слишком острые вопросы и предлагала слишком критичный взгляд на то, что именно мы построили в СССР в ходе индустриализации и коллективизации. «Перелом» вышел из печати только в перестроечные времена, в 1990 г., уже в обновленном и доработанном виде. Теперь автор был нацелен на то, чтобы дать ответ новоявленным «советским консерваторам» – тем, кто поставил под сомнение начавшийся вал разоблачений Сталина и его единомышленников. Защищая поруганного вождя, они пытались остановить разрушение построенного им государственного здания. Сегодня, три десятилетия спустя, фигура Сталина остается одной из самых дискуссионных в наших спорах об истории: «реальный облик тирана забыт – рождается новый миф».
Ювелирная, детальнейшая работа Лациса с историческими документами-стенограммами партийных съездов и конференций 1920-х годов, статьями и выступлениями тогдашних политиков – показывает, как на самом деле осуществлялся «великий перелом», покончивший с НЭПом и переведший социалистическое строительство в России на сталинские рельсы. Главный тезис Лациса, остающийся интересным и сегодня, когда все споры о разногласиях в послереволюционной коммунистической верхушке кажутся малоактуальными, таков: у раннего СССР была альтернатива сталинскому курсу! «Ведь если выбора не было, если путь наибольших народных жертв был объективно предопределен – историкам пришлось бы оправдать Сталина». Напротив, его курс, считает автор, был альтернативой ленинскому курсу. Вообще, пишет Лацис, история – «это извилистая тропа со множеством развилок», она альтернативна, это не «прямой как стрела тоннель в скале, из которого путникам не сделать ни шага в сторону». Если Ленин ставил задачу постепенного, медленного, растянутого на десятилетия «врастания в социализм», то Сталин потребовал от руководимой им партии ускоренного, форсированного строительства социализма – несмотря на все объективные условия и вопреки им, ценой неимоверных жертв и лишений. «Переломом» Лацис называет тот переворот, который Сталин почти незаметно подготовил и осуществил в 1928–1929 гг. До тех пор, руководя партией, он последовательно и настойчиво отстаивал курс на НЭП, проложенный Лениным после краха «военного коммунизма», и упорно боролся против разнообразных «оппозиций» – Троцкого, Каменева и Зиновьева, требовавших покончить с НЭПом и начать ускоренную индустриализацию.
Однако, победив своих соперников в Политбюро, разоблачив и заклеймив их как «леваков», лишив их политической роли и влияния, он взял на вооружение их же лозунги – и, не называя авторов, навязал партии их курс. Точнее, теперь это был уже его, сталинский курс, и сверхамбициозные темпы первых пятилеток назовут не троцкистскими или зиновьевскими, а именно сталинскими. Лацис с документами в руках показывает, насколько отличным было сталинское понимание путей «построения социализма в одной стране» от ленинского и насколько вариативными были эти пути. Он жестко полемизирует с исследователями, начиная с Милована Джиласа, которые приравнивали сталинизм к ленинизму и признавали Сталина верным продолжателем дела Ленина. Настоящим продолжателем ленинизма, считает автор, был не Сталин с его штурмовщиной и эскалацией насилия во всех сферах, а Николай Бухарин. Марксистский теоретик и политик, он вошел в историю как «правый уклонист», потому что требовал продолжения ленинского НЭПа и постепенной, хорошо рассчитанной и скоординированной с потребностями российского крестьянства индустриализации. Только медленный и учитывающий интересы крестьянства, поддерживающий ленинский курс на «смычку» рабочего класса с ним путь кооперирования, считал Бухарин, мог привести к построению по-настоящему социалистического общества. Конкретный план кооперации был рассчитан знаменитым ученым Александром Чаяновым. Вместо этого – усилиями Сталина – мы получили ограбление и уничтожение крестьянства, его ускоренную «колхозизацию» ради высочайших темпов индустриализации.
Но, может быть, оно того стоило? Нет, показывает Лацис, анализируя статистику первой и второй пятилеток, как раз наоборот: форсирование обернулось тотальной бесхозяйственностью, чудовищной растратой и омертвлением основного капитала (сформированного за счет ограбления и терроризирования крестьянства), ни одна ключевая задача первой пятилетки не была выполнена, а задачи второй пришлось резко скорректировать в сторону уменьшения, чтобы сбалансировать трещавшую по швам советскую экономику. И это не говоря о страшном голоде 1932–1933 гг. Не говоря о страданиях и лишениях колхозных крестьян и раскулаченных. Не говоря о долгосрочных последствиях «перелома» – крахе трудовой этики, разрушении стимулов к труду, всеобщей бюрократизации хозяйства и жизни в Советской стране. Такова была цена сталинского «перелома» – отказа от ленинского плана «врастания в социализм». Впрочем, есть еще одно возражение: да, «перелом» был травматичным и болезненным, но иначе мы не смогли бы подготовиться к великой войне – и победить в ней! Это возражение автор тоже рассматривает – и с цифрами на руках показывает, что Сталин своими форсированными темпами, по сути, едва-едва вышел на те достаточно осторожные показатели, которые предлагались Госпланом до всякого «перелома». Иными словами, никакого выигрыша в темпах не произошло – наоборот, случилась огромная потеря и растрата тех скудных ресурсов, которые имелись у СССР и которые, будь они использованы правильным образом, дали бы куда больший эффект. И речь идет не только о материальных ресурсах, но и о ресурсах человеческих. Не будь «великого перелома», предполагает Лацис, вряд ли мы бы увидели в начале войны миллионы советских граждан, перешедших на сторону врага, вступивших в армию Власова и немецкие полицейские части. А еще в книге приводятся совершенно зубодробительные цитаты из выступлений Сталина и Бухарина, показывающие, что первый преступно долго – практически до 1935 г. – недооценивал опасность фашизма, нацеливал коммунистов на конфликт с социал-демократами и готовился к войне с Англией и Францией, в то время как Бухарин с самого начала усматривал главного врага в Гитлере и предлагал политику «единого фронта». Ту самую, к которой Сталин пришел только спустя годы после победы Гитлера в Германии – будь она реализована раньше, вполне возможно, и не было бы этой катастрофической победы.
Но как же все это стало возможным? Почему партия, твердо шедшая ленинским курсом вплоть до 1929 г. и умело преодолевшая все кризисы НЭПа – и кризис хлебозаготовок 1923 г., и кризис денежного обращения 1925 г., – стойко отбившая все нападки Троцкого, Зиновьева и Каменева на политику «смычки» рабочего класса и крестьянства, в решающий момент пошла не за Бухариным, а за Сталиным? И как такой человек, как Сталин, вообще мог взять власть в обществе, только что освободившемся от самодержавия? Это, наверно, самый сложный вопрос, ответ на который пытается найти Лацис. Он признает, что в послереволюционном обществе действительно существовала мощная тенденция к ускорению темпов социалистического строительства через пересмотр НЭПа как политики «смычки» пролетариата с крестьянством. Две эти тенденции противостояли и боролись друг с другом, и Сталин положил свой авторитет и мощь выкованного им партийного аппарата на чашу весов, склонив ее тем самым в сторону «ускорения». Если Ленин в 1918 г. личным авторитетом вынудил партию принять Брестский мир, а в 1921 году – покончить с «военным коммунизмом», то Сталин в 1929 г. навязал ей «борьбу за план». К этому времени он уже был единственным и признанным лидером партии, ее символом, ему верили безоговорочно, за ним шли как за верным ленинцем. Верили зачастую на слово, тем более что сам Сталин, вопреки требованию Ленина не расширять ряды партии, а наоборот, чистить и сокращать их, все 1920-е годы упорно расширял численность РКП(б) так, что к 1929 г. это была уже не партия профессиональных революционеров, а партия советских бюрократов и молодых «полурабочих». Сталин, показывает автор, умело манипулировал не только аппаратом (а «сталинский подход был, без сомнения, милее любому бюрократу – Ленин требовал уж очень многого, тогда как Сталин ставил задачу просто и ясно»), но и массами, которые он побуждал решительным рывком, штурмом, кавалерийской атакой прорваться к желанному социализму. «Его устраивала психологическая подготовка нового общества к тому, что враг массовиден, а насилие над массой людей – оправданно». А когда стало понятно, что выбранные меры не работают, что народ саботирует великие планы, – превратил страну в один большой концлагерь.
«Если проблема в том, что они слишком часто увольняются по собственному желанию – запретить это, только и всего. Запрет свободного выбора работы, годы тюрьмы за десяток украденных гвоздей – таковы были трудовые законы при Сталине». Воцарился террор – но не террор во имя разрушения старого строя, который признавали необходимым и Маркс, и Ленин, а террор «во имя созидания нового общественного строя». Какой новый строй можно построить террором? Только террористический. Такой и построил Сталин в СССР, и назвал его «реальным социализмом». Поиски альтернативы ему – «социализма с человеческим лицом» – шли много лет, но так ничем и не кончились. Их бесплодие погребло под собой и само здание Советского государства. Глубокая историческая ирония в том, что одним из похоронщиков этого государства стал поклонник и младший соратник Лациса – Егор Гайдар. Ученик круто повернул руль к капитализму, реставрации которого так боялся учитель. Он пошел дальше и, вопреки Лацису, отождествил социализм со сталинизмом, обесценив и обнулив тем самым труды и жертвы миллионов советских людей. Тех, кто шел за Сталиным в надежде построить справедливое и счастливое общество, как пятилетку – «в четыре года». Иной альтернативы нет, посчитал Гайдар, и окончательно закрыл для России возможность строительства хоть социализма, хоть капитализма «с человеческим лицом». Именно в этом нас убеждали радикальные либералы, и за это убеждение мы заплатили «лихими девяностыми», гигантским – двукратным! – многолетним спадом производства, обнищанием страны и разочарованием в реформах. Лацис утверждал, что альтернатива всегда существует, и предметно показывал это на материале 1920-х годов. Неужели же мы поверим, что альтернативы не было в 1991-м?
Джералд Истер
Советское государственное строительство. Система личных связей и самоидентификации элиты в Советской России
М.: РОССПЭН,2010[5]
Общепризнанно, что СССР управлялся административно-командной системой. Но насколько действительно командной она была? Ирландский историк-советолог Джералд Истер полагает, что администрирование в СССР было в значительной степени персонифицировано и опиралось на неформальные элитные группы. Более того, без этих групп, которые Истер уподобляет княжеским «дружинам» Киевской Руси, советской власти не удалось бы ни подчинить себе гигантские сельские территории за пределами промышленных центров, ни провести коллективизацию и индустриализацию страны. Переплетение формальной и неформальной структур резко расширило возможности советской власти, но оно же и ограничило самовластие московского Центра. Поэтому период продуктивного и взаимовыгодного сотрудничества между центральными и провинциальными «системами личных связей» закончился их конфликтом и уничтожением целого слоя раннесоветской элиты Сталиным в конце 1930-х годов, после чего государство окончательно превратилось в суперцентрализованное и деспотическое.
Истер рассматривает взаимодействие формальных и неформальных структур диалектически: оно одновременно усиливало изначально слабое, почти лишенное кадров и финансов государство и ослабляло его, деформируя официальную политику. В конечном счете это противоречие вылилось в открытое противоборство между Центром и провинциальными руководителями. Конфликт стартовал в годы коллективизации (1929–1932) как дискуссия по поводу темпов и методов организации колхозов и объемов обязательных поставок хлеба государству. Кризис поставок 1932 г., приведший к катастрофическому голоду, перевел эту борьбу в открытую фазу. В ответ на сопротивление провинциальных начальников Центр инициировал две волны смены низового административного и партийного аппарата (1930 и 1932–1933) и реорганизацию административно-территориального деления с уменьшением размера региональных единиц.
Напрямую региональных вождей репрессии коснулись позже, в 1937 г. Модель смены власти в регионах была отработана на Закавказье, которое в 1932 г. возглавил Лаврентий Берия, выходец из органов внутренних дел, не принадлежавший к генерации «комитетчиков». Он постепенно очистил закавказские парткомы от ставленников прежнего патрона – Серго Орджоникидзе. Ответный ход провинциалы сделали в 1934 г. на XVII съезде партии, попытавшись сместить Сталина и заменить его Кировым. Эта попытка провалилась из-за отказа Кирова выступить против Сталина, а вскоре и сам он погиб при весьма подозрительных обстоятельствах. За Кировым последовали Куйбышев (1935) и Орджоникидзе (1937). Так «комитетчики» лишились своих лидеров, представлявших их интересы в центральных органах власти. Затем было сменено руководство НКВД (1936) и обезглавлена военная верхушка, поддерживавшая тесные связи с провинциалами («заговор Тухачевского»). После этого региональные руководители были обречены, и практически все они в 1937–1938 гг. потеряли должности, а затем и жизни. На смену им пришла новая, послереволюционная генерация руководителей, не спаянная опытом работы в подполье и участия в Гражданской войне. Она была обязана своей карьерой только сталинскому центру.
Провинциальные руководители первого поколения были ближайшими соратниками Сталина по борьбе против «партийных интеллигентов» ленинского призыва, высокообразованных и проведших значительное время в эмиграции. Вернувшись в страну после Февральской революции, они заняли важнейшие посты в ЦК партии, а затем и в Советском государстве. В отличие от них, «комитетчики» были слабо образованы, но в предреволюционные годы они работали в подполье, а затем активно участвовали в Гражданской войне на постах политкомиссаров и членов реввоенсоветов армий и фронтов. В ходе внутрипартийной борьбы 1920-х годов они поддержали Сталина в его борьбе против «интеллигентов», чьими лидерами были Троцкий, Зиновьев и Каменев. В 1929–1932 гг. «комитетчики» стали основной силой, реализовавшей сталинский курс на коллективизацию и индустриализацию. У них не было идеологических разногласий со Сталиным, но они требовали своей доли власти и участия в принятии стратегических решений, лоббируя свои интересы прежде всего через Кирова, Орджоникидзе и Куйбышева, входивших в центральное руководство, но сохранявших тесные связи со своими боевыми соратниками в региональном руководстве. Если бы им удалось навязать Сталину свою волю, Советское государство развивалось бы не как персонифицированное и деспотическое, но как олигархическое и корпоративное. Так, собственно, и произошло, но гораздо позже – в результате свержения Хрущева региональными руководителями, сгруппировавшимися вокруг Брежнева. Последний в ответ обеспечил им несменяемость, участие в принятии решений Центром и обильное выделение ресурсов.
Итак, личностно-групповой элемент в советской системе управления был настолько важен, что командно-административную систему можно расшифровать иначе, чем принято: элемент бюрократической централизации и иерархии в ней успешно сосуществовал с элементом групповщины, организованной по принципу «команд». Дружины в княжеской Руси, клиентелы в царской, команды в советской и постсоветской – вот подлинный горизонтальный структурообразующий принцип нашей элиты, не уступающий, а то и превосходящий по влиянию формальные бюрократические вертикали. Но этот элемент конкурировал с волей центральных органов и периодически подвергался репрессиям в разных формах. Без помощи «дружин», как показывает Истер, победа и утверждение советской власти были невозможны. Самой же элите такие образования необходимы как инструменты самозащиты от деспотизма Центра и обеспечения стабильности собственного положения, а также карьерного роста. Немыслимо без них, добавим, и управление в современной России.
Роберт Аллен
От фермы к фабрике. Новая интерпретация советской промышленной революции
М.: РОССПЭН, 2013[6]
Крупный современный американский экономист неоинституционального направления Роберт Аллен известен своими исследованиями промышленной революции в разных странах мира. Россия для него – важный опыт «другой» индустриализации, отличной от первой и образцовой (британской). Крах СССР побудил многих ученых мазать черной краской все, что было сделано советскими людьми, но Аллен считает это большой ошибкой. Его цель – разобраться в причинах потрясающих успехов советского проекта, которые затем сменились неудачами, что в итоге привело к гибели целого государства. «Смерть требует процедуры вскрытия. И гибель страны – не исключение». Аллен тщательно восстанавливает, зачастую прибегая к изощреннейшим методам анализа, количественные показатели советского экономического роста, сопоставляет их с примерами других стран и прорабатывает альтернативные варианты истории («а что было бы, если…?»). Он пытается понять, какие из институтов советской модели оказались эффективными и существовал ли способ повысить эффективность модели в целом. Отправная точка его исследования – представление о месте, которое Россия занимала в мире в начале XX века, перед Первой мировой войной и Революцией. Это место, несмотря на успехи имперской индустриализации при Александре III и Николае II, было незавидным: «в царской России не было тех социальных, законодательных и экономических институтов, которые, по мнению теоретиков экономического роста, являются необходимыми предпосылками для перехода к капиталистическому пути развития».
Таким образом, Россия принадлежала к абсолютному большинству стран мира, которые были, остаются и должны остаться бедными на всю обозримую перспективу. Интенсивное промышленное развитие – дорога к богатству – здесь не имело органических, внутренних предпосылок. Но их можно было создать, что государство и сделало! Петр Великий запустил целевую госпрограмму по импорту западных технологий и человеческого капитала, выжав дополнительные деньги из крепостных. В XIX веке правительство развернуло крупномасштабное строительство железных дорог, создав условия для возникновения черной металлургии, угледобычи и машиностроения. Текстильная промышленность получила мощный импульс благодаря таможенной защите и аннексии Средней Азии, где появились огромные хлопковые плантации. Однако такая политика «не позволяла заложить фундамент быстрого развития, перехода к капиталистическому курсу». Потенциал развития, созданный благодаря ей, был быстро исчерпан, и темпы экономического роста перед войной резко упали. Структурная перестройка экономики замедлилась, перспектива повышения доходов населения почти исчезла. Все выгоды от развития доставались узкой прослойке капиталистов и дворян, «процесс капиталистического развития вел к возникновению настолько острых классовых конфликтов, что дестабилизация политической ситуации была вполне закономерна».
Если бы не первые советские пятилетки, «Россия и по сей день оставалась бы отсталым государством» наподобие большинства стран Латинской Америки и Южной Азии. Таким образом, утверждает Аллен, «экономические институты, созданные Сталиным, работали на благо страны. Они представляли собой более совершенный способ использования рычагов государственного управления для стимулирования роста экономики». Сами эти институты возникли в 1920-х годах при реализации НЭПа. В ходе дискуссий о перспективах индустриализации сформировалось несколько подходов, самыми яркими и значимыми из которых автор считает подходы экономистов Преображенского и Фельдмана. Оба исходили из представления о наличии огромной скрытой безработицы на селе, что создавало возможности для быстрой урбанизации и индустриализации. Необходимо было найти мощные стимулы для миллионов людей покидать деревню и искать работу на заводах и фабриках. Таким стимулом – разумеется, негативным, – и стала коллективизация, проведенная Сталиным террористическими методами. У нее, на взгляд Аллена, существовали более гуманные альтернативы (условно-бухаринский путь), но в любом случае именно деревня должна была стать – и стала – основным донором, за счет которого решались задачи индустриализации. Нужно было создать специфические институты, которые бы позволили осуществить индустриализацию быстро и широким фронтом. Капитализм такими институтами не обладал. Ими стали коллективизация, советские пятилетние планы и «мягкие бюджетные ограничения». Именно эта триада и «запустила маховик беспрецедентно стремительной промышленной революции».
В рамках капитализма главное значение для успеха индустриализации имеет прибыль, зарабатываемая новыми предприятиями. В советском планировании прибыль отошла в тень, главным критерием успеха индустриализаторов стало соответствие темпов строительства целевым установкам пятилетних планов. Чтобы их выдержать, большевики либерализовали кредитную политику, снабдив промышленность достаточным количеством денег и хлеба, отобранного у крестьян по символическим ценам. И «чем амбициознее были производственные задачи, тем важнее становился принцип смягчения бюджетной политики». Хотя плановые задания обычно не выполнялись, они играли роль ключевого инструмента мотивации управленцев к форсированной индустриализации. Погоня за планом «привела к резкому росту занятости и очевидной неэффективности использования труда», но «мягкая бюджетная политика позволяла забыть о том, ценой каких затрат достигается этот рост». Коллективизация же, вытолкнувшая миллионы крестьян в город, снабдила стройки социализма почти бесконечным ресурсом рабочей силы. Ставка на приоритетное развитие «группы А» (производство средств производства) позволила достичь высочайших темпов экономического роста, создать современную промышленность и подготовиться к войне. Заплачено было за это временным снижением уровня жизни трудящихся города и деревни, который, однако, вернулся к прежним показателям и превзошел их уже к концу 1930-х годов.
В завершение исследования Аллен обращается к периоду 1970-1980-х годов, когда темпы роста советской экономики резко упали, а затем и вовсе исчезли, что в конечном счете и привело к распаду СССР Он аргументированно опровергает священную веру «рыночников» в то, что советская экономика по определению не могла долго существовать и просто обязана была развалиться. На его взгляд, никакой обреченности и изначальной фатальности в ее судьбе не было. Дело не в устройстве советской модели, а в изменении внешних и внутренних условий ее существования и некоторых неправильных решениях, принятых советским руководством во времена Брежнева. Во-первых, эскалация холодной войны заставила СССР пожертвовать темпами промышленного роста ради развития военно-промышленного комплекса: это лишило гражданскую промышленность капиталов и умов, опустошило потребительский рынок и создало экономику всеобщего дефицита. Во-вторых, доктрина всеобщей занятости как важного достижения советской модели помешала повысить эффективность капиталовложений: затыкать все узкие места «резервной армией труда» получалось в эпоху первых пятилеток, но после войны такая армия просто исчезла, резко обострилась нехватка рабочей силы. Отойти от этой установки руководство СССР не решилось по идеологическим соображениям. В-третьих, советское правительство не нашло в себе силы закрывать старые предприятия ради создания совершенно новых и современных, вместо этого омертвив громадные капиталы и трудовые ресурсы в ходе неэффективной модернизации заводов-гигантов первых пятилеток. В-четвертых, ориентация на план, а не на прибыль – условие успеха индустриализации – в новых условиях оказалась губительной и превратила советскую промышленность в кадавра, пожиравшего все новые и новые вложения без адекватной отдачи. Все можно было поправить, но «руководству страны не хватало находчивости, позволяющей справляться с новыми вызовами времени». Так советская элита своими руками выстроила дорогу к гибели великого государства.
Максим Лебский
Рабочий класс СССР. Жизнь в условиях промышленного патернализма
М.: Горизонталь, 2021[7]
Советское государство считалось страной трудящихся, а рабочий класс в ней – правящим. Почему же в 1991 г., когда это государство распалось, рабочий класс не поднялся на его защиту? Наоборот, трудящиеся активно участвовали в его развале и растаскивании по национальным квартирам. Этот парадокс заставляет задуматься, чем на самом деле был советский рабочий класс и в каких отношениях он состоял со «своим» государством. Молодой российский социолог-марксист Максим Лебский изучает жизнь рабочих в условиях «промышленного патернализма», существенно усилившегося в результате косыгинской экономической реформы 1965–1969 гг. Если революция в 1917 г. сделала рабочий класс субъектом истории и дала ему доступ к управлению государством, то уже с конца 1920-х годов он оказался «политически обезличен в связи с тем, что государственно-партийная бюрократия оттеснила рабочих от управления обществом». Так стартовал процесс «деструкции рабочего класса и превращения рабочих в аморфную массу советских обывателей» – что интересно, на фоне его безусловного количественного и качественного роста. В ходе индустриализации был сформирован, по сути, «новый рабочий класс, который был крайне восприимчив к упрощенным политическим лозунгам о победе социализма в СССР». Стремительный слом крестьянского уклада, массовый приход крестьян на заводы создали «переходный тип полурабочего-полукрестьянина», сохранявшийся несколько десятилетий. Но и сами заводы и фабрики радикально изменились в своей социальной роли! Ячейкой советского общества стала не семья, а трудовой коллектив.
«Вся жизнь советских рабочих и их родственников оказалась теснейшим образом связана с предприятием как организатором социально-экономического пространства». Завод выполнял широкий спектр непроизводственных функций: строил и содержал детсады, больницы, пионерские лагеря, жилье, магазины, столовые, дома культуры, турбазы, библиотеки, подсобные хозяйства, стадионы и др. Это не только полностью соответствовало официальной советской идеологии, но и было важным элементом советской модели индустриализации: средства на нее выделялись конкретным заводам, а уже их директора, руководствуясь сугубо производственными целями, были вынуждены думать о том, как и чем удержать рабочих. Так, в полуголодные 1929–1933 гг. заводы организовали систему снабжения, удовлетворявшую потребности рабочих. Затем началось масштабное жилищное строительство – опять-таки в интересах и по линии заводов и фабрик. Без этого закрепить на заводе полурабочего-полукрестьянина, который всегда мог уйти на другую «великую стройку», было сложно. Если в исторических центрах страны жилье строилось и управлялось преимущественно местными властями, то в новых индустриальных городах львиная доля его возникала и содержалась предприятиями. И этот способ создания устойчивых заводских коллективов сработал! Отсутствие жилья и детсадов, плохие условия труда, низкая зарплата – все эти главные причины ухода рабочих нейтрализовались активным развитием социальной сферы за счет и вокруг предприятия. Так в 1930-е годы сформировался «промышленный патернализм»: государство перекладывало на директоров предприятий решение социально-бытовых проблем рабочих, а те боролись с текучкой рабочей силы путем предоставления работникам дополнительных материальных льгот помимо зарплаты.
Новый импульс эта система получила в 1960-х годах, когда трудоизбыточность советской экономики сменилась дефицитом рабочей силы. Протест советского рабочего против тяжелых условий труда и низкого вознаграждения выражался не в забастовках и политической борьбе, как в царской России и на Западе, а в увольнении либо в «осуществлении негативного контроля над производством: производстве брака, нарушении трудовой дисциплины». Встал вопрос, как стимулировать рабочих не только оставаться на предприятии, но и работать продуктивнее. Решение, которое нашли премьер Алексей Косыгин и его соратники, было таким: повысить долю прибыли, оставляемую в распоряжении предприятия, и расширить возможности директора завода распоряжаться этой долей. Предполагалось, что это мотивирует работников брать на себя более напряженные производственные планы и выполнять их. По факту этого не произошло, но зарплаты и премии работников действительно увеличились, как и полномочия директорского корпуса. Это отвечало его стремлению к расширению своей автономии, которая при Сталине успешно подавлялась, а при Брежневе – наконец восторжествовала. Госплан во многом утратил руководящие функции, «ведомственная либерализация» экономики привела к разбалансировке народного хозяйства и ослабила его управляемость. Более того, реформа запустила процесс размывания «института государственной собственности, способствуя постепенному выделению из нее собственности групповой». Тем самым были заложены основы «директорской приватизации», развернувшейся в 1990-х годах, когда прежде общенародные предприятия через разнообразные схемы превратились в собственность «красных директоров».
