Читать онлайн Позади вас – море бесплатно
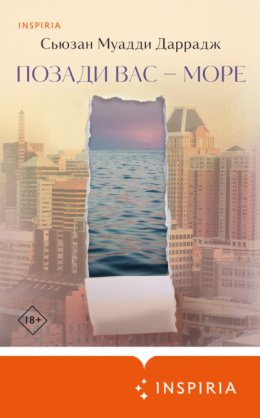
Susan Muaddi Darraj
BEHIND YOU IS THE SEA
Copyright © HarperVia, 2024
Published by arrangement with William Morrow Paperbacks, an imprint of HarperCollins Publishers
© Кульницкая В., перевод на русский язык, 2024
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024
Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет за собой уголовную, административную и гражданскую ответственность.
* * *
«Заботливо сотканный портрет семей американских палестинцев».
New York Times
«Смело развенчивает стереотипы о палестинской культуре, сплетая яркую картину из прихотливых моментов жизни… Я плакала и росла вместе с эими сембями».
Итаф Рам, автор книги «Женщина – не мужчина»
* * *
Моим детям:
Мириам, Джорджу и Габриэлю
Своему изгнанию вы должны быть столь же преданы, сколь и родине.
Ибрагим Насралла
Если то, что разбивает нам сердце,
давно поросло быльем,
и колоннада в молчании
ждет динамита,
если мир, что мы любим,
не существует давным-давно,
пускай прах поглотит имена наши
пусть сгорят карты под нашими ногами,
если мы – это прошлое,
то кто же те миллионы, что жаждут воздуха?
Лена Халаф Туффа«Разрушь»
Из воздуха ребенок лишь
Рима Баляди
Амаль свое тоже называет «Это»; впрочем, говорят, она проблему уже решила. Братец у нее коп, уж верно раздобыл где-то денег. Торри считает, он наверняка наркотой барыжит, как все эти продажные поганцы. Но Маркус не такой. Слышь, говорю я Торри, мы с ним вместе выросли, Маркус – он без гнильцы. Торри тоже пытался достать деньжат, чтобы я от Этого избавилась, но тут я ему еще кое-что сказала: я, говорю, даже будь у меня деньги, все равно свое сохранила бы.
Торри не понимает… Да и вообще никто не понимает… А ведь это самое классное, что со мной произошло за всю жизнь.
Торри неплохой парень. Просто он в такой переплет уже попадал. Раз подкинул проблем Тиме, девчонке, что снимала жилье возле Хопкинсов, и она аж до двенадцатой недели доходила, прежде чем меры приняла. До двенадцатой! Еще, говорит, с одной девчонкой из Дандалка случай был, но та не захотела его видеть, так что он передал ей пачку полтинников через друга.
Жениться Торри не желает, но мне плевать, все равно папа при смерти. Это у Амаль папаша строгий, а мой-то еле дышит. С больным отцом арабские обычаи соблюдать не обязательно.
Как правило, у нас еще и матери следят, чтоб ты не сбилась с пути: росла стройной и здоровой, однажды вышла за доктора и после могла себе позволить маникюр каждую неделю и прислугу, чтобы убиралась в доме. Но когда раздавали строгих матерей, мы с Амаль, видно, прогуливали. Не подумайте, что нам сильно повезло: просто мама Амаль умерла сто лет назад, а моя превратилась в сущее привидение. Например, когда я рассказала ей про Это, она просто посмотрела сквозь, будто меня и в комнате не было. Весь день она или молится за бабá[1], или оттирает с линолеума несуществующие пятна. А иногда – с тех пор, как отцу стало хуже, все чаще – кладет на подоконник подушку, опирается на нее локтями и смотрит в окно на Вольф-стрит, где бурлит чужая жизнь.
– Твоя мама чокнутая, – бросает Торри, когда я говорю, что хочу Это сохранить и что надеюсь на мамину помощь поле того, как Оно родится.
– И че?
Видите, я даже не отрицаю.
– Да просто. Она за собой-то следить не в состоянии, а ты хочешь, чтоб она следила за моим ребенком.
– Нет, я хочу, чтоб она следила за моим ребенком.
– Рима, да хорош. У нее крыша поехала.
– Так весь квартал говорит. По-твоему, мне не наплевать, что они думают?
– А я как же?
– Ты? – перебиваю я, суровая такая, куда деваться. – Что ты думаешь, меня вообще не колышет.
Когда я ругаюсь, он обычно долго смотрит на меня, потом улыбается во все тридцать два и лезет целоваться. И сейчас так делает, и когда мы только познакомились тоже.
* * *
Я работала в ресторане и кахве[2] «Аладдин». Хозяином там мистер Нагиб, которого из-за глухоты все зовут аль-Атраш[3]. Он тоже из Тель аль-Хилу, деревни, откуда родом мои родители. Бабá у него подрабатывал иногда, вот почему, услышав, что отцовский рак вернулся, да еще злее прежнего, он дал мне работу.
На мое счастье, аль-Атраш ни черта не слышал, вот и поручил мне отвечать на звонки и принимать заказы на столики. Торри в то время частенько тусовался у соседнего гастронома и, проходя мимо, вечно на меня глазел. Бывало, помашет мне. Или, наоборот, делает вид, будто вовсе меня не замечает, а сам то одним боком поворачивается в своих узких джинсах и куртке, то другим. Я всегда стояла за стойкой у входа, а за спиной у меня висела картина, на которой был изображен какой-то тип в наряде султана. Ну и страшная же она была, аль-Атраш ее где-то на барахолке в Кантоне откопал.
И вот однажды Торри нарисовался у двери и подмигнул мне.
Я закатила глаза и развернулась к нему спиной.
А через секунду на стойке зазвонил телефон. И он мне такой в трубку:
– Хоть бы улыбнулась, а?
Смотрю – стоит за стеклянной дверью, к уху мобильник прижал и ухмыляется, главное, так похабненько.
С того дня он постоянно названивал. Пел ту песню Groove Theory, которая мне больше всех нравится. И еще специально подчеркивал голосом строчки: «До чего ты прелестна, когда смеешься. От твоей улыбки мне каждый день в радость». Он постоянно ее пел. Бывало, звонит и сразу поет эту строчку, а сам смотрит через дверь, чтоб я непременно улыбнулась, и только потом дает отбой. А когда мы обжимались, он все время говорил, что я похожа на какую-нибудь знаменитость. Однажды сказал, что на Амель Ларьё, так я чуть от счастья не умерла, она ведь красотка.
До Торри мне никто еще не говорил, что я красивая. Сейчас он, конечно, злится, что я его не слушаю, но вообще-то он упорный малый. Звал меня «Крошкой», хоть сам всего на два года старше. Но я-то еще в школе учусь, вот он и ведет себя, будто по сравнению со мной до фига взрослый. Знал бы он, как я одна управляюсь с домом и малышкой-сестрой, потому что бабá болеет, а мама превратилась в привидение, сразу бы сообразил, кто тут взрослый, а кто покурить вышел.
Чтобы впервые пойти с ним на свидание, я наврала маме, будто должна допоздна задержаться на работе. Сама-то она никогда с аль-Атрашем не разговаривала (а с кем она вообще разговаривает?), а бабá тогда уже был совсем плох. Целыми днями лежал в постели, весь мокрый, и задыхался от боли, пока мама не даст ему лекарство. А выпив его, сразу же отрубался. Я, конечно, радовалась, что теперь ему не больно, но все равно по нему скучала. Врать маме не хотелось, но сделать это оказалось очень легко. Бабá бы меня в жизни не отпустил – что ж, в том, что он теперь не отличает меня от младшей сестры, нашлись свои плюсы. Так говорит мистер Дональдсон, наш учитель литературы: «В смерти Ромео и Джульетты нашлись свои плюсы – по крайней мере, их семьи осознали свои ошибки». Я еще, помнится, подумала, ну фиг знает. Как по мне, да пошли бы они, эти семьи.
Ну да ладно, про первое свидание. Мы с Торри пошли в «Бургер-Кинг» на Гринмаунт. Я взяла только маленькую картошку, чтобы он не подумал, будто я обжора. К тому же я ведь не знала, заплатит он за меня или нет. Как тут угадать? Сказала ему, что мне к девяти надо домой – работай я в тот вечер в «Аладдине», как раз к этому времени освободилась бы. Мама особо вопросов не задавала, даже медсестру, что приходила к нам по пятницам, ни о чем не спрашивала, просто молча впитывала, что ей сказали. И ничего не повторяла. Как-то миссис Миранда, что живет в конце квартала, меня спросила:
– Чего это твоя мама со мной не разговаривает? Я ей не нравлюсь, что ли?
А я ей говорю, ой, да не берите в голову, она даже со мной не разговаривает.
– Где живешь-то? – спросил Торри, вгрызаясь в бургер.
Перед ним лежали еще три таких же.
– На Вольфи. – Я аккуратно макнула кусочек картошки в кетчуп, стараясь показать, какая я воспитанная.
– А родичи?
– Что родичи?
– Есть они у тебя?
– Ага.
– И че, мне ждать, что твой папаша сейчас заявится меня убивать? Я про арабских девчонок наслышан.
Я его спросила, а что, мол, пуэрториканские папаши не так себя ведут? Он ухмыльнулся и стал жевать дальше.
В школе я иногда превращаюсь в другую Риму. Например, на экзаменах. Учителя всегда в такие моменты думают, что я списывала. Но я просто умею прикидываться другим человеком. Так я и в тот раз с Торри сделала. Пожала плечами, глянула на него, как на идиота, и бросила: «Нет». И ведь сработало. Он улыбнулся, и мы заговорили о другом: что аль-Атраш, наверно, расист, раз не любит, когда Торри с дружками ошивается возле его ресторана; что Торри ходит вольным слушателем в государственный колледж, но, наверное, скоро бросит, сильно деньги нужны; что он мог бы в армию завербоваться, но от оружия его тошнит, как и от мысли, что придется убивать других темнокожих парней.
– Я как Мухаммед Али, – заявил он со смехом. – Не дам обманом заманить себя на войнушку, чтобы они могли расплатиться за свою учебу и книжки.
Ну вот. Пару раз мы так с ним встречались – ели бургеры, а потом обжимались в его машине. Торри меня долго уламывал заняться с ним сексом. Я ему сказала, что раньше никогда такого не делала, а он расплылся в своей очаровательной улыбочке и ответил, не парься, мол, я все беру на себя. Постоянно шутил, чтобы я расслабилась. И мне в первый раз все очень понравилось. Вот почему захотелось снова, хоть он и не пользовался презервативом.
– Крошка, – говорит, – не переживай, я вытащу. Поверь, я знаю, что делаю.
Ну а я-то не знала, так что помалкивала.
Все думала, какой он красивый и какие у него зеленые глаза. Прямо изумрудные – на смуглом лице. Изумрудные глаза, курчавые волосы – пропала я, в общем. Хоть сотню раз бы маме наврала, лишь бы снова с ним увидеться.
И вот вам, пожалуйста.
Теперь он хочет, чтобы я поступила, как Амаль, и злится из-за того, что я уперлась.
– У меня ни цента в кармане, – говорит. – По нулям. Я на тебе не женюсь.
Не для того, чтоб обидеть, просто объясняет. Я знаю, у него никого больше нет. Его кореша говорили, что он от меня без ума, да еще звонит же постоянно. У него есть пейджер, и стоит мне написать, как он тут же перезванивает. Он даже к врачу со мной пошел – когда я придумала, как ходить в поликлинику, чтобы мама ни о чем не узнала.
А там увидел плакат, где показывалось, как зародыш растет в утробе, и говорит:
– Офигеть.
Доктор потом дал ему стетоскоп – послушать сердечко малыша, а он как разревется.
* * *
Медсестра говорит, папе хуже. Она теперь мне такие вещи сообщает, думает, мама ее не пони-мает.
– Она понимает, – заверяю я. – Просто не знает, что ответить.
– Ему не больше недели осталось. – Она хлопает меня по плечу своими большими сильными руками. – Я все сделаю, чтобы он не мучился.
Не мучился – это значит, чтоб ему не было больно. То есть для меня он, считай, уже мертв. Под лекарствами он меня не услышит. Правда, глаза у него открыты, так что я раскладываю вокруг книжки и картинки. В основном арабские книжки, которые он так любил читать. Они такие замусоленные, что можно пальцем провести по краю страницы и не порежешься. Там и рабочие тетрадки по арабскому языку есть. Он как раз по ним учил меня читать на фусхе. Как будто не хватало, что я говорю на нашем диалекте… Нет же, бабá желал, чтоб я выучила самую жесть – литературный арабский, на котором только речи произносят да в новостях дикторы говорят.
В общем, долго он учил меня читать и писать, объяснял, как соединяются буквы – в арабском же нет печатного шрифта. Почти все буквы там сливаются друг с другом. Но некоторые, вроде алиф и ра, не желают соединяться с другими. Скорее слово надвое разрежут, чем протянут руку к подружке. Вот, например, в моем имени первая буква – ра – пишется отдельно от остальных. Иногда, когда бабá заставлял меня исписывать своим именем целую страницу, я воображала, что ра стоит на острове и смотрит, как другие буквы от нее уплывают.
Я поставила по бокам кровати два столика и разложила на них разные фотки. Например, ту, где я с Мейсун на руках, – ей всего два годика, и она не понимает, что у нас творится. Еще я положила туда фотографию с их с мамой свадьбы и, взглянув на нее, ужасно расстроилась – они там такие молоденькие, как раз собираются улетать из Палестины в Америку, полны радужных надежд. Даже не представляют, что их ждет.
Есть еще фотка со школьной постановки – на ней бабá обнимает меня за плечи. Я в костюме феи из «Щелкунчика» – остальные феи все были худенькие и беленькие, и только я черноволосая, с пышными бедрами и тяжелой грудью. Но все равно, по-моему, я была очаровательна. Бабá даже сказал – когда я порхала по сцене, ему казалось, что я вот-вот взлечу.
Эта фотография очень ценная, потому что единственная. В смысле, фотография-то не одна, но момент редкий. Бабá не так часто ходил ко мне в школу на спектакли. Все время работал. На аль-Атраша. Перебивался случайными заработками у мистера Аммара, хозяина торгового центра: рисовал разметку на парковке, чистил сайдинг, ставил новые двери. Еще он за шесть долларов в час мыл посуду в тайском ресторане в конце квартала. Понимаешь, объясняю я Торри, он, несмотря ни на что, копил деньги мне на колледж. Он и сейчас копит… просто не верится. Однажды сказал, мол, тебе в свое время придется найти хорошую работу и откладывать на колледж для сестры. Мне он поможет, а я должна помочь Мейсун. Нас двоих ему не потянуть.
* * *
На литературе мы готовимся к майскому экзамену. Понятно, если я Это сохраню, никакого экзамена мне сдавать не придется. Но я все равно готовлюсь. Класс у нас маленький, всего пятнадцать человек, и мистер Дональдсон для тренировки постоянно дает нам задание написать короткие ответы на необычные вопросы. Я хорошо справляюсь, потому что не забываю «подтверждать свою мысль». Например, если пишешь: «У поэта двойственное отношение к смерти», – нужно найти в его писанине цитату с подтверждением.
Но сегодня я не готова. Сегодня мы с мистером Дональдсоном разбираем стихотворение «Читателю» Роберта Луиса Стивенсона. Мне оно прямо с первой строчки нравится. Тут у меня проблем нет, я и по-английски, и по-арабски отлично читаю, вы еще не видели человека, который бы лучше меня разбирался в поэзии. Но тут… Меня прямо поражают последние строчки: «А в том саду другой малыш – из воздуха ребенок лишь»[4].
Я ни слова не могу из себя выдавить. Просто сижу и чувствую, как внутри разливается тоска. Неужто такое возможно от одной фразы – «из воздуха ребенок лишь»? Стихи-то вообще не об этом. Но меня цепляют по-своему. Потому что вот ведь в чем на самом деле дело. Не хочу я, чтобы за мной таскался ребенок из воздуха, призрак моего малыша. У меня уже мама из воздуха. А папа, считай, умер.
Торри? Торри меня любит. Но я не дура и полагаться на него не стану.
За сочинение я получаю «ноль», просто стыдно смотреть мистеру Дональдсону в глаза.
По дороге домой я думаю о том, что внутри меня гнездится неутолимая жажда. Пустота, которую невозможно заполнить. Остановившись на переходе, смотрю, как мимо проносятся машины. А потом, вместо того чтобы перейти улицу, почему-то сворачиваю направо, на Митчелл, и иду к дому Амаль. В школе арабские девчонки о ней болтают. А я, хоть и оказалась в том же положении, что и Амаль, давно с ней не разговаривала. Мне неприятно их слушать, арабские девчонки иногда хуже белых. Их папаши перед отъездом из Палестины уже успели выучиться на врачей или адвокатов. Или просто были при деньгах и стали в Америке скупать разные вещи. Мистер Аммар, например, разбогател на недвижимости. Это ему принадлежит торговый центр, в котором находится «Аладдин».
Мы с Амаль всегда дружили – может, потому, что наши папы были из тех, кто работал на своих отцов. Тем, кто на самом дне, лучше держаться вместе.
Их дом я узнаю по большой металлической рамке сбоку, по которой змеится виноградная лоза. Когда моя мама еще была в своем уме, а мама Амаль и Маркуса жива, они вместе собирали виноградные листья. Каждый июнь, по выходным. Листья они очищали, высушивали, складывали в вакуумные пакеты и замораживали, чтоб мы весь год могли есть свежий варак[5], а не соленый из консервных банок. Сейчас же виноград разросся, как джунгли. Никто не собирает листья, и они лезут во все стороны – лоза даже перебралась через забор к соседям, захватывая все больше пространства.
Старший брат Амаль Маркус стрижет под окном кусты садовыми ножницами. Если честно, я всегда была в него влюблена. Он похож на портрет лорда Байрона из учебника по литературе – большие глаза и гладкие черные волосы.
– Привет, коротышка, – ухмыляется он. – Сто лет не виделись.
– Как дома?
– Мм, нормально. Как твой папа?
– Все так же.
– Не говорили, когда?..
– В любой день. Не сегодня завтра.
– Слушай, у тебя же есть мой мобильный? Ты звони, если что, ладно? В любое время. И маме скажи, пусть звонит.
Я благодарю и спрашиваю про Амаль, а он начинает темнить. Но я не отстаю, и наконец он признается, что она здесь больше не живет.
– Ты же знаешь моего отца, – вздыхает Маркус. Из шапки куста торчит маленькая веточка, и он целую драму из этого устраивает, подбирается к ней со своими ножницами – и голову с плеч. – Он упрямый, как черт.
Пару минут мы стоим молча, наконец я спрашиваю:
– Но у нее все в порядке?
– Все хорошо. Она все правильно сделала. И мне плевать, что другие думают.
– Мне тоже.
Я говорю Маркусу, что пойду домой, мне еще вечером работать в «Аладдине». А он в шутку отвечает, мол, смотри не попадайся мне в мою смену, когда будешь курить наргиле[6] со стариками. Я иду прочь, а он кричит мне в спину:
– Эй, коротышка! Ты звони, поняла?
– Позвоню.
* * *
В день смерти вид у бабá отощавший и изумленный. На последнем дыхании его губы образуют букву «О», словно Америка наконец сумела его поразить. Так он и застывает. Видно, все же понял, что победить здесь у него не получится.
Мы знали, что к этому идет. Ну а как же? Когда вам остается всего пара минут, чтобы побыть всем вместе, одной семьей, понимаешь все без лишних слов. Мы все встали вокруг него – я, Мейсун и мама. Медсестра с длинными седыми волосами спросила, не надо ли нам кому позвонить, но у нас никого больше нет. Она ушла в другую комнату, чтобы нам не мешать, но всякий раз, как он охал, возвращалась, чтобы добавить морфина в капельницу. А прежде чем снова выйти, напоминала:
– Он вас слышит, он может слышать.
Я знаю, американцы любят все обсуждать. Делятся своими чувствами так же легко, как избавляются от старой одежды или мусора. А люди вроде нас ничего не изливают. Каждое свое ощущение мы перерабатываем. Измельчаем в труху, чтобы ничего не осталось. И вот я смотрю на умирающего отца, который и пожить-то толком не успел, а думать могу только о том, куда мне после девать это чувство. Нужно полюбить кого-то так же сильно, как я любила бабá. Мама не подойдет, она привидение, сестра слишком мала… То есть я-то могу ее любить, но, может, ей не всегда будет это нужно. А если любить Торри, неизвестно, как долго можно будет рассчитывать на взаимность. А мне нужно постоянство.
Мы ждем, когда придет врач и подтвердит смерть, а я пока разговариваю с медсестрой. Она сидит молча, сложив руки на коленях, – может, молится за нас? В глубине души я надеюсь, что да.
Говорю ей, что мне все же нужно кое-кому позвонить. Двум людям. Маркусу, потому что он знает, что в таких ситуациях делать. Придет, объяснит нам, что к чему, и сообщит новость всем другим арабам. А еще Торри. Положу руку на живот и скажу ему, куда я решила вылить всю ту любовь, что плещется в моем сердце.
* * *
На экзамен я не иду. А деньги, что папа скопил на мое образование, решаю приберечь для Мейсун, – может, они ей когда-нибудь пригодятся. Торри постепенно привыкает к мысли, что хочет он того или нет, ему скоро придется стать отцом. К моему удивлению, бесится он все меньше и меньше. Иногда даже кладет руку мне на живот и ждет, а физиономия у него при этом, будто он сам ребенок.
Когда ребенок рождается, Торри предлагает мне дать ему имя. Я отвечаю, мол, конечно, я дам ему имя, а кто же еще? И объясняю, что назову сына в честь моего отца. Пусть я всего лишь дочь, все равно его будут звать в честь деда.
– А как звали твоего отца?
– Джибриль.
– Что это значит?
По голосу я понимаю, ему понравилось, как нежно и твердо звучит это имя.
– Арабский вариант имени Габриэль. – Я показываю Торри, как это пишется на арабском, что буква ра в середине слова стоит отдельно от остальных. – Как и в моем имени. В этом наши с ним имена похожи.
– Джибриль. Габриэль. Джибриль, – медленно с нежностью тянет Торри. – Оу, да, крошка, мне нравится, – улыбается он.
– Да плевать мне, нравится тебе или нет.
– Крошка, но мне правда нравится.
Он сжимает мне руку, я не противлюсь, а сердце, хоть и трепещет в груди, на самом деле готово ко всему.
Патруль
Маркус Саламе
Я патрулирую улицы, а сестра с заднего сиденья рассказывает мне о своем парне Джероне. Сворачиваю влево на Карри-авеню – из таунхаусов только что поступил звонок. Домашнее насилие.
– Он славный парень. – Черные глаза Амаль блестят на молочно-бледном лице.
Огромные, все зеркало заднего вида занимают. Мы постоянно возим гражданских – по идее, она и впереди могла бы сесть, но я не предлагаю. Наоборот, говорю, что на заднем сиденье безопасней и что таковы правила.
– Жена утверждает, что муж ее избивает. В доме еще четырехлетний ребенок. Она говорит, его он тоже ударил, – сообщает Джерард по рации.
– Машина сорок пять в пути, я в трех кварталах, – отвечаю я и выключаю рацию, а потом обращаюсь к Амаль: – Ну давай, рассказывай дальше про своего друга.
– Знаешь, если я закончу учебу, это все будет благодаря ему.
– Серьезно? – Сворачиваю на Таунтон-авеню и ищу дом номер двести двадцать пять.
– Он постоянно подтягивает меня по английскому. И это его идея, чтобы я стала историком.
– Здорово.
Я-то думал, учебу она закончит благодаря мне, учитывая, что платил за нее по большей части я.
Вижу дом – двухэтажный таунхаус с фальшивым колодцем на газоне. Ненавижу такие штуки, особенно когда возле них еще бутафорские ведра ставят. Будто кто-то поверит, что эта семейка черпает воду из земли, когда у них прямо на стене торчит электрическая коробка, а за загородкой виднеется блок переменного тока. У бабá тоже такой, только хуже – там еще вокруг резиновая земля, в которую понатыканы пластиковые цветы из магазина «Все по доллару». Фальшивые цветы в фальшивом колодце, используемом как фальшивый цветочный горшок.
В окне гостиной горит свет. А на втором этаже темно.
– Маркус? Мне тут остаться? – робко спрашивает Амаль.
Ненавижу, когда у нее такой робкий голос. Сразу хочется напомнить ей, кто она такая.
– Ага. Окна не открывай и двери заблокируй.
Я вылезаю из машины и иду по подъездной дорожке. Пучки травы повылезали между плоских круглых камней – видно, любят нарушать общественный порядок. На ходу окидываю взглядом улицу. Свет в доме не горит ни на первом, ни на втором этаже. И мне это не нравится.
Я трижды громко стучу в дверь кулаком; наконец она распахивается. На пороге блондинка с красным опухшим лицом. Глаза тоже красные.
– Все нормально, я в порядке, – лепечет она.
Лицо и грудь у нее в веснушках. И рука, которой она придерживает сетчатый экран от комаров, тоже. Вторую руку я не вижу, ее она прячет за спину.
Я показываю на бейдж и объясняю, что к нам поступил звонок.
– Мэм, мне нужно увидеть ваши руки.
Она быстро показывает мне руку и тут же снова прячет.
– У нас правда все хорошо.
– И все же мне нужно задать вам несколько вопросов. – Я улыбаюсь. – Вы звонили, так что я обязан это сделать. Извините.
Она нервно кивает, оглядываясь через плечо.
– Ваши муж и ребенок дома?
– Да, мы смотрим матч «Балтимор Ориолз». Это все просто ерунда, недопонимание.
– Правда? «Ориолз» играют с «Блю Джейз»? – Я отвлекаю ее, снова демонстрируя бейдж. – Вот, пожалуйста, посмотрите.
– Да, с «Блю Джейз». Слушайте, все в порядке, правда…
– Вы должны внимательно на него посмотреть. Машина у меня без значков. Мало ли, кто я такой. – Я с натянутой улыбкой протягиваю ей бейдж и демонстративно жду.
Она закатывает глаза и берет бейдж той рукой, что прятала за спину. Все происходит очень быстро – она вежливо вертит бейдж в пальцах, отдает обратно, но за эти несколько секунд я успеваю увидеть все, что нужно. Голубоватый синяк вокруг запястья, длинную царапину на предплечье и темное пятно повыше локтя в том месте, где он ее схватил.
– И кто ведет? – спрашиваю я, раз она немного успокоилась. – «Блю Джейз»?
– Да, «Блю Джейз». Что ж, спасибо. Извините, что зря прокатились.
– Вообще-то «Ориолз» сегодня играют с «Янкиз». – Я перешагиваю через порог. – И мне нужно увидеть вашего сына.
* * *
В участке на глазах у Амаль я задерживаю мистера Алекса Хоакина IV – да, он требует, чтобы я называл его «Алекс Хоакин Четвертый» – за нападение второй степени, а его жена поносит меня на чем свет стоит.
– Он ничего не сделал! – визжит она, обращаясь то ко мне, то к капитану, то к стенке. – Я же вам сказала.
– У вашего сына нос разбит. – Я стараюсь говорить максимально спокойно, но это сложно – люди вроде нее выводят меня из себя.
Она снова принимается визжать, а я тихонько пытаюсь внушить ей, что кое-кто может ей помочь, что у меня и номер телефона есть. Сую ей визитку социальной службы, но она не желает ее брать.
Когда я отвожу Амаль в квартиру, где она сейчас живет, она спрашивает, что теперь будет с мальчиком. Я отвечаю, что открою дело и буду приглядывать за семьей, чтобы убедиться, что им с матерью ничего не угрожает. Она сидит на заднем сиденье, такая маленькая и грустная, прилипшие к вискам курчавые волоски похожи на паучьи лапки.
– Ну так что там с твоим парнем? – напоминаю я.
Оживившись, она подается вперед.
– Маркус, я хочу, чтобы вы с ним познакомились. Может, я даже вскоре смогу познакомить его с бабá. Он очень хочет увидеться с моей семьей… все время спрашивает.
Бедняжка.
– Я с радостью, – говорю я.
– Спасибо, Маркус. А ты-то как? Встречаешься с кем-нибудь?
– Да так, ничего особенного.
Откинувшись на спинку сиденья, она вздыхает:
– Врешь.
* * *
На следующий день я завожу отцу продукты. Бабá живет один. Мама умерла четырнадцать лет назад. И за это время он ничего в доме не поменял, только снял в гостиной фотографии Амаль и повесил мои – из полицейской академии. На снимке я в форме – мое лучшее фото. На груди у меня первая медаль, а брови и бакенбарды все еще черные. Можете поверить, что я пытался красить брови краской для волос? Да, сэр. Будь мама жива, я бы ее попросил это сделать. Я бы, может, и Мишель попросил, но она только скривится и обзовет меня девчонкой. Но я не девчонка, просто странно это, когда в тридцать восемь ты седой.
Бабá, как видит меня, постоянно об этом говорит.
– Ты стареешь. Пора жениться.
Но я не обращаю внимания: если он кого и ненавидит сильнее, чем Биньямина Нетаньяху, так это Мишель Сантанджело. Я вхожу, ставлю пакеты на стойку и начинаю разбирать продукты: консервированный нут, красная фасоль и хлеб, куча хлеба. Отец в неделю по три пакета съедает, а все равно тощий, как моя дубинка. И сморщенный, потому что курит по полторы пачки в день и злится, что я отказываюсь покупать ему сигареты.
– Уалла, я отдам тебе деньги, йа кяльб[7], – ворчит он.
Но дело не в деньгах, и он это знает. Может сколько угодно обзывать меня собакой, какое мне дело, меня вчера жертва абьюза ублюдком обозвала.
– Молоко сверху поставить или снизу? – спрашиваю я.
– Снизу.
Он, как обычно, сидит в кухне на стуле, пыхтит и читает «Джерусалем таймс» на своем – вернее, на моем старом – айпаде. В древнем бумбоксе, который я слушал, когда учился в старших классах, играет его любимая кассета Умм Кульсум.
– Какого черта творит Абу Мазен? – бормочет он, но ответа от меня не ждет, я-то в Палестине никогда не был.
Когда я был маленьким, у нас никогда не было денег, чтобы куда-то ездить, а после маминой смерти отец и вовсе перестал об этом говорить.
Я спускаюсь вниз ко второму холодильнику. Мама купила его давным-давно, в моем детстве, и поставила в подвале, чтобы делать запасы. Мама в плане покупок была просто волшебницей.
– Гляди, Маркус, – говорила она, указывая на кассу, прежде чем достать купоны. – Скидка два доллара, скидка один доллар, плюс купоны – и восемьдесят девять долларов на экране превращались в сорок. – Вот за что я люблю эту страну.
И кассирша каждый раз расплывалась в улыбке. Мама всех их знала по именам, расспрашивала, как внуки, не болит ли спина, как прошла операция на колене. Восхищалась новыми стрижками.
– Мне многому у вас стоит поучиться, – все время говорила одна из них, белая рыжеволосая леди средних лет, выбивая чек.
Холодильник в нашем маленьком доме работал не покладая рук. Мама всегда готовила столько, что можно было бы накормить Рамаллу вместе с Балтимором.
– Ты знаешь, что у тебя тут лежит целый пакет мелких морковок? – кричу я снизу бабá.
– На верхней полке? – орет в ответ он.
– Ага.
– В большой сумке?
– Ага.
– Запечатанный?
– Да! Он тут!
– Знаю. Не трогай.
– Ах ты старый козел, – бормочу я себе под нос и бегу наверх.
Бабá все так же сидит в кухне на стуле, луч солнца, проскользнув между двух сломанных реек жалюзи, бликует на его чистой лысой голове. На нем коричневая кофта, которую мама связала ему к Рождеству лет двадцать назад, а она все еще держится. В левом кармане пачка «Лаки Страйк» и зажигалка, в правом – носовые платки и пульт от телика. На ногах у отца кожаные лоферы и белые длинные носки.
– Маркус, ты сегодня работаешь?
– С четырех и до двух.
– Не слишком поздно?
– Нормально. – Я вдруг не выдерживаю: – Я вчера вечером виделся с Амаль. Она ездила со мной в патруль.
Отец не отвечает, только откладывает айпад, плечи его каменеют.
Когда он молчит, я нервничаю, а очень мало что в мире способно заставить меня нервничать. Как-то раз я гнался по пустынному переулку за двумя панками, без машины, не зная, придет ли подмога, и то не так дергался, как когда бабá умолкает. Вот почему я тараторю, как метадоновые торчки у нас в участке, просто заткнуться не могу:
– Она диплом сейчас пишет, и там какой-то такой проект, что ей нужно наблюдать за происходящим на улицах.
Отец все молчит, я и не жду ответа, просто мою купленные фрукты и складываю в контейнер холодильника.
– Кстати, она отлично выглядит. Здоровая, сильная. Скорее всего, в дипломе будут одни пятерки. Она через два месяца выпускается, в середине мая…
Я осекаюсь, услышав, как ножки стула со скрипом проезжаются по линолеуму, как айпад со стуком опускается на столешницу. Все это я только слышу, но не вижу, – не поднимая глаз, продолжаю мыть и вытирать фрукты бумажным полотенцем, потому что не хочу видеть, как отец уходит в другую комнату.
* * *
Мамина сестра Надия живет неподалеку, но дом у нее больше и богаче, чем у бабá. Она замужем за Валидом Аммаром, владельцем нескольких торговых центров. Он неплохой человек; правда, из тех, кто приехал в Америку уже при бабках и здесь выгодно их вложил. У него по всему Балтимору недвижимость. Бабá говорит, он славный парень, помогает всем, кто к нему обращается, но даже бабá не станет спорить, что иметь с ним дело себе дороже. Сам целый вечер смолит наргиле в «Аладдине», а тебе весь мозг вынесет, как важно заботиться о здоровье.
– Нужно каждое утро выпивать по стакану оливкового масла, – внушает каждому встречному, восседая в клубах дыма от яблочного табака.
Еще он постоянно твердит, что все наши проблемы начались с маминой смерти.
– Будь она жива, вы бы по-прежнему были вместе.
– Да хрен там, – всегда хочется ответить мне.
Считает, он такой гений, все про нас понимает, а когда мама была жива, постоянно ее критиковал. Не так одевается, имеет мнение по вопросам бизнеса, не каждое воскресенье водит нас в церковь. («Все ваши проблемы», – говорит он, а я понимаю, он это про Амаль. И вспоминаю, что не постоял за ее репутацию, а должен был, когда отец отказался это сделать.)
Валид Аммар, конечно, душнила, но и у него есть кое-что хорошее – это его жена и дети. Раед мой ровесник, мы с ним общаемся, Деметрий весь из себя плейбой, а Ламия очень милая и умная девушка. Похожа на тетю Надию, самую крошечную женщину в мире. Когда я дразню ее из-за роста, она всегда отвечает, что, мол, это просто я слишком высокий для араба, но я не гигант, всего шесть футов, а она мне едва до локтя достает. Я обожаю в шутку класть локоть ей на голову, как на подлокотник, она в ответ лупит меня всем, что под руку подвернется: лопаточкой для торта, книжкой или просто кулаком.
После маминой смерти мы стали по воскресеньям ходить к тете Надие на обед, так приятно было снова есть домашнюю пищу. А когда тетя Надия ездила покупать Ламии одежду к первому сентября, она всегда и Амаль с собой брала, ей ведь едва двенадцать исполнилось, когда мама умерла. Позже я стал по воскресеньям уходить на тренировки Национальной гвардии, а Амаль оставалась у них на ночь. Бабá из-за этого тоже ворчал, ведь Раед и Деметрий еще жили дома, а значит, ночевать там для девочки было неприлично.
– Они же мои двоюродные братья, – возмущалась Амаль.
Бабá просто в толк взять не мог, что ночевки у тети Надии были Амаль жизненно необходимы, ведь сестренка осталась одна в доме с двумя мужиками. А ей нужна была женщина, которая накрасит ей ногти, волосы расчешет и что там еще мамы для дочек делают.
Раед так и не узнал про папины задвиги. И слава богу, не то бы он просто взбесился. А через год он все равно уехал, поступил в Университет Мэриленда, в Колледж-Парк. Сейчас он адвокат и здорово продвинулся в карьере после 11 сентября благодаря тому, что свободно говорит по-арабски. Отец из-за этого его ненавидит. По его мнению, он «предал свой народ».
Когда я окончил полицейскую академию, он мне сказал:
– Послушай, йа кяльб, не позволяй им себя использовать. Прежде всего ты араб.
Я еще подумал, слышь, бабá, в свидетельстве о рождении у меня иначе написано, но вслух ничего не сказал.
Мама выражалась мягче:
– Понимаешь, Маркус, ты нус-нус, наполовину араб по нам, твоим родителям, и наполовину американец, потому что здесь родился. Но ты этого не стыдись, наоборот, это твое преимущество. – На этих словах она затягивалась ментоловой сигаретой, потом аккуратно пристраивала ее на край пепельницы и продолжала помешивать еду в кастрюле. – Мозг и сердце у тебя вдвое больше, чем у других.
Как будто это мне так повезло, отхватил два по цене одного. Для мамы величие Америки заключалось в однодневной распродаже в «Мейсис». В корзине товаров с пятидесятипроцентной скидкой во «Все за доллар». «Видишь ли ты под лучами рассвета…»[8] В городской свалке, куда можно было ездить за бесплатными удобрениями и мульчей. В приемных врачей, где тебе предлагали кофе и мятную конфетку. «Гордо реет наш флаг!» Мама любила Соединенные Штаты. Даже если ты заболел, а денег на лечение нет, тебя не выкинут из больницы. Подпишешь что-то – и бац! – бесплатное медицинское обслуживание. Бесплатная химиотерапия. И радиотерапия. А когда у тебя выпадут волосы, кассиры в магазинах, которые так соскучились по тебе и твоим купонам, организуют сбор средств, и монет из банки возле кассового аппарата хватит, чтобы купить парик.
В общем, да, когда бабá начинал страдать, как ему тяжко живется да как он соскучился по родине, мама вмешивалась, разглаживала морщинки, и мы снова становились счастливой семьей. И когда Валид Аммар говорит, что всех нас объединяла она, это, конечно, правда, но от нее очень больно. Сейчас же наша семья расползлась, как дешевая рубашка после стирки.
* * *
Амаль думает, нам с Джероном лучше всего познакомиться у них в кампусе. Я отвечаю, ладно, только если до четырех, в это время у меня смена начинается, и она начинает объяснять, как найти на территории кафе. Я не перебиваю, не говорю, что знаю в этом кампусе каждый закуток и закоулок, что в спокойные ночи мы там тренировки проводим, что я в это кафе в полной амуниции врывался, перескакивал через столы, как через баррикады, и осматривал помещение в очках ночного видения.
Я просто отвечаю:
– Лады, встретимся возле стенда с панини.
Парень вроде ничего такой. Высокий, симпатичный. Сложение, как у футболиста, а лицо круглое, детское. Никаких правонарушений за ним не числится.
Мы садимся за столик, и он говорит:
– Ты, наверно, гордишься младшей сестренкой. – Улыбается так искренне, открыто. – У нее средний балл выходит три и семь.
– За это тебе спасибо, – расцветает Амаль. Расцветает. Берет его под руку.
– Нет, – возражает он. – Это полностью твоя заслуга.
Он так уверенно это говорит, интересно, все ли он о ней знает? В курсе ли, например, что в семнадцать она воровала рецепты на наркотические препараты? Что в девятнадцать сбежала из дома, или, как копы сказали моему отцу, «съехала»? Что однажды она совсем голову потеряла и кончилось все абортом, о чем наш отец не знает и никогда не узнает? Я в тот год как раз академию окончил, а кольцо, как все выпускники, купить не смог, потому что отдал четыреста долларов, чтобы ее вычистили. Он про все это в курсе? Это же харам, любой араб бы плюясь убежал прочь.
В общем, мы едим и болтаем. Джерон рассказывает, что он на последнем курсе, изучает – и вот тут у меня глаза на лоб лезут – классическую музыку.
Я, блин, просто не знаю, что и сказать. Взрослый человек выбрасывает уйму денег, чтобы изучать оперу и всякую подобную хрень? В общем, я просто киваю, но он смекает, что к чему.
– По-твоему, это странно? – спрашивает этак интеллигентно.
– Учиться на мастера классической музыки? Ну, тебе жить.
Слава богу, у Амаль оценки хорошие, этот-то явно на пропитание не заработает.
– Никто не ценит изящные искусства, – вздыхает он. – В этом трагедия нашей жизни.
– А то, – бормочу я.
А сам думаю: «Да ты вообще знаешь, что такое трагедия? Трагедия – это двойное убийство. Или убийство с последующим самоубийством. Или авария на 695-й трассе с детьми в машине. Вот это трагедия, а не Бах с Моцартом, которых крутят на вечно нуждающихся в деньгах радиостанциях».
– Просто не думал, что ты занимаешься классической музыкой.
– Это потому что я черный? – начинает заводиться он. – Думал, я в баскетбол играю?
Я окидываю его взглядом – симпатичное лицо, длинный нос, большие карие глаза. Амаль, кажется, сейчас в обморок хлопнется.
А меня смех разбирает.
– Черт. – Аж дышать тяжело. – Черт. Ты говоришь, что изучаешь классическую музыку. И что никто не ценит искусство. А сам хоть знаешь, что за искусство я вижу на работе? Друг мой, мне приходится фоткать размазанные по стенам мозги. Вот мое искусство.
– Ладно, ладно, я понял, – качает он головой.
Амаль нервно хихикает, и я на секунду, всего на секунду, жалею, что нет в ней маминой силы духа.
* * *
Две недели спустя снова поступает вызов с Таунтон-авеню. На этот раз у женщины разбито лицо и сломан нос – она дышит ртом, так что я сразу все понимаю. Отодвинув ее в сторону, я ищу мальчика, зову его по имени – он плачет на кухне. Пацан не пострадал, но я злой как черт, папашу ловлю, когда тот пытается удрать через окно спальни, и защелкиваю на нем наручники.
Привычной скороговоркой:
– …Может быть использовано против вас…
– Эй! Полегче!
Я заваливаю его на кровать лицом вниз, по лбу у него пот течет.
– Заткнись!.. В суде…
– Вот сука! Сука, на хрена она копов вызвала? Сука паршивая!
Оттарабанив бодягу про права, сообщаю ему, что нас вызвал ребенок. Он поверить не может.
– Их в школе этому учат, – объясняю я. – Звонить в 911 в случае опасности.
– Да я пальцем его не трогал!
– Ага, только мать его избил до полусмерти.
Я вздергиваю его на ноги и тут же получаю смачный плевок в лицо.
Вот ублюдок!
Умывшись у них в ванной, выволакиваю его на улицу.
– Хочешь, я его усажу? – ухмыляется мой напарник.
– Не, все норм, – уверяю я, держа этого урода за шею сзади, а потом со всей дури бью его башкой о крышу машины. – Ой, прости. Что-то в глаз попало.
Запихнув отморозка в автомобиль, разговариваю с водителем скорой. Он говорит, леди они забирают в больницу, но она просит отвезти сына к ее матери.
– Вот, адрес тут записала.
– Передай, я все сделаю.
Пацан всю дорогу молчит на заднем сиденье, ни слова не произносит. Бабушка его живет в тихом Тоусоне, в симпатичном голубом домике с большой террасой. Но прежде чем отвести мальчишку к ней, я опускаюсь на корточки и объясняю ему, что он правильно поступил.
– Я боялся, что он ее убьет, – тихонько говорит он.
– Жаль, что тебе пришлось такое увидеть. Это очень страшно.
– Я думал, он и меня убьет.
Тут выбегает бабушка, седая и более ласковая версия матери, подхватывает мальца на руки и делает все, что всегда делают мамочки: обнимает его, утешает, целует. Какое облегчение, такие вещи – единственное в моей работе, с чем мне сложно справиться в одиночку.
* * *
За свой социальный проект Амаль получает пятерку, она там и про меня какую-то восторженную чушь написала. Я и половины не понимаю из того, что она говорит, термины какие-то странные, но мне приятно слышать, что «детектив ас-Саламе уверенно вошел в дом и спас женщину и ребенка от агрессивного мужчины. Офицеры полиции каждый день по долгу службы совершают героические поступки».
Вечером ко мне приходит Мишель смотреть «Закон и порядок».
– Как мило, что мы наконец-то встретились.
Она всегда так язвит, когда я долго ее избегаю, а что мне делать? Она классная, но хочет замуж и все такое. А я не хочу жениться. Она часто в шутку говорит всем, что работает моей любовницей на полставки, как Стиви Уандер пел в той старой песне. А сама отлично знает, что я тот период в творчестве Стиви Уандера терпеть не могу. А еще терпеть не могу, что она всем направо и налево рассказывает о наших отношениях.
Мишель ходит по маленькой кухне моего таунхауса, берет загорелыми руками тарелки, вытаскивает пиццу из духовки, сует пиво в холодильник. А все, что на полке стоит, сдвигает в сторону.
– Что это? – На стойку шлепается закрытый полиэтиленовый пакет.
Ведет себя как хозяйка. Вот это я больше всего терпеть не могу.
– Тетя дала мне с собой. Не забудь обратно положить.
Это куриная грудка с чесноком Надии, она специально расфасовала по три кусочка в каждый пакет, чтобы можно было порционно на обед разогревать.
– Ох, – стонет Мишель.
Я не спрашиваю, в чем дело, а то она скажет, что мне нужна жена. Сама-то она отлично готовит. Все три года, что мы вместе, она на мой день рождения жарит цыпленка в соусе марсала, и я так объедаюсь, что потом не могу с ней заниматься сексом. На это она тоже вечно жалуется. Нет, она правда клевая. Я смотрю, как она проверяет, разогрелась ли пицца, и вдруг понимаю, что она давно уже мне ничего не готовила, только полуфабрикаты таскает – видно, за что-то меня наказывает.
Не стану ничего говорить. Пару недель назад обмолвился, что скучаю по ее кулинарным талантам, а она в ответ, домработницу, мол, найми. Как же, стану я тратиться на чужую стряпню при моей-то зарплате.
Я включаю телевизор, протираю журнальный столик – я на нем пистолет чистил, а теперь перекладываю его на стойку и достаю из посудомойки тарелки.
– Скоро начнется, – говорю я Мишель.
Она стоит у духовки с тряпкой вместо прихватки в руке и ждет, глядя в пол.
– Долго там еще? – спрашиваю.
Она оборачивается, заправляет черные волосы за ухо, смотрит на меня своими голубыми глазами, и я понимаю, что первую серию мы пропустим. Ну что за жесть, это мой единственный свободный вечер за неделю.
Понеслась. Она делает вдох. Потом с шумом выдыхает. И дрожащим голосом произносит:
– Меня вчера пригласили на девичник к Денис. Все едут на выходные в «Оушен-Сити».
– Серьезно? Хорошо вам повеселиться.
– Марк, по-твоему, Денис секси? – спрашивает она.
– Что? Да черта с два, – искренне отвечаю я. – Она же тощая, как… как ножка стола.
Хочу добавить, что ее дважды за пьяное вождение забирали. А в пьяной бабе ничего сексуального нет.
– А я, по-твоему, привлекательная? – Вот, снова голос дрожит. Приехали.
– Ну… Мишель…
– Нет, правда! – Она бросает тряпку на стойку и крутится вокруг своей оси, раскинув руки. – Посмотри, мне тридцать шесть. Ты все еще считаешь меня привлекательной?
– Ты прекрасна, – честно отвечаю я. У нее великолепные формы, груди, которые так удобно ложатся в ладонь. Пухлые губы, большие глаза. Я встаю и пытаюсь обнять ее за талию, но она отпихивает меня и отпрыгивает в сторону. – Что случилось?
– Парень Денис сделал ей предложение через восемь месяцев. А я три года жду, пока ты разродишься, Марк! – Голос ее срывается, на глазах выступают слезы. – Нет, правда, какого хрена?
Я стою и молчу, как идиот, потому что сказать мне нечего.
– Нам весело вместе, у нас похожие вкусы, секс замечательный… – Она вдруг замолкает и пораженно спрашивает: – Тебе ведь нравится заниматься со мной сексом?
– Еще бы.
И вдруг меня осеняет, что в последнее время единственное, что мне нравится в наших отношениях, – это заниматься с ней сексом. Ужасное чувство, словно я извращенец какой-то или озабоченный, но это правда.
– Но что тогда? – кричит она, рыдая. – Что тогда? Что?
По телику звучит мелодия заставки, значит, сцену перед титрами мы уже пропустили. Теперь я злюсь, ведь этой мой любимый вид отдыха – стебаться над актерами, которые из рук вон плохо изображают полицейских. Всегда говорю:
– Улики так не хватают.
Или:
– Судья не имеет права выносить такой приговор.
И вот теперь мне всего этого не видать, я бешусь, а еще мне стыдно, я вдруг понял, что встречался с Мишель примерно на год дольше, чем должен был.
– Мы уже это обсуждали, я не готов жениться, – отвечаю я. – Ты дважды от меня из-за этого уходила.
– Но возвращалась же.
– Да. Возвращалась.
– Возвращалась ради тебя, Марк! Ради нас.
– Может, и не стоило.
Тут она ахает, зря я это сказал.
Пистолет лежит на стойке у нее за спиной, я и шевельнуться не успеваю, как она уже хватает его. Она и раньше брала его в руки, я ее и на стрельбище возил, и в постели мы иногда играли в «плохого полицейского», предварительно вытащив патроны, конечно. Но сейчас она в бешенстве, и мне не по себе.
– Положи, – увещеваю я. – Я не уверен, что поставил на предохранитель.
– Пистолет тебе дороже, чем я. – Она взмахивает им в воздухе. – И вообще, ты бесишься из-за того, что свой тупой сериал не посмотрел.
– Слушай, я серьезно. Я его смазывал и мог забыть поставить на предохранитель.
– Признай, что ты бесишься. Давай!
– Мишель, мать твою, перестань махать пистолетом.
И тут она стреляет в меня. Дважды. Первая пуля просвистывает мимо, делает аккуратную дырку в гипсокартоне и намертво застревает в бетонной стене кухни.
Я не сомневаюсь, что второй раз она выстрелила случайно, дернулась от звука первого выстрела. Гражданские этого не понимают – что от грохота и отдачи ты перестаешь себя контролировать. Вторая пуля вонзается в другую стену, возле холодильника, но до этого успевает оцарапать мне левую руку.
– Брось оружие! – ору я.
На этот раз она слушается. На руке у меня длинная, похожая на змею ссадина, из нее сочится кровь, больно чертовски.
– Убирайся!
Мишель рыдает, а я негромко повторяю:
– Вон из моего дома.
– Прости меня, – всхлипывает она.
Духовка звякает, сообщая, что пицца готова.
– Уходи отсюда.
Мишель все рыдает, а я звоню Раеду и прошу помочь.
* * *
По дороге домой из отделения скорой помощи, где мне зашили рану, Раед покупает мне «Тако Белл».
– А я тебе говорил, что эта девчонка чокнутая.
Приятно слышать такое от человека, который сам же меня с ней и познакомил. Три года назад, когда меня повысили до детектива, Раед пригласил меня в какой-то суперстильный джаз-клуб, хотя мы оба с ним в джазе ни фига не смыслим. Мы вообще про крутые штуки знаем только одно: чем дороже, тем лучше качество. Это нам поведал Деметрий, старший брат Раеда, у которого вечно на каждой руке по телке висит. Женился уже, а все равно таскается по клубам, тусуется, флиртует и сорит деньгами как сумасшедший. Каждый месяц он является в «Аладдин» с новой бабой и демонстрирует ее нам, словно так и подначивает доложить обо всем его жене. Но мы оба его супругу на дух не переносим, впрочем, и его самого тоже. И все же он мой кузен и старший брат Раеда; конечно, мы пытаемся ему подражать, только у нас так ловко не получается. А быть «крутыми» очень хочется.
В тот вечер, когда мы заказали напитки (хотя бы это мы умеем), Раед рассказал мне, что проходил курс по вину в государственном колледже.
– Потому что все партнеры и сотрудники так с ним обращаются, будто до фига в вине понимают. Понюхают, пригубят, в стакане покачают – прям искусство. А я ни в зуб ногой. Говорю, принесите мне, мол, «пи-нут-гре-го».
– А как надо говорить?
– Пино гриджо, – тянет он на французский манер.
– Да пошел ты, – хохочу я.
И не говорю ему, что название-то, похоже, итальянское. Он у нас в семье считается самым умным, а я свое место знаю.
– В общем, чувак, я был просто жалок, но теперь за двести двадцать пять долларов все про вино изучил. Преподавал нам один старый хрен. Качал вино в бокале, и мы все тоже качали. А он такой: «Понюхайте! Какой четкий, какой яркий аромат!» И вот мы стали качать вино в стакане. А я представил, как скривился бы отец, увидев, что кто-то разводит с вином такие церемонии. Он каждое утро стакан оливкового масла залпом выпивает. И утверждает, что Умм Кульсум можно слушать только с сигаретой в одной руке и стаканом арака в другой. А в своем магазине продавал «Джим Бим» в коричневых пакетах и на арабском материл всех, кто его покупал. «Йа кяльб йа сакран», – собака ты пьяная. А потом добавлял: «Это означает: хорошего дня и да хранит вас бог».
В тот вечер я так злился на отца. Он даже на церемонию не пришел, не захотел меня поздравить. Сестренка тогда только поступила, второй семестр шел, и я не стал ей рассказывать, зная, что по вечерам она ходит к терапевту. Раед пришел со своей мамой и спросил, где бабá.
– Он не придет. Ты же знаешь, как он относится к тому, что я коп.
– Может, он хочет, чтобы ты, как в старших классах, на заправке работал, – пошутил он, чтобы меня подбодрить.
Вот почему, когда Надия ушла домой, кузен повел меня в джаз-клуб. Просто хотел меня повеселить, как делал постоянно с тех пор, как умерла мама.
– Там такая знойная официанточка работает, ты просто обязан на нее посмотреть. Лучшая задница во всем Балтиморе.
Мы оказались в темном помещении овальной формы, с потолка лился голубоватый полусвет. В центре располагался похожий на трон бар, там мы и обосновались. На каждом столе горели свечи. В дальнем углу оркестр наяривал на трубах.
Из всех инструментов труба больше всего меня бесит. Дудит прямо тебе в лицо. Прямо дива, куда деваться. Вот печальную виолончель я хоть каждый день готов слушать.
Я как раз рассказывал Раеду, что благодаря повышению, наверное, смогу внести первый взнос за дом – тот, в котором сейчас живу. Маленький, зато в центре, мне ведь, как копу, полагается жить в центре. А еще у меня будет лужайка и задний двор, я, может, даже мангал куплю.
И тут нас прервала официантка.
– Рэй, столик освободился, хочешь? – спросила она кузена.
А я даже ответить ничего не мог, потому что прямо задохнулся. Богом клянусь, кроме ее груди и ног, я и не видел ничего, но потом заглянул ей в лицо, и она мне еще больше понравилась. Ни автозагара, ни разноцветных волос, ни огромных сережек. Она, кажется, вообще ничем, кроме гигиенической помады, не пользовалась. Мишель не нужна боевая раскраска.
– Ага, хочу, – кузен так и расплылся в улыбке и познакомил нас.
Я всю ночь с ней флиртовал, а Раед только подливал масла в огонь. А когда я в качестве чаевых ей двадцатку сунул, она мне подмигнула, скрутила ее в трубочку и сунула в лифчик. Прямо в ложбинку между грудей. Потом вытащила ручку и написала мне на руке свой номер.
– Вот нахалка, – все повторял Раед. – Это уж слишком.
– Да пошел ты, – очарованно бросил я.
– Да я так просто. – Он вдруг забеспокоился.
И вот уже три года он мне твердит, что Мишель клевая, но не та девушка, с которой стоит заводить семью. А меня бесит эта арабская манера делить девушек на годных и негодных и на ровном месте определять им будущее.
Этот подход, мол, хорошие девушки так не поступают, моей сестре жизнь разрушил.
Но Раед стоит на своем. А я зверею от того, что теперь, когда Мишель меня чуть не пристрелила, получается, что он вроде как прав.
– Она на всю голову больная, – говорит Раед.
– Да ничего подобного. Просто она думала, что я вот-вот сделаю ей предложение.
– Ну и хрен с ней. Не бери в голову.
Он начинает рассказывать про Эллен, девушку, с которой сейчас встречается. Она помешана на кошках, не работает, зато «очень милая и скромная».
– Скромная?
– Ага. Скромная. Я так и сказал. И у нее есть подружка…
– Нет уж, спасибо. Не нужна мне скромная девушка. Отвали.
Тогда он меняет тему, говорит, его мать, мол, интересуется, устроит ли кто-нибудь для Амаль вечеринку по поводу выпускного.
– Я об этом даже и не думал.
Ну вот, теперь я в панике. Как это мне в голову не пришло, что надо что-то придумать для сестры на выпускной?
– Она предлагает организовать все у нас, и неважно, придет твой отец или нет.
Я благодарю его и говорю, что Амаль, наверное, захочет прийти со своим парнем. И пока мы приканчиваем тако, рассказываю про Джерона, про то, что он изучает классическую музыку и вроде очень хорошо относится к моей сестре.
Раед заводит машину, ставит диск, и из колонок начинает петь Билли Джоел. В салоне гремит «Девчонка из высшего общества», я многозначительно смотрю на Раеда, а он бросает: «Заткнись!»
* * *
Бабá приходит помочь мне заделать дыру в стене кухни. Его старый серебристый «Бьюик» не влезает на парковочное место и все стонет и дребезжит, пока, наконец, отец не глушит мотор. Бабá с ведром шпаклевки в руке заходит в дом и принимается изучать дырку.
– Тебе пора жениться, – торжественно провозглашает он, замазывая ее белым. – Только не на этой девушке.
Забавно, в вопросах скорой женитьбы они с Мишель согласны, хоть она и считает его старым мизогином, а он ее – шлюхой. За три года он видел ее только дважды, но официально высказал свое неодобрение только после второй встречи.
– Она красотка, но хорошей матери для твоих будущих детей из нее не выйдет.
Я вспоминаю его слова и то, как ненавидел его и других за такие высказывания. А теперь получается, я вроде как всегда это знал, и утром, когда Мишель звонила, я снял трубку и сказал ей, что между нами все кончено. Я извинялся, она молчала, а потом говорит:
– Ублюдок, ты мне жизнь сломал. – И повесила трубку.
– Мы расстались, – говорю я отцу. – Можешь радоваться.
А потом провожу здоровой рукой по бинту и думаю, как мы с ним оба были несправедливы к Мишель.
Бабá прерывает мои размышления, произнеся по-арабски:
– Лучшее, на что можно надеяться в жизни, – это встретить славную женщину. С ней каждый твой день станет хорошим.
Я пораженно смотрю на него. Старый грубиян как заговорит по-арабски, так прямо поэтом становится. А он добавляет:
– Так будет до тех пор, пока ты ее не потеряешь.
* * *
Мы заделываем дыру, ждем пару часов, шлифуем (я работаю одной рукой, и у отца получается втрое быстрее), потом красим. Я завариваю отцу овсянку, но он отказывается ее есть, потом разогреваю курицу. Бабá осторожно откусывает кусок, решает, что ему нравится, и набрасывается на еду. А я тем временем рассказываю ему про Амаль. Она усердно училась, скоро выпускной. Тетя Надия устраивает для нее небольшую вечеринку, было бы здорово, если бы он тоже пришел. Давно пора забыть о прошлом. Амаль начала новую жизнь, и он должен ее поддержать. В кампусе есть даже специальная стойка для выпускников исторического факультета. Самое время помириться. Мама бы обрадовалась.
Я как раз собираюсь с духом, чтобы рассказать про Джерона, как он сам меня огорошивает:
– Она вроде с черным встречается, так?
– Его зовут Джерон. – Чувствую себя, словно меня подставили, отправили на зачистку без оружия. – Он тоже выпускник.
– И черный?
Я не отвечаю, пробую снова.
– Он играет на скрипке, хочет сыграть для тебя «Энта Омри». Помнишь ту часть, где скрипки во всю силу вступают? Говорит, того, кто писал для Умм Кульсум, вдохновило…
– Я не затем в Америку приехал, чтобы моя дочь с черными якшалась, – рявкает отец и встает.
Выбрасывает остатки курицы в ведро, ставит тарелку в раковину, надевает куртку, проверяет, хорошо ли высыхает краска, и уходит.
А мне хочется схватить пистолет и выстрелить в стену, изрешетить ее, чтобы она обрушилась на всех нас – меня, Амаль, отца, Раеда, Деметрия и всех его подружек, Надию и даже Валида Аммара со всеми его торговыми центрами. Чтобы мы все просто исчезли под грудой камней.
* * *
Джерон стоит рядом со мной у стойки исторического факультета с сумочкой и телефоном Амаль в руках. Она с другими студентами топчется на улице в голубой мантии и шапочке, золотая кисточка болтается у щеки. Они ждут церемонии, а мы, друзья и родственники, ждем, когда можно будет им поаплодировать.
Заметив меня и Джерона, Амаль машет рукой, потом оглядывается по сторонам и понимает, что, кроме нас, никто не пришел. На секунду она сникает, и у меня становится больно в груди. Здоровой рукой я придерживаю букет – две дюжины роз, одна от меня, вторая – от мамы. Хорошо еще, я про вечеринку не стал заранее ей рассказывать. Потому что в тот день, когда отец от меня ушел, позвонила тетя Надия.
– Слушай, Маркус, – негромко сказала она. – Я не хочу оказаться между двух огней. Я же не знала про ее парня и про то, что она захочет его пригласить. Не хочу, чтобы сказали, что я ее поощряю против желания отца.
Она хотела, чтобы я сказал, ничего страшного, мол, понимаю, все сложно. Но я ответил:
– Ладно, как хочешь.
И мы впервые в жизни повесили трубки, недовольные друг другом.
– А ты принарядился, – замечает Джерон.
– Я и моюсь иногда, – отвечаю я.
У меня есть два костюма: черный для похорон и свадеб и серый, в котором я сейчас, – для торжественных случаев.
Когда Амаль выходит на сцену, мы с Джероном орем изо всех сил, стараемся за всех, кого с нами нет: за маму, дядю и тетю, папу, который утром позвонил и поставил мне чертов ультиматум. Если я буду и дальше поощрять эти отношения, он никогда больше не станет со мной разговаривать.
– Дочь я уже потерял, – сурово объявил он. – Понадобится, потеряю и сына.
В общем, вот так. Его здесь нет, он не видит, как Амаль перекидывает кисточку с левой стороны на правую. Не видит звездочку в списке рядом с ее фамилией (magna cum laude[9]), не видит, как ей вручают награду под названием «Лучший нетрадиционный студент». Амаль поднимается на сцену как чемпионка, жмет руку декану. А Джерон тут, он держит ее большую раздутую сумочку. Он фотографирует нас с сестренкой. А она прижимает к груди розы, живые розы, и улыбается так широко, что мне хочется навсегда затолкать ее себе под мышку, чтобы так мы с ней вместе и сгинули.
Мистер Аммар напивается на свадьбе
Валид Аммар
Один мужчина явился в бальный зал «Шератона» в юбке.
Мистер Аммар видел, как он подошел к буфету. Подумать только, он оказался на свадьбе, где нужно становиться в очередь и самому себе накладывать еду. А хуже всего, что это свадьба его собственного сына Раеда. Он всех уже замучил своим недовольством, но как быть, если тут все не так?
Невестка даже имени новоиспеченного супруга выговорить не может.
Он несколько раз говорил этой идиотке:
– Его зовут Раед.
А та только смеется.
– Мне нравится звать его Рэй.
Его это просто перетряхнуло! Раед означает «первопроходец», тот, кто прокладывает путь, и его сын как раз таков – умный, ученый, способный. Отказался от семейного бизнеса в пользу своего брата Деметрия. А сам пошел на юриста учиться и теперь зарабатывает четверть миллиона в год. Почему она не хочет называть его по имени, которое они с Надией так тщательно ему выбирали?
– Что еще не так? – устало спросила Надия утром, когда они одевались.
А он ответил:
– Свадьба стоимостью в годовую зарплату.
Диджей, играющий американскую музыку, отчего кажется, что ты угодил в компьютерную игру. А хуже всего то, что праздник устроили меньше чем через сорок дней после кончины его матери. Еще отмолиться за нее не успели, а внучок уже отплясывает со своей тощей женушкой да руками машет, как испуганная птица. Еще не так невестка, которая души не чает в своей белой кошке, аж на свадьбу ее пригласила. Вон она сидит во главе стола на белой подушечке, прямо-таки принцесса, самый почетный гость.
А теперь еще и этот мужик.
Рыжий, с голыми ногами, ест свинину со шпажки – и это на свадьбе сына мистера Аммара, астагфирулла[10].
Раеду на его мнение наплевать. Он столько вкалывал, чтобы оплатить сыну колледж, купить хорошую машину и красивые костюмы для собеседований. А теперь мальчик стал мужчиной и отцовские советы ему больше не нужны. А что плохого, если бы на свадьбе играла арабская музыка, спросил он сына, улучив момент, когда идиотки рядом не было.
– Семья Эллен гордится своей культурой не меньше, чем мы нашей, – заспорил Раед. – Ты должен относиться к этому с уважением.
Но у нас тоже есть своя культура, ответил он.
– У твоего брата Деметрия… У твой сестры Ламии… у обоих на свадьбах играла арабская музыка. А с твоей что не так? Я хочу танцевать у сына на свадьбе.
Тут вошла его будущая невестка – оказалось, она все слышала.
– Моя тетя играет на арфе, она специально для нас разучила одну мелодию, – заявила она, решительно глядя на мистера Аммара своими голубыми глазами.
Забавно, даже перестала притворяться милашкой, чтобы настоять на своем.
Мистер Аммар не дурак. Он прожил в Америке тридцать лет. Знает, какими нежные белые женщины бывают скользкими, арабских мужчин к ним так и тянет, как звезды к планетам, а в итоге они превращаются в красных как раки задыхающихся дураков. Он видел, как Эллен со своими розовыми ноготками, тонкими запястьями и узкой талией превратила Раеда, юриста, футболиста, его второго сына – сына, в которого он вложил всю свою любовь и энергию, сына, за которого он молился, – да неважно все это теперь, потому что эта ведьма превратила его сына из первопроходца в мула, который опускается на колени, чтобы ему взвалили на спину груз потяжелее. И вот теперь она управляет им с помощью жирно подведенных эльфийских глаз и сияющих улыбок, а сама еще и посмеивается:
– У нас с Рэем много общего, мы оба львы.
Будто это охренеть как важно! Каждый раз, когда она это говорит, мистеру Аммару хочется заорать ей в лицо: «Ну и что? Одна двенадцатая всего человечества львы».
Гости вокруг него болтали и смеялись. А ему хотелось крикнуть: у меня мать умерла! Хватит чокаться! Но они все обсуждали, каков красавец высокий темноволосый жених, а невеста – ну прямо-таки модель. Мужик в юбке снова встал в очередь к буфету и навалил на тарелку курятину, стейк и свинину. Сколько же мяса жрут эти американцы! А потом удивляются, что у них сил нет. Такого Раеду надо было за четырех гостей считать, а не за одного.
Подошла Надия, красивая, как ангел, в серебристо-голубом платье, но он-то знал, что она по-прежнему расстроена. Он говорил ей, что она чересчур наряжается. Что все гости, скорее всего, придут в джинсах. Но ей было все равно. Я, говорит, мать жениха, вырастила чудесного сына и имею право им гордиться.
– Ты есть будешь? – спросила жена, поймав его у бара, где он собирался заказать еще выпить, и подхватив под руку.
Как приятно было поговорить с кем-то по-арабски. Арабские гости на этой свадьбе слонялись по залу, поддерживали вежливую беседу, но совершенно не вписывались в компанию и наверняка это чувствовали. Конечно, им ведь тут все было непривычно – и еда, и напитки, и музыка. Почетный гость – кошка, и уважения ей выказывают больше, чем отцу жениха. А танцпол? Мистер Аммар прямо зарычал, как его увидел. На арабских свадьбах такого маленького танцпола не бывает. Там каждый дюйм помещения превращается в танцпол.
– Вид у тебя все еще злой, – тихо сообщила Надия.
– Интересно, почему это у тебя он не злой? – спросил он.
– Тебе нужно поесть, – все с той же вежливой улыбкой сказала она.
Надия была к нему очень добра, мистер Аммар это ценил.
– Вся эта свадьба… В такой спешке…
– Им нужно было пожениться до поста, – спокойно объяснила жена. – Ты же знаешь. Жаль, что так получилось с твоей мамой.
– Кстати, один мужик пришел в платье, – мистер Аммар кивнул на гостя.
– Алла ярхамха[11], я тоже скучаю по твоей маме, – сказала Надия.
– Они должны были подождать. Еще сорока дней не прошло.
– А во время поста жениться нельзя.
Таким голосом она начинала говорить, когда злилась на него, и он понимал, что пора остановиться. Иногда ему хотелось сорвать с нее эту вечную вуаль невозмутимости. Чтобы и она разозлилась не меньше его.
– Жизнь должна замирать в такие моменты. Из уважения к мертвым, – не унимался он.
– Давай положу тебе еды. Нужно что-нибудь поесть. Сколько ты уже выпил?
– Не буду я есть. – Мистер Аммар наконец заметил того мужика. – Вон он! Видишь?
Надия на его слова не обратила внимания.
– Люди смотрят.
– Видишь, что творит этот мужик?
Наконец, она повернулась.
– Вижу. Очень милый мужчина. Женат на тете невесты. Той, что играет на арфе. Нас с ней еще не познакомили.
– Почему их музыку играть на свадьбе можно, а нашу нельзя? – спросил мистер Аммар.
– Все сразу видят по тебе, что ты не рад.
– Потому что я не рад. У невесты из выреза платья сиськи торчат. Я к ней подойти боюсь, того и гляди одна выпрыгнет.
– Халас[12], – отрезала Надия, и мистер Аммар замолчал. Жена взяла его под руку. – Я положу тебе еды. А потом мы поболтаем с Раедом и, может, сделаем несколько снимков. А еще мы будем улыбаться и пожимать всем руки. Общаться. И у тебя будет довольный вид.
– Я никому тут не хочу пожимать руку.
– Приехал твой племянник Маркус. Мы должны с ним поздороваться. Я рада, что он пришел, хоть ты и не позволил мне пригласить его сестру.
– Ее родной отец с ней не разговаривает. С чего бы мне ее приглашать?
– Аллах, пошли мне терпения, – пробормотала Надия, выпустила его руку и направилась к очереди в буфет.
Мистер Аммар смотрел ей вслед и вдруг заметил, что к нему направляется отец Эллен. Тесть Раеда. Бежать было поздно, так что пока мужчина пробирался к нему, он прикончил свой стакан «Грей гус». Седые волосы отца невесты торчали во все стороны, очки сползли с мясистого носа. И похож он был на белого Хусни из фильма «Гавар», человека, которого никто не воспринимает всерьез, как бы солидно он ни нарядился.
– По-моему, нам нужно выйти вперед, сфотографироваться, Валид.
– Хорошо. Схожу за женой.
– Нет, вроде сейчас только отцы. – Он хлопнул мистера Аммара по спине и подвел к краю стола, где стояли Раед и Эллен. – Расслабляетесь?
– Да.
– Вы же не против, что на свадьбе спиртное?
– Конечно. – Мистер Аммар продемонстрировал ему свой стакан. – Я уже говорил вам, мы христиане, а не мусульмане.
В доказательство он подозвал официанта, отдал ему пустой стакан и взял с подноса полный.
– Знаете, всегда лучше уточнить. Тогда разница культур перестает быть проблемой. – Он явно слушал мистера Аммара вполуха, махал другим гостям. А не дойдя до стола, остановился и обвел зал рукой. – Например, часть ваших гостей пришли в платках. Не получится же так, что через пару лет Рэй внезапно потребует этого от Эллен?
– Мы не мусульмане. – У мистера Аммара разболелась голова. – Это наши друзья.
– Точно.
– Наших гостей никто не заставляет носить платки, – он кивнул на стоящую рядом со своим мужем доктора Хамди. – Вон та леди – педиатр. У нее своя клиника в Бэй-Вью. А их дочь играет в футбол. За команду Мерилэнда.
– А во время игры она тоже в платке?
– Да.
– С одними вещами сразу все понятно. А о других… лучше спросить. – Отец Эллен пожал плечами. – Страна меняется. Вы честный труженик. И достигли в Штатах успеха, но не все, кто сюда приезжает, такие, как вы.
Мистер Аммар подумал о своей матери. Добрая, милая, про этого человека она бы точно сказала: «Кяльб ибн кяльб»[13].
Он взглянул на своего сына Раеда, который стоял рядом с эльфоподобной женой, и подумал: «Как ты можешь так со мной поступать?»
Молодые были красивые, как чертова картинка. Подошли мамы. Фотограф сделал еще несколько фото. Мистер Аммар выпил очередной стакан, но, поймав недовольный взгляд жены, от следующего отказался. Еще каких-то людей позвали фотографироваться – коллег, друзей, двоюродных братьев и сестер. Интересно, думал мистер Аммар, кто увидит эти фотографии через десять-двадцать лет? Может быть, его внуки? А через сорок лет и правнуки? Пусть видят, что он улыбается, но не слишком широко. Ведь сына он потеряет. Он уже его потерял. И если его внуки будут чувствовать себя в этом мире потерянными, без роду без племени, пусть знают, что он это предчувствовал еще до их рождения и заранее горевал.
– Жаль, ситти[14] Фейруз нет, – мрачно сказал Раед, когда они позировали для снимка «жених с отцом».
– Э-э-э… твоей бабушки? – спросила его крошечная жена.
Раед грустно кивнул, и все сочувственно загудели, хотя только что плясали танец под названием «купидон».
Лучше бы сын этого не говорил.
Теперь мистер Аммар снова мысленно перенесся в те последние дни в хосписе, когда мать ежеминутно начинала задыхаться. Он часами сидел с ней в палате, отгородившись от всего мира. Пищали приборы, а она, принимая его за давно умершего брата, ласково бормотала:
– Майкл, я так по тебе скучала. Где же ты был?
И он лгал, отчаянно желая ее успокоить. Притворялся Майклом, которому стоило лишь в комнату войти, как все начинали хохотать, и который из них двоих должен был остаться жить. Если уж раку нужно было кого-то забрать, пусть бы забрал его, а не Майкла.
Вот почему сейчас мистер Аммар, не удержавшись, ответил сыну:
– Тогда ты должен был почтить ее память.
– Хватит, бабá, – резко бросил Раед.
– Ты не уважаешь ее память. Сам не понимаю, почему я сюда пришел.
– Валид, – вмешалась Надия.
– Я всем вам говорю, – крикнул он по-арабски, – сам не понимаю, зачем я сюда пришел. Мне на этой свадьбе делать нечего.
Несколько человек попытались его успокоить. Подбежал старший сын Деметрий, тот, что всегда улыбался и флиртовал с женщинами. Дочь Ламия стояла молча, как всегда, а тут вдруг отошла, наверно смутилась. Вечно она от всего смущалась.
– Дядя Валид, – крикнул вдруг кто-то. А, это племянник Маркус, который с недавних пор с ними почти не разговаривает. – Дядя, давай-ка где-нибудь в другом месте.
– А ты чего вечно командуешь?
Маркус посмотрел на него с яростью, словно уже готов был схватить за грудки и отшвырнуть в сторону. А у него получилось бы, вот же зверюга, выше Раеда вымахал, шире в плечах и мускулистее.
– Сейчас не время.
– Мы, наверно, радоваться должны, что ты вообще пришел, – заорал мистер Аммар. – Счастье-то какое!
– Даю первое предупреждение.
– Что-что? Первое предупреждение? Насчет чего?
– Да хватит вам, – попытался растащить их Деметрий. – Пожалуйста! Это свадьба моего брата.
Раед шепнул что-то своей феечке, та повисла на руке отца, словно ее тощие ноги подломились, и куда-то с ним кинулась. К столу, оказывается, схватила кошку и обняла ее, словно та должна была ее утешить.
Раед взял мистера Аммара за руку и сердито шепнул по-арабски:
– Ты что, пьян?
– Ага. Так же, как Петр во время Тайной вечери. – Мистер Аммар обернулся к тестю сына и заорал: – Петр, слышал? Не Мухаммед, а Петр!
– Дядя, ты всех ставишь в неловкое положение, – закатил глаза Маркус.
Мистер Аммар разъярился. Он столько сделал для этого скота, когда у него мать умерла, а тот теперь смеет его учить?
– Рот открыл, да? Может, ты злишься на нас за то, что мы с твоей сестрой не разговариваем? Так?
Маркус вдруг притих.
– А знаешь что? С ней никто не разговаривает. – Вот так вот. Что племяша на это скажет? – Да и с чего бы? Мы тут ее не ждем. Пусть дальше тусуется со своим парнем… – Он шагнул к Маркусу ближе.
И тот вдруг ударил его в живот, резко и больно, будто прикладом винтовки. Жена потом сказала, хоть лицо пожалел. Гости заверещали, а мистер Аммар задохнулся – и от боли, что расцвела в животе, и от осознания, что Маркус надрал ему зад. Деметрий и Раед заорали Маркусу: «Убирайся!» Мистер Аммар, лежа на полу, видел, как его широкая спина мелькала в толпе, удаляясь в сторону выхода. Одни пытались поднять его, другие испуганно пищали, как цыплята.
– Почему тот здоровый парень ударил отца невесты?
– Может, полицию вызвать?
– Не надо болиции, – увещевала его жена. – Фсё карашо.
– Все нормально, ребята, – объявил Раед. – Никто не дрался, мой отец просто споткнулся. Несчастный случай.
Те, кто не видел, что произошло, подхватили эту версию и стали передавать дальше.
Вот так удравший Маркус перестал быть агрессором. А мистер Аммар в глазах гостей превратился в пьяного идиота, который опозорился на свадьбе сына.
– Я ухожу, – объявил он, вставая. – Это все неправильно. С самого начала было неправильно.
Он медленно пошел к двери, зажимая рукой бок. Дышать было больно, но он шел с гордо поднятой головой и смотрел в глаза встречным, пока те не отворачивались.
Раед за ним не пошел.
