Читать онлайн Василий I. Воля и власть бесплатно
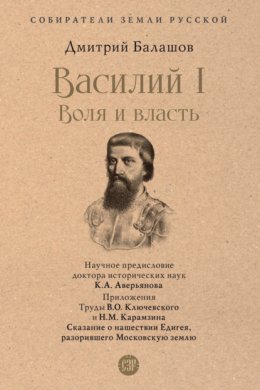
© Балашов Д.М., 2000
© Балашов Д.М., наследники, 2023
© Аверьянов К.А., предисловие, 2023
© Прокофьев К.В., иллюстрации, 2023
© Российское военно-историческое общество, 2023
© Оформление. ООО «Проспект», 2023
Предисловие к серии
Дорогой читатель!
Мы с Вами живем в стране, протянувшейся от Тихого океана до Балтийского моря, от льдов Арктики до субтропиков Черного моря. На этих необозримых пространствах текут полноводные реки, высятся горные хребты, широко раскинулись поля, степи, долины и тысячи километров бескрайнего моря тайги.
Это – Россия, самая большая страна на Земле, наша прекрасная Родина.
Выдающиеся руководители более чем тысячелетнего русского государства – великие князья, цари и императоры – будучи абсолютно разными по образу мышления и стилю правления, вошли в историю как «собиратели Земли Русской». И это не случайно. История России – это история собирания земель. Это не история завоеваний.
Родившись на открытых равнинных пространствах, русское государство не имело естественной географической защиты. Расширение его границ стало единственной возможностью сохранения и развития нашей цивилизации.
Русь издревле становилась объектом опустошающих вторжений. Бывали времена, когда значительные территории исторической России оказывались под властью чужеземных захватчиков.
Восстановление исторической справедливости, воссоединение в границах единой страны оставалось и по сей день остается нашей подлинной национальной идеей. Этой идеей были проникнуты и миллионы простых людей, и те, кто вершил политику государства. Это объединяло и продолжает объединять всех.
И, конечно, одного ума, прозорливости и воли правителей для формирования на протяжении многих веков русского государства как евразийской общности народов было недостаточно. Немалая заслуга в этом принадлежит нашим предкам – выдающимся государственным деятелям, офицерам, дипломатам, деятелям культуры, а также миллионам, сотням миллионов простых тружеников. Их стойкость, мужество, предприимчивость, личная инициатива и есть исторический фундамент, уникальный генетический код российского народа. Их самоотверженным трудом, силой духа и твердостью характера строились дороги и города, двигался научно-технический прогресс, развивалась культура, защищались от иноземных вторжений границы.
Многократно предпринимались попытки остановить рост русского государства, подчинить и разрушить его. Но наш народ во все времена умел собраться и дать отпор захватчикам. В народной памяти навсегда останутся Ледовое побоище и Куликовская битва, Полтава, Бородино и Сталинград – символы несокрушимого мужества наших воинов при защите своего Отечества.
Народная память хранит имена тех, кто своими ратными подвигами, трудами и походами расширял и защищал просторы родной земли. О них и рассказывает это многотомное издание.
В. Мединский, Б. Грызлов
Василий I: между семьей и долгом
Исторический роман Д. М. Балашова «Воля и власть», рассказывающий о правлении великого князя Василия Дмитриевича, впервые был издан в 2000 г. и стал последним завершенным романом из цикла «Государи Московские». Поскольку автор начинает действие романа с 1400 г., опуская первую половину жизни главного героя, возникает необходимость рассказать о начале жизненного пути Василия I.
Он был вторым сыном великого князя Дмитрия Ивановича, обессмертившего свое имя на Куликовом поле, и его жены Евдокии, дочери суздальского князя Дмитрия Константиновича. Вряд ли можно говорить, что этот брак был заключен по любви. Отношения между московским и суздальским князьями были крайне сложными – они вели ожесточенную борьбу за великокняжеский стол.
После смерти осенью 1359 г. московского князя Ивана Красного великокняжеский титул от хана Навруса получил не сын Ивана – Дмитрий, а князь Дмитрий Константинович Суздальский, севший на великом княжении во Владимире 22 июня 1360 г. Но суздальский князь, занявший владимирский стол, по выражению летописца, «не по отчине, ни по дедине»[1], сумел удержаться на нем всего два года.
Великий князь Василий Дмитриевич.
Миниатюра из «Царского титулярника»
В 1362 г. Дмитрий Московский (точнее, его окружение, поскольку самому Дмитрию не было тогда еще 12 лет) добился у очередного ордынского хана ярлыка на Владимирское великое княжение и «въ силе велице тяжце въеха въ Володимерь и седе на великомъ княжении на столе отца своего и деда и прадеда»[2]. В следующем, 1363 г. князь Дмитрий Константинович предпринял попытку возвратить себе великокняжеский стол, вновь занял Владимир, но смог пробыть на нем всего одну неделю, после чего вынужден был бежать в Суздаль. Причиной столь поспешного бегства стало стремительное появление московской рати, которая выгнала Дмитрия Константиновича сначала из Владимира, а затем подошла к Суздалю. Здесь московские войска, опустошив окрестности, простояли «неколико днеи», после чего суздальский князь был вынужден просить мира[3].
У него оставалась еще надежда на помощь своего старшего брата Андрея Константиновича, княжившего в Нижнем Новгороде, но тот не стал вмешиваться в борьбу за великое княжение, и Дмитрию Константиновичу не оставалось ничего иного, как окончательно признать великокняжеский стол собственностью московских князей.
Вскоре между Москвой и Суздалем происходит сближение. Оно было вызвано спором среди суздальских князей по поводу того, кому должны были отойти нижегородские владения князя Андрея Константиновича, постригшегося в монахи. По праву старшинства их должен был получить Дмитрий Константинович, однако, когда тот прибыл к Нижнему Новгороду, оказалось, что город уже занял его младший брат Борис, не пожелавший уступить нижегородский стол Дмитрию, и тот вынужден был возвратиться обратно в Суздаль. Разразилась междоусобица. Дмитрий Константинович, не надеясь на свои собственные силы, решился просить помощи у московского князя. Из Суздаля он направился «к Москве к великому князю Дмитрею Ивановичю просити себе на него (Бориса. – Авт.) помочи». Благодаря вмешательству Москвы конфликт между суздальскими князьями был разрешен в конце 1364 г.: Дмитрий Константинович сел в Нижнем Новгороде, а его брату Борису достался Городец[4].
В следующем году в Нижний Новгород приехал Сергий Радонежский, тогда еще малоизвестный игумен Троицкого монастыря. Что же он делал в Нижнем Новгороде? Этот вопрос представляется особенно интересным, если учесть, что к концу декабря 1364 г. спор между суздальскими князьями завершился.
Для окончательного примирения Москвы с Суздалем митрополит Алексей, фактический руководитель тогдашнего московского правительства, решил устроить брачный союз между московскими и суздальскими князьями. Великому князю Дмитрию Ивановичу в 1365 г. исполнялось 15 лет, а у Дмитрия Константиновича Суздальского подрастали две дочери.
Необходим был посредник. Личность Сергия Радонежского подходила для этих целей как нельзя лучше. Он являлся игуменом обители, располагавшейся во владениях удельного князя Владимира Серпуховского, официально не поддерживавшего ни одну из враждовавших сторон. Но самым важным являлось то, что митрополит хорошо знал Сергия через его старшего брата Стефана (с последним он даже некоторое время пел на одном клиросе в московском Богоявленском монастыре) и мог ему полностью доверять.
Это стремление митрополита нашло горячего сторонника в лице московского тысяцкого Василия Васильевича Вельяминова, игравшего одну из главных ролей в московском правительстве того времени. Свое первенствующее положение Василий Васильевич приобрел благодаря своим родственным связям с московским княжеским домом. Его двоюродная сестра была замужем за отцом Дмитрия, которому он, соответственно, приходился двоюродным дядей.
Будучи в родстве с московскими князьями, Василий Васильевич мог не опасаться за устойчивость своего положения. Однако время играло не в его пользу. Княжич подрастал, на повестке дня рано или поздно должен был встать вопрос о его женитьбе, которая автоматически выдвигала на первые роли родичей со стороны будущей жены, которые легко могли потеснить московского тысяцкого на вторые роли, невзирая на все его прежние заслуги. Первым сигналом того, насколько непрочным было его влияние, стала для Василия Васильевича смерть его двоюродной сестры великой княгини Александры 26 декабря 1364 г.[5]
Чтобы сохранить свою роль и в дальнейшем, Василий Васильевич разработал хитроумный план. Суть его заключалась в том, что одновременно с женитьбой великого князя Дмитрия на одной из дочерей князя Дмитрия Константиновича сын Василия Васильевича Микула должен был взять в жены другую дочь суздальского князя. Тем самым род Вельяминовых вновь роднился с московскими князьями, и влиянию Василия Васильевича ничто более не могло угрожать.
Понятно, что поручить столь деликатный вопрос можно было только доверенному человеку. В этом плане кандидатура Сергия Радонежского также оказывалась весьма удачной. Василий Васильевич знал Сергия через старшего брата Стефана, который, будучи игуменом Богоявленского монастыря, одно время был даже духовником Вельяминова.
В ходе своей поездки троицкий игумен успешно справился с порученными делами. 18 января 1366 г. в великокняжеской Коломне состоялась свадьба великого князя Дмитрия Ивановича и Евдокии, младшей дочери суздальского князя[6], и примерно в это же время на ее старшей сестре Марии женился Микула Вельяминов[7].
Сообщение летописца о браке Евдокии довольно кратко: «Тое жъ зимы месяца генваря въ 18 женись князь велики Дмитреи Ивановичь у князя Дмитрея Костянтиновича Суздалскаго, поня дщерь его Евдокею, и бысть свадьба на Коломне»[8]. Эта лаконичность породила ряд предположений. В частности, некоторые биографы Евдокии, указывая, что свадьба происходила в Коломне, а не в Москве, где жил жених и где она должна была состояться по обычаю, полагали, что при заключении брака между будущими зятем и тестем возникли какие-то разногласия и, чтобы их уладить, свадьбу решили отметить в «нейтральной» Коломне. Но все объясняется гораздо более прозаически. Летом 1365 г. в Москве разразился огромный пожар, по поводу которого летописец замечает, что «преже не бывал таков пожар», в результате чего буквально за два часа «весь град погоре без остатка»[9]. Проводить свадьбу на пепелище не было никакой возможности, и поэтому ее перенесли в Коломну.
Но насколько достоверными являются наши предположения о возможных контактах Сергия Радонежского с московским тысяцким? Понятно, что если разговоры о сватовстве дочерей суздальского князя и были, то велись они без свидетелей. Историк Н.С. Борисов обратил внимание на один источник, остававшийся на периферии внимания исследователей того времени: «Императрица Екатерина II глубоко интересовалась русской историей. При помощи лучших специалистов того времени она написала несколько исторических трудов, в которых встречаются уникальные факты. Императрица и ее консультанты имели в своем распоряжении не сохранившиеся до наших дней источники. Перу Екатерины принадлежит, среди прочего, составленная на основе источников записка “О преподобном Сергии”. В ней читаем следующее: “В 1366 г. (в действительности в 1365 г. – Авт.) преподобный игумен Сергий, по просьбе князя великого Дмитрия Ивановича, ездил послом в Нижний Новгород к князю Борису Константиновичу о мире. И мир и тишину паки восстави, и первые слова о браке князя великого Дмитрия Ивановича со дщерью князя Дмитрия Константиновича Суздальского были пособием преподобного игумена Сергия, чем пресеклись междоусобные распри о великом княжении Владимирском на Клязьме”»[10].
Несмотря на то что брак Дмитрия и Евдокии был заключен из очевидного всем расчета, этот союз оказался на удивление прочным и счастливым. Можно предположить, что во многом это было благодаря тому, что и в дальнейшем вплоть до самой смерти самый известный из русских святых следил за семейной жизнью Евдокии – известно о том, что он принимал участие в крещении двух ее сыновей.
Первым в этом браке появился Даниил, названный так в честь основателя династии московских князей и прадеда Дмитрия – Даниила Александровича. Летописцы молчат о нем. Единственный раз его имя встречается в «Слове о житии и преставленьи великого князя Дмитрея Ивановича», в котором дословно говорится: «А шестыи сынъ его Костянтинъ четверодневенъ по отци остася. Семыи же стареиши сынъ его был Данилъ и тои преже [отца] преставися»[11]. Эта неясность текста вызвала у историков споры. Одни полагали Даниила одним из младших сыновей Дмитрия Донского, поскольку он назван седьмым. Однако прилагаемый к нему тут же эпитет «старейший» разрушает это предположение, тем более что у Дмитрия Донского после появления сына Константина, родившегося за четыре дня до его кончины, просто более не могло быть сыновей. Все становится на свои места, если предположить, что в данном случае имеем дело с простой опиской и вместо «семыи» надо читать «самый».
Историк XIX в. П. М. Строев полагал, что Даниил достиг совершеннолетия и был женат. Думать его так заставило одно место из духовной грамоты еще одного сына Дмитрия Донского – Юрия, в которой говорится: «А благословляю сына своего Дмитрея [Шемяку] икона Спас окована, что мя благословила княгини Марья Данилова [то есть жена князя Даниила]»[12]. Но как позднее разъяснил известный знаток княжеских родословий А.В. Экземплярский, здесь подразумевалась жена суздальского князя Даниила Борисовича, двоюродного дяди Юрия по материнской линии. А. В. Экземплярский также отмечал, что энциклопедист XVIII в. Т. С. Мальгин (правда, без указания источников) полагал, что Даниил родился в 1369 г., а умер 15 сентября 1379 г. Но обращение непосредственно к труду Т.С. Мальгина показывает, что подобных сведений у него нет[13].
Можно полагать, что старший сын Дмитрия и Евдокии умер в раннем младенчестве, поскольку на похоронах митрополита Алексея, скончавшегося 12 февраля 1378 г., присутствовали «сынове великого князя, князь Василеи сыи еще 6 лет, а князь Юрьи трею лет», но Даниил даже не упомянут[14].
Что касается Василия, то под 1371 г. летописец зафиксировал факт его рождения: «Тое же зимы месяца декабря 30 родися великому князю Дмитрею Ивановичю сынъ Василеи»[15]. На третий день, 1 января 1372 г., младенец был крещен. По тогдашней традиции его назвали Василием в честь Василия Великого, святого IV в., память которого отмечается в этот день.
Последующие сведения о Василии крайне скудны. Летописец, кроме его участия в похоронах митрополита Алексея, сообщает, что в 1380 г. во время похода отца на Куликово поле он оставался с матерью и братьями Юрием и Иваном в Москве на попечении известного воеводы того времени Федора Андреевича Свибло[16].
Для Василия с братом и матерью потянулись напряженные дни ожидания. Великокняжеский терем в Кремле стал местом массового паломничества москвичей, желавших хоть что-то узнать из приходивших от великого князя известий о судьбе своих близких. Было получено сообщение, что Дмитрий со всем войском перешел через Оку. По свидетельству автора «Сказания о Мамаевом побоище», люди в Москве начали скорбеть, говоря со слезами: «Почто поиде за Оку? Аще и самъ Божиею благодатию сохранен будет, но всяко от воиньства его мнози падут». Когда же было прислано известие о скором решительном сражении, по приказу митрополита Киприана все соборные церкви и монастыри были открыты днем и ночью и в них круглосуточно творилась сугубая молитва о Божьем милосердии к русским воинам. В эти дни Василий с матерью практически не покидал московских храмов. На четвертый день после битвы на Дону в Москву примчался гонец с вестью к великой княгине Евдокии и к воинским женам. Он сообщил о победе, «и сказали им, которые побиты». Василий узнал главное – его отец жив, хотя до него доходили слухи о ранении, и это вселяло тревогу. 25 сентября 1380 г. наступил знаменательный день возвращения великого князя. Евдокия с детьми у Фроловских (позднее Спасских) ворот московского Кремля встречала мужа, «честь воздающе», как ему, «такожде и прочим князем и боляром и всему воинъству»[17].
Хан Тохтамыш. Позднейший рисунок
Спустя два года после Куликовской битвы Василию вновь пришлось пережить неприятные минуты. Победа над Мамаем показала готовность Руси навсегда покончить с унизительной зависимостью от Орды. Понимал это и новый хан Тохтамыш. Стремясь удержать Дмитрия в своем подчинении, он предпринял нашествие на Москву. Учитывая печальный для татар опыт двухлетней давности, когда Мамаю не удалось сохранить в тайне свои оперативные планы, новый глава Золотой Орды на этот раз предпринял все, чтобы для москвичей новый поход стал полной неожиданностью. С этой целью он велел захватить русских купцов, торговавших в пограничном Булгаре на Волге, с тем чтобы ни один из них не передал в Москву весть о движении татар. Это вполне ему удалось – со всей своей армией он переправился через Волгу «и поиде на великаго князя Дмитрея Ивановича къ Москве и на всю Русскую землю; ведяше бо рать изневести внезаапу со умением и тацемъ злохитриемъ, не дающе вести про себя, да не услышано будетъ»[18]. Чтобы полностью использовать фактор внезапности, Тохтамыш не стал вторгаться в лежавшее первым на его пути Суздальско-Нижегородское княжество, а обошел его с юга по степной окраине. Только когда татары оказались перед Окой, известие о нашествии дошло до московского князя.
Дмитрий, узнав, «что идетъ на него сам Тахтамышь царь во множестве силы своея, и нача совокупляти полцы ратныхъ, и собра воя многи, и выеха изъ града съ Москвы, и хотя идти противу ратныхъ». Был созван военный совет «з братомъ своимъ и с прочими князи и з бояры своими». Но на нем возникли споры и разногласия: «Бывшу же промежу ими неединачеству и неимоверьству». Основной причиной этого явилась скудость сил, которые могла выставить Русь после кровопролитной Куликовской битвы: «Оскуде бо вся земля Русская отъ Мамаева побоища за Дономъ». В этих условиях великому князю не оставалось ничего иного, как «поиде… не во мнозе въ Переславль, а оттуду поиде мимо Ростовъ на Кострому»[19]. Вместе с ним отправился, видимо, и Василий.
Евдокия между тем оставалась в Москве. Историки выдвигали ряд версий по поводу того, почему Дмитрий оставил супругу в городе – то ли надеялся, что Москва выдержит осаду, то ли полагал, что быстро сумеет собрать свежее войско. Но причина была гораздо прозаичнее – Евдокия в эти дни ждала появления на свет сына. В четверг 14 августа 1382 г. у нее родился сын Андрей. Под этой датой летописец записал: «Того же лета родися великому князю Дмитрею Ивановичю сынъ князь Андрей, месяца августа въ 14 день, и крести его Феодоръ игуменъ Симановьский» (племянник Сергия Радонежского)[20].
Однако к этому времени ситуация в городе резко ухудшилась – москвичи сели в осаду, а в самом городе начался «мятежь великъ». Одни горожане «хотеху сести въ граде и затворитися, а друзи бежати помышляху». Те, кто предлагал переждать татарскую угрозу в кремлевской крепости, не выпускали никого из города: «Не пущаху ихъ, но убиваху ихъ и богатство и имение ихъ взимаху».
В Москву на второй день после рождения юного княжича срочно прибыл митрополит Киприан: «Прииде бо внове изъ Новагорода, предъ пришествиемъ Тахтамышевымъ за два дни». Однако главе Русской церкви не удалось усмирить смуту. Горожане тех, кто «хотяху изыти из града, не токмо не пущаху ихъ, но и грабяху, ни самого митрополита не постыдешася, ни бояръ великых не усрамишася, но на всех огрозишася и сташа на всех воротех градных и сверху камениемъ шибаху, а доле на земли стояху со оружьи обнаженными и не пущаху никого же выити из града».
Рождение у Евдокии сына Андрея в 1382 г.
Миниатюра Лицевого летописного свода XVI в.
Главной целью митрополита стала задача вывезти великую княгиню с младенцем из столицы. Только после долгих уговоров Киприану удалось убедить горожан выпустить его, великую княгиню «и прочихъ съ ними» буквально за считаные часы до подхода главных сил Тохтамыша. Мы не знаем точной даты этого события, но, скорее всего, это произошло в воскресенье 17 августа 1382 г., буквально за несколько часов до подхода татар к Москве. Правда, при этом при выезде из города их также ограбили. Но это были уже мелочи.
Судя по сообщению Устюжского летописца, митрополит направился на Волок, где стояла рать князя Владимира Андреевича Серпуховского, а Евдокия мимо Троицкого монастыря «шествовала бо съ Москвы къ Переславлю, а отъ Переславля къ Ростову, а отъ Ростова на Кострому къ великому князю Дмитрею Ивановичю». В силу своего физического состояния она двигалась крайне медленно, часто останавливаясь, давая отдых измученным лошадям.
Разорение Москвы Тохтамышем.
Миниатюра Лицевого летописного свода XVI в.
После взятия Москвы Тохтамыш распустил свои отряды грабить окрестности. Один из них устремился к Переславлю. Город был сожжен, а его обитатели спаслись только тем, что сели в лодки и отплыли на середину Плещеева озера. «И княгиню великую мало не постигоша», – записал летописец. Это произошло 29 августа 1382 г.[21]
Бедой Москвы решила воспользоваться ее давняя соперница Тверь. Осенью 1382 г. тверской князь Михаил Александрович пошел в Орду, «ища себе великого княжениа». Чтобы противодействовать этим планам, необходимо было ехать туда и Дмитрию Донскому. Но в Москве решили не гневить хана видом непокорного великого князя, а отправить к нему «тягатися о великомъ княжении» наследника московского стола княжича Василия, которому тогда еще не исполнилось и двенадцати лет.
В средневековой Руси взрослели быстро: точно в таком же возрасте сам Дмитрий оспаривал великое княжение у своего будущего тестя. 30 апреля 1383 г. Василий отправился из Владимира вместе со старейшими боярами в Орду. Летописец по этому поводу записал: «Тое же весны апреля 23 князь великы Дмитреи Иванович посла въ Орду сына своего князя Василья из Володимеря въ свое место тягатися съ князем Михаиломъ Тферьскым о великомъ княженье, и поидоша на низ в судех на Волгу къ Орде»[22].
Несмотря на почти годичное пребывание в Орде Михаилу Тверскому так и не удалось получить великое княжение. По этому поводу московский летописец записал: «Тое же осени о Николине дни князь Михаило Александровичь Тверьски выиде из Орды без великого княженья, а сынъ его князь Александръ оста въ Орде»[23]. Никоновская летопись добавляет подробность о разговоре Тохтамыша с тверским князем: «Тахтамышь царь Воложский и всехъ орд высочайший царь пожаловалъ князя Михаила Александровича Тверскаго его отчиною и дединою великымъ княжениемъ Тферскимъ, рекъ ему сице: “азъ улусы своя самъ знаю, и вийждо князь Русский на моемъ улусе, а на своемъ отечестве, живет по старине, а мне служитъ правдою, и язъ его жалую; а что неправда предо мною улусника моего князя Дмитреа Московскаго, и азъ его поустрашилъ, и онъ мне служитъ правдою, и азъ его жалую по старине по отчине его; а ты поиди въ свою отчину во Тферь и служи мне правдою, и язъ тебя жалую”»[24].
Исход спора в Орде относительно великокняжеского стола решился в пользу Москвы несомненно благодаря боярам, сопровождавшим Василия, сумевшим склонить на свою сторону ханских приближенных лестью и подарками. Но цена этого решения хана была высока. По словам летописца, следующей весной «бысть велика дань тяжела по всему великому княженью, всякому без отдатка со всякые деревни по полтине, тогда же и златомъ даваше въ Орду»[25]. Василия же Тохтамыш задержал в Орде как заложника под предлогом, что его отец не доплатил 8000 рублей наложенной на Москву дани. Предполагают, что для уплаты огромной по тем временам суммы московского долга не удалось собрать достаточно денег. В этих условиях княжич прекрасно понимал, что его пребывание в татарской полуневоле может продолжаться долгие годы. По сообщению летописца, он «умысли крепко с верными своими доброхоты» бежать из Орды. В конце 1385 г. в Москву пришло сообщение о том, что Василию 26 ноября удалось бежать от Тохтамыша[26].
Но прямой путь на Русь ему был заказан. Только в следующем, 1386 г. выяснилось, что Василий «прибеже изъ Орды в Подольскую землю в Великые Волохи к Петру воеводе»[27]. По этому поводу московский летописец записал, что «того же лета князь великии Дмитреи Иванович отпусти бояръ своих стареиших противу сыну своему князю Василью в Подольскую землю», а чуть ниже добавил: «Тое же зимы (т. е. уже 1387 г. – Авт.) месяца геньария 19 приде на Москву князь Василеи къ отцу своему великому князю Дмитрею Ивановичу ис Подольские земли, а с ним князи Ляцкие и панове и Ляхове и Литва»[28].
Однако московский летописец не сообщил важнейшие подробности. Их зафиксировала позднейшая Никоновская летопись. Выяснилось, что из Молдавии Василию пришлось пробираться в Москву окольными дорогами, «въ незнаемыхъ таяся». Под чужим именем он прибыл «въ Немецкую землю», но здесь «позна его» литовский князь Витовт. Он оказался здесь не случайно. После смерти Ольгерда его брат Кейстут (и отец Витовта) признал великим литовским князем Ягайло, старшего сына Ольгерда от второго брака. Но тот опасался своего дядю и вскоре начал с ним войну. В ее ходе Кейстут вместе с Витовтом под предлогом ведения мирных переговоров были обманом захвачены в плен и заключены в Кревский замок. Вскоре Кейстут был найден мертвым. Судя по всему, его убили по приказу Ягайло. Такая же судьба ждала и больного на тот момент Витовта. Тому удалось совершить побег из плена. С ним поменялась платьем служанка его жены Анны. Она осталась в замке, изображая тяжело больного Витовта, а сам он бежал в женском платье.
В ходе борьбы с двоюродным братом Витовт бежал во владения Тевтонского ордена и просил там помощи. Узнав, что в Мариенбурге, столице Ордена, оказался московский княжич, Витовт, остро нуждавшийся в союзниках, задержал Василия. Дальнейшие события, согласно Никоновской летописи, развивались следующим образом: «Имяше же Витовтъ у себя дщерь едину, и сию въсхоте дати за князя Василия Дмитреевичя, и глагола ему: “отпущу тя къ отцу твоему въ землю твою, аще поимеши дщерь мою за себе, единочадну сущу у мене”. Онъ же обещася тако сотворити, и тогда Витовтъ Кестутьевичь дръжа его у себе в чести велице, дондеже отпусти его къ отцу на Москву»[29].
Но великий князь Дмитрий, узнавший по возвращении сына о данном им обещании, категорически отказался выполнять его, поскольку оно было дано не добровольно. Да и можно ли было брать его с подростка, которому еще не было полных 15 лет?
Дмитрий Донской составляет перед смертью духовную грамоту. Миниатюра Лицевого летописного свода XVI в.
Тем временем, 19 мая 1389 г., не дожив до сорока лет, скончался великий князь Дмитрий Донской. В составленной им духовной грамоте он, без оглядки на Орду, писал: «Благословляю сына своего князя Василья, своею отчиною, великимъ княженьем»[30]. Несмотря на это, спустя три месяца, 15 августа 1389 г., на праздник Успения Богородицы, Василий Дмитриевич был возведен во Владимире на великокняжеский стол ханским послом Шиахматом[31]. Прояснить, почему Василий предпочел формально получить великое княжение из рук ханского посла, позволяет любопытная запись в некоторых летописях, помещенная под 1389 г.: «Князь Василеи Дмитреевич уехал от царя Тактамыша за Яик»[32]. Судя по всему, Василий, опасаясь возможных претензий на великокняжеский стол со стороны других русских князей (в первую очередь Твери), посчитал необходимым соблюсти традиции по отношению к Орде.
В первый же год княжения у Василия произошел конфликт с его двоюродным дядей князем Владимиром Андреевичем Серпуховским. Тот уехал из Москвы сначала в свой стольный Серпухов, затем в Торжок, а потом еще дальше – в Теребеньское, село на берегах реки Мологи (ныне поселок Труженик в 27 км к северо-западу от Максатихи).
О том, что стало причиной отъезда серпуховского князя, летописцы молчат. Историки полагают, что виной всему стало поведение бояр, окружавших молодого великого князя. Если при Дмитрии Донском с Владимиром Андреевичем обязательно советовались по важным вопросам, то теперь он оказался фактически отстранен от дел управления. Это вызвало недовольство серпуховского князя и в первую очередь его матери Марии. Однако 5 декабря 1389 г. та скончалась, постригшись под именем Марфы в основанном ею московском Рождественском монастыре, где и нашла свой последний приют. Но настоящая причина размолвки Василия с серпуховским князем была гораздо прозаичнее – Дмитрий Донской, составляя свое завещание, отнял у Владимира Андреевича Галич и Дмитров, которые отдал своим сыновьям Юрию и Петру[33].
Вокняжение Василия I на великокняжеском столе.
Миниатюра Лицевого летописного свода XVI в.
В январе следующего 1390 г., вскоре после Крещения, Василий примирился с дядей, придав к его владениям два города – Волок и Ржеву[34]. Между ними был заключен договор, согласно которому Владимир Андреевич признавал Василия «старейшим братом», второго сына Дмитрия Донского – равным ему «братом», а других братьев Василия – «младшими братьями». По тогдашним обычаям князья должны были совместно выступать в походы. Сейчас же Василий выговорил себе право посылать Владимира Андреевича в поход и в том случае, когда сам оставался дома: «А где мне, князю великому, всести на конь, и тобе со мною всести на конь. А где ми самому не всести, и мне, брате, тобе послати, а тобе всести безъ ослушания». При этом соглашение было отмечено явным недоверием между дядей и племянником. Великий князь ставил условием, что если он сам останется в осаде в Москве, а Владимир Андреевич будет послан за пределы города, то жена, дети и бояре Владимира должны находиться в Москве; в случае своего отъезда Василий точно так же должен был оставить при Владимире Андреевиче свою мать, младших братьев и бояр[35].
Между тем необходимо было решать вопрос об обещании жениться на дочери Витовта, данном Василием в 1386 г. Как мы помним, Дмитрий Донской отказывался даже говорить о клятве сына, данной им под явным давлением Витовта. Тем не менее, хотя с этого момента прошло более четырех лет, мать Василия Евдокия Дмитриевна посоветовала сыну исполнить свое обещание.
Причины такого решения были чисто материальные. Этнографы посвятили немало работ описанию различных свадебных обрядов. Но при этом вне зоны их внимания остался тот факт, что в Древней Руси перед обрядом венчания составлялись определенные документы. В первую очередь это сговорные грамоты, составлявшиеся во время сватовства, в которых жених давал обещание жениться и указывал срок свадьбы. Предусматривалась и ответственность, если жених не выполнял своего обещания. В одной из подобных грамот середины XVI в. штраф определялся в 100 рублей (притом что годовое жалование среднего служилого человека тогда составляло 15 рублей). Грамоты заверялись свидетелями – «послухами», и составлялись в двух экземплярах – один предназначался жениху, другой оставался у родственников невесты. При этом ответственность за невыполнение обещаний несли не только обычные люди, но и представители верхушки тогдашнего общества. В Москве хорошо помнили случай с великим князем Семеном Гордым, который, обручившись в середине XIV в. с суздальской княжной, предпочел ей более выгодную невесту из Твери. После специально собранного в Орде ханского суда Семен Гордый вынужден был отдать суздальским князьям Нижний Новгород[36].
Поездка московских бояр за Софьей Витовтовной.
Миниатюра Лицевого летописного свода XVI в.
Неудивительно, что осенью 1390 г. к Витовту «в Немцы в Марьин город» (современный Мальборк) отправились послы от великого князя Василия – бояре Александр Поле, Александр Белеут и Селиван – с официальной просьбой дать его дочь в жены московскому князю. После недолгих сборов Витовт отпустил дочь вместе со своим приближенным – князем Иваном Ольгимонтовичем. Из Гданьска послы «пошли в кораблях морем и пришли к Пернову» (ныне – Пярну). Оттуда они уже сухопутным путем двинулись к Пскову, первому русскому городу на пути в Москву. Затем их дорога лежала в Новгород, где литовскую княжну встречали дядя жениха – князь Владимир Андреевич Серпуховской – и младший брат Андрей Дмитриевич. Из Новгорода княжна отправилась в Москву, куда и прибыла 1 декабря 1390 г. Перед въездом в город митрополитом Киприаном ей была устроена торжественная встреча. А уже 9 января следующего года сыграли свадьбу[37].
Летопись донесла впечатление современника о Москве этого времени: «Бяше… видети градъ Москва великъ и чюденъ, и много людей въ немъ, випяше богатствомъ и славою, превзыде же вся грады въ Русстей земли честию многою, въ немъ бо князи и святителие живяста»[38].
Столица Московского княжества делилась на укрепленный Кремль, именовавшийся в то время собственно «городом», и окружавшие его посады. Кремлевские стены, построенные при отце Василия, были выложены из белого камня, добывавшегося в великокняжеском селе Мячкове, при впадении Пахры в Москву-реку. В Кремль въезжали через несколько ворот, устроенных в надвратных башнях, створки которых были обиты железом. К устью Неглинки выходили Боровицкие ворота, на Москву-реку – Чушковы, или Шешковы (позднее Тайницкие), на восток были обращены Тимофеевские (ныне Константино-Еленинские), Фроловские (ныне Спасские) и Никольские ворота. Свои названия они получили от имен бояр, строивших их при Дмитрии Донском: Даниила Чешко, Тимофея и Микулы Вельяминовых, Фрола Беклемишева. С восточной стороны наиболее доступную для неприятеля сторону кремлевских укреплений прикрывали ров и вал. С других сторон Кремль был защищен Москвой-рекой и болотистой долиной впадавшей в нее Неглинки.
Венчание великого князя Василия Дмитриевича и Софьи Витовтовны. Миниатюра Лицевого летописного свода XVI в.
Свадебный пир великого князя Василия Дмитриевича и Софьи Витовтовны. Миниатюра Лицевого летописного свода XVI в.
Внутри Кремля проходило несколько улиц. По вершине холма тянулась Большая улица, связывавшая Боровицкие и Фроловские ворота. От нее отходило несколько боковых улиц и переулков. Еще одна улица имелась в низменной части Кремля, на Подоле. Она выходила к Тимофеевским воротам и далее шла к посаду. Главным украшением Кремля были Успенский и Архангельский соборы, построенные еще при прадеде Василия – Иване Калите. Рядом с ними стоял великокняжеский «златоверхий терем», самой красивой частью которого являлись Набережные сени, выходившие на Москву-реку, из которых открывался вид на заречные луга. Построенный из дерева (именно оно всегда считалось наиболее здоровым для жизни), он представлял собой великолепное для своего времени здание, соответствовавшее высокому статусу московских князей.
Поблизости от дворца находился Спасский монастырь («Спаса на бору»), воздвигнутый Иваном Калитой. Чуть поодаль – Чудов монастырь, основанный митрополитом Алексеем, рядом с которым вдова Дмитрия Донского Евдокия начала возводить Вознесенский монастырь, ставший позднее местом погребения княгинь московского княжеского дома.
Постоянная угроза вражеских нашествий заставляла московскую знать иметь дворы внутри Кремля, в которых можно было укрыться во время осады. Рядом с великокняжеским дворцом расположились дворы удельных князей: Владимира Андреевича Серпуховского, братьев великого князя, а также Евдокии Дмитриевны, вдовы Дмитрия Донского. Каждый из таких дворов представлял собой целый комплекс хозяйственных построек. Близ великокняжеского стоял митрополичий двор. По соседству теснились боярские дворы. Подобно княжеским они были усадьбами, в центре которых стояли хоромы владельца, окруженные хозяйственными службами, иногда рядом с хоромами находилась домовая церковь.
Среди сложного комплекса всех кремлевских построек возвышалась колокольница с городскими часами, устроенными в 1404 г. афонским монахом сербом Лазарем. Великий князь не поскупился на громадную по тем временам сумму в 150 рублей, чтобы украсить свою столицу часами, относительно которых современник писал: «Сий же часникъ наречется часомерье; на всякий же часъ ударяетъ молотомъ въ колоколъ, размеряя и разсчитая часы нощныя и дневныя; не бо человекъ ударяше, но человиковидно, самозвонно и самодвижно, страннолепно некако створено есть человеческою хитростью, преизмечтано и преухищрено»[39].
Кремль был окружен посадами: с востока, на территории будущего Китай-города, располагался Великий посад, позднее известный под именем Зарядья. Его пересекали три улицы, выходившие из кремлевских ворот: Варьская (позднее Варварка), доходившая параллельно Москве-реке до церкви Николы Мокрого, где посад заканчивался Васильевским лугом, доходившим до Яузы; Ильинская и Никольская улицы. Последняя доходила до Кучкова поля (в районе нынешней Сретенки), где располагался городской выгон.
Этот район был настолько густо заселен, что уже Василий Дмитриевич задумался о создании оборонительных сооружений. В 1394 г. была предпринята попытка прорыть ров от Кучкова поля до Москвы-реки, но она закончилась неудачей: воды Неглинки не пошли по нему. Московский летописец по этому поводу записал: «Тое же осени замыслиша на Москве ровъ копати и почаша с Кучкова поля, а конецъ ему хотеша учинити в Москву реку, широта же его сажень, глубина человека стояча. И много бысть убытка людемъ, поне же поперекъ дворовъ копаша и много хором розметаша, а не учиниша ничто же»[40]. Остатки этого мероприятия еще долго оставались на виду москвичей, и много позже Рождественский монастырь (на современной улице Рождественке), где, собственно, и начинались работы, даже именовался «что на рву».
Лазарь Серб показывает Василию I устроенные им башенные часы.
Миниатюра Лицевого летописного свода XVI в.
Несмотря на то что, в отличие от отца, Василий Дмитриевич не обладал полководческими талантами, в целом он продолжал политику московских князей по собиранию русских земель. В 1392 г., будучи в Орде, он добился согласия Тохтамыша на передачу Москве Нижнего Новгорода с Городцом, а также Мещеры и Тарусы[41]. Убедить хана было достаточно легко, сославшись на старинные права московских князей: Нижний Новгород еще в начале XIV в. принадлежал московским князьям, но позднее они были вынуждены уступить его суздальским князьям в качестве компенсации за отказ Семена Гордого от женитьбы на суздальской княжне; Мещера была получена в качестве приданого за Евдокией Дмитриевной, матерью Василия I; Тарусой ранее владел князь Федор Тарусский, погибший на Куликовом поле и являвшийся потомком звенигородских князей, от которых Москве достался подмосковный Звенигород. Княживший в Нижнем Новгороде князь Борис Константинович пытался было оказать сопротивление, но эта попытка не имела успеха: нижегородские бояре перешли на сторону Василия I.
Еще одним направлением московской дипломатии стал Новгород, точнее – принадлежавшая ему Двинская земля или Заволочье. Последнее название она получила из-за сложностей пути – добраться туда было крайне сложно: путь лежал исключительно по рекам, а водоразделы между ними преодолевались волоками. Из Онежского озера поднимались вверх по реке Водле, откуда волоком выходили в Кену, приток Онеги. С востока к последней подходила река Емца, приток Северной Двины. В ее нижнем течении в Северную Двину впадает Пинега, делающая большую петлю. В самой северной точке этой петли Пинега очень близко подходит к реке Кулой, впадающей в Мезенскую губу Белого моря. Здесь издавна существовал волок, на месте которого во второй половине 1920-х годов даже был построен судоходный канал длиной 6 км.
Но, выйдя в Мезенскую губу, новгородцы опасались идти дальше «Дышючим» (или Дышащим) морем (именно так оно упоминается в «Сказании о погибели земли Русской», написанном вскоре после нашествия Батыя)[42]. Первые землепроходцы, еще не дойдя до морского побережья, видимо, немало смутились духом, когда неведомая сила подхватила их суда и стремительно помчала с огромной скоростью вперед, поскольку ничего не знали о морских приливах и отливах, повторяющихся с четкой периодичностью дважды в сутки. Наибольшая их сила наблюдается именно в Мезенской губе, где разница между уровнем воды в прилив и отлив достигает 10 м. В устье Мезени отлив, подхватив лодку, мчит ее к морю, словно санки с горы, со скоростью более 20 км/час. Еще более ощутима морская мощь в прилив, когда бегущий по течению реки пенистый вал воды достигает 8 м в высоту, а приливная волна докатывается до реки Пезы, впадающей в Мезень на 86-м км от устья. Поэтому далее на восток путь лежал по реке Пезе, откуда волоком попадали в Цильму, впадающую в Печору.
Ключевым на этом пути являлся Кенский волок, по которому вся территория к востоку от него именовалась Заволочьем. Освоение этих мест началось уже в первые столетия русской истории. Новгородцев сюда манили рыбные и соляные промыслы, охота и добыча морского зверя на побережьях Белого и Баренцева морей. Также в Заволочье водились высоко ценившиеся при тогдашних княжеских дворах соколы и кречеты.
Русский Север в XIV–XV вв.
Карта С. Н. Темушева
О богатстве этих мест говорят несколько цифр. Лаврентьевская летопись под 1133 г. помещает известие, что во время одной из княжеских распрей новгородцы вынуждены были откупиться от великого князя Ярополка Владимировича (сына Владимира Мономаха) печорской данью[43]. Спустя два с половиной столетия Дмитрий Донской в 1386 г. в наказание за нападения новгородских ушкуйников на волжские города возложил на Новгород дань в 8 тысяч рублей, из которых 5 тысяч было собрано с Заволочья, «занеже заволочане быле же на Волге»[44]. Разумеется, это был экстраординарный сбор. Для сравнения отметим, что на рубеже XIV–XV вв. со всего Московского княжества собиралась дань от 5 до 7 тысяч рублей[45].
Именно на Двинскую землю положил свой взор московский князь, пообещавший двинянам полное самоуправление и даже выдавший им в 1397 г. уставную грамоту[46]. Но новгородцы не захотели расставаться с огромными богатствами Двинской земли. В следующем, 1398 г. они послали на Двину сильное по тем временам трехтысячное войско, одолевшее москвичей, засевших в крепости Орлец. Были разорены Белоозеро с двумя белозерскими городками – «старым» (исчезнувший ныне Карголом к востоку от современного Белозерска) и «новым» (Каргополь), Кубена, Вологда, Устюг и Галич. «А у гостей великого князя взяша окупа триста рублевъ… А у двинянъ у своихъ за ихъ преступление и за ихъ вину и измену взяша 3 тысящи рублевъ и 3 тысящи коней». В итоге великий князь, по-видимому, не готовый к такому отпору со стороны новгородцев, был вынужден подписать с ними «миръ по старине»[47].
Но основные дипломатические и военные действия Василия I определялись в треугольнике взаимоотношений: Литва, Орда и Москва. Интересы каждого из этих государств далеко не совпадали, что исключало возможность создания каких-либо прочных и длительных союзов между ними.
Великий князь литовский Витовт
Вскоре после свадьбы на Софье у Василия I начался недолгий период дружбы с Витовтом. Женитьба московского князя позволила на какое-то время прекратить соперничество между Литвой и Москвой и даже заключить союз между странами. Но Витовт, придя в 1392 г. к власти в Литве, начал проводить активную внешнюю политику, вынашивая планы создания Русско-Литовского государства. Это, естественно, должно было привести к конфликту и с Москвой, и с Ордой.
Орда в 90-е годы XIV в. переживала тяжелые времена. Тохтамыш утвердился на золотоордынском престоле при помощи среднеазиатского завоевателя Тимура (Тамерлана). Однако начиная со второй половины 80-х годов XIV в. между ними начинает разгораться военный конфликт. В 1391 г. войска Тимура вторглись в пределы Поволжья и нанесли чувствительное поражение ордынскому хану близ Самарской луки. Однако Тохтамыш сумел оправиться от этого поражения и к 1393 г. восстановил свою власть почти над всей территорией Орды. Второй поход Тимура весной 1395 г. завершился полным разгромом Тохтамыша на реке Терек. В результате на территории Орды образовались несколько политических объединений, враждовавших друг с другом. Тохтамыш укрылся в Крыму, рассчитывая при поддержке Витовта вновь обрести власть. В ордынской столице Сарае, изгнав ставленника Тимура, сел Тимур-Кутлуг, поддержанный ордой Едигея. В этих условиях Василий I перестал выплачивать дань Орде, надеясь, что смуты в ее столице Сарае позволят довести до логического конца дело, начатое его отцом.
Но бороться с Ордой в одиночку не было никакой возможности, и Василию I приходилось искать союзников. Неудивительно, что основной целью московской дипломатии становится союз с Витовтом, на дочери которого был женат московский князь.
Тимур побеждает Тохтамыша.
Миниатюра Лицевого летописного свода XVI в.
Однако Витовт смотрел на этот союз иначе. Литовский властитель решил воспользоваться ситуацией в Орде для своей экспансии на восток. Послав в Москву сообщение, что литовцы идут на помощь своим союзникам в связи с вторжением Тимура, Витовт захватил Смоленск, воспользовавшись спорами между смоленскими князьями – Глебом и Юрием Святославичами – по поводу того, кто должен в нем княжить. Туда был назначен литовский наместник[48]. Подобные действия Витовта самым непосредственным образом затрагивали интересы русских князей, и в первую очередь князя Олега Рязанского, зятя изгнанного из Смоленска князя Юрия Святославича. Он попытался оказать сопротивление Витовту, но тот в ответ зимой 1395–96 гг. «повоеваша землю Рязаньскую»[49].
Несмотря на захват Смоленска, Василий I не желал обострять московско-литовские отношения. Более того, весной 1396 г., на Пасху, он вместе с митрополитом Киприаном совершает дружеский визит в Смоленск: «Тое же весны за две недели до велика дни князь великыи Василеи Дмитреевичь еде с Москвы въ Смоленескъ видетися со тестемъ своим Витовтомъ и, бывъ у него, възратися на Москву». Более того, в ответ на действия Олега Рязанского, предпринявшего летом 1396 г. поход на пограничный литовский город Любутск, Василий I заставил Олега отойти от Любутска, а войску Витовта предоставил свободный проход через московские владения к Рязани: «На ту же осень о Покрове князь великыи Витовтъ иде ратью на Рязань и прогна князя Олга, а землю Рязаньскую всю плени, а люди исъсече и в полонъ поведе. Тогда былъ Витовтъ на Коломне, князь же великы видеся ту с ним и многу честь и дары вдасть ему»[50].
Что же обсуждали в Смоленске и Коломне Василий I и Витовт? Источники на этот счет молчат, но, думается, мы не ошибемся, если выдвинем предположение, что одной из тем переговоров стали проблемы в личной жизни московского князя.
Несмотря на то что свадьба Василия Дмитриевича с Софьей состоялась в самом начале 1391 г., она долгое время не могла забеременеть. Сейчас наличие или отсутствие детей в той или иной семье считается вопросом сугубо личным. Но в случае с Василием он приобретал статус общественно значимого. Дело в том, что завещание отца Василия I Дмитрия Донского предусматривало в случае бездетной смерти Василия (на момент ее составления тот еще не был женат и не имел детей) возможность перехода княжеского стола к следующему по старшинству из его братьев: «А по грехом, отъимет богъ сына моего, князя Василья, а хто будет подъ тем сынъ мои, ино тому сыну моему княжъ Васильевъ оудел, а того оуделомъ поделит их моя княгини»[51]. Им являлся второй сын Дмитрия Донского – звенигородский князь Юрий.
Чтобы хоть как-то обезопасить себя с этой стороны, Василий I просто запретил своим братьям жениться. Только 30 марта 1395 г. в великокняжеской семье появился первенец, названный Георгием (или Юрием, как его именуют некоторые летописцы)[52]. Но даже появление у московского князя наследника мало что меняло, и Московское княжество по-прежнему, в соответствии с завещанием Дмитрия Донского, могло перейти к брату Василия I Юрию Дмитриевичу. Необходимо было, чтобы юный княжич прошел «постриги».
«Постригами» именовался обряд первой стрижки волос княжеских детей. Обыкновенно он совершался в возрасте 3 лет и происходил в церкви с чтением особой молитвы, для чего ребенка приводил туда его крестный отец. После пострига дети переходили из женских рук в мужские. Как знак этого, мальчика сажали на коня в присутствии епископа, бояр и народа[53].
Рождение у Василия I сына Юрия.
Миниатюра Лицевого летописного свода XVI в.
Исследователи, говоря о княжеских «постригах», указывали на чрезвычайную древность этого обряда, возводя его к языческим инициациям или средневековым рыцарским посвящениям. При этом непонятным оставался вопрос: почему Церковь Древней Руси освящала своим авторитетом такой языческий обычай, как «постриги»? Ответ на него, как правило, искали в ситуации «двоеверия», обычной для этого периода истории русского общества. С этим предположением можно было бы согласиться, но оказывается, что высшие церковные иерархи не только мирились с этим обычаем, присутствуя при его проведении, но и активно участвовали в нем.
Поэтому надо искать смысл «постригов» не во внешней обрядности, а в их более глубоком значении. Вплоть до конца XIX в. в России существовал обычай, когда при вступлении на престол нового государя все подданные обязаны были принести ему присягу. Эта традиция восходила к временам Древней Руси, когда боярин при переходе к новому князю обязан был принести ему присягу. Формуляр крестоцеловальных записей, составлявшихся при клятве бояр к новому сюзерену, сохранился в одном из сборников митрополичьего архива. Из него видно, что боярин приносил присягу не только князю, но и его детям, причем не только от себя лично, но и от имени своих детей: «А мне, имярек, и детей своих болших к своему государю, к великому князю имярек, привести, и к его детем»[54].
При этом приносить присягу наследнику князя можно было только после того, как тот пройдет обряд «постригов». История Древней Руси – история сурового времени, когда человеческая жизнь, даже княжеская, могла оборваться внезапно. Если учесть, что тогдашние взаимоотношения строились исключительно на личных связях, неожиданная гибель князя могла стать катастрофой для целого княжества. Обряд «постригов» служил гранью, обозначавшей дееспособность (разумеется, ограниченную) юного княжича. В ходе него он объявлялся наследником своего отца, формальным субъектом взаимоотношений, а значит, ему можно было приносить присягу.
В тогдашних условиях трехлетний возраст княжича был определенной гарантией того, что он впоследствии доживет до полного совершеннолетия. Характерен в этом плане эпизод русской истории уже из XVI в. Когда в марте 1553 г. царь Иван Грозный сильно заболел, он потребовал от бояр присягнуть своему пятимесячному сыну царевичу Дмитрию. С этим не могли смириться многие бояре, предложившие принести присягу уже взрослому князю Владимиру Старицкому, двоюродному брату царя. И хотя в итоге почти все бояре подчинились требованию государя и присягнули Дмитрию, впоследствии оказалось, что они были правы: спустя пару месяцев царевич умер.
Вскоре после рождения старшего сына казалось, что все проблемы в семье великого князя остались позади – 15 января 1397 года на свет появился второй сын Иван[55]. Зимой 1398 г., когда старшему сыну Василия I исполнилось три года, Софья Витовтовна повезла его в Смоленск к отцу. По этому поводу московский летописец записал: «Тое же зимы княгини великаа Софья Васильева Дмитреевича ездила во Смоленскъ къ отцу своему, к великому князю Витовту, и къ матери своеи, и с детми своими и с бояры многыми, и пребысть тамо две недели, и отпущена бысть с честью и съ многыми дары, и принесе оттуду многы иконы, обложеныя златоми сребром, еще же и часть святых страстеи спасовых, иже давно принесены были въ Смоленескъ от Царягорода»[56].
Между тем внешнеполитическая ситуация в Восточной Европе быстро менялась далеко не в пользу Москвы. Витовт видел объединителем всех русских земель не зятя, а себя. Чтобы обеспечить тыл, в октябре 1398 г. он заключает договор с Тевтонским орденом, в котором заявил о своих планах получить контроль над Новгородом. На празднике в честь подписания договора Витовт был единодушно провозглашен приближенными «королем Литвы и Руси».
Правда, имелась одна деталь – Орда считала Русь одним из своих «улусов», поэтому Витовт решил направить свой первый удар против Орды, где в ее столице Сарае сидел хан Тимур-Кутлуг. В этом его поддерживал свергнутый хан Тохтамыш, обещавший литовскому князю все, что только можно, лишь бы он оказал поддержку. Летописец приводит подробности переговоров Витовта с Тохтамышем: «глаголаше бо Витовт: “поидемъ и победим царя Темирь Кутлуя, взем царство его, посадим на нем царя Тахтамыша, а самъ сяду на Москве на великом княженьи на все Русскои земле”. Преже бо того свещася Витовтъ с Тахтамышом, глаголя “аз тя посажу въ Орде на царстве, а ты мене посади на Москве на великом княженье на всеи Русскои земли”». Летом 1399 г. огромное войско литовского великого князя совместно с поляками, немцами из Ливонии, татарами Тохтамыша двинулось против Тимур-Кутлуга. Противники встретились на реке на реке Ворскле (на территории современной Полтавской области), и здесь 12 августа 1399 г. Витовт с союзниками был разгромлен. На поле боя погибло множество русских и литовских воинов, в том числе около двух десятков князей[57]. Витовт и Тохтамыш бежали (последний вскоре оказался в пределах Сибирского ханства).
Битва на Ворскле.
Миниатюра Лицевого летописного свода XVI в.
Осада Смоленска Витовтом в 1404 г.
Миниатюра Лицевого летописного свода XVI в.
Воспользовавшись поражением Витовта, в августе 1401 г. смоленский князь Юрий Святославич при поддержке Олега Рязанского сумел возвратить себе Смоленск[58]. Тем не менее Витовт не отказался от своих планов. Осенью 1401 г. он подошел к Смоленску, но вынужден был отступить. Спустя три года он снова осадил Смоленск. Князь Юрий Смоленский решился просить помощи у Василия I. Подробности становятся известны из летописи: «И князь Юрьи сослася с великим княземъ Васильемъ Московъским и выеха из города… а сам прииде на Москву и би челом князю Василью Дмитрееивчю, даючися ему сам и со всемъ княжениемъ своим. Князь же великыи Василеи не прия его, не хотя изменити Витовту». После московского отказа смолянам не оставалось ничего иного, как открыть ворота литовцам. Это произошло 26 июня 1404 г.[59]
Сейчас, по прошествии столетий, трудно судить, почему Василий отказал смоленскому князю. Но думается, свою роль здесь сыграли два обстоятельства, случившиеся в 1400 г. В этом году именно на дочери смоленского князя женился Юрий Звенигородский, главный претендент на великое княжение. Под этой датой летописец записал: «В лето 6908. Женися князь Юрьи Дмитреевич на Москве у князя у Юрья Святославличя Смоленьского, поят дщерь именем Анастасию»[60]. А чуть ниже он поместил известие о смерти первенца Василия I: «Ноября въ 1 преставися князь Юрьи, сынъ великого князя Василья, 6 лет, и положиша его в архаггеле Михаиле» (то есть в Архангельском соборе московского Кремля)[61]. Вскоре после этого Софья Витовтовна родила еще одного сына – Даниила. О нем известно, что он родился 6 декабря 1401 г., «да недолго жил: толико 5 месяц, и умре».
Смерти сыновей великого князя давали Юрию Звенигородскому шанс на переход к нему великокняжеского стола, тем более что перед глазами был пример, когда его дед Иван Красный, будучи удельным князем, после смерти Семена Гордого, оставшегося без наследников, в итоге стал великим князем. При этом звенигородский князь прекрасно понимал законность своих прав, поскольку по старому родовому счету второй и третий брат считались старше своего племянника, тем более что тот был малолетним.
Естественно, в Москве догадывались об устремлениях звенигородского князя и принимали ответные меры для того, чтобы закрепить великокняжеский стол в роду Василия. Около 1401–1402 гг. между Василием I и его братьями Андреем Можайским и Петром Дмитровским (но без Юрия Звенигородского) было заключено соглашение, что в случае его кончины удельные князья обязаны «блюсти» его владения под Софьей Витовтовной и ее детьми[62].
13 января 1405 г. появился на свет следующий сын Софьи Семен. Но и его судьба была похожей: «Жил 12 недель и умре»[63]. Неудивительно, что в 1406 г. вскоре после смерти Семена Василий Дмитриевич написал первое по счету завещание, по которому его второй сын Иван (ему на тот момент было 8–9 лет) становился его наследником. В данном качестве его признали дядя Василия I Владимир Андреевич Серпуховской и братья великого князя Андрей и Петр Дмитриевичи. Об этом можно судить из следующих слов завещания:
«А о своемъ сыне и о своеи княгине покладаю на бозе и на своемъ дяде, на князи на Володимере Ондреевиче, и на своеи братьи, на князи на Ондрее Дмитреевиче и на князи на Петре Дмитреевиче, по докончанью»[64]. Примечательно, что здесь не упоминается Юрий Звенигородский, главный из возможных наследников в случае бездетной смерти Василия I.
Василий I выступает в поход против Витовта.
Миниатюра Лицевого летописного свода XVI в.
Между тем Витовт не оставлял своих намерений относительно русских земель. Зимой 1405–1406 гг. его целью стала Псковская земля. В этих условиях псковичи и новгородцы обратились за помощью к великому князю. Отказать им, как в случае со Смоленском, было невозможно, и, как записал летописец, «князь великы Василеи Дмитреевич разверже миръ с великым князем Витовстом за пскович». Началась московско-литовская война 1406–1408 гг.
Несмотря на то что ситуация складывалась в пользу Москвы (на ее сторону перешел ряд литовских князей, ордынский хан Шадибек послал свои войска на помощь московскому князю, к тому же осложнились отношения Литвы и Тевтонского ордена), военные действия тянулись ни шатко ни валко, прерываясь частыми перемириями. В 1408 г. московский князь принял к себе на службу Свидригайло, младшего брата великого литовского князя и польского короля Ягайло. Тот планировал с русской помощью свергнуть Витовта. Это заставило последнего начать более активные действия. 1 сентября 1408 г. дружины Витовта и Василия I встретились на берегах реки Угры. Но генерального сражения так и не последовало: был заключен мир, который периодически продлевался до конца XV в., а Москве пришлось смириться с присоединением Смоленска к Литве. Нерешительность Василия I и Витовта объяснялась ордынским фактором: соперники с опаской наблюдали за Ордой, готовой напасть на слабейшего из них.
В Орде после смерти в 1399 г. хана Тимур-Кутлуга власть фактически перешла к темнику Едигею. Не будучи чингизидом, Едигей не мог носить титул хана. Поэтому он правил посредством марионеточных ханов из рода Джучи, которых по своему усмотрению сажал и смещал с престола. Главной заботой Едигея в начальный период правления стала борьба с Тохтамышем и его сыновьями. Только после целого ряда сражений Тохтамыш в 1406 г. был убит близ Тюмени. После этого Едигей предпринял попытку восстановления власти Орды над Русью. 1 декабря 1408 г. он подошел с огромной ратью к Москве и, осадив ее, стал лагерем в Коломенском. В Москве затворился князь Владимир Андреевич Серпуховской, а Василий I «отъеха вборзе на Кострому». Города Московского княжества вплоть до Нижнего Новгорода были сожжены, а волости разграблены. Едигей собрался было зимовать под Москвой, но через три недели, получив известия об очередной смуте в Орде, вынужден был снять осаду, согласившись на выкуп в три тысячи рублей[65]. Василию I пришлось возобновить уплату дани. Однако подчинение Орде было уже далеко не таким, как раньше. Сарайские правители уже не могли посылать в русские земли надолго крупные военные силы, которые теперь нужны были им для преодоления внутренних политических усобиц.
Выезд Свидригайло к Василию I.
Миниатюра Лицевого летописного свода XVI в.
Стояние на Угре 1408 г.
Миниатюра Лицевого летописного свода XVI в.
Убийство ханом Шадибеком Тохтамыша в Сибирской земле. Миниатюра Лицевого летописного свода XVI в.
Разрыв союзнических отношений Василия I и Витовта сыграл определенную роль в улучшении отношений великого князя с Юрием Звенигородским. Он участвует в походах великого князя: 1414 г. на Среднюю Волгу и 1417 г. на новгородские волости.
Но вскоре ход событий вновь заставил московского князя задуматься о союзе с Витовтом. Причиной опять явилось опасение, что Юрий все же станет великим князем.
Поскольку в Древней Руси полностью дееспособным признавался только женатый человек, 14 января 1416 г. Василий I сыграл на Москве свадьбу своего сына Ивана, женившегося на дочери князя Ивана Владимировича Пронского. На тот момент жениху было 19–20 лет, что считалось несколько запоздалым. Это может говорить о его проблемах со здоровьем. Как бы то ни было, 20 июля следующего 1417 г., на пути из Коломны в Москву, наследник Василия Дмитриевича скончался, не оставив потомства[66].
В этих условиях летом 1417 г. великий князь срочно переписал завещание на единственного из живых сыновей – «пеленочника» Василия, родившегося в марте 1415 г., за два года до кончины своего старшего брата Ивана. Опеку над ним и его матерью в случае своей смерти великий князь поручал тестю – великому князю литовскому Витовту, своим братьям – Андрею, Петру и Константину Дмитриевичам, а также сыновьям скончавшегося к тому времени Владимира Серпуховского – Семену и Ярославу Владимировичам: «А приказываю своего сына, князя Василья, и свою княгиню, и свои дети своему брату и тистю, великому князю Витовту, как ми реклъ, на бозе да на немъ, как ся иметъ печаловати, и своеи братье молодшеи, князю Ондрею Дмитриевичю, и князю Петру Дмитриевичю, и князю Костянтину Дмитреевичю, и князю Семену Володимеровичю, и князю Ярославу Володимеровичю, и их братье, по их докончанью, как ми рекли»[67].
Рождение у Софьи Витовтовны сына Василия.
Миниатюра Лицевого летописного свода XVI в.
В тексте грамоты привлекает уточнение «как ми рекли» применительно к Витовту. Это говорит о соответствующих договоренностях московского и литовского князей. Однако нам неизвестно о каких-либо личных встречах Василия I и Витовта после захвата последним Смоленска. Да они были бы невозможны, поскольку политика Василия I в отношении Литвы раздражала тогдашнее общественное мнение, полагавшее, что в итоге это приведет к тому, что все русские земли окажутся во власти Витовта. Виновницей этого полагали «литвинку» Софью Витовтовну, стремившуюся закрепить великокняжеский стол за своим потомством.
Очевидно, переговоры о покровительстве московского наследника Витовтом велись через посредника, каковым, судя по всему, являлся сын Ольгерда Семен Лугвень, женатый на дочери Дмитрия Донского Марии. Указание на это видим во второй и третьей духовных грамотах Василия I, в которых среди драгоценных сосудов, передаваемых наследнику, значатся «каменное судно болшее, што ми от великого князя от Витовта привезл князь Семен, да кубок хрусталной, што ми король [Ягайло] прислал»[68]. В первой духовной грамоте эти предметы не значатся.
В этих условиях и Василий I, и Юрий Звенигородский стали искать поддержку среди членов московского княжеского дома. Хотя великому князю формально удалось заручиться согласием всех своих родичей, за исключением Юрия, оно не стало единым. Именно в этом ключе следует рассматривать разразившуюся в 1419 г. ссору Василия I и его младшего брата Константина Дмитриевича, вынужденного покинуть Москву и перебраться в Новгород. Конфликт братьев тянулся два года, но в 1421 г. Василий I вынужден был примириться с Константином, понимая, что вражда с ним крайне вредит закреплению прав его малолетнего сына Василия на великокняжеский стол. Никоновская летопись, сообщая о возвращении Константина, подробно объясняет причины разрыва: «Того же лета князь Констянтинъ Дмитреевичь изъ Великаго Новагорода отъеха на Москву, а былъ въ Новегороде того ради: понеже братъ его князь велики Василей Дмитреевичь хотелъ его привести въ целование крестное подъ своего сына, князя Василиа, онъ же не хотя быти подъ своимъ братаничемъ и поиде въ Новъгородъ, и князь велики Василей Дмитреевичь, братъ его, отня у него всю отчину его, и бояръ его поима, и села и животы ихъ отня, и ихъ розведе и юзы железными связа»[69]. Но, даже примирившись с братом, Константин в главном вопросе – кто станет следующим великим князем? – предпочел сохранить нейтралитет.
До поры до времени противостояние не выходило за пределы княжеских теремов, пока 7 октября 1422 г. не скончался князь Иван Владимирович, старший из сыновей Владимира Андреевича Серпуховского и троюродный брат Василия I. С его смертью возникала угроза того, что серпуховские князья могут перейти на сторону Юрия Звенигородского. Поэтому в начале 1423 г. великий князь Василий I составляет свое последнее, третье по счету, завещание.
Свидетелями духовной грамоты, текст которой написал дьяк Алексей Стромилов, стали шесть московских бояр. Ее также засвидетельствовал тогдашний митрополит Фотий, после чего к грамоте была привешена желтовосковая великокняжеская печать[70].
Константин Дмитриевич уезжает в Новгород.
Миниатюра Лицевого летописного свода XVI в.
В целом новое завещание повторяло содержание предыдущего, за двумя исключениями. Из числа гарантов завещания был вычеркнут младший брат Василия I угличский князь Константин Дмитриевич. Если во второй духовной грамоте великий князь твердо предусматривал: «А сына своего, князя Василья, благословляю своею вотчиною, великим княженьем, чем мя благословил мой отець», то в новом варианте прослеживаются уже сомнения по этому поводу: «А даст Бог сыну моему великое княженье, ино и яз сына своегo благословляю, князя Василья». Эти сомнения явно были вызваны позицией Юрия Звенигородского, который в противовес складывавшейся против него коалиции начал наводить контакты с Ордой.
Поскольку со времени написания второй духовной грамоты, где впервые появилось «приказание» московского наследника Витовту, утекло немало воды и политическая ситуация неоднократно менялась, требовалось вновь ознакомить литовского князя с текстом завещания. Данное поручение было возложено на митрополита Фотия, поскольку именно митрополиты по тогдашним правилам являлись гарантами княжеских завещаний.
Василий I и Софья Витовтовна.
Шитье на саккосе митрополита Фотия
Об этом становится известно из двух источников. Сохранился список третьего завещания Василия I, сделанный в XV в., на обороте которого имеются пометы: «1) Список з грамоты, что поимал Олексеи з собою в Литву, коли с митрополитом поехал с Фотеем на середохрестье; 2) Список с тое грамоты, что пошла к великому князю к Витовту с Олексеем в лето 30 первое, з середохрестья»[71]. О других деталях информирует летописец: «Тое же зимы княгини великаа Софья съ сыномъ Васильемъ ездила къ отцу своему Витовту въ Смоленескъ, а князь великы, отпустивъ ее с Москвы, сам еде на Коломну, да и Фотеи митрополитъ былъ у Витовта, а ехалъ наперед великые княгини»[72].
Фотография 1905 г. торцов надгробий в Архангельском соборе московского Кремля.
На переднем плане захоронение Василия I
Спустя несколько месяцев после этих событий в восьмом часу ночи 27 февраля 1425 г. в возрасте 53 лет великий князь Василий Дмитриевич скончался. Той же ночью митрополит Фотий послал в Звенигород к князю Юрию своего боярина Акинфа Ослебятева. Но Юрий, полагая, что в Москве его ждет ловушка, отказался ехать и срочно отправился из подмосковного Звенигорода в заволжский Галич, «а на великомъ княженьи седе князь Василеи Васильевич, бе же тогда десяти лет 16 днии»[73]. Разгоралась междоусобная война, растянувшаяся в общей сложности на четверть века.
К.А. Аверьянов,
ведущий научный сотрудник
Института российской истории РАН,
член Научного совета Российского
военно-исторического общества,
доктор исторических наук
Д.М. Балашов
Воля и власть
Глава 1
Василий был в ярости. Бешено мерил шагами востроносых шитых жемчугом зеленых тимовых сапогов особную вышнюю горницу княжеских теремов, устланную восточным ковром и уставленную поставцами с дорогою русскою и иноземной посудой, которою не часто и пользовались – боле для пригожества стояла.
Уже дошла весть о стыдном разгроме Двины новгородскими молодцами, а уж задалась было она великому князю Московскому, и о взятии Орлеца, где был захвачен неудачливый ростовский князек Федор, посланный на Двину для сбора дани. (И неволею подступало так, заключать мир с Новым Городом!) И более того: доходили смутные вести, что разбитый татарами Витовт готов заключить новый союз с Ягайлой, отдающий в грядущем великую Литву в руки польского короля! Вот тебе и все высокие речи тестя, породившие надежды на то, что его, Васильевы, дети учнут княжить в Литве. Потому и разрешил он захватить Смоленск, не помог рязанскому князю, оттянувши его от Любутска, и позволил затем Витовту разорить всю Рязанскую землю, по сути, порушив старый московский договор с Рязанью, еще великим Сергием заключенный! Особенно стыдная измена, ибо за Федором, сыном Олега Рязанского, была замужем его, Василия, родная сестра!
И союз с тестем против Великого Нова Города… Слава Богу, что хоть новогородцы не дались на обман, не разорвали союза с немцами и не позволили втянуть себя в войну, возможным исходом которой был бы захват Витовтом Новгорода Великого! И испорченные отношения с Ордой, и гнев своей же боярской господы – все это даром, дуром и попусту!
А теперь смерть сына, проигранная Нову Городу война и эта брюхатая (опять, поди, девку принесет!) упрямая литовская баба, которую он до дрожи любил, а сейчас до дрожи ненавидел, так и не уяснившая себе, что он не подручник Витовтов, а великий князь Владимирский, и православная Русь отнюдь не вотчина католического Рима!
А это уже не сказки, не слухи, не возможный оговор! Вот противень того подлого соглашения Витовта с Тохтамышем, захваченный и привезенный ему, ему, великому князю Московскому!
Схватил, шваркнул об пол, додавил сапогом, как ядовитую змею, бесценный литовский кубок из яйца Строфилат-птицы в иноземной серебряной оправе. Хотел было разбить и кувшин белой глины, из далекого Чина привезенный, расписанный змеями и махровыми круглыми цветами тамошней земли, но удержался, жалко стало. Слишком дорога была китайская белая полупрозрачная посуда, которую не умел делать более никто в мире, ниже на Софьином Западе хваленом!
Софья немо смотрела, белея лицом, на яростную беготню супруга. Стояла, полная, плотная, в распашном саяне своем, скрывавшем вздернутый живот, голова убрана жемчужной снизкой и повойником. Давно уже одевалась по-русски, пряча волосы, заплетенные в две тугие косы, дабы не отличаться от местных боярынь московских. И как это она далась на обман, связавши свою судьбу с этим сумасшедшим русичем и до горькой обиды женской ставшим уже родным ей человеком! Великий князь! А ведет себя порою не лучше пьяного польского шляхтича! Подумала так, и пришло вдруг горестное озарение, что никто и не был лучше тогдашнего княжича Василия, да, пожалуй, и нынешнего московского князя, милого лады ее!
Женщина в тридцать лет, много рожавшая (за восемь годов брака четыре ребенка: два сына и две дочери – шутка ли!), вознесенная на вершину власти Владимирской земли, – великая княгиня Московская! – совсем не походила на ту сероглазую девочку, с которой Василий, в полузабытом замке, еще тоже не князь Московский, а попросту княжич, один из многих сыновей своего великого отца, целовался у пахучей ржаной скирды в предместье польского города Кракова. И та сумасшедшая скачка, и слепо отталкивавшие его руки девушки, и ее нежданно жаркий поцелуй, и хрипло произнесенные слова: «Не забудешь, князь?» Где все это?! Утонуло в череде суровых лет, заполненных без остатка ежедневными трудами вышней власти! А теперь еще эта нежданная смерть Юрика, столь полюбившегося ее грозному отцу. Когда была она позапрошлым летом со всеми детьми в гостях у него в Смоленске, городе, отобранном батюшкой у бесталанного смоленского князя Юрия Святославича. Еще до этого страшного сражения с Едигеем, до разгрома на Ворскле всей литовско-польской рати, собранной отцом, разгрома, перевернувшего и перечеркнувшего все дальние замыслы родителя!
И как помнилось теперь, сколь сразу постарел отец: щеки обвисли, отчего круглое «котиное» лицо стало едва ли не квадратным, а под глазами легли тяжелые круги, и в глазах, полных по-прежнему властной силы, уже не вспыхивала озорная, юношеская удаль, что так привлекало к нему женщин и отчего у нее самой, у девочки-дочери, начинала сладко кружиться голова. Отец был торжествен и хмур. Он готовился к разгрому хана Темир-Кутлука, намеревался стать господином всей русской земли. Он не замахивался, как польские ксендзы, на святыни православия, напротив, послал с нею зятю дорогие иконы греческого и смоленского письма в окладах червонного золота и святые страсти Спасовы, принесенные некогда из Цареграда в Смоленск.
Мать держалась. Была все также роскошно одета в переливчатый шелк и фландрский бархат. Тщательно набелена и нарумянена, в алмазном очелье, в колтах, украшенных индийскими рубинами, но выдавали руки, потемневшие, сморщенные в узлах вен, высохшая шея, хоть и почти вся залитая серебром, жемчугом и лалами многочисленных бус. И Софья подумала вдруг: не в последний ли раз видит мать?
Она ткнулась лицом ей в мягкую обвисшую грудь, замерла, со страхом чувствуя, что вот-вот расплачется, нарушив весь торжественный чин встречи… Потом прошло. Вечером, после столов, ели материно любимое варенье, вспоминали Краков, Литву, Ягайлу и невольный свой плен в ляшской земле. Мать расспрашивала про Василия, и все не то и не о том, о чем хотелось с нею поговорить… Да и дети! Дети обвесили бабу свою, Ванек и Юрко, Нюша и крохотная Настя, которая, ковыляя, то и дело вставала на четвереньки и временем оставляла мокрые лужицы на коврах… И как тогда отец, с доброй улыбкою на лице, выходил, держа на каждом плече по внуку, и предсказывал им грядущую власть в русской земле…
И она так верила! Так ждала победы, так деятельно готовила Василия к тому, чтобы уступить, не мешать, даже помочь отцу в его многотрудных замыслах! И так казалось близким и столь достижимым жданное торжество! И королевская корона на батюшкиной голове, и конные ристалища на Москве, и танцы, что тогда она начнет устраивать польским навычаем в богомольной столице Василия!
Отец строил замок у себя в Троках, и каждый крестьянин или купец, въезжая в город порожняком, должен был привозить по большому камню, и стены росли прямо на глазах, до высоты пушечного боя из гранитных валунов, а выше – из кирпича. Такие же сводчатые залы и замкнутые внутренние дворы, как в рыцарских замках Ордена, такие же висячие переходы – замок на острове, с тройною защитой ворот. И Софья, закрывая глаза, уже словно видела это чудо, сотворяемое ее отцом у себя на родине взамен низкого, схожего с медвежьею берлогою, обиталища старого Кейстута. И только одно долило: вера! Знала, уведала, поняла уже, что русичи от православия не отрекутся ни в жисть, и тут ее отцу… Да почему отцу! Ванята с Юриком оба крещены по православному обряду. Впрочем, о далеком будущем не думалось тою порой! Отец был с ней! Прежний, великий, властный и умный, умнее всех! И о татарах он говорил небрежно, считал, что пушки решат все и лучная татарская конница не выдержит огненного боя, ринет в бег, и останется только гнать и добивать степняков, вдоволь уже проученных Тамерланом! И после того Орда, татарская дань, набеги, пожары, полоняники, бредущие к рынкам Кафы и Солдайи, – все минет, все будет обрушено и прекращено одним ударом! А после присоединения Нова Города и Пскова к державе отца сам папа римский неволею возложит корону на его голову! А она? Сможет ли тогда побывать в Риме, Флоренции, сказочном Париже, куда польские паны посылают своих детей в услужение тамошним рыцарям? У нее от отцовых замыслов кругом шла голова, и все казалось так достижимо и близко, стоило лишь руку протянуть!
А Василий, почти забытый ею в этот миг, глянув на Софью скоса суровым зраком, узрел вдруг беззащитно девичье выражение ее лица, тяжесть ее чрева и, отворотясь, вновь с болью ощутил на губах нежный ротик погибшего сына, когда Юрко целовал его перед сном. Вспомнил его тонкие рассыпающиеся волосики, разгарчивое лицо, когда шестилетний малыш садился на коня со смешанным выражением восторга и ужаса в глазах!
И теперь единая надежда сохранить и передать власть – Ванята, Ваня, четырехлетний увалень… Не будут уже смешно ссориться братья, точно два медвежонка, молча, сопя, выдирать друг у друга из рук какую-нибудь глиняную свистульку или деревянного резного коня… Не будут! И как они, постоянно ссорясь, все одно не могли жить друг без друга… И как же теперь?
Софья плакала. О несбывшихся отцовых замыслах, потерянных своих мечтах, о старой матери, не умеющей скрыть возраста своего, о погибших в немецком плену братьях, о надеждах, которые всегда обманывают нас, даже сбываясь.
Софья плакала, а Василий, устыдясь, подумал, что плачет она о сыне, и неуклюже прикоснулся к ней, полуобнял, пробормотав: «Господь… Воля его…» У него оставался Иван, оставались не свершенные суздальские дела, Псков и Новгород, которые нельзя было отдавать латинам, тысячи дел, малых и больших, из которых и состоит то, чему название – вышняя власть, и от чего властитель, не жаждущий проститься с престолом, не должен, да и не может, отстраниться даже на миг! У нее – лишь горечь несбывшихся надежд, своих и родительских, горечь смутного позднего озарения, что иной судьбы, кроме сущей и уже состоявшейся, ей не дано, как не дано иного супруга, кроме Василия, и иной земли, кроме Руси, Руссии с ее снегами, лесами, морозами, с ее нравным народом и потаенными обителями иноков в древних борах и чащобах, блюдущих, как они сами глаголют, истинные заветы Христа…
Василий дернулся. Еще раз неуклюже приобнял ее за плечи. Собиралась Дума, и пора было выходить к боярам.
На сенях, у входа в думную палату дворца сидели, сожидая князя, двое бояринов: оба седатые, оба уложив старческие длани в перстнях на тяжелые трости – Костянтин Дмитрич Шея-Зернов, коему пошло уже далеко на восьмой десяток, и Иван Андреич Хромой, шестидесятилетний муж, из широко разветвившегося рода Акинфичей, на коего Костянтин Шея ради разницы лет взирал слегка покровительственно.
И тот и другой в долгих шубах: Иван Хромой в собольей, а Костянтин Шея в шубе из седых бобров; и оба в круглых, высоких, опушенных сибирским соболем шапках, с тростями с резными навершиями зуба рыбьего, только у Костянтина Шеи рукоять украшена бухарскою бирюзой, а у Ивана Хромого посох усыпан речным северным жемчугом. Они пришли решать о мире с Новым Городом и теперь сожидали останних бояр Думы государевой. Оба знали о стыдном двинском погроме, и у обоих были к тому свои зазнобы. Костянтин Шея выдал дочь замуж за несчастливого ростовского князька, схваченного и ограбленного в Орлеце. «Отличился зятек!» – со снисходительной насмешкой отвечал теперь Шея на вопросы, попреки и сочувствия ближников. И не понять было, сожалеет ли он сам об оплошке ростовского зятя, радуется ли зазнобе родича, не поддержавшего семейную честь. А Иван Хромой, вдосталь обеспокоенный судьбою своего самого крупного владения, все не мог допытать: пограбили новгородцы волость Ергу, доставшуюся ему вместе с рукою сестры убитого на Воже Монастырева, или обошли стороной? Свои холопы оттоль еще не прибыли, а от посельского дошло зело невразумительное послание, процарапанное на бересте, что, мол, «Ушкуеве пакостя Белозерский городок ограби, а ле сёла ти невеле бысть». Что хотел сказать посельский этим «невеле бысть», Иван Хромой, как не бился, понять не мог. И теперь, окроме дел государевых, сожидал встречи с княжьим гонцом, дабы уяснить размеры возможных проторей.
Поглядывая друг на друга, бояре, своих бед не касаясь, вели неспешный разговор о том, что волновало всегда и всех: честь в Думе была по месту, кто кого выше сидел, да и выгодные службы, на которые могли послать, а могли и не послать, решались по ряду и родовой выслуге. Тому и другому не нравилось начавшееся при Василии Дмитриче засилие наезжих смоленских и литовских княжат, Ростиславичей и Гедиминовичей. Обсудили и осудили входившего в силу Ивана Дмитрича Всеволожа: «Торопит князек! Побогател-то с Микулиных волостей, не инако! С наше бы послужил исперва!» Потом перешли на только что прибывшего на Москву литовского князя Юрия Патрикеевича, что «заехал» многих бояр, получивши место в Думе не по ряду и заслугам, а единственно по тому, что Гедиминович великой княгине Софье по пригожеству пришел. «Больно много воли бабе своей дает!» – снедовольничал Хромой, не называя поименно ни Софью, ни Василия. Шея лишь дернул усом, смолчал. Корить великого князя – самое пустое дело!
– Он-ить и вашего Федора Сабура заедет! – не отступался Хромой. – И Воронцовых, и Митрия Василича, и Собакиных, и Добрынского!
– Ну, Федор Сабур тех всех выше сидит! – возразил Шея, слегка пошевелясь в своем бобровом опашне. Со спокойствием, рожденным преклонностью лет, стал перечислять, кто под кем должен сидеть и сидит в Думе государевой из Вельяминовых, Акинфичей, Кобылиных-Кошкиных, Зерновых, Бяконтовых, Морозовых и Квашниных. Выходило, что бояре старых родов пока не очень-то уступали наезжим княжатам.
– Выше всех сидел при великом князе Дмитрии Федор Андреич Свибл! – не удержавшись, похвастал Хромой местом опального старшего брата. Шея, хитро скосив глаз, глянул на него. Акинфичи сумели не пострадать после опалы старшего родича, а все же Ивану Хромому говорить того бы не след!
– Выше-то выше, да, вишь, и не усидел! – возразил он с подковыркою. – Бога в кике не хватило!
Готовый разразиться спор, впрочем, утих, ибо в покой вступил Иван Федорович, а за ним, опираясь на посох и прихрамывая, его старый отец, бессменный при покойном князе посол ордынский Федор Андреич Кошка.
– Что, не заратилась Орда? – обратился к вошедшим с вопросом Костянтин Шея, показавши при этом как бы желание встать, приветствуя Федора.
Иван, румяный, кровь с молоком молодец, на голову выше отца, ответил за родителя:
– Куда! Там у их ноне колгота опять. Едигей, кажись, задумал хана менять, дак не до нас им!
– Дак как, други, будем с Новым Городом решать? – вернул разговор к тому, что предстояло на Думе, Костянтин Шея. – Погромили нас на Двине?
– Слух есть, – хрипло подал голос, усаживаясь, Федор Кошка (болел, простыл ныне в осень, ездючи в Тверь на похороны князя Михайлы, да все и направиться не мог), – что не все у их, у новогородчев, гладко прошло. Двинского воеводы брат, Анфал, сбежал, вишь, сказывают, с пути, дак и того, дружину навроде сбират!
– А и попусту! – вмешался Иван Хромой. – Мои волости пограбили, ай, нет, невем, а торговля страдат! Гостям пути нет ни туда, ни оттоле!
– А казне – серебра! – поддержал, входя в палату, Александр Остей. – Надобен мир, бояре!
Думцы один по одному заходили в покой. Полюднело. Ждали токмо братьев великого князя и владыку. Решение замириться с Новым Городом уже тут, в преддверии, было почти принято.
Толк стал всеобщим. Поминали и Новгород, и недавнюю пристойную смерть Михайлы Александровича Тверского, и могущие быть от того изменения в Тверском княжеском доме, и вновь недавнюю пакость на Двине. Гул голосов прокатывался из конца в конец. Но вот придверники, звякнув копьями, вытянулись у входа в думную палату. Бояре завставали с лавок. Взошел Василий, и вслед за великим князем в отверстые двери, блюдя чин и ряд, думцы потянулись в широкую, в два света, палату, где и зарассаживались по лавкам одесную и ошую тронного кресла великого князя Московского, оставляя места для владыки и братьев великого князя: Юрия, Андрея и Петра (младший, Константин, по возрасту в думных заседаниях еще не участвовал).
Серебряные сулицы охраны звякнули еще раз. Вводили новогородских послов.
* * *
Вечером изрядно уставший Василий, протягивая ноги постельнику, освободился от сапогов, ополоснул лицо и руки под рукомоем и, махнув рукою холопу: иди, мол, не надобен пока! – прошел в смежную горницу жены, сел на лавку с резным подзором и, глядя, как Соня, распустивши косы, расчесывает волосы (сенная боярыня, завидя князя, выскользнула из покоя змеей), стал рассказывать, что и как происходило на Думе, да что говорили бояре, и что сказал Юрко.
– Юрий твой, – с нежданною злобой возразила Софья, – спит и видит, как бы на твое место сесть! Грамоту не подписал отказную! И не подпишет! И на дочке Юрия Святославича недаром женился! Беглый князь! Эко! А пото женился, чтобы батюшке зазнобу сотворить! Смоленск отобрать и вновь отдать Юрию! Да, да! И меня он ненавидит! И я его ненавижу, ты прав! – выкрикнула Софья, завидя, что Василий открыл было рот, дабы возразить.
– А ты про договор отца с Тохтамышем знала? – вопросил Василий низким голосом, сдерживая плещущий гнев. – Тогда? До сражения? Когда в Смоленске гостила?! – домолвил, возвышая голос.
Софья спохватилась первая, понявши, что воспоследует, ежели князь, начавший привставать на напруженных ногах, подымется и ударит ее. Но и Василий понял. Двинув желвами скул, повернулся, задержавшись на миг у порога, но смолчал, не вымолвил бранного слова, вышел, шваркнув тяжелую дверь так, что та с глухим треском вошла в ободверину.
Софья плакала, повалясь на застланную куньим одеялом постель. Плакала со злобы и горя, и с того еще, что Василий был, по существу, прав и отвечать ей ему было нечего.
Глава 2
Есть что-то предопределенное, символическое в том, что Михаил Александрович Тверской, последний великий противник московского княжеского дома, умер в том же 1400 году, когда, с разгромом Витовта, завершился первый период собирания Руси Московской, точнее сказать, была создана та система устройства власти, которая, худо ли, хорошо ли, со всеми неизбежными историческими срывами позволила маленькому лесному московскому княжеству объединить, совокупить и создать великую страну, великую Русскую империю, перенявшую наследство монгольской державы Чингизидов и ставшую в веках вровень с величайшими мировыми империями: Римом и Византией, прямою наследницею которой, «Третьим Римом», и стала считать себя со временем Московская Русь. Но до того, до осознания этой гордой истины, должно было пройти еще целое столетие, столетие славы и бед, подвигов и крушений, весь сложный пятнадцатый век, который почти невозможно, в силу многих и разных причин, окинуть единым взором и включить в единую причинно-следственную цепь. Грядущего иногда лучше не знать! Хорошо, что Михайла Тверской умер «до звезды», на самом пороге XV столетия!
Князь разболелся о Госпожене дни (Успение Богородицы 15 августа ст. стиля) «и бысть ему болезнь тяжка». Князю, родившемуся в 1333 году, исполнилось 67 лет. Мог бы пожить и еще, – так-то сказать! – да, видно, вышли уже все те силы, что кипели когда-то и держали его в мире сем. И осталось одно – достойно умереть. И это – сумел.
О чем думает человек, когда приходит время сводить счеты с жизнью? О наследниках дела своего. О прожитой судьбе. О вечности.
Обо всем этом мыслил Михайло, почуявши полное изнеможение сил телесных. Нутро отказывалось принимать пищу, да и руки плохо слушались. Евдокия сама кормила его с серебряной лжицы, старинной, дорогой, красиво изогнутой, с драгим камнем в навершии короткой узорной рукояти, родовой, памятной… Мир сократился до этой вот тесовой горницы, застланной шамаханским ковром, до этого ложа, до этих вот немногих утварей родовых, любимых… Да еще до мерзкого запаха собственного тела. Дуня, слава Богу, делает вид, что не замечает ничего, и заботливо перестилает ему, с помощью прислуги, раз за разом постель. Князь лежал в белье: в полотняной рубахе, пестрядинных домашних портах и вязаных узорных носках, приподнятый на алом, тафтяном, высоком подголовнике (так легче было дышать), укутанный сверху курчавым ордынским тулупом, как любил, как укрывался в путях и походах, глядел на колеблемые огоньки свечей и крохотную звездочку лампадного пламени под большими, тверского и суздальского писем, иконами домашней божницы. Временем задумчиво взглядывал на Евдокию, на ее стоический лик, угадывая непрестанные ее печалования о детях, о зажитке, о нравном старшем сыне Иване. Самый старший, Александр, недолго жил и умер поболе тридесяти летов назад, и уже десять лет, как скончался и второй, тоже Александр, прозванием Ордынец, сидевший на Кашине. Это после его смерти Иван стал старшим среди братьев: Василия, Бориса и Федора, женатого на дочери московского боярина Федора Андреича Кошки, с которым Михаил когда-то познакомился в Орде. Как недавно… и как давно все это было!
Драться всерьез, драться за великий стол Владимирский Михаил прекратил четверть века назад. Все последующие поездки в Орду, робкие попытки получить ярлык у нового хана – все то не в счет. Сам знал уже, что уступит, уступил с того памятного дня, когда под Тверью врубался сам в дружины идущих на приступ московских ратей, многажды кровавя саблю и ни во что ставя собственную жизнь. С той страшной осады, когда ни литвины, ни татары не подошли на помочь и он подписал мир с Дмитрием, мир и отречение от вышней власти, с часа того Михаил уже взаболь не спорил с Москвой.
И когда третье лето тому назад Иван Всеволодич Холмский отъехал на Москву, приславши взметные грамоты, Михаил не стал ни зорить его волости, ни занимать своими боярами его городов, предоставя времени содеять то, что ранее содеял бы обязательно сам и на силу.
Иван Всеволодич, будучи на Москве, женился на сестре великого князя; и это Михаил воспринял спокойно, стараясь не задумывать о том, что Холмский удел может отойти к Москве. Бояре были в недоумении, он же попросту начал понимать с возрастом, что иные тайны судеб народных не подвластны людскому хотению, а идут, капризно извиваясь, по каким-то своим, свыше начертанным законам, и все усилия человеческой мудрости способны разве изъяснить прошлое, но никак не грядущее, о коем можно токмо гадать по прикиду: ежели, мол, произойдет такое-то событие, то из того возможет проистечь такое-то следствие, и опять – ежели… А ежели нет, то… И так далее.
И теперь вот, предчувствуя грядущие споры и свары в Тверском княжеском доме, поскольку не примыслами, но переделом своих вотчин будут жить его потомки, доколе их не поглотит Москва, он все-таки обдумывал душевую грамоту, долженствующую укрепить единодержавие в земле Тверской, подобно тому, как укрепляли единодержавие государи московские. К чему? Зачем? А – надо было! Ибо всякое действование, обгоняющее Господнее течение времен, как и действование, отстающее от этого течения, пытающееся удержать в неизменности прошлое, всякое действование таковое – суета сует и всяческая суета, неугодная Владыке Сил.
Ради Евдокии, спокойствия ее, поторопился с грамотою. Велел позвать дьяка, бояр, тверского владыку Арсения, настоятеля Отроча и иных монастырей.
Сына старшего, Ивана, вызвал прежде, одного. Требовательно глядя ему в глаза, повелел кратко:
– Помирись с Иваном Всеволодичем! – Сын понял, сумрачно кивнул головою.
По душевой старшему с его детьми, Александром и Иваном, доставались: Тверь, Новый Городок, Ржева, Зубцов, Радилов, Вобрынь, Опоки, Вертязин – львиная доля княжества. («Иванов шурин, Витовт, будет вельми доволен!» – подумал с бледной улыбкою.) Княжичам Василию и Борису (а за смертью Бориса – сыну последнего, Ивану Борисовичу) – Кашин и Кснятин с волостьми. Младшему, Федору, оба Микулины городка с волостью. После чего следовали обычные наставления детям: жить в мире и не преступати отцовского слова и душевой грамоты.
Отпустивши бояр и клириков, лежал без сил, чувствуя противную ослабу и головное кружение. Морщась, сделал знак переменить порты.
Обмытый, переодетый, накормленный, соснул было, но тут по шевеленью в сенях понял, что страшат взойти и советуют друг с другом. Оказалось, пришла весть, которую уже и ждал, и не ждал. Из далекого Цареграда воротился протопоп Данило, посыланный к патриарху с милостынею. Узнавши, кто и с чем, Михаил повелел принять протопопа и провести прямо к нему в покой. Еще раз бледно усмехнул, заметивши, как испуганно метнулись глаза посланца, узревшего померкший и высохший лик великого князя Тверского.
Протопоп принес князю патриаршее благословение и отдарок – икону комненовского письма, изображающую Страшный суд. Михаил велел поставить икону у себя в покое и долго, и час, и два, и три, смотрел на нее. Глядел и думал, и подивился даже: как там, в Цареграде, сумели понять, что образ будет ему напутствием в тот мир? Станет ли он, князь, среди тех вон грешников, или ему уготовано попасть в хоры святых мужей, славящих Господа? Притягивает этот долгий змей, пронизающий вселенную, голова коего разинутою пастью обращена к Христу, восседающему в силе и славе, а безобразно обрубленный хвост купается в алой бездне, в адском пламени, где властвует крылатая черная фигура Сатаны и куда ввергаются согрешившие души? Он немо разглядывал хоры праведников, пророков и вероучителей, мощное воинство, окружившее и славящее Христа, сферы, заключающие в себя равно и Бога-Отца, и Сына, и Богоматерь, и темноту адской бездны, и едва ли не впервые ужаснулся толпам притекших к последнему судилищу, на котором окончательно будет установлено: кто есть кто и чего заслуживает в той, вечной жизни, перед которой наша земная – лишь краткий миг, лишь отблеск великого пламени вышнего горнего мира?
Змей? Или река смерти, уводящая в ничто грешные души? Он наконец закрыл глаза. Видение переполнило его, и он понял, что должен встать, пристойно и прилюдно воспринять патриарший дар. Вызвал постельничего. Слабым, но твердым голосом приказал призвать владыку Арсения, а явившемуся на зов тверскому епископу повелел встретить икону по полному чину, со всем священным собором архимандритов и игуменов, с пением стихир, со свечами, крестами и кадилами.
Когда все было подготовлено, повелел одеть себя и, не слушая робких возражений супруги, ведомый под руки, спустился со сеней (от свежего терпкого и чистого воздуха сладко заныло сердце и вновь закружилась голова) и сам встретил икону на княжем дворе у Святого Михаила, принародно облобызал, тут же распорядясь устроением праздника.
По отпущению литургии весь священнический и мнишеский чин во главе с владыкой Арсением был зван на пир к великому князю. Михаил сам сел за стол с гостями, повелев поддерживать себя (боялся упасть), наказал устроить и трапезу для нищих, хромых, слепых, убогих, коих кормили в монастырских и княжеских поварнях, раздавая щедрую милостыню. Испил даже заздравную чашу, обратясь ко всем сущим на обеде, и начал, по ряду, прощаться со всеми, иным подавая чашу из рук своих и, поцеловавши, говорил:
– Прости мя и благослови!
Иереи многие не умели при сем сдержать слез: «Они же, не могуще удержатися, жалостно плакаху». Князь был для них нерушимою стеною, и с его смертью уходили в невозвратное прошлое величие Твери, гордые замыслы и мечты о вышней власти.
Схлынувшую толпу рясоносных братий сменила столь же густая толпа бояр и слуг – постельничих, дворецких, ключников, придверников, конюшенных, псарей, сокольничих, слуг под слугами… Он и тут целовал иных, прощаясь с ними и приговаривая меж тем, чтобы любили братию свою, не обижали друг друга и были милостивы к низшим себе.
– Не дерись! Не пей излиха! И коней береги! – выговаривал с вымученною улыбкой ражему детине – старшему конюху, от коего неистребимо несло конским потом, и тот, низя глаза, нещадно обминая руками сорванную с головы шапку, только потел и кивал головой. И когда князь вымолвил наконец; «Ну, Вощило, почеломкаемси в останешний раз!» – вскинул на господина испуганный взор, рухнул на колени и прижался нежданно мокрою от слез мохнатою мордой к рукам Михайлы, не дозволяя себе поцеловаться даже и перед смертью с великим князем Тверским. А Михайло поднял его, коснувшись бессильными руками плеч конюшего, и все-таки поцеловал трижды, легко касаясь губами, как по обряду надлежит. Так и шло и час, и второй, и еще неведомо сколь времени. Боярам, столпившимся вокруг своего князя напоследях, тем же кротким, но ясным голосом повторил: «А вы, братья, вспоминайте моим детям, чтобы в любови были, яко же указах им!»
Вставая из-за стола с помощью слуг, отмотнул головою, повелев вести себя в церковь Святого Спаса, где молился перед образами Спасовым и Пречистой и прочих святых, а потом начал обходить с поклонами гробы великих князей тверских: святого деда своего Михаила Ярославича, отца, Александра Михалыча, и иных. Подойдя к столпу, на правой стороне коего были написаны Авраам, Исаак и Яков, протянул руку, указав, чтоб его самого положили именно тут, и пошел вон из церкви. За церковным порогом пришлось остановиться, ибо весь обширный двор был полон народом, сбежавшимся на последний погляд к любимому князю своему. Теснились, плакали, тянули руки прикоснуться к краю платья. Ахали, видя, как скоро и страшно изменился князев лик, являя вид бледной дряхлости, усугубленной истомою тяжелого дня. Князь поклонился народу, выговорив:
– Простите мя, братие, и благословите вси!
Ропот, переходящий в рокот, прокатился из конца в конец, когда толпа «едиными усты» ответствовала своему князю:
– Бог простит тя, господине наш!
Михайло помолчал, покивал головою и начал спускаться с крыльца. Люди, теснясь и пятясь, расступались пред ним, открыв дорогу к теремам, куда и сыны, и бояре намерили было его вести. Но Михаил, отрицая, покачал головою, вымолвил и рукой показал:
– В монастырь!
Евдокия, княгини, иноки, сыновья, внучата, бояре и чадь, уразумев, что князь попрощался с ними навсегда, подняли плач, и плач охватил всю площадь: голосили и причитали женки, молились и плакали мужики. А князь шел, спотыкаясь, по-прежнему ведомый, в лавру Святого Афанасия, где и был пострижен в иноческий чин в тот же день, двадцатого августа, и наречен Матфеем.
Теперь и духовные силы были на исходе. Он уже плохо понимал и воспринимал окружающее и здесь, в келье, уложенный на твердое ложе, всхлипнул, не то от усталости, не то от счастья оказаться наконец в постели. Келейник после какой-то возни за дверью внес в келью знакомый курчавый ордынский тулуп, посланный Евдокией, коим и укрыли князя. Михайло тихо улыбнулся этой последней заботе супруги своей, не забывшей и тут о суетных навычаях дорогого своего лады. Уже было все равно, чем одевать ветхую плоть свою, что вкушать или же не вкушать вовсе, но забота женская у самого порога вечности согрела сердце. Так и задремал с улыбкою на устах.
Князю оставалось жить еще семь дней (преставился Михаил Александрович 26 августа, во вторник, в ночь, к куроглашению, а наутро, в среду, был положен в гроб), но свои счеты с жизнью Михайло покончил уже теперь, и в келье, изредка дозволяя посетить себя, ждал одного – смерти.
Московский боярин Федор Кошка почел надобным поехать в Тверь на последний погляд и по родству, и так – из уважения к тверскому великому князю. Сына Ивана, отпросивши у Василия Дмитрича, взял с собой.
– Сестру поглядишь! – примолвил коротко. – Все же не чужие им мы с тобою!
Ехали верхами. Тряский короб, охраняемый полудюжиною ратных, остался назади.
Осень осыпала леса волшебным багрецом увядания. Тяжкая медь дубовых рощ перемежалась то светлым золотом березовых колков, то багряными разливами кленовых застав и осинника. Ели, почти черные в своей густой зелени, купались в разноцветье осенней листвы, словно острова в океане. Сенные копны уже пожелтели и потемнели, и лоси начинали выходить из редеющих лесов, подбираясь к стогам, огороженным жердевыми заплотами. Убранные поля, в желтых платах скошенного жнивья, перемежаемого зелеными лентами озимых, гляделись полосатою восточной тафтой. В вышине тянули на юг птичьи караваны, и пахло свежестью, вянущими травами, грибною горечью и чуть-чуть могилой. Кони шли шагом, почти не чуя опущенных поводов. Иван то и дело взглядывал на престарелого родителя, который сидел в седле, словно в кресле, будто слитый с конем – научился в Орде ездить верхом не хуже любого татарина.
Молчали. В лесах царило предзимнее безмолвие, смолкли ратаи на полях, и слышно становилось порою, как падает, кружась, осенний лист. Еще не перелинявшие зайцы отважно шастали по полям, косясь на проезжающих всадников и лениво отпрыгивая от дороги.
– Жалко все же князей, да и ратников, что погибли на Ворскле! – говорил Иван. – Чего-то Витовт не рассчитал!
Старый Кошка покрутил головою.
– О договоре Витовтовом с Тохтамышем не позабыл, часом? – вопросил он сына. – Что бы мы там ни думали, а Едигей с Темир-Кутлуком на Ворскле спасли Русь от латинян! Да, да! – повторил он с нажимом, не давая сыну открыть рта. – Без Орды нам нынче и не выстоять бы было! Съели бы нас они, как съели Литву! Веру потерять, и все потерять! Я с Ордою завсегда был мирен! Мирен, да мудр! – прибавил он, заметивши, что Иван пытается ему возразить. – Смотри, Иван, как бы вы там не порушили моего устроенья! Не спеши с Ордою! Николи не спеши! А и после: одно дело – разбить Орду. Ето и ноне возможно. Иное – што потом?
– Баешь, под католиков? – рассеянно переспросил Иван, уже навычный к отцовым мыслям, озирая тишину окрест.
– То-то! – невступно повторил Кошка. – Баял уже тебе о том! Латиняне для нас пострашнее всякой Орды!
Воздохнул, помолчал, втягивая ноздрями терпкий воздух осени, в коем уже сквозила свежесть далеких пространств там, за окоемом, за краем неба, куда путника, навычного к странствиям, тянет ненасытимо, до того, что и умереть порою предпочитает на чужедальней стороне, в тайге ли, в степи, в горах каменных, пробираясь к востоку, в поисках Беловодья или неведомых индийских земель…
Близкой смертью, концом того, к кому ехали на погляд, овеяло вдруг путников, и Федор Кошка произнес, не к сыну даже обращаясь, а к дали далекой, к миру и земле:
– Великий был князь!
«Был» само собою высказалось, хотя ехали к умирающему, еще живому, да и неясно казалось там, на Москве, взаболь умирает князь али оклемает еще, встанет со смертного ложа?
– Ворог Москвы! – возразил Иван тем лениво-снисходительным тоном, каким обык подчас говорить с родителем с тех пор, как стал по службе княжьим возлюбленником. Отца это неизменно обижало, но в такие вот миги, как этот, Федор старался не замечать сыновьей грубости. («Молод, суров! Оклемает ишо!» – думалось.) Он озирал пустые поля, словно раздвинутые вдруг просторные редеющие рощи, и в душе у него была та же, что в окрестной природе, яркая печаль увядания.
Окоем, по коему тянули и тянули уходящие на юг птичьи станицы, начинало замолаживать. «Не к дождю ли?» – подумал Федор. Сыну отмолвил погодя, без обиды:
– Тебе того ищо не понять. Великий был по всему! Што с того! И великие которуют и ратятце друг с другом, а все одно – великие люди, они великие и есть!
Иван подумал. Прищурив глаз, поглядел на отца. Федоров дорогой иноходец шел плавной ступью, и отец будто плыл, покачиваясь в седле. Вопросил, сбавив спеси:
– Ольгерд был велик?
– То-то! – обрадованно возразил Федор, почуяв перемену в голосе сына.
– И Кейстут! Да и Любарт… Но тот им уже уступал! А уж Ягайло – не то совсем!
– Ну а у нас кто?
– Михайло Ярославич, святой! – убежденно высказал Федор. – Ето всем внятно, ноне-то!
– А на Москве?
– На Москве: Калита, владыко Алексий – вот был муж! И совета, и власти! Игумен Сергий был! Гляди, вот: один за одним! И которовали, и ратились, а вместе жили, в единую пору! Великий был век!
– Ну а теперь у их Витовт! – начал было Иван.
– У Витовта – талан! – живо возразил Кошка. – Талан есь, и талан велик, а сам – мелок, мельче отца своего!
– Ну а в Орде? Тохтамыш? – полуутверждая, прошал Иван, по-прежнему озирая осенние поля и рощи.
– Етот сотник-то? – пренебрежительно двинув плечом, отозвался Федор. – Я его про себя сотником кличу, на большее не тянет! И Мамай мелок был, суетлив, завистлив, злобен. Последний у их великий муж – Идигу! Едигей! А те, все прочее ханье, токмо резать друг друга!
– Дак, батя, – вопросил взаболь заинтересованный Иван, – как ты судишь-то, не пойму, кто велик, а кто нет. По делам али по норову?
– И по делам тоже! – отозвался Федор. – Великий муж перво-наперво никому не завидует и свой путь завсегда избирает сам! Не то чтобы там подражать кому-то али што иное… И не страшит! Идет до конца! Как вот святой князь Александр Ярославич Невский! Шел своим путем, и не свернуть его было! И доселева тот путь нам означен – быти вместях с Ордой! Вот и я по егову завету творил! А не то, как наш Юрий Данилыч: всю жисть уложил на то, чтобы Михайлу Святого передолить…
– И передолил! – возразил-таки Иван.
– И передолил! А далее и не знал, што ему и содеять? Кончил тем, что выход присвоил, да с тем и велико княженье потерял! Коли хошь, не убей его Дмитрий Грозные Очи, невесть што и сотворилось бы на Руси… И Витовт твой! Будет ждать смерти Ягайлы, дождет ли, нет – невем! А дале што? Королем стать? Дак королей тех в Европе от Кракова до Рима раком не переставить, а толку? Ну, замок выстроит! Ну, рыцарски игрушки заведет у себя в Литве! А дале-то што? А и ништо! Хочет захватить Русь! А Русь – вот она! Ее прежде понять надобно! Полюбить!
Кошка обвел старческой рукою туманный окоем, в коем дальние березы висели, словно таяли в тумане, и не понять было пока, к теплу ли повеяло али к большему холоду? А верно, к теплу! Досказал:
– И век будет оглядываться твой Витовт: а что в Париже да как в Венеции!
– И мы, вон, в Цареграде учимсе, – вновь возразил Иван.
– Учимсе, да! А токмо того, што Алексий измыслил, и в Цареграде нет! Учись, да не подражай! Начнешь подражать, завсегда останешь назади! А коли хошь знатья, татары-то нам ближе, чем латинский Запад! Поглянь в Орде, какой татарин на русской бабе женат, дак и женку ту холит-бережет и она довольна. Вера, конешно, вера не та! Ето – наша зазноба! Не крестили Орду до тех ищо времен, до Узбековых!
– А могли?
Федор кинул глазом на сына. Отмолвил твердо:
– Могли! Юрий Данилыч с его затеями тому помешал! Так-то вот, сын!
Оба надолго замолкли, думая каждый о своем и об одном и том же по-разному. Иван решал, что с Ордою надо кончать, и слепо завидовал-таки Витовту, забравшему такую власть в русской земле. Федор, словно бы читая тайные думы сына, вновь заговорил:
– Ты на Софью Витовтовну не смотри! Решает земля! В ином и самый набольший землю не передолит!
Намеренно не назвал великого князя Василия. Понимал себя как подручника, а тут уже ничего не содеешь противу, ежели… Ежели только набольший тот сам не изменит земле! О таковом думалось, впрочем, трудно. Да и как посудить? Во своем дому хозяин не станет же зажиток и добро губить! Так и князь! Нет, не верилось, не укладывалось, что набольший, глава земли, может стать предателем своего языка. Николи того не бывало! Хотя и бывало! В иных землях, в той же Византии греческой… Ох! Не пошли, Господи, и нам того наказанья когда-нибудь!
– В Дмитрове заночуем! – высказал, взглядывая на небо и приметно темнеющий окоем. «Осень. Как-то сын будет без меня? Князь нравен, нетерпелив… Вона как с Новым Городом дело повел! А коли и с Ордою умыслит такожде? Пождать, пождать надобно! Не противу, а вместях с Ордою, вкупе деять! Подчинить, да не отринуть, вота што надобно! Поймут ли? Содеют ли по-годному? А то всю жисть трудишься, у могилы ждешь: кому передать свечу? Ан, быват, и некому передать, и все на ниче!» И таково горестно зрети перед концом, уже на убыли сил, безлепицу и глупую гордыню молодости, не способной воспринять ни опыта предков, ни добытой великими трудами мудрости родительской.
* * *
В Твери они сразу попали словно в разоренное осиное гнездо или в муравейник. Князь был еще жив, но находился в монастыре и при смерти. Захлопотанная, зареванная Анна повисла на шее у отца, всплакнув по случаю.
Кошка некоторую небрежность княжат воспринял спокойно, в отличие от Ивана, надувшегося, как индейский петух. Однако и он прихмурился, когда выяснело, что великого князя им никак не повидать.
Михаил отказывался принимать кого-либо, да и верно был очень плох. Федор Кошка все-таки прорвался, использовав все свое влияние, волю и церковные связи. Через самого владыку Арсения выхлопотал разрешение на мал час посетить умирающего.
И вот – лавра Святого Афанасия. Ограда, у которой не редеют толпы народа. Тесно застроенный двор, с кельями в два жила. И наконец крыльцо, строгий придверник, миновать коего было весьма непросто. И он – Михайло. Бледный, ужасно старый, худой, в монашеском платье и с запахом смерти, исходящим от бессильного тела. Медленно перевел взгляд – неотмирный, нездешний уже. Кошка перепал: а вдруг не узнает?! Но князь, вглядевшись, узнал, и бледный окрас улыбки коснулся иссохших ланит.
– Федор… Пропустили тебя! – сказал не то дивясь, не то утверждая.
– Как видишь!
Федор поклонил князю земно, перекрестился на иконы, твердо сел у ложа. Он не боялся смерти, предчувствуя, что и его век недолог уже.
– Помнишь, в Орде… – Михайло говорил трудно, замирая почти на каждом слове. Морщил лоб, ему уже трудно было связать мысль в словесное обличье.
– Я был не прав? – вопросил после долгого молчания Михайло.
Федор смотрел на умирающего прихмурясь. Отверг:
– Ты был прав! То, что достигается без труда, мало ценят!
Помолчали. Глаза у князя посветлели. Он явно вглядывался во что-то, явленное ему одному.
– Так будет Русь? – вопросил.
– Будет! – твердо отмолвил Федор, глядя в глаза князю. – Грядет новый век, и будет Русь!
– Новый век! – как эхо повторил умирающий и, помолчав, добавил: – Ну, тогда все было правильно. Поцелуемся, Федор!
Кошка с трепетом коснулся почти неживых холодных уст князя. Почуяв нежданную предательскую слезу на своей щеке, вспомнил сына, здорового, румяного, уверенного в себе и в правде своей. Сколько поколений прошло и пройдет, уверенных в себе и в бессмертии своем? Пройдут, прейдут и сгинут, освободивши место иным, столь же юным и гордым, столь же уверенным в личном бессмертии!
Должно, однако, помнить, что бессмертие всякого «я» – в бессмертии рода, а бессмертие рода – в бессмертии языка, народа, в продолженности навычаев старины. А бессмертие народа (ибо и народы смертны!) – в постоянном обновлении, в появлении все новых и новых племен, множественность которых и являет собою бессмертие человечества, иначе обреченного исчезнуть в свой неотменимый черед.
Скрипнула дверь. Придверник торопил боярина. Федор Андреич поднялся. Князь слегка прикрыл вежды, провожая его, и Федор вновь поклонил ему в пояс, коснувшись рукою пола. Как-то все иное показалось мелко и ничтожно в тот миг! Суета сует и всяческая суета!
Сына он нашел на дворе и едва не порешил тотчас уехать, но дочь с зятем упросили остаться, а там и двадцать шестое августа подошло. И было всенародное прощание с телом князя, была поминальная трапеза, и только после того, порядком измученный, простывший Кошка с сыном устремил домой.
Уже на обратном пути, подъезжая к тому же Дмитрову, Иван вопросил родителя:
– Ты баешь, батяня, што вот он – великий муж, по слову твоему! Дак… И почто не победил? Али…
– Ни то, ни другое, сын! – отозвался старый боярин. – А надобна нам всем, всей Руси, единая власть! А для того… Я с покойным Михайлой в Орде ищо баял о том… Кто-то должен был уступить. Он понимал это, понял! И потому – паки велик!
Боле о Михайле до самой Москвы они не баяли.
Моросил мелкий осенний настырный дождь, стынь и сырь забирались под дорожную вотолу; пути раскисли. И разом померкла, потускнела, съежилась предсмертная краса осенних лесов. В такую погоду и верхоконному боярину забедно, а уж каково пешему страннику, убогому, бредущему из веси в весь в поисках пропитания!
Федор Кошка, достигши дома, слег и долго отлеживался на русской печи, в челядне, держа ноги в горячем овсе.
Глава 3
Вслушаемся в музыку названий городов русского Севера, или Заволжья, и представим, вспомним, что стоит за каждым из них: Каргополь (где причудливо соединилось местное речение с греческим словом «полис», что означает «город»), Вытегра, Шенкурск, Весьегонск (весь – имя угро-финского племени, «весь Егонская»), Белоозеро, Великий Устюг, Яренск, Кологрив, Селижарово, Устюжна, Галич, Тотьма, Вологда, Кубена, Солигалич, Чухлома, Пермь, Чердынь, Вятка, Кунгур, Пустозерск… Поселения, обязанные своим появлением древним насельникам края, а затем – монастырской, крестьянской и купеческой колонизации, муравьиной работе тысяч и тысяч людей, осваивавших местные земли так, что каждый клочок чернозема оказался со временем распаханным и засеянным в здешних лесах хлебопашцами-русичами.
Воспомянем великие реки Севера: Двину и Пинегу, Мезень и державную Печору, Сухону, Вычегду, Вагу и Вятку, Кокшеньгу и Юг, величественную Каму и десятки других, великих и малых, текущих с Урала и пересекающих эту древнюю, все еще мало обжитую землю, до недавнего времени укрытую густою шубою хвойных лесов и полную дыхания истории.
Вот как описывает летописец, крещенный просветителем Стефаном, Пермским край: «А се имена живущим около Перми землям и странам и местом иноязычным: Двиняне, Устюжане, Вильяжане, Вычажане, Пинежане, Южане, Серьяне, Гаияне, Вятчане, Лопь, Корела, Югра, Печора, Вогуличи, Самоядь, Пертасы, Пермь Великая, глаголемая Чусовая. Река же первая, именем Вымь, впаде в Вычегду; другая река Вычегда обходяще всю землю Пермьскую, потече в северную страну и впаде в Двину ниже Устюга сорок верст, река же третья Вятка потече в другую страну Перми и вниде в Каму реку. Сия же река Кама обходящи всю землю Пермьскую, по сей реце мнози языци седят, и потече на юг в землю Татарскую, и впаде в Волгу реку ниже Казани шестьдесят верст».
Когда-то, в незапамятных тысячелетиях, еще до нашествия ледников, здесь росли древовидные папоротники и ползали ящеры, поедая друг друга. Затем земля эта замерзла, обратясь в тундру, по которой бродили мамонты, шерстистые носороги и дожившие до наших времен овцебыки. Потом снова стало теплеть. Где-то здесь в ту пору располагалась «Великая Пермь» – загадочное государство, невестимо сгинувшее, возможно – с новою волною холода, притекшего с «дышущего моря» (Ледовитого океана). Ныне же, в четырнадцатом столетии, с новым потеплением (на севере начал вызревать хлеб!) земля эта деятельно заселялась Русью: «низовцами» – жителями разоряемого постоянными татарскими набегами Волго-Окского междуречья, и новгородцами, что наложили на северные Палестины, вплоть до Урала, тяжелую руку свою. Здесь добывали дорогие меха, сало «морского» зверя (ворвань), красную рыбу и «рыбий зуб» (моржовый клык, а также бивни мамонтов), добывали «закамское» серебро (Камнем назывались Уральские горы) и многое иное. Все эти богатства, невзирая на чересполосицу владений, где новгородских, а где и ростовских, и московских тож, перетекали в руки Господина Великого Нова Города, который рос, богател, утверждался в своей независимости, отбивая набеги свеи и орденских рыцарей, оставаясь, до времени, стражем всей Северо-западной Руси.
За северные богатства даже и в самом Новгороде шла меж боярами разных «концов» глухая борьба, в которой решительней всего действовали неревляне, чьи родовые земли как раз и простирались на север к Заволочью. В 1342 году неревский боярин Лука Варфоломеев, отец знаменитого впоследствии победителя шведов Онцифора Лукина, «не послушав Нова Города ни митрополичья владычня благословения, скопив с собою холопов-сбоев», поехал за Волок, на Двину, поставил городок Орлец и, «скопив емцян, взял землю заволоцкую по Двине все погосты на щит». Сын его, Онцифор, в ту пору отходил на Волгу. Лука выехал сбирать дань с двумя сотнями ратных и был зарезан заволочанами.
Когда весть о том, что Лука убит, пришла в Новгород, «всташа черные люди на Ондрешка, на Федора, на посадника Данилова, аркучи, яко те заслаша на Луку убити. И пограбеша их домы и села»… Дыму без огня не бывает, и когда вернувшийся Онцифор бил челом Нову Городу на поименованных, возмутился весь город. Федор с Ондрешком бежали. Вече с Софийской стороны ударило было на «Торговый Пол», но тут уж и самому Онцифору пришлось бежать после неудачной сшибки. Мир установился лишь с помощью архиепископа и княжого наместника.
Кипение страстей, войны, далеко не всегда удачные, пожары, моровые поветрия сопровождают всю новгородскую историю XIV столетия. Но год за годом, упрямо и упорно, город растет, отстраивается, хорошеет, люднеет народом, крепчает торговлею, тянется ввысь островерхими кровлями боярских теремов. Походы в Заволочье оборачиваются сооружением все новых и новых каменных храмов, о чем заботливо сообщает погодная новгородская летопись. В те века именно каменное церковное зодчество вернее всего говорило о богатстве страны. В Западной Европе в Х – XV столетиях как раз и были возведены или начаты постройки всех наиболее значительных средневековых соборов, а у нас в XIV–XVII богатство охотнее всего обращали в церковное зодчество. Причем наиболее духовным, наиболее устремленным к Богу было на Западе зодчество XI–XII столетий, а у нас, соответственно, XIV–XV. Люди, даже занимаясь торговлей и войной, больше думали все-таки о вечном и возведением храмов, а отнюдь не дворцов и хором старались искупить земные свои прегрешения. Да и сами богатства те же новогородцы зачастую хранили в подклетях каменных храмов и в монастырях, и не только хоронясь пожаров и татьбы. Господу поручался надзор за тем, что, в конце концов, и должно было отойти ему в виде обильных, иногда посмертных пожертвований.
Однако и то увидим, внимательно вчитываясь в скупые летописные строки, что большинство храмов уже строится иждивением зело немногого числа лиц: Лазута, Исак Окинфов, Богдан Обакунович, строит владыка, строят уходящие на покой посадники. Богатства зримо начинают сосредотачиваться в одних и немногих руках. Именно в этом и было заложено грядущее крушение республики. Все более уходила она от былого народоправства, все более приближалась к олигархии: коллективному правлению кучки избранных богачей, а коллективное управление особо опасно как раз в неспокойные военные времена, почему мудрые римляне на время войны отлагали парное консульское руководство (принесшее им поражение в битве при Каннах) и избирали единоличного с неограниченными полномочиями вождя – диктатора. Но еще одно скажем тут, к слову. Демократия городов-государств всегда была существенно ограниченной. Она являлась демократией избранных, демократией господствующего племени со своим советом старейшин, и только. Области и города, подчиненные удачливому гегемону, вскоре на своей шкуре начинали чувствовать, что отнюдь не равны с городом-хозяином и обязаны всячески платить ему дани, уступая во всех правах. И вот окраины начинают бунтовать и или отпадают от центра, или… Или власть из городской, соборной, демократической становится властью одного, обычно наследственного, правителя. Так Рим, покоривший «римский» мир, по необходимости принял императорскую власть вместо власти сената, ибо только при ней возможно стало более или менее равномерное распространение законов на все население империи (хотя бы на все свободное население!). Без чего Римская империя устоять не могла. И города-государства Италии, с тою же необходимостью, подчинялись наследственной власти герцогов и королей или, как во Флоренции, власти одного семейства – Медичи.
Уцелей Новгород в борьбе с Москвою, все одно с демократическим выборным правлением ему бы пришлось распроститься. Во всяком случае, уже с половины XIV века споры со своими «пригородами»: Псковом, Вяткой, Двинской землей – достигли критической точки. Со Псковом дошло до сущей войны и попыток псковичей поставить своего епископа. Вятка и вовсе отпала от Новгорода. Двинская земля после последнего новгородского кровопускания, когда двинян заставили заплатить за давний поход на Волгу, тоже попыталась откачнуть к Москве, чем и поспешил воспользоваться великий князь Василий Дмитрич. Однако попытка Василия единым махом подчинить себе вольный город не удалась. На сей раз не удалась! Новгород был покуда достаточно силен, чтобы отбиться от великого князя московского и на столетие отодвинуть свой, как прояснело впоследствии, неизбежный конец и неизбежное поглощение княжескою Москвой.
Глава 4
Путешествующий западный рыцарь Гильбер де Ланнуа писал в начале XV столетия, что реально управляет Новгородом избранная господа – «триста золотых поясов», что город окружен плохими стенами (читай: не каменными, а рублеными и земляными) и что новгородцы могут выставить сорокатысячное конное войско и «бесчисленную пехоту». Оставим эти цифры на совести французского гостя или, скорее, на совести прихвастнувших перед иностранцем новгородских бояр. На деле новгородские рати состояли обычно из двух-трех, много пяти тысячей ратников, или «охочих молодцов», но зато отборных, проверенных в ушкуйных набегах, в опасных походах за «мягкой рухлядью» и серебром, многократно хаживавших за Камень, в Югру и к Студеному морю, на Волгу, где зорили не разбираючи и татар, и русских купцов, и в землю корел, и в западные земли эстов и латов, где в ту пору хозяйничали уже не датчане и еще не шведы, а закованные в железо немецкие орденские рыцари. Они после разгрома под Раковором уже не дерзали совершать больших походов на Новгород, перенеся свою военную активность (также без особого успеха) на земли Пскова.
В трех тысячах двинулись новгородцы и в 1398 году отбивать свои двинские пригороды, откачнувшие к московиту.
Доселе война тянулась медленно, без перевеса ни той ни другой стороне и даже, скорее, в пользу великого князя Московского.
Еще в 1393 году, озлясь на упорство новгородцев, не соглашавшихся давать суд митрополиту всея Руси Киприану, Василий Дмитрич вооруженной рукою забрал новгородские пригороды с волостью. (Спор шел не о малом: едва ли не все дела по семейным разделам, наследованию, передаче имущества находились в руках церкви. Судебные пошлины составляли немалую часть церковных доходов, да и поезди-ка из Нова Города на Москву, обходилось это в немалые протори! Заметим тут, что и псковичи не желали по тем же причинам ездить в Новгород, отчего у них и возгорался постоянно спор со «старшим братом». Даже и епископа жаждали псковичи поставить своего.) Василий Дмитрич тогда забрал себе Торжок с волостьми, Волок Ламской и Вологду, на что новгородцы, мудро не встречаясь с главными силами Москвы, ответили разорением Великого Устюга, Устюжны и северных волостей, принадлежащих великому княжению. Потом был приезд Киприана в Новгород, посольства в Москву, но прочного мира все не было, и захваченных волостей великий князь Господину Нову Городу не отдавал. Страдала торговля, затяжная война не была нужна никому. Новгородцы заключили мир, уладили было и с Киприаном, торжественно замирились с псковичами, и тут грянул гром. От великого князя приехал на Двину боярин Андрей Албердов «с други», предложил двинянам перейти под руку великого князя Московского; и двиняне во главе с Иваном Никитиным и «всеми боярами двинскими» отложились от Новгорода и целовали крест великому князю.
Поскольку и Волок Ламской, и Торжок, и Вологда, и Бежецкий Верх оставались в руках великого князя Василия, а к Новгороду он «с себя целование сложил и крестную грамоту вскинул», новгородцы также «вскинули крестную грамоту великому князю». Еще при посредничестве Киприана слали послов в 1397 году, ездили в Москву посольством владыка Иоанн, посадник Богдан Обакумович, Кирилла Дмитрич, избранные житьи – но Василий Дмитрич упорно стоял на своем, «мира не дал», посольство уехало ни с чем. Так вот, весною 1398 года новгородцы и решились «поискать своих волостей» вооруженной рукою. Поход возглавили боярин Василий Дмитрич и посадники Тимофей Юрьевич и Юрий Дмитрич (те самые, что брали в 1386 году, двенадцать лет назад, с двинян пять тысячей серебра на запрос великого князя Дмитрия).
Ратниками шли многие дети боярские, житьи, купеческие дети – город посылал на войну в этот раз не «холопов збоев», а цвет своих граждан, ибо речь шла о самом существовании республики. Владыка Иван благословил «своих детей и воеводы новгородчкыи и всих вой», и вот по весенним, еще не протаявшим дорогам рать устремилась к двинскому городку Орлецу, когда-то ставленному Лукою Варфоломеичем.
Дорога велась борами, взбегая с угора на угор, хоронясь болот, перепрыгивая ручьи и речушки бревенчатыми мостиками, которые зачастую тут же приходилось латать, доставая дорожные топоры. Скрипели телеги. Кони шли шагом. Ширилась окрест упоительная северная весна. Цвела верба, из-под талого снега, из-под серого волглого покрова талой листвы лезли первые подснежники, звенела на разные голоса пробуждающаяся вода, зелень недвижных хвойных лесов наливалась цветом. Оранжевые стволы высоких сосновых боров царственно вздымались над разливами мхов и прошлогоднего черничника. Хлопотливо выныривая из-под ветвей, суетились птицы, приготовляя новые и латая старые гнезда. Облезлые и еще не сбросившие зимний наряд зайцы, отпрыгивая посторонь, любопытно озирали череду коней и ощетиненных оружием всадников. А дышалось! Казалось – вздохни поглубже, и молодость вернется к тебе!
Где-то уже далеко за разоренной Устюжной встретился на пути владычный волостель Исай, бежавший из Софийской волости Вель в Новгород. Он-то и донес, что Вель разорена московитами. Исай, измученный дорогою, дышал тяжело. Конь под ним был мокр, в клокастой шерсти и пене. Гнал, видно, не жалея коня, торопясь доставить злую весть в Новгород. Владычных волостей до того не трогали, обходя при всех ратных делах, и даже грабители редко зорили церковное добро.
Воеводы верхами столпились вокруг злого вестника. Кто-то уже открывал баклажку, наливал в чару темного фряжского: промочить горло кудлатому, в рваной шапке Исаю – бежал, видимо, одною душою, как был.
– Господо воеводы новгородчкыи! – говорил Исай, оглядывая насупленные лица конных бояр и боясь, не обвинят ли его самого в небреженье владычным добром. – Наихав, господо, князя великого боярин Андрей, да и с Иваном Никитиным, и с двиняны на святей Софьи волость, на Вель, в сам Велик день всю волость повоевали, и хлеб семенной, и хоромы жгли, и на головах окуп поимаша…
– Ладно, сказывай, кто и где?! – прервал волостеля нетерпеливый Тимофей Юрьевич.
– Отошли, на Двину отошли! К Орлецу! – бормотал Исай, озирая угрюмые лица боярской господы. – От князя великого приихал на Двину в засаду ростовский князь Федор, городка блюсти и судов и пошлин имати с новгородскых волостий, а, двинские воеводы Иван и Конон со своими другы, бают, волости новгородскыи и бояр новгородскых поделиша собе на части. – Исай, выпив и жуя поданный ему холодный пирог, торопливо досказывал, кто из двинян и что захватил из новогородских животов, знал о том явно по слухам, почему и сбивался и путался, повторяя одно и то же…
Исая наконец отпустили, вручив ему и двум спутникам его новых коней – скорей бы донес весть в Новгород, – а сами вечером встали на совет. Получалось, что еще до похода к Орлецу надобилось примерно наказать заратившихся московитов. В прозрачной северной мгле ярко плясало светлое пламя костра. Воеводы черпали в черед дымное варево, дули, поднося лжицы ко рту, отъев, отирали мохнатые уста цветными платами. Поход к Белозерскому городку решили почти безо спору. Не токмо наказать надо было москвичей за разор, но и попросту оставлять в тылу у себя московскую рать опасу ради не стоило.
Комар еще не успел народиться, и воеводы лежали вольно, не разоставя шатра, а нарубив лапнику и застелив его попонами. Накинули только сверх себя долгие опашни да составили сапоги и развесили холщовые портянки ближе к рдеющей груде углей догорающего костра.
Юрий Дмитрич сказывал Василию Борисовичу о красотах Нижней Двины, о безмерной громаде воды, Белом море, торговых походах в далекую варяжскую землю и еще далее к англянам, данам и в земли франков.
– Пора то разорили мы двинян? – вопрошал Василий Борисович, памятуя тот давний поход за волжскою данью. Тень гнева прошла по челу Юрия Дмитрича.
– Цьто им! – отозвался он, передернувши плечом. – Повидь, каки сарафаны тамошни женки носят! Шелк да тафта, бархаты да парча цареградская! В жемчугах вси! Невем, черная ли то женка, али боярска кака! Запло-о-отят, – протянул он грозно. – Серьги из ушей вынут, а заплотят, тай годи! Когды-то ищо хлеб не рос на Двины, а нынце! Вси в серебри! Цьто бояре, цьто и мужики! За стол сести, дак беспременно красную рыбу им подавай! Теперице воли захотели! Будет им под московским князем воля! Ишо приползут и к нам! Каемси, мол, в нашей вины… Я-ить с Иваном Никитиным как с тобой мед пил, вместях за столом сидели! Ну – не прощу никогда! Даже и поверить тому не могу! Владыцьню волость зорить! Эко!
– Спите, господа! – недовольно пробурчал Тимофей Юрьич. – Негоже будет вам из утра перед кметями в седлах дремать!
Ночь. Дремотная прозрачная ночь тихо поворачивается над станом россыпью голубых звезд. Чуть рдеют угли, прикрытые пеплом костров. Кони задумчиво хрупают овсом, и лес стоит по сторонам чуткий, тревожный, полный скрытой жизни, готовой прорваться щебетом птиц, весенним ревом оленей, бурными разговорами ручьев, и словно ждет, гадая, что принесет сюда и окрест дремлющая новгородская рать?
Начались первые белозерские волости. Бледный, с перекошенным ликом волостель вылезает из боярского жила: «кто да цьто?!» спрашивать смешно. Молодцы уже волокут сундуки и укладки, взламывая на ходу. Мелькают в воздухе шелка и полотна, достаканы и чаши, кованую медь пока берут (потом будут выкидывать, тяжести ради). Выводят скот из стай, тут же режут баранов – по селу вой, кто-то охлюпкой пытается удрать, дать весть своим. Его догоняют, спешивают, награждая увесистыми оплеухами, волокут назад. Над боярским теремом уже заплясало веселое пламя. С ревом и плачем бабы волокут что у кого есть из береженого серебра, златокузнь, зернь, жемчужные очелья и колты, тащат назад по домам выкупленную скотину. Волостель ползает в ногах, хватает попеременно за сапоги то одного, то другого, в жутком страхе (вот-вот прирежут и его, и жену!) указывает, где зарыта скрыня с боярским добром. Молодцы отрывают клад, морщась от жара, и едва-едва успевают отпрыгнуть с тяжелою, окованной узорным железом скрынею в руках от рушащихся сверху просквоженных огнем бревен. И – в путь! Скорей! Не задерживай знай!
Рать растекается ручейками, бояре с руганью сбивают молодцов в кучу: «Куды-т! На Белоозере свое возьмем!»
Страшный вал погромов и пожаров катится к белозерским городкам. Старый берут с наскока, арканами оседлав стены, вышибая ворота, увертываясь за щитами от летящих недружных стрел. Жители бегут или сдаются на милость. С пленников тут же стаскивают шеломы и брони, отбирают оружие, что поценней… Скоро и тут ярится по-над стенами, ревет, набирая силу, жадный огонь. Воеводы там, впереди. Рать, подтягиваясь, обложила новый городок Белозерский, готовится к приступу.
Низит солнце. Замерли лес и вода, и только багровые сполохи от догорающих городских костров ходят столбами по бирюзовой недвижной воде Белого озера. Уже рогатками обносят ворота города – не вылезли бы, невзначай, в ночной набег! Уже варят убоину. Уже воеводы, на последних каплях золотого солнца, неслышно опускающегося за лес, объехали город, указывая, где сооружать примет, а где попросту заваливать ворота хворостом, и теперь успокоились до утра, сидят в припутной избе, едят, скорее жрут, уху со знаменитым белозерским снетком, отрезают ножами крупные куски печеной свинины. Хозяйка, сцепив зубы, бегает, подает на стол, тихо бормочет: «Господи, спаси! Спаси и сохрани, Господи!» Молит про себя, не зарезали бы последнюю, что в хлеву, молочную корову!
Брать города приступом не пришлось. Белозерские князья и пришлые московские воеводы, добравшиеся сюда в нескольких ста ратных, сметя силы, порешили сдаться на милость, предложив шестьдесят рублев выкупа кроме захваченного самими ратными…
Гнали полон, гнали скот, вой стоял по дорогам. Рать лилась ручьями, и ручьями же растекались окрест пожары и кровь. Разорили Кубену с волостью, пограбили вологодские Палестины. Ватага, руководимая Дмитрием Иванычем и Иваном Богданычем «с детьми боярскими», на лодках и коньми спустилась на низ, дошла за дневной переход до Галича, разоряя все подряд. Уже под Галичем, почитай, устроили торг, ибо и судам не поднять было всего награбленного. Иное попросту топили в реке. Вновь соединясь, войско частью в насадах и лодьях по Сухоне, частью горою, конями двинулось к Великому Устюгу, вновь разорив и город, и округу.
Уже колосилась рожь. Короткое северное лето бежало к своему неизбежному концу, и, торопясь за летом, двигалась окольчуженной саранчою новгородская рать.
Ратники на тяжело груженных лодьях отпихались шестами: древний навычай «новогородчев» сказывался и тут, лодьи шли резво и ровно, не колеблясь, точно невидимая сила толкала их (в наши дни, увидя такое, в голову приходит: уж не мотор ли гонит лодью?). Ратные в поту и пыли, рожи, закопченные у походных костров, да так и не отмытые путем (баню и то некогда соорудить!), сияют. Добро в лодьях, в сумах переметных, в тороках: ковань, зернь, узорочье, серебряные чары и чаши, дорогое оружие, бархатные порты, атлас, тафта, соболиные меха, весовое серебро в монетах и гривнах – всего не перечесть! Довезти бы до дому только! И тут подстерегала главная беда, а воеводам забота: не дать разбрестись, не дать исшаять рати!
Высокие берега Двины. Громада воды. Боры, там и сям испестренные раннею желтизною дерев. Рать, зоря погосты, подходила к Орлецу, главной твердыне Двинской земли. Там заперлись двинские воеводы, там московские гости, там ростовский князь Федор, пока еще довольный своим назначением, казавшимся там, на Москве, и выгодным, и зело не трудным.
Под Орлецом новгородская рать стояла четыре недели. Город был крепок, брать его с наскока, приступом, боясь положить много людей, не рисковали. Соорудили пороки, закидывали город каменным дождем, выбивали вороты, многажды поджигали стены. Двиняне тушили пожары, отбивались, но в конце концов изнемогли. Новгородские молодцы тем часом зорили окрестные погосты, достигая самих Колмогор, а помощи от великого князя все не было, да по осенней поре ясно стало, что и не подойдет. Кончалось снедное. Поели всех коров и уже принялись за конину. Не хватало хлеба.
В конце концов двиняне вышли из города и «добили челом» новгородским воеводам, каясь и обещая впредь не даваться под руку Москве.
Главных заводчиков – Ивана Микитина и Конона с соратниками – взяли живьем. Конона и неколико иных казнили тут же, а Ивана Никитина с братом Анфалом, Герасима и Родивона, зачинщиков отпадения от Нова Города, исковав, решили повести с собою.
С Федора Ростовского, дабы не очень злить великого князя, взяли присуд и пошлины, что он прежде поимал на двинянах, а самого с дружиною пустили «домовь». С низовских торговых гостей взяли окуп триста рублев и тоже отпустили самих на Низ, даже и с товаром, ну а двинянам пришлось-таки заплатить! Две тысячи рублев и три тысячи конев (каждому новогородцу по лошади) – такова была цена двинского отпадения под руку Москвы.
Весь поход новгородцам обошелся без больших потерь. Из вятших убит был, по грехом, с Городка лишь один Левушка Федоров, сын посаднич.
Села новгородских бояр, куда зашли двиняне, были возвращены владельцам, как и добро. Шла осень, рать пережидала распуту, отъедались, отпаривались в банях, гуляли.
Тимофей Юрьич сам принимал сдавшегося Ивана Никитина. Смотрел сурово в обтянутое голодом знакомое лицо, видел лихорадочный блеск глаз, видел, как двигаются желвы скул. Молчал. На дворе уже сооружали плаху для Конона.
– Казнишь? – вопросил наконец Иван (были они однолетки с Тимофеем и у обоих власы и бороды осеребрила седина).
Тимофей мотанул головою, не отвечая. Возразил хрипло с отстояном: «Тебя к Нову Городу повезем! Как Великий решит, так и будет!»
– Брата пожалей! – супясь произнес Иван. – Молод ищо!
– Волка убить, дак и волчонка задавить должно, не то заматереет и всю скотину перережет! – возразил Тимофей и махнул рукою. Ивана, пытавшегося еще что-то сказать, за цепь выволокли из жила. В спину ратным Тимофей вымолвил нехотя: «Накормите тамо!» И сплюнул. На душе было мерзко. Верно ведь, некогда сидели вдвоем за пирною чашей… Но и Нову Городу изменять Ивану Никитину не должно бы стать… Ох не должно! Один град на Руси – Великий Новгород, и ни Торжок, ни Плесков, ни Вятка, ни даже Москва не заменят его! И значит, все было верно, и князев запрос, что брали с двинян двенадцать летов назад, так и должно было брать! Не Великий же зорить на потеху пригородам своим! Тогда и ослабнет все, и разойдетце земля по градам и весям, и коли не немчи, то Москва зайдет ихние Палестины, вытеснит народом своим, и даже говор новогородчкий угаснет в глуби времен! Нет, нельзя!
Твердо печатая шаг, пошел из избы. Постоял на высоком оперенном крыльце, следя, как воздвигают помост для казни, кивнул издали Василию Борисовичу, что руководил мастерами, спустился с крыльца.
В Новый Город добирались уже по санному пути. Тут-то и сбежал Анфал, каким-то образом порвав ужище и спрыгнув с саней прямиком в густоту елового частолесья. За сбежавшего Анфала, как понимали все воеводы, придется ответить. Впрочем, погоня за ним была послана тотчас – семьсот ратных во главе с Яковом Прокофьичем, – и новгородцы крепко надеялись, что еще до суда над захваченными Анфала привезут в железах, чтобы казнить вместе с братом.
Той же осенью к великому князю на Москву отправилось посольство во главе с архимандритом Парфением: посадник Есиф Захарьинич, тысяцкий Онанья Костянтинович и житьи люди Григорий и Давыд – заключать мир. И в чаянии мира ох как не ко времени было бегство Анфала Никитина!
* * *
Еще гремели пиры и встречи, еще плескала по городу хмелевая радость удачи, а во владычных палатах, отай, собрался боярский совет: владыка Иоанн, в клобуке с воскрылиями, с панагией цареградской работы и золотым с каменьями крестом на груди сидел в кресле, постукивая тростью и хмурясь. Бояре говорили в черед. Степенной, Есиф Захарьинич, успевший воротиться из Москвы, стоял, оборотясь спиною к предсидящим и взяв руки фертом, слегка постукивая носком тимового шитого жемчугом зеленого сапога, глядел сквозь рисунчатый переплет оконницы, забранной желтоватыми пластинами карельской слюды. Свисающие рукава дорогого опашня свободно от плеч опускались почти до полу.
– Нать изловить! – произнес он сурово, не оборачиваясь.
Оба посадника, Тимофей и Юрий, поежились. У Василия Борисыча лоб пошел испариною: Анфала везли на его санях, и, по справедливости, отвечать за беглеца должен был он.
– Ивана утопили, Анфал того николи не простит! – тяжело договорил Есиф Захарьинич, и во второй раз было произнесено давнее о волке и волчонке.
– А ежели не изловят?
Тимофей Юрьич пошевелился в раскладном холщовом креслице, поднял хмурый взор.
– Надея есь! – выговорил он. – Михайло Рассохин!
– Беглеч?! – жестко вопросил, не оборачиваясь, Есиф Захарьинич. – Он-ить к великому князю беглеч!
– Говорено с им! – подал голос молчавший доселе Юрий Дмитрич.
Есиф Захарьинич глянул, оборотясь, и владыка, пошевелясь, пристукнул посохом:
– За выдачу Анфала простить рассохинские вины?
Есиф Захарьинич, вновь отворотясь, молча перевел плечьми.
– В первый након! – вымолвил сквозь зубы.
За окном пошумливал город, слышались пьяные клики, пронзительно выговаривала в руках искусника пастушья дуда, ведя плясовой мотив.
– Можно и… – не договорил степенной. Конечно, помыслили враз воеводы. Рассохину слова не давали, можно и… И каждый, про себя, не договорил.
Разумеется, оставить в покое беглеца Анфала новгородская господа никак не могла, справедливость чего выказалась совсем невдолге, всего через три года.
А на другое лето и еще новая учинилась пакость. Постриженный Герасим, свержи с себя монашеский чин, бежал из монастыря прямиком к Анфалу Никитину, который, невзирая на новгородскую засаду, достиг-таки Вятки, где и начал уже собирать себе новую рать.
Глава 5
Есть люди, которых невозможно представить детьми.
Даже в отроческой ватаге они глядятся старше своих лет, снисходительно указуя несмышленышам, как взбираться на спину неоседланной лошади, как пихаться шестом, стоя в узкой долбленке, как держать деревянный меч в детских «сражениях», как лучше кидать биту, как не трусить, укрощая разъяренного быка. Юношей такой парень уже учит сверстников правильно держать топор, ловко и чисто вырубать угол клети «в крюк» или «в потай», и непонятно – где этому и сам-то выучился? Не моргнув глазом режет скотину, нанося ей меткий удар по темени и враз ножом перехватывая горло. А там уже и ходит в ушкуйные походы с шайкою «охочих молодцов» или «молодых людей», где первым лезет на бревенчатый частокол крепости и, ожесточен ликом, рубит людскую плоть… Но как выглядел такой парень в том нежном отрочестве, когда без материнской заботы и ласки дитяти еще не прожить? Робел ли когда? Плакал ли, уткнувшись в материн подол? Замирал ли восхищенно, слушая бабушкины сказки? Бегал ли за каким иным парнем старше себя, учась хотя бы и властвовать над другими? Нет, этого всего не представить и не понять. Словно и не было того, словно и родился тем самым удальцом, как греческая древняя богиня Афина из головы Зевса, уже взрослой и в полном вооружении! Таковым и был Анфал Никитин.
Недаром именно ему, а не старшему брату Ивану, главному воеводе двинскому, удалось бежать с пути, когда их, закованных, вместе с Родивоном и Герасимом везли уже по зимнему санному пути в Новгород, чтобы там предать вечевому суду.
Сейчас Анфал сидел в избе с сотоварищем Михайлой Рассохиным, бежавшим из Нова Города, и доругивался напоследях:
– Шухло вонючее! Стервь! Тухляки! Пропастина, падина лютая! – рычал Анфал, исходя гневом. – Што Тимоха Юрьич, што Юрко Дмитрич, што Васька Борисыч – одна свита! Воронье на падаль!
Рассохин привез весть, что новгородцы казнили Ивана Никитина, свергнув в Волхов с Великого моста. (Герасим с Родивоном, на коленях, в слезах, вымолили себе жизнь, обещавшись постричься в монахи.) И хоть везли Никитиных явно на смерть за то, что Двина откачнулась Москве, хоть и утек Анфал, как сам понимал, от казни, а все надежда блазнила, что помилует Ивана новгородская господа: сколь вместях и в походы хожено, и за данью, за Камень, в Югру, за серебром и мягкою рухлядью. Да и на Волгу двинян не сами ли новогородчи созывали тридцать летов назад? Сожидал, надея была: ну в железа, в укреп, в монастырь хотя, как Герасима с Родивоном! Не помиловали брата Ивана, утопили. Стервь! И чем провинились двиняне? Тем, что заложились за московского князя? Дак решалось то всема! Вечем, всею, почитай, Двинскою землей! Обыкли грабить Двину! Забедно стало пруссам да неревлянам, что воля у нас! Места богатые, дикие, рыба красная, торг с Норвегом ведем, хлеб и тот родится нынче, не вымерзает, как прежде! Да и когда тот поход был на Низ? Много ли наших ходило? За тридесяти летов те, прежние, успели и умереть в свой након! А воеводили кто? Те же новогородчи, те же бояре с Прусской улицы!
Кто в шестьдесят шестом году воеводил тамо? Есиф Варфоломеич, раз, Василий Федорович, два, и Олександр Обакунович, ведомый воевода, што пал костью под Торжком в бою с тверичами. Дак после и замирились с великим князем Дмитрием, и на Дон с московитами ходили вместях, Орду бить! А как Тохтамыш Москву разорил да пожег, тут-то и подступило: платите, мол, за то, што мы в штаны наложили, каменного града не замогли удержать! А новгородски бояре того круче завернули: мол, двиняне в том походе были, Двина и плати! Из восьми тыщ выхода токо три взяли с палатей Святой Софии, а пять – с двинян. Всю Двину испустошили! И кто был тогда, в восемьдесят шестом? Кто выход собирал? Федор Тимофеич, Тимофей Юрьич да Юрий Дмитрич! И ныне, через двенадцать лет, кто пришел грабить Двину? Кто под Орлецом стоял, бил стены пороками? Кто две тыщи серебра да три тыщи коней вымучивал с двинян? Та же свита! Те же Тимоха с Юрьем! Токо теперь уже – посадники! Остепенились, эко! Прусс с неревлянином! Знакомою дорожкой пришли-прикатили! Вот те и вечевая власть, вот те и вольный город, Господин Великий Новгород! Для кого воля та токмо? Тут и кто хошь за князя великого заложился бы! Лишь бы не грабили не путем! Пять тыщ! И мы же и виноваты теперь! И нас же казнить!
– Теперь князеву руку надо держать, – вставил было слово Рассохин.
– Обосрались и княжие воеводы! – свирепо рявкнул Анфал. – Кого прислал Василий? Ростовского князька, которого на том же Белоозере новгородская рать, почитай, без бою взяла в полон? Я Ивану и давеча баял: дурная затея! А он мне: князь далеко, иной год и даней Москве не пошлем, недород тамо, иное што, да и воевод московских на Двины не слыхано! Вот те и недород, вот те и спокой за князем московским!
Над головами обоих плавал слоистый дым. Хозяйка, опасливо взглядывая на воевод, подавала то дымные шти, то пшенную, сваренную на молоке, кашу, то пироги. Но мужики не столько ели, сколько орали да подливали себе из глиняной корчаги темно-янтарного пива. «А ну как драться учнут, – опасливо думала хозяйка, – всю посуду перебьют ить! А ныне и куплять не на цьто! Московляне зорили, новогородчи зорили, мало избу не сожгали, а ныне двиняне не стали б зорить!»
– После того бесстудства как было не заложиться Москве? – ярился Анфал. – Выборная власть! Посадники! А мне не надобе такой выборной власти, што нас постоянно грабит! У их корысть токмо своя, новогородчка! Да и не всего Нова Города, а, почитай, одной Прусской стороны! Конечь с кончем в Новгороде Великом и то сговорить не могут! Противу Москвы надумали литовских князей приглашать! Ужо Ольгерд им зубы показал, а Витовт еще покажет! Кровавые слезы учнут лить! Обломы!
– Ну и куда теперь? – выговорил, понурясь, Рассохин, уныло заглядывая в почти опруженную братину: не налить ли сызнова? – В Устюге не усидеть! Говорю тебе, толкую! В князеву службу подаваться нать! Боле некуда!
– Ну это ты оставь! – Анфал мотнул тяжелою косматою головой, отвел рукою, будто муху согнал. – Воля дорога!
– На Двину не воротишь нонеча! Двиняне заложились за Новый Город вновь! Тамо, гляди, и нас с тобою выдадут новгородчам… Да и на Устюге не усидеть…
– Да уж… Знамо дело! – процедил Анфал, пнув сапогом некстати подлезшего кутенка. – На Вятку уйду! – отмолвил хмуро. – Татар да вогуличей станем зорить! Айда со мной!
– Примут ле? – усомнился Рассохин.
– Меня да с молодцами не принять? – возразил, выпрямляясь, Анфал и гордо сверкнул взором. – Примут! В ноги поклонят ищо! Воздвигнем тамо новое царство! Вольное! Людей наберем! Сибирь со временем будет наша! Осильнеем – никто станет не надобен, ни Новгород, ни великий князь, ни Орда! Иди со мною, Михайло, не прогадашь! Верно тебе говорю!
Рассохин только вздохнул, не подымая глаз от чары. Анфал легко встал, поднял, чуть натужась, тяжелую глиняную посудину, перелил хмельное в деревянную расписную бокастую каповую братину, приказал: «Черпай!», сам крупно зачерпнул, выпил, не переводя дыхания, до дна, чуя, как горячо ударило в голову, тронулся к двери. Замокшее дверное полотно глухо чмокнуло под тяжелой рукою Анфала, отокрылось в ночь. Анфал вышел на крыльцо, справил малую нужду прямо на снег. Из заречья, где темный бор почти сливался с ночным в низких облаках небом, тянуло морозным пронзительным, с легкою сырью воздухом. Снег на перильцах не скрипел, не рассыпался, а взятый в кулак сминался в ком и медленно таял. Весна, не видная еще, едва ощутимая, готова была обрушиться на боры, взломать лед на сиренево-серой реке, взорваться птичьими голосами, сумасшествием ветра, и дышалось влажно, легко, глубоко. Анфал постоял, чуя, как зыбкий холод заползает за ворот расстегнутой рубахи, холодит и успокаивает разгоряченное тело. Поправил чеканный серебряный крест на груди. Улыбнулся своему, тайному, в ночной иссиня-серой темноте представя себе ледоход на той же Двине, Печоре или Ветлуге: оглушительные удары ломающихся льдин, вывороченные с корнями лесины, ныряющие в сахарно-белом крошеве, вдохнул еще раз морозный воздух, выискивая ноздрями потайную весть близкой весны. «Нет, меня они не утопят в Волхове! – помыслил с веселою яростью. – Ишо не утопят! Гляди, я и сам кого из их утоплю! – повторил себе самому и молчаливому лесу невдали и окрест, утверждая и утверждаясь: – На Вятку уйду!»
А Рассохин продолжал сидеть в дымном жилье над чарой сельского пива, с горем понимая, как не просто ему будет совершить то, что он по тайности обещал и должен будет, ежели что, свершить в уплату за свое прощение и возвращение в Новый Город.
Глава 6
Иван Никитич пошевелил рукою подгнивший кол, тронул второй, крякнул сердито. Поистине надобно было менять всю ограду, а не латать свежим лесом это гнилье! Давешний, пятилетней давности, пожар, смахнувший полпосада, не затронул Занеглименья. А жаль! То бы все разом полымем и взялось, с оградою этой! Только оградой? Он критически оглядел терем: нет, терема было бы жаль! Зло толканувши еще раз старый кол, вываливавший из ряда, пошел к дому.
Не в подгнившей ограде было дело, и не от нее маета, а от недавнего хождения по боярам, от созерцания роскошей, иноземной посуды, ковров, оружия, порт многоценных, коней, что ему могли бы привидеться токмо во сне, размаха хоромного строения, что у Зерновых, что у Кошкиных, что у Акинфичей… А теперь, когда с десятками великих бояринов говорено, когда побывано, почитай, мало не у всей ли московской господы, вновь уползать в свой угол, свой кут, в свою бедную, как пронзительно виделось ныне, хоромину в одно жило, с одним дворовым слугою Гаврилой да с девкою, взятою в помочь матери с Острового «из хлеба»…
Конечно, не то житие, где за все про все одна хозяйка в дому, коей и не присесть на дню, а муж-кормилец какой-нибудь возчик, коваль, али древоделя, али мелкий разносчик с Посада, что с утра спешит со своим товаром по улицам, громко выкликая да потряхивая на спине пуда полтора-два мороженой али сушеной рыбы, или беремя крестьянского холста, и которому коли не продать товар сегодня, то и неведомо, из чего варить на завтра постные шти… А не накопивши, с трудами и горем, двух-трех гривен, и заневестившуюся дочерь замуж не выпихнуть!
У него и солонина в погребе, и зерно, и мука, и масло топленое и постное, да и не льняное какое, а самолучшее, с подсолнуха! И кадушки с грибами, ягодой, капустой, и кадь соленых сетов, и мед – Лутонин дар, и сыры, и соленый творог, и свежая баранина из деревни. Он статочный хозяин, коней кормит не сеном, овсом, княжой городовой послужилец, более того, владычный посельский, и Киприан, кажется, начинает ценить Ивана, отличая от прочих «слуг под дворским». Да и навидался он роскошей-то! И своих, и иноземных. В Орде побывал с княжичем Василием и в Кракове, в Цареграде бывал не раз… И все-таки нынешнее хождение, а паче того теперешнее состояние свое, когда надобно вернуться восвояси и снова умалиться, снова занять свое незаметное место в череде служилых дворян, место скорее нижнее, чем верхнее, – это долило!
Иван Никитич испытывал противное ощущение всех уцелевших и вернувшихся домой «ходоков», которые, сколько-то слепительных дней, иногда часов, побывавши вровень с сильными мира сего, возвращаясь опять во тьму, из которой выплыли на краткий, незабвенный для них миг, уже не могут найти своего прежнего места в жизни, ропщут и надоедают всем и вся бесконечными рассказами о совершенных ими подвигах.
Ивану Никитичу, повидавшему мир, это, последнее, не грозило. Но, однако, возвращаться восвояси все одно было трудно. Начинал заползать в душу тихий не то что страх, а сомнение, что ли: а ну как теперь воспоследует остуда от великого князя Василия, а паче того – от Софьи Витовтовны, которая навряд простит ему, что он своим рассказом о тайном сговоре Витовта с Тохтамышем опорочил ее отца – великого князя литовского. Долго ли великой княгине разорить и погубить простого ратника! Отберут Островое, от службы откажут… Да и чего он добился на деле-то? Василий союза с Витовтом не разорвал, вишь, и Смоленск ему подарил, и от рязанского князя отступился! Да и нелепая война с Новым Городом не по Витовтовой ли воле затеяна? Хороша власть, когда набольший готов подарить отчину недругам своей земли! И что они все? Бояре, послужильцы, чадь, посад, торговые гости, церковь, черные люди московские? Так и согласят, так и стерпят, чтобы от воли одной литовской бабы, пусть и княгини, зависела участь всей земли! Тута меняй не меняй ограду, все одно, душа не на месте по всяк час! В государстве гниль!
В черед подумал о детях – сыны тоже тревожили. Ванята, коего он лонись определил в княжую дружину, нынче голову потерял, пропадает на Подоле у молодой купчихи-вдовы, а та и рада донельзя: «прикормила ратника»! Сам был молод, да и не без греха, а все же… А ну как и женит на себе? Не на десять ли летов старше молодца? Позор! Давно надо было хвоста поприжать охальной бабе да и Ванюху вздрючить! Он уж и на Подоле побывал, и мимо лавки той (калачами торгует) прошелся… Так-то рещи, баба вкусная, сдобная и зраком приятная, да ведь хотя бы какого вдовца себе прибрала! Парню-то и всего восемнадцать летов! То ей, верно, и любо, што млад да юн, поди, до нее и бабьей ласки не пробовал… «Прикормила»! Шалава мокрохвостая!
И все не получалось взаболь озлиться на нее. Даже и до слова дошло: остановил было, проезжая, соскочил с коня. Потупилась, вскинула глаза, потом строго, побелевши губами, произнесла: «Ивану Никитичу!», и глянула слепо. Как женки на восточном базаре глядят, коих привели на продажу… От взгляда того и онемел. Не смог никакой хулы али укоризны нанести, токмо озрел внимательно сведенные брови, тщательно выщипанные и подведенные сурьмою, темно-вишневые губы, припухлые не от сыновьих ли поцелуев? Бело-розовые «крупитчатые» руки, весь ее подбористый стан, еще не нажившейся, не нагулявшейся женки в самой той бабьей поре, когда уже и времени нет сожидать да медлить, а – час, да мой! Понял по осторожному взгляду, по уважительному, по батюшке, величанию (да и как-то узнала, что отец!). Понял, что любит, и не смог, не похотел охаить, остудить… Верно, сама поймет со временем, что не муж он ей, а так, утеха на время! Дак уж пускай… У самого еще не проходит истома телесная при виде красоты женочьей, да вот – сперва ради памяти покойной Маши, после – ради детей (как мачеху привести в дом?), так и не женился во второй након, хоть мать и нудила временем: я, мол, стара, не седни-завтра один останешь… Так-то оно так, все так!
Крякнул еще раз, воспомня поганую ограду, которую когда-то любовно мастерил сам, подгоняя колья вплоть. Чтобы и щелей тех не было в ограде от любопытного не в меру глаза соседского али прохожей женки какой? Воздохнул, подымаясь на невысокое, в три ступени, только бы зимою от снега спасти дверь в жило, крылечко, входя в темные сени и нашаривая рукою дверную скобу.
– Когда Василья-то ждать? – вопросила государыня-мать, возясь у печи. Васька, Лутохин старший брат, недавно вернувшийся из долгого ордынского плена, нынче был на княжом дворе, пошел беседовать с самим Федором Кошкою, вроде берет его боярин толмачом к сыну своему Ивану. Оно бы в самый раз! По-ордынски Васька толмачит как по-русски, да может, и лучше того. Навычаи ордынски все ему ведомы, а Кобылины-Кошкины один из первых родов на Москве: поглядеть токмо, и то шапка с головы улетит! Да и Иван Кошкин ныне у великого князя, бают, в чести: быть при нем то же, что при князе Василии. Дай Бог! Сколько же летов Лутоня его ждал? Верил. Горенку срубил брату у себя в деревне!
На миг Иван позавидовал двоюроднику. Сидит Лутоня на земле, корм справил княжому посельскому – об ином и горя нет! Дети – семеро, никак подросли. Одних парней четверо! Сам заматерел. Дом справный. Не в труд и гостя принять да угостить. Чего бы еще? Не бьется, как он, Иван, не шастает по деревням, сбирая владычный корм, не мыслит о том, каким зраком глянет на него боярин али княгиня великая!
Младший, Сергей, заботил паче Ваняты. Так-то сказать – двенадцать летов всего! Да не в отца, не в брата пошел. Вместо того чтобы там со сверстниками бегать, в горелки играть да драться, над книгами сидит! Грамоту рано постиг, а теперь вот и греческий зубрит, ходит в монастырь Богоявленья к старому иноку из греков сущих. Упорно ходит, учит! Ныне и отцу явил знания свои: сам, спотыкаясь, перевел несколько страниц из той памятной книги, что приволок некогда Иван из Константинова града. И не устает выслушивать отцовы рассказы про царский город. Може, по той стезе пойдет, по посольской? Али по церковной? Девки вроде пока не занимают его… Это ныне не занимают! – одернул сам себя, а года три еще минет, дорастет до иньшего возрасту и сам учнет бегать к какой портомойнице! А все-таки греческий учит! Иван, помнивший по-гречески всего несколько слов, втайне гордился младшим сыном. Но и тревожился более, чем о старшем, Ванюхе. Тот-то весь как на ладони. Виден, внятен, и чего ждать от него, отец понимал хорошо. Маша, Маша не дожила, не позрела сынов-то своих на возрастии! Без баушки, без Натальи Никитишны, и не вырастить, не поднять бы было ему сыновей!
Иван тяжело плюхнулся на лавку. Посидел, подумал, глядя рассеянно на худые бедра деревенской девки, что суетилась у печи вдвоем с матерью. И с лица-то некорыстна, губы толсты, глаза выпучены, да и рябая. Скользом помыслил: трудно ей будет мужика себе найти! На такую и с голодухи-то не всяк позарится!
– Снидать сядешь ле али Василья доведешь? – вопросила мать, не оборачиваясь.
– Пожду! – отозвался Иван.
Мать с того часа, как встретила Ваську у себя в деревне, смертно усталого, бегущего из Орды, оберегла от мужиков, искавших убить «татарина», и стала звать упорно Ваську не Васькой, а Васильем, и даже объяснила как-то: «Он тамо сотником был, а ноне станет княжий муж али толмач при боярине, да и в годах. Неудобно уж Васькой-то звать!» Иван, однако, себя переменить не мог, в глаза и по заочью больше продолжал звать Васькой.
Но вот наконец заскрипели ворота (верхом приехал, понял Иван, ну, Гаврило встретит, примет коня!). Хлопнула дверь в сенях. Иван встал, пошел встречу.
– Никитичу!
– Берет тя боярин?
– Берет!
Обнялись. Васька был по-прежнему смугл, на всю жизнь прокален солнцем. Крепкие морщины острого лица еще не старили его, лишь придавали мужественности. Светлые глаза, способные холодеть и леденеть от гнева, глядели с какою-то суровой безжалостностью. Знать, столько раз видели и смерть, и плен, и муки, и скачущих встречь вооруженных всадников, что по-иному уже и глядеть не могли. Даже когда улыбался Василий, льдинки не таяли в глазах.
Мать поставила на стол мису со щами. От густого, с убоиной, варева шел пар. Наталья Никитишна сама, сдвинувши брови, достала кувшин из поставца, налила тому и другому чары. Помолясь, тотчас выпили. Несколько минут сосредоточенно и молча ели щи, крупно откусывая хлеб. Васька щепотью брал серую соль, сыпал на ломоть аржанухи.
Когда-то встретились в Орде, когда-то вдвоем ходили к иконному мастеру Феофану Греку, когда-то Васька служил у этого грека в подмастерьях, купленный на рынке в Кафе… Давно было! И сейчас сидят супротив друг друга два уже немолодых мужика (все же родня!), и у каждого жизнь прожита, почитай, намного за половину: на пятый десяток пошло у Ивана, а у Василья уже к шестому подбирается, и голову всю как солью осыпало – обнесло сединой. Толкуют о своих, о родне.
– От сестры, Любавы, весточку получил! – говорит Иван. – Не сдается баба никак, второго родила парняка!
– А самый первый ейный?
– Алеха-то? Служит! Уже и на Волгу ходил с князем Юрием! В батьку сын, в Семена!
– А с отчимом как?
– А што ему отчим! Рос, почитай, у батьковой родни, а ныне – воин, муж! Гляди, и оженят скоро! От родни, никак, деревню получил, не то получит, как-то так, словом… Не обижают ево!
– А заходит?
– Заходил…
Ивану неловко баять, что Алексей, как мнится Ивану, так-таки не простил ему батькиной смерти в бою на Воже. Навроде Семен тогда Ивана телом своим прикрыл… Иван нынче и сам иногда начинает думать, что так и было, хотя что там было о двадцати с лишком летов тому назад! Не прикрывал, того не было, а вот умирал Семен на руках у Ивана, и спасти друга, зятя, мужа сестры Иван не сумел.
Сидят два немолодых мужика, беседуют о делах господарских, об Орде, о службе, о князе Витовте, будь он неладен! О настроениях в семействе Кобылиных да о том, что Иван Федорыч с отцом, Федором Андреичем Кошкою, не зело мирен.
– Круто тебе меж их поворачиватьце будет! – говорит Иван.
Васька супит бровь, молча наливает себе в чару Лутониной медовухи. Возражает, подумав:
– Не ведаю! Токмо в ордынских делах старик поболе смыслит сына свово! А Иван-от Федорыч у князя самого в любовниках ноне, в той и докука!
Иван Никитич вздыхает, наливает чару в свой черед. Оба молча пьют. В льдистых глазах Василия проходят ордынские памяти. Иван, прищурясь, сравнивает Ваську с Лутоней. «Братья, а как не схожи!» – думает он.
– Леха Семенов сказывал, – говорит он, чтобы только не молчать, – под Казанью в степи напоролись: мертвяк, уж звери все лицо объели ему, и раненая лошадь… А лошадь жива еще! Лежит, голову приподняла и смотрит на их, и будто плачет. Старшой велит Лехе: добей! А Лехе и от запаха падали-то дурно стало: человечина, дак! Слез, а из-под мертвяка зверек какой-то юркий, навроде колонка али куницы… Смотрит, глазки-бусинки, а пасть в крови, значит, человечину жрал! А конь глядит, и навроде слезы из глаз… Старшой понял, слез и сам горло перерезал коню. И вороны тут – целой тучей… Так вот!
– Так вот… – эхом, как о привычном, сто раз виденном, отзывается Василий (в степи не то еще повидать мочно!).
– В боях-то бывал? – прошает Ивана.
– А как же! – обрадованно отвечает Иван. – Бает, даже срубил одного комонного сам! В отца сын, воин! Коня вот пожалел…
– Коня, однова, жальче бывает, чем людина! – соглашается Васька и снова пьет.
И молчат. По-хорошу молчат. И тот и другой чуют, что свои, не чужие, не сторонние один одному, и это греет паче слов.
А Наталья Никитишна присела к столу, подперевши щеку рукой. Глядит на рослых пожилых мужиков, одного из которых сама растила, подымала после страшной гибели мужа, а другого недавно приветила в Островом, сердцем поняв, что свой.
«Не было бы беды! – думают братовья. – Аль измены от князя самого! А так-то живем! Без нас, ратников, и княжество не стоит! Нече без нас не содеитце!»
Васька подымает холодные и светлые глаза. Прошает, когда померла Маша.
– А у меня в Орде женка была, татарка. Потерял! И сына… чаготаи увели… – говорит, отводя предательски проблеснувший взор.
– Жива ай нет? – прошает Иван.
– Не ведаю!
Васька молчит, потом молча наливает чары:
– Выпьем за наших женок, твою и мою!
Мужики пьют. Наталья Никитишна смотрит на них, подперевши щеку рукой, и тоже молчит. Ее печаль теперь – внуки. Сколь осталось сил, а надобно внуков вырастить. А там уже пора и на погост!
Глава 7
Дело руковожения братией монастыря у Никона шло. Шло тогда еще, в самом начале, когда угасающий Сергий передал ему бразды правления Троицкой обителью, шло и после смерти преподобного. Возможно, как раз потому, что само это дело – многоразличные хозяйственные заботы – мало занимало его, не доходило до дна души. Не было своей, корыстной заинтересованности в нем. А делалось все на удивление легко. Тысячи мелочей, из которых состоит хозяйство крупной обители, как-то сами собой укладывались в голове, не терялись, не позабывались греха ради. Отдавая распоряжения, он всегда помнил о них и всегда проверял: сделано ли? Но и то чуялось, конечно, что он, Никон, является как бы тенью преподобного, тенью Сергия, и все, что творит – творит во славу и память усопшего.
Почему Сергий тогда, в самом начале, отослал его к Афанасию в Серпуховскую обитель на Высоком? Смущала молодость? Сан священника Никон получил именно там. Быть может, чтобы добре познакомился с князем Владимиром Андреичем, неизменным покровителем Троицкой обители? Быть может, и здесь обеспечивал преемственность дел монастырских? Иногда Никон думал именно так. Во всяком случае, свой «отсыл» Никон принял так, как и подобает иноку: со смирением и безо спора. Почему же Сергий так скоро, всего через два года, согласил принять Никона к себе и сразу поселил у себя в келье? (Верный Михей к тому времени уже умер.) Никон учился у Сергия всему: терпению, прилежанию в трудах и тому удивительному сочетанию доброты со строгостью, которое видел в Сергии. Учился многоразличным ремеслам, учился точить посуду и резать по дереву. Но паче всего возлюбил Никон книжный труд. Переплетать, узорить и, главное, переписывать книги мог бесконечно. Греческий постиг едва ли не самоуком. Впрочем, и Афанасий в обители на Высоком сильно помог. И опять тенью мелькала мысль: не греческого ли языка ради (не токмо, разумеется!) отослал Сергий Никона в монастырь на Высоком?
Никон никогда не стремился к странствиям и язык изучал не ради путешествия к святыням Цареграда, а паче всего того ради, дабы честь великих святых отцов не в переводе, а в подлиннике. И уже тогда, при Сергии, начинал переводить с греческого, пусть еще робко и неумело.
Преподобный за семнадцать лет совместной жизни дал Никону невероятно много. Много и в постижении богословских тайн, ибо «бесписьменный» Сергий сердцем понимал много лучше самых исхитренных богословов истины Евангельского учения. И это вот душевное, духовное знание сумел, хотя частью, передать своему последнему ученику Никону. Никон и печатей увядания, угасания сил наставнических долгое время как бы и не видел. Учитель был бессмертен для него, и это ощущение вне смертности, постоянного присутствия преподобного, осталось у Никона на всю жизнь, даже и после смерти учителя. (Недаром он несколько раз видел въяви Сергия с Алексием приходящими в монастырь.) И все же этот невысокий, с обычным лицом, обычною русою бородой человек решился на то, на что поначалу решиться было трудно, ибо сие нарушало традиции, завещанные самим преподобным. Он начал принимать боярские вклады в монастырь землями и деревнями. Спор иосифлян с нестяжателями был еще впереди. Впереди, в отдалении, был великий вопрос об опасном обмирщении иноческих обителей. И начал принимать подобные вклады Никон без каких-либо глубоких терзаний. Попросту того требовало разросшееся хозяйство монастыря. Нужен, надобен был постоянный источник хотя бы снедного пропитания. Это Сергий когда-то голодал, отказываясь сам и запрещая инокам сбирать милостыню. Сергий мог. Но он один и мог! Да и при нем, как гласило монастырское предание, это решение вызвало серьезный ропот иноков. Угрожали разойтись. Проще было, как прояснело Никону, монастырю получать корм с дареных волосток. Тем паче что общежительский устав исключал возможность того, что кто-то из иноков побогатеет и тем внесет смуту в киновийную жизнь. Тогда, при том тяжком времени, Троицкие иноки жили каждый сам по себе, еще не создав общего жития.
Никон вздохнул и отложил в сторону греческий текст Василия Великого. Надо было еще до службы распорядить посылкою в недавно полученное село на Оке опытного старца для устроения рыбной тони, еза и коптильни. (Наконец-то рыба в обители будет своя!) Он бегло просмотрел грамотку, присланную посельским относительно размера владельческого корма в дареных селах, тотчас поняв, что и тут надобен свой глаз, ибо названное число коробей жита было значительно меньше того, что должно было быть, и скот, имеющийся в наличии, странным образом поменел, не отвечая числу голов, указанному в дарственной. Уже подымаясь к выходу в храм, он вспомнил и еще об одном не уряженном деле: о свечах и воске для изготовления свечей (которые скали по-прежнему тут, в обители, из дареного воска сами иноки по заповеди покойного Сергия). Теперь же, поимев монастырские борти, возможно было бы и воск иметь свой, наряду с медом. Да! Он, Никон, был в некоем смысле тенью преподобного. Но тенью живой, действенной, способной принимать и самостоятельные решения и, что еще важнее, неуклонно воплощать их в жизнь.
Великий князь Василий должен был прибыть в монастырь с минуты на минуту, и киновиарх прошал, не стоит ли задержать начало литургии до подъезда князя. Никон сделал легкий отрицательный жест головой, и киновиарх тотчас понял его. Даже ради великого князя нельзя было задерживать моление Господу. В этом тоже сказалось наследие преподобного Сергия. Нерушимый закон, установленный еще Горним Учителем. И цари земные во всей славе своей меньше во сто крат Царя Небесного!
Василий Дмитрич, прибывши в монастырь, еще слезая с коня, услышал доносившееся из храма стройное монашеское пение. Он опоздал к литургии и нахмурил брови, гневая на дорожную задержку и нетерпение иноков. Отдав повод коня в руки стремянного и на ходу приуготовляя себя к молитвенному состоянию, поднялся по чисто выметенной тесовой двоевсходной лестнице на рундук высокого церковного крыльца. Заранее сняв шапку и обнеся чело крестным знамением, прошел в храм. Братия молча расступалась, пропуская великого князя. За его спиною бояре и ратники, спутники князя, боком пролезая в храм и стараясь не шуметь, становились по-за спинами монашеской братии, поющей: «Благослови, душе моя, Господи…» Шла еще литургия оглашенных. К исповеди и причастию князь все-таки успел.
Во дворе чуть слышно заржал конь. Остатки мокрого снега таяли на воротнике дорожного вотола, и холодные капли падали за воротник, высыхая на разгоряченном долгою скачкой теле.
«Восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, дондеже есмь, – пел хор. – Не надейся на князи, на сыны человеческия, в них же несть спасения и изыдет дух его и возвратится в землю свою, в той день погибнут вся помышления его…» Сейчас, вдали от Софьи, Василий особенно остро чувствовал всю бренность и временность дел человеческих – суета сует и всяческая суета!
Он нуждался в духовном утешении и скорбел в этот час, что уже никогда не узрит самого Сергия, не услышит его тихой, западающей в душу беседы: «Благослови, душе моя, Господи!»
Зима была на исходе, и уже переломился небесный окрас: зимняя сурово серая пелена, продутая февральскими ледяными ветрами, исчезла, уступив место неспокойному громозжению серо-синих туч. Год истекал последними мартовскими днями. Пахло могилой и далью, и блазнило: вот-вот зазвенят ручьи, рухнут, станут непроходны пути-дороги, и новым безумьем жизнерождения, пухом тальника, новой зеленью молодых берез оденется земля.
Отпуская грехи, Никон накрыл склоненную голову князя епитрахилью и, почти не вопрошая Василия ни о чем, произнес негромко, но твердо:
– Помни, что за нечестие князя Господь возможет покарать весь народ! Жену подобает любити, но не дати ей воли над собою! Помни, сыне, что на тебе надежда православия. Всего православия! Бойся латынской прелести! Не дай твоим небрежением сокрушить освященные заветы, уничтожить веру в русской земле! – Он быстро перечислил иные князевы прегрешения: уныние, скорбь, гневливость – и, снимая епитрахиль, указал глазами на причастную чашу. Князь во время исповеди взмок. Пот струился у него по челу. Никто, решительно никто, и церковь в первую очередь, не одобряет его дружбы с Витовтом!
Потом они сидели в келье, и Никон, потчуя князя монастырской трапезой, тихо сказывал ему, тая за словами и участием упрек: «Токмо верою стоит земля! Помни о том, княже! Великий предстатель за ны у престола Господа покойный Сергий рек о том не раз и не два. Сокрушишь веру – погубишь народ. Погубишь народ – падет государство, государство падет – и власть твоя, князь, на ни че ся обратит!»
Василий слушал, думал и с горем понимал, что этот невысокий серьезноглазый монах прав и что он, польстясь на Витовтовы посулы и женины попреки, едва ли не приблизил ту опасную черту, после которой наступает неизбежное крушение государств. И что, победи Витовт на Ворскле, он, Василий, был бы у него в подручниках, а на Москве устраивались бы латинские прелаты, как в Кракове и Вильне, и толковали ему в уши о воссоединении церквей, не желая для подобного воссоединения поступиться ничем из тех догм, которыми римская церковь отлична от вселенской: ни в filioque, ни в причащении под одним видом, ни в латыни, служба на коей станет вовсе непонятной русичам, ни, паче всего, во всевластии папы римского, всевластии, разрушающем вовсе соборный смысл Христова учения.
Угрюмо взглядывая на Никона, Василий думал все об одном и том же: а если бы Витовт победил? Ну, ясно, эти иноки, этот игумен не приняли бы и никогда не примут духовную власть Рима. А бояре? А народ? А его Софья, наконец? И, верно, заставили бы его сына Ивана ксендзы принять католичество, дабы получить власть над Литвою и Русью! А там – и так понятно что! И Никон прав, и Киприан, и бояре правы, и покойный Данило Феофаныч, царство ему небесное, заклинавший князя на одре смертном не рушить освященного православия! Никогда раньше не чуял Василий столь сильно этой власти земли своей, воли, языка, заклинающего князя не отступать от святоотческих заветов!
«Ну а я сам, победи Витовт на Ворскле, стал бы слушать поучения старцев Троицких?» – внезапно спросил себя Василий и – не нашел ответа. И ведь Темир-Кутлук с Едигеем не были православными, почто же Господь помог им, а не Витовту? Или в великой мудрости своей провидел соблазн латынской ереси и потому руками поганых сокрушил прегордую рать врагов православной веры?
Почему-то и всегда спор тем жесточе и нетерпимее, когда спор и разрыв идет меж близкими, ибо и мы, и латины христиане суть! И не тако же ли было в Византии во времена иконоборчества? Не в том ли, не потому ли и Исус призывал возлюбить прежде всего ближнего своего (ближнего, ставшего врагом!), что злоба поссоривших друг с другом ближних безмерна? И даже безмернее во сто крат ссоры с «дальними», с врагами земли и веры! Но тогда что он должен сказать супруге своей, Софье, и как вести себя с тестем – Витовтом?
И все-таки как хорошо, что и ему, набольшему в земле своей, есть перед кем покаяться во грехах, есть от кого выслушать слово совета и укоризны! Слушает ли кого-нибудь Витовт? Или попросту со всеми хитрит, и с латынскими прелатами тоже? Кто он по вере своей, или не верит вообще в то, что и над ним есть высшая сила, способная ниспровергнуть во прах все его замыслы вместе с бренною и скоропреходящею жизнью?
Из лавры Василий уезжал успокоенный, утешенный и глубоко задумавшийся. На бояр он мог гневаться, особо на тех из них, что деют не по его уму. Но гневать на церковь, гневать на Господа было нелепо: земля есть и в землю отыдеши!
В таком настроении и ехал Василий в этот раз, возвращаясь в Москву от Троицы. И почти не удивился, когда по весне в Суздале были обнаружены, «обретены» страсти Исуса Христа, некогда привезенные покойным епископом Дионисием из Цареграда и сохраненные в каменной стене церковной. Киприан деятельно хлопотал о торжественном перенесении святынь на Москву, о чине встречи. Прошли процессии священнического чина с крестами и пением, и все горожане сбежались на торжественную встречу.
Еще не были произнесены даже слова «Москва – Третий Рим», но уже наполнялась столица земли все новыми и новыми святынями православия, мощами чтимых святых, чудотворящими образами и иконами греческих и иных писем. Греческий мастер Феофан уже кончил «подписывать» собор Михаила Архангела в Москве, создав достойное ожерелье московским святыням и гробам великокняжеским. И это тихое, подобное струенью лесной влаги в земле, движение было уже не остановить.
В Москве князя ждали нижегородские дела, ждали и двинские новгородские беглецы, готовые повторить набег на Двину, для чего им не хватало токмо одного – князева повеления. Уступать Новгороду столь легко Василий не собирался отнюдь.
Глава 8
Кто бы и подумать мог, что мухортая, невидная, да и ростиком не вышедшая женка – супруга самого великого Анфала, о коем ведали тысячи и к которому, только позови, являлись сотни оружных молодцов.
Снизу вверх заглядывая в лицо супругу, суетилась, но суетилась толково. Устроивши сына, грела воду, готовила ветошь и, бегая под ливнем стрел, перевязывала раненых, попутно собирая вражеские стрелы, – словом, заменила одна едва ли не десяток женок.
Только уж в ночную пору, да и то вполгласа пожалилась супругу: «Потеряли все. Новгородчи – шильники весь терем разволочили, поцитай! Сын весь во вшах, не мылись невесть сколь».
– Пожди, мать, еще малость пожди. Вот отобьемси! – И после долгого молчания добавил: – Ну а коли… Сына постарайся сберечь.
* * *
Насколь важно казалось новгородцам схватить Анфала Никитина, яснело уже из того, что для поимки Анфала была оставлена четвертая часть всех новгородских сил, посыланных на Двину в 1398 году Господином Великим Новгородом – семьсот человек во главе с опытным воеводою Яковом Прокофьичем.
Яков вел своих молодцов зимними еще не протаявшими дорогами прямо к Устюгу, дабы перехватить Анфала, куда бы он ни устремился: к Колмогорам или к Вятке, и, уже перед самим городом, неожиданно для себя, обогнал Анфала с его наспех собранною на пути дружиною.
Город на круче Сухоны еще не был Великим, коим стал в исходе XVI столетия с открытием западной зарубежной торговли через Устюг Великий – Архангельск. А ожерелье дивных храмов по кручам сухонского берега, чей силуэт устюжские ювелиры изображали на своих серебряных ларцах, явилось еще позже, в XVII–XVIII столетиях. Но и в конце XIV столетия среди северных Палестин и дикого безлюдья нетронутой человеком природы тут было на что посмотреть: основательные рубленые стены устюжского острога и шатровые верхи бревенчатых храмов с луковичными главками, крытыми осиновой чешуей (чешуей осинового лемеха), основательно и гордо возносились над кручею высокого берега Сухоны, утверждая власть рукотворной человечьей красоты. Хороши были и палаты, рубленные из крупного леса, из двухсотлетних неохватных сосновых стволов с роскошными подрубами и выпусками, с тем изобилием дерева, которое и поныне больше всего пленяет в сохранившихся кое-где рубленых шатровых храмах, дивным великолепием своим украшающих и как бы огранивающих дикий лесной окоем неоглядных северных боров. И жить людинам было просторно тут, среди тишины и величия, среди зеленых пойменных лугов, позволявших держать целые стада скотины, среди изобилия дичи, боровой птицы и красной рыбы. Да и серебряное дело устюжское не с тех ли позабытых времен, не с того ли еще «закамского серебра» пошло? Чего бы, кажется, не хватало здешней земле? А не хватало одного – покоя! Устюг считался волостью ростовских князей. Но ростовские князья давно уже стали подручниками великого князя Московского. Давно? Да ведь и не так давно-то! Со времен Ивана Калиты, утеснившего Ростов, не полста ли лет всего-то прошло? Ну а новгородцы, все походы коих за Камень, в Югру, неизбежно шли через Устюг или мимо Устюга? И кто тут кого грабил на протяжении столетий – поди разбери! Грабили устюжан, грабили и сами устюжане, захватывая порою тяжело груженные лодьи новгородских охочих людей с серебром, костью древнего подземельного зверя, давно исчезнувшего, от коего остались лишь бивни, вымываемые в обрывы северных рек, да глухие предания, словно и жил сей зверь под землею, мощными этими бивнями прорывая себе подземельные ходы-пещеры. Брали и лодьи с мягкою рухлядью – шкурами соболей, бобров, волков, медведей и рысей, со связками белки и куньих шкурок. Добро, превращаемое уже в Новгороде Великом в веские диргемы и корабленики, в лунские сукна, скарлат и аравитские благовония, в свейское железо и восточный харалуг, в резные и расписные хоромы бояр новгородских да в каменные храмы великого города, вознесенные над Волховом, над болотистой и лесною равниной окрест его, неродимой и дикой, где без северных богатств и не возникло бы города в истоке Волхова, а кабы и возник, то скорее на соляных источниках Старой Руссы или на холмистых берегах прихотливо извилистой Мсты. Да, впрочем, так и было в те незапамятные времена, о которых не токмо летописей, а и преданий-то не осталось ныне!
Север и заморская торговля кормили Господин Великий Новгород, и потому на защиту своих северных Палестин бросали новгородцы свои лучшие рати.
В Устюге, когда к нему подошла новгородская рать в бронях, под шубами, хорошо оборуженная, сытая и гордая двинскими победами, о сопротивлении не стали и думать, новгородцам тотчас отворили ворота города.
Яков Прокофьич, пригибая голову, въехал в низкое нутро ворот. Молодцы, кто пеш, кто комонен, валили валом следом за своим воеводою. Ростовский владыка Григорий, архиепископ Ростова Великого, стоял на папертях храма с крестом в руке. Яков, брусвянея, слез с коня, укрощенным медведем подошел под благословение владыки. Ростовский князь (второй половины Ростова, поделенного своими князьями надвое), Юрий Андреевич, тоже был тут. После речей с оружием в руках и после – со вложенным в ножны оружием, после того как значительная часть новгородских молодцов разместилась в домах горожан и в палатах архиепископа и князя, получила снедный припас и начала варить себе мясные щи и кашу, а воеводы новгородской рати отпировали с князем Юрием Андреевичем, дошел черед и до главных речей. Яков Прокофьич, за которым стояло семь сотен оборуженных молодцов, потребовал ответа. Он тяжело встал и, угрюмо вперяя взор по очереди в лица то князя Юрия, то владыки Григория, в присутствии избранных горожан, гостей и господы вопросил грозно:
– Стоите ли за беглеца новогородского за Анфала?!
Владыка, князь и устюжская старшина разом отреклись от мятежника: «Мы не стоим за Анфала, ни послобляем по нем, в князя великого крестное целование говорим», – так во всяком случае передает летопись этот разговор, где сошлись лоб в лоб две правды: Устюг не подчинялся Новгороду Великому, но Ростову Великому и Москве, а потому обвинить устюжан в отпадении от северной вечевой республики новгородский воевода никак не мог, а попросту захватить и разграбить город в чаянии скорого мира с великим князем не решался тоже. Так и разошлись. Впрочем, Яков выяснил попутно, что Анфал со своими стоит где-то за Медвежьей Горой, и потому, дав молодцам только что выспаться и пожрать, поднял рать и повел ее на поимку Анфала, будучи уверен, что устрашенные устюжане не подымут рать, дабы ударить ему в спину.
Сведения, полученные Анфалом, в самом деле были невеселые. Орлец разграблен, о новом восстании двинян нечего было и думать.
Снег лепился комьями. Серое небо низко волоклось над лесом, задевая верхушки дерев. Холодина, сырь. Набухшие водою сапоги, поршни и валенцы порою было трудно отдирать от земли. Дружина вымоталась вся и чаяла хоть какого пристанища. И тут этот мужичонка в рваном треухе, в латанных рукавицах, на ледащей лошаденке, что сейчас задышливо поводила боками в клочкастой мокрой шерсти, едва одолевши тяжкий путь.
– В Устюге, баешь? – супясь, вопрошал Анфал нежданного гонца. (В Устюге намерили отдохнуть перед дальнею дорогою.) – Кто-та?
– Яков Прокофьич да с ним сотен семь-восемь оружных кметей.
– Уважают меня! – с хмурою полуулыбкою возразил Анфал, кивнув глазом на обступивших их ратников.
– Пропали, воевода? – сбивая шапку со лба на затылок, вопросил Осок Казарин. Анфал токмо повел плечом, думал, закусив ус.
– Устюжане как? – вопросил.
– В сумнении, вишь! – отмолвил мужичонка, примолвив: – Вишь, князь тута!
– А по волости?
– Не ведаю, господине! – честно отмолвил гонец. – Не вси и ведают про тя!
Анфал задумался на несколько мгновений, закаменев ликом и слепо глядя себе под ноги. Потом поднял тяжелый взор:
– Скачи! Мово коня возьмешь, сдюжит! Лальского старосту Парфена ведашь? Вот к нему! Коли замогут помочь…
Он не докончил.
– А мы тута будем, тута, на Медвежьей Горе!
Мужичонка уже карабкался на седло широкогрудого гнедого, видно, не обык и ездить-то на боевых конях.
Когда вестник уже порысил прочь, вокруг Анфала погустела толпа. Все глядели на воеводу, ждали.
– А коли не подойдет помочь? – вопросил кто-то из задних рядов.
– Не подойдет – погинем! – твердо возразил Анфал, подымая грозно засветившийся боевым огнем взор. – А живым не дамся! Кто не со мной – путь чист! – прибавил твердо. – А остальным ставить острог!
Обрадованные приказом ратные кинулись доставать топоры, рубить сухостой и валить деревья. Бежали всего двое-трое, да и то уже в потемнях. В Анфала верили.
Кашевары варили последнее, забив трех тощих коров и бычка, взятых дорогою на мясо. Анфал велел припаса не жалеть, накормить людей досыта. С хрустом уминая снег, волочили стволы. Иные катали снежные шары, строили что-то вроде потешного снежного городка, укрепляя его хворостом. Пробивши прорубь, поливали заплот водой. Впрочем, мороза сильного не было, и скоро Анфал приказал прекратить зряшное дело. Дерева валили друг на друга, сотворяя засеку. Усланные в дозор сторожи уже подавали весть с горы о приближении вражеских воев.
– Может, уйдем? Не поздно еще, Анфал Никитич! – предложил вполголоса есаул.
Анфал отмотнул головою, вымолвил хрипло:
– Поздно, кони обезножили вси! Людей истеряем зря, а на путях нас так и так беспременно догонят! – Захватил ком рыхлого снега, смял, оттер потное лицо, махнул рукавицею: – Шабаш! Корми людей!
Острог, по сути первая череда наваленных кое-как неокорзанных елей и сосен, был уже почти готов. По низу тянуло сырым холодом. Вечерело. Первые новгородские лучники явились ввиду стана, когда уже последняя охристая полоса потухала в небе и на стан опускалась вороновым крылом сине-серая северная ночь. Несколько стрел, пущенных издалека так, баловства ради, залетело в острог. Анфал велел не отвечать и занять оборону.
– Ночью, поди, не сунутце, – гадал он, – ежели Яков цего не надумат! А воевода добрый! С им должно держать ухо востро.
Внутри острога полыхал жаркий костер, ратные торопливо сушили порты, мокрые рукавицы. Кто уже правил клинок, кто подтачивал кончики стрел, готовясь к бою. Ночью не спали. Берегли стан.
Новгородская рать пошла на приступ с самого ранья, когда еще только засерело и небо отделилось от земли. С бессонной ночи пробирала дрожь. Зубы сами выбивали дробь, огня не разводили, опасаясь лучников.
В напуск новгородцы пошли молча, без криков и режущего звука боевых дудок, и сторожевые едва не пропустили рать. Когда вздремнувший было Анфал воспрял и, застегнув ворот кольчатой рубахи и закрепив шелом кожаной запоной, кинулся в сечу, передовые уже лезли в прогалы, стараясь растащить завал, чтобы сделать проход комонным. А-а-а-а! Неразборчиво нарастал, ширился ратный зык. Анфал рыкнул, рявкнул, зовя к оружию, сам с широкой рогатиною бросился в самое опасное место, ощущая удары и скрежет железа по кольчатой броне. Рогатиною расшвыривал новгородских молодцов. А обломивши рогатину, схватил топор, что висел в кожухе за поясом, и гвоздил топором, хриплым зыком ободряя своих ратных. Трупы своих и чужих уже висели там и сям меж изрубленных ветвей спешного острога, когда новгородцы наконец отхлынули по зову боевого рожка. Напуск не удался, и Яков не стал терять лишних людей, будучи уверен, что Анфалу все одно не уйти и они возьмут его не напуском, так измором.
Здесь за острогом люди были судорожно веселы, ругались, перевязывали раны. Кто-то дико хохотал, ржала умирающая подстреленная лошадь. Несколько мужиков деловито раздевали вражеские трупы, собирали потерянное оружие. Анфал тяжело обходил стан, про себя считал стрелы в тулах, стрел было мало, мало до обидного. Он тут же повелел собирать вражеские, благо новгородцы, тревожа Анфаловых ратных, продолжали обстреливать стан. Своего есаула он нашел полураздетым. У него была ранена шуйца, в предплечье попала стрела, и сейчас, крепко перевязанный, он силился вновь натянуть рукав рубахи и зипуна на оголенную руку. Анфал токмо повел бородою, и тотчас двое ратных кинулись помогать есаулу.
– Еще день выстоим! – сказал есаул без выражения в голосе и молча глянул Анфалу в глаза. Тот понял, смолчал. Отмолвил погодя ворчливо: «И день много значит!»
Яков Прокофьич с безопасного места в берестяную трубу стал вызывать Анфала на переговоры. Отпихнув пытавшихся его удержать кметей, Анфал выстал на лесину, поглядеть.
– Подходи на говорю! – позвал.
Яков Прокофьич, волоча по снегу полы распахнутого зимнего вотола и глубоко проламывая зелеными сапогами рыхлый снег, шел к нему так же, как и Анфал давеча, небрегая опасностью, что подстрелят.
– Сдавайся, Анфал! – возгласил Яков, подойдя близь. – Людей погубишь! Падут за тя – тебе Богу ответ держать! Лучше сдайся нам! Тебя одного нам и надо! Людей выпущу, вот крест! – Он широко осенил себя крестным знамением.
– Молодцов вопроси сам! – возразил Анфал с усмешкой. – Похотят ли в новогородску неволю?! А я – не хочу! Мне ищо в Волхове рано тонуть!
– Чего ты хочешь, Анфал? – продолжал вопрошать Яков.
Анфал зло сплюнул. Взобравшись на глядень, он ясно видел, сколь много новгородцев и сколь мало бойцов у него самого.
– Воли! – отмолвил упрямо и зло. – В вашем вольном городи воли не стало, вота цьто, Яков! И сам ты не отвергнешь того. Коли и есть кому воля, дак токмо вятшим, а мы вси для вас – так, захребетники!
– Смотри, Анфал! Будет драка, некоторого не помилуем!
– Молодцы! – прогремел Анфал, вполоборота глянув на своих. – Деремси али как?
– Деремси! – дружно прокатило у него за спиной. – Не выдадим тя, Анфал Никитич, не сумуй!
– Слыхал, – оборотил Анфал косматый лик к Якову, – вот те и мой сказ. Попробуй возьми сначала!
Он ловко соскочил с лесины, две-три запоздалые новгородские стрелы пролетели вслед.
Ратные стали переругиваться: «Шухло! Рыбоеды! С гнилой трески да со сплошной тоски! Кибаса!» – летело с одной стороны. «Ушкуйники! Огрызы! Оглоеды! Шильники вонючие! Стерво собачье!» – с другой.
Понемногу начинался бой. На сей раз новгородцы не полезли на приступ, а стали засыпать Анфалов стан стрелами. Ратники подставляли под ливень стрел щиты, свернутые овчинные опашни и вотолы. Ржали и бились у коновязей раненые и умирающие кони. Коням досталось больше всего. Раненые ратники заползали под кокоры, хоронились в снегу. Какой-то молодой парень, пятная снег кровью, скулил по-собачьи. Анфал, прикрываясь щитом, утыканным новгородскими стрелами, обходил острог, рукою указывал слабые места, кивал молча, когда ратные кидались заделывать очередную брешь, шел дальше. Теперь дружина новгородских кметей начала заходить со стороны горы. Ратные лезли сквозь оснеженный ельник с ножами в зубах, на ходу доставая луки. «Сюда!» – позвал Анфал. Новгородцев, выползающих из ельника, встретил ливень стрел. Теряя людей, те опять отступили и теперь обстреливали стан, пуская стрелы высоко вверх. И те с жужжанием неслись к земле, попадая то в снег, а то и в человека или в лошадь. С истомною медленностью тянулись часы. К вечеру, когда засерело наконец, половина ратных едва держалась на ногах, все были голодны, иные, падая в снег, тут же и засыпали, уже безразличные к тому, убьют их или нет.
Дважды раненный есаул, сидя на лесине, глянул на Анфала по-волчьи и пробормотал: «Измысливай чего-сь, воевода, не то погинем вси! Не продержаться нам!» Анфал выслушал его молча, набычась, пробормотал, отходя: «Не сумуй!» Но что делать, не ведал и он. Попытаться прорваться на остатних конях, погубивши четверть дружины? Серело, синело. Крепчал мороз, стонали раненые. Обстрел затихал. Вскоре там и сям взвилось робкое пламя: кое-как обжаренную конину раздавали ратным. Вместо воды пили растаявший снег. Спали кто где, хоронясь под кокорами, под кучами валежника. Шестеро раненых ночью замерзли, отдав Богу душу. Медленно подходило трудное утро – утро их последнего дня. Анфал и все остальные ждали приступа.
«Рассохин, Рассохин!» – бормотал Анфал, все больше мрачнея. Рассохин покинул стан еще за день до сражения. Не он ли и донес? Шевельнулась смутная мысль. И что тогда? И кто поможет, ежели Рассохин, обещавший привести двинян, перекинулся к врагу? Он до боли сжал свой костистый кулак, пристукнул им по мерзлой колоде. Почуя боль, замычал, не разжимая зубов. «Сума переметная!» – выговорил себе под нос, так и не ведая, впрочем, что с Рассохиным. Устюжане помогут навряд, да и Яков-то не дурак, поди уже и там побывал! Едва ли не впервой подумалось, что даром губит людей, доверивших ему свои жизни. Уйти одному, бросив всех? Бледно усмехнул и разом отверг: как брошу? Слух пойдет, верить перестанут мне! Ладно, думать не время! Продержаться еще день, ежели продержимся. Анфал решительно встал, скинул шапку, натянул плотной вязки подшлемник, надел и застегнул шелом (кольчатой рубахи с зерцалом на груди не снимал всю ночь), отер лицо колючим снегом (подморозило крепко!). Пошел подымать ратных. С первым светом следовало ждать второго приступа, и многое говорило за то, что он будет роковым.
Но минуты шли, а в новгородском стане не видно было никакого шевеления. Где же ворог? Анфал тяжело, каждый миг ожидая удара вражеской стрелы, перелез через заплот из поваленных елей, пошел вперед, печатая шаг. Его скоро догнали посланные есаулом кмети. «Анфал Никитич». Шаг, другой шаг, третий. Жданной стрелы все не было. Анфал остановился в пяти шагах от хворостяной огорожи, поделанной наспех «новогородчами», и кивнул кметям: «Осмотреть!» Стан был пуст или почти пуст. Сверху откуда-то прилетела, уйдя в снег едва не целиком, одинокая нерешительная стрела.
Когда Анфал воротился, все уже были на ногах и толклись у бревенчатого острожного заплота. Есаул подошел, хромая, с подвязанной рукой: «Ушли? Бежим, Анфал Никитич?»
Не отвечая есаулу, поднял тяжелый властный взор, сказал убежденно: «Так уйти не могли. Напал на них кто-то! Не Рассохин ли двинскую помочь привел? А токо нам не бежать надоть, а идти встречь. Мыслю – к порогу Стрельному, – иначе никак не пройти ни тем, ни другим! А раненых отправляй в Устюг, – договорил он, оборотясь к есаулу, – Якова там нынче нету, все силы брошены против двинян!» Возвысив голос, он прокричал: «Отсюда уходим вси! Свертывай стан! Не оставлять ничего!»
Согласный дружный ропот голосов и радостное шевеление рати было ему ответом. Что впереди – неведомо, а нынче хошь от смерти ушли.
Уже приближаясь к Стрельному, услышали глухой шум сражения. Скоро встречу попались и слухачи, повестившие, что в защиту Анфала поднялась устюжская рать с две тыщи мужиков, не послушавших ни князя своего, ни епископа. А впрочем, и князь Юрий Андреич, и владыка Григорий, скорее всего дабы не гневить князя московского, «допустили» мужицкое войско, которое сейчас резалось с новгородцами, но, как выяснилось еще час спустя, без особого успеха. Мужики, втрое превышая новгородских молодцов числом, валили нестройною кучей, мешая друг другу. Рассыпались мелкими ватагами, с коими без труда справлялся окольчуженный новгородский строй. Атаки захлебывались одна за другой, и подошедший к бою Анфал не мог ничего изменить. Новгородская рать одолевала. И хотя резались жестоко, умирали, не сдаваясь ворогу, но уже к вечеру прояснело, что мужицкой рати не устоять пред напором организованной и закаленной в боях новгородской силы. Огрызаясь, устилая снег своими трупами, устюжане пятились, отступая, и уже ночью многие ударили в бег. Анфал, совокупив немногих оставших ему верными, отступил в Устюг.
Яков не почел возможным преследовать его дале и брать приступом устюжский острог. Воеводы разошлись, уважая друг друга. Новгородский летописец писал потом, что устюжане и Анфаловы ратные потеряли четыреста душ убитыми, иные утопли в Сухоне, а из новгородского воинства «единого человека убиша и приидоша в Новгород вси здрави». Бог судья летописцу, но при таких-то потерях почто Яков сам не пошел к Устюгу, не взял его вновь, не полонил Анфала, а предпочел увести свою победоносную дружину в Новгород?! Или уж летописец солидно наврал, перечисляя потери сторон? А всего вернее, что дошла до Якова весть о переговорах в Москве и не стал новгородский воевода затевать новую прю с великим князем Василием на тутошней земле.
Михайло Рассохин, отговорясь тем, что едва не попал в руки врагу, догнал-таки Анфала уже на Вятке. Вскоре он уехал в Москву, куда через время вызвал и самого Анфала. Но до того еще много событий совершилось внутри страны и за ее пределами, от коих так или иначе зависели судьбы Русской земли и всякого живущего в ней людина.
А что частная своя жизнь и жизнь земли, государства, княжества накрепко переплетены и связаны друг с другом, люди того времени ведали достаточно хорошо.
Глава 9
В Вятке, тогдашнем Кирове, я был, ежели мне не изменяет память, году в пятьдесят втором – пятьдесят третьем в летнюю пору. Не помню уж, почему мне пришлось тогда переправляться через реку. Широченное русло Вятки меж далеко расставленных друг от друга береговых обрывов представляло собою песчаную равнину, по которой, бессильно извиваясь издыхающею змеею, текла река, казалось, готовая уже и сама иссохнуть и уничтожиться. По высокому урыву берега лепились домики, домишки с песчаными огородами. Поздно спохватившаяся охрана природы пыталась запретами спасти последние сосны, удерживающие берег от оползания. Но жители, нуждаясь в дровах, тайно изводили последние сосны на своих участках, стесывая кору. А когда дерево засыхало, получали разрешение его спилить.
Куда-то я ехал в кузове грузовика, со мною ехала какая-то девка, сошедшая по пути, так и не заплатив за проезд. Потом, кажется, была культпросветшкола и преподаватель – москвич, буквально сидевший на чемоданах, дожидаясь конца своих трех лет, после которых имел право сбежать назад в Москву. Он до полуночи мучил меня своими студенческими опусами, а я с горем думал о том провинциальном проклятии, как-то утвердившемся у нас в стране в последние послепетровские три столетия и усугубленном в годы Советской власти, когда воистину вопль чеховских «Трех сестер»: «В Москву, в Москву!» – стал всеобщим воплем страны…
Да, были тут в прошлом столетии и ансамбли архитектурные: группа соборов, вознесенных над кручею берега (в каком виде они теперь и сохранились ли – не ведаю). Были губернаторский дворец, присутственные места, была и интеллигенция, в значительной степени, однако, ссыльная (и Герцен был, и Салтыков-Щедрин!). И уже давненько город звался Вяткой, аж с 1780 года, а старое название – Хлынов, начинало постепенно позабываться. И в дали дальней бесписьменной темной истории утонуло прошлое Хлынова XIII–XV веков, когда и город был не тот, и река не та, и буйные вятчане тогдашние были еще свободным и воинственным народом: воевали с вогулами, удмуртами, татарвой, сами хаживали и на Волгу, и за Камень, пахать выезжали с копьем в руках, и меч, саблю ли клали в изголовье ложа. В ту пору тут и не было больших городов, скорее городки, острожки, жители коих от нашествия сильного ворога уходили в леса, без сожаления бросая рубленые свои жилища, и также легко возвращались назад, отстраивались и опять ходили в походы, били зверя и ловили красную рыбу, не очень считаясь с какими-либо законами. Еще и в XVI–XVII столетиях иные, кто побогаче, держали до семи жен, переняв обычай многоженства у местного населения. Кто сколько мог прокормить. Также от прокорма зависел, по-видимому, и размер дружин местных «ватаманов» в те еще «темные» века. Москвичам приходилось многажды завоевывать Вятку, а она вновь и вновь выставала, разбойная, вольная, прежняя, и только уже под тяжелой рукой государя Ивана III смирилась, прочно войдя в разросшееся Московское государство. А раньше того, за столетие и за два, да и за три, бежали сюда изобиженные собственным правительством новгородцы и, люто возненавидев изгнавшую их родину, отчаянно сопротивлялись всем попыткам Господина Великого Нова Города протянуть и сюда свою государственную длань. Понятно, почему и Анфал Никитин, отбившийся от погони, устремил именно сюда, на Вятку, в Хлынов городок – крепость, рубленые городни которого висели над высоким обрывом, в то время как река, едва умещаясь в берегах своих, полно и властно перла низом, волоча вырванные с корнем мохнатые дерева, трупы утонувших в половодье зверей, сор и щепу человечьих селений, перла стремительно, закручиваясь водоворотами, а красная рыба, всплескивая, выпрыгивала из воды, пробиваясь против течения к истокам, дабы там выметать икру и умереть. Над рекою тек ровный сдержанный гул. Вода подступала вплоть к торговым рядам и амбарам низкого берега, и купеческая чадь, спасая хозяйское добро, стояла с баграми, отпихивая проносящиеся мимо бревна, одного удара которых хватило бы, чтобы развалить любой самый крепкий сарай или амбар. Другие катали бочки, выносили кули и укладки, складывая их под рогожные навесы выше по берегу. Давненько не видали такой высокой воды!
Изрядно вымотанные Анфаловы молодцы с трудом добрели до города. По раскисшей весенней земле добро везли санями, скользившими по грязи, и немногими возами, колеса коих по ступицу уходили в мягкую землю. Кони в мыле, люди в поту – рубахи хоть выжимай. Но доволоклись, чая обрести ночлег и кров, ибо убеглых от новгородской власти Вятка принимала охотно. Конечно, не все содеялось гладко и враз. Единой власти в Хлынове не было, и принимать не принимать, давать не давать ночлег и корм решали сами жители – хозяева города, собирая род новгородского «совета вятших». Впрочем, Анфала знали, вернее, слыхали о нем, к тому же он пришел не один, а привел с собою какое-никакое, а войско, да еще хорошо оборуженное: у многих бронь, у всех сабли или мечи, луки, колчаны, полные стрел, – весь ратный наряд, с коим не страшно и на медведя выйти, а хошь и на ратного татарина.
Сперва устраивались. Ругались и били по рукам. Анфал медведем ходил из дома в дом, властно устраивал своих, беседовал и с гостями торговыми, обещая им то, что мог обещать: новый поход на немирных соседей, нападавших на купеческие караваны. Купцы чесали в головах, щурились. Кряхтели, поглядывая на уверенного в себе Анфала и думая про себя: таких-то молодцов и у нас хватает! Все же кое-какой припас, муку, рыбу, сколько-то солонины, сколько-то бочек соленых грибов и квашеной капусты, дожившей до весны, сумел получить, расплачиваясь обещаниями богатой доли из будущей добычи. Людей прежде всего нать было накормить!
Дома (и дом-то не дом, а временное уступленное ему жило!) доругивался напоследях, крыл почем зря торговых толстосумов, рычал, сжимая кулак, коим мог, ударом по темени, свалить и быка. Но тут, перед властью серебра, и сила казала бессилье. «Дай час», – хрипел Анфал.
Однако – обустраивались. Из приведенной дружины к местным атаманам не ушел никоторый. Парились в банях, вычесывая дорожных вшей, лечили кое у кого загнившие раны. Сбегавши в лес и свалив матерого лося с двумя оленухами, отъедались мясом, жестким по весне, но все же свежатиной! А когда удалось самому Анфалу свалить медведя – тоже худого, только-только вылезшего из берлоги, – устроили пир. Откуда-то достали оков ячменного пива. Сидели в горнице и на дворе. Пили, пели, пробовали плясать. День был хорош, тепел, даже жарок. От волглых зипунов валил пар. На диво проворная, хоть и не видная собою Анфалиха с нанятыми местными женками обносили ратных мужиков мясом и хлебом, тоже ячменным, грубым, но все же то был хлеб, а не толченая кора, которую довелось отведать в пути.
Ой ты степь, ой ты степь ши-ро-о-о-кая!
Молодецкая воля моя-а-а-а!
Подлечивший свои раны есаул, еще двое-трое избранных воевод жарко толпились вокруг Анфала, без конца сдвигая чары и вразнобой вопрошая все об одном и том же: «Что станем делать впредь?»
– В походы ходить! – одно и то же отвечал им Анфал. – Доколе не побогатеем! Ратных тут – до лешего, их токмо совокупить, та еще будет сила!
Он вставал, спускался по ступеням, выходил через распахнутую дверь на двор, где за самодельными столами, кто на чураках, кто на бревнах и досках, сидели дружинники. От реки несло весеннею синевой. Задувавший несильный ветерок относил запахи потных тел, портянок, сыромяти и плохо постиранной лопоти, и тогда во двор врывались свежесть воды и леса. Слышались гомон, ор галок и ворон, дальние крики корабелов, что сейчас смолили челны и паузки, приуготовляя их к новому пути, да молодое ржание коней, что тоже чуяли весну и рвались к новому жизнерождению.
Анфал останавливал тогда свой неспешный обход столов, задравши бороду, обозревал по-за невысокой оградой двора дальние леса, весело изукрашенные солнцем. Вдыхал чистый боровой дух и думал, нет, не думал даже! А впитывал в себя дикое раздолье места сего: реки, разлива боров, веселых и грозных лиц местных вятских ушкуйников, с коими знакомиться начал с первого дня, да и не с первого ли часа своего пребывания в Хлынове!
С одним из сильных местных атаманов, Митюхой Зверем, он уже баял давеча один на один. Зверь сперва только присматривался к Анфалу, шутковал, меж тем как две еговые женки – одна русская, другая скуластенькая, не то марийка, не то татарка, – быстро снуя, накрывали на стол.
– Чем живешь – дышишь, воевода двинский? – прошал Зверь. – Чем удивишь, чем одаришь, чем обрадуешь?
Дарить было нечем, да, впрочем, и не о том шел разговор. Померились силой, потискали друг друга за плечи. Зверь попытался свалить Анфала, Анфал устоял. В свою очередь чувствительно мотанул хозяина.
– А ты силен, бродяга! – с лукавою похвалой, сузив в щелки разбойные глаза, похвалил Зверь и нежданным приемом, закаменевши скулами, попытался свалить Анфала. Не ведай двинский воевода этого приема, не устоял бы и на ногах.
– Тише вы, лихари! – снедовольничала русская женка. – Посуду переколотите всю!
(Она – главная! – сообразил Анфал.) После сидели в обнимку, и Митюша, как его ласково звали свои ратные и обе женки, жарко дыша, тискал плечи Анфала, подливая и подливая пива, и уже на прощании скользом возразил о деле:
– Сумеешь уговорить наших, прежде всего Сухого и Дерябу, то будет тебе и общая рать! А так мы кажный поврозь, – последнее вымолвил с неохотой.
Теперь, отрываясь от пира, от песен и дружеских возглашений, думал Анфал об одном: с чего начинать и как? Но оставаться тут одним из многих, с малой дружиной, ходить в разбойные набеги, увертываясь от сильного ворога, он не хотел. А московский князь… Московским князем однова и прикрыться мочно!
Уже в глубоких потемнях, когда и пир заприходил к концу, и ратники разбрелись по клуням, истобкам и сеновалам, изрядно-таки набравшийся Анфал пролез в свою низкую и дымную клеть, прижал к себе, взъерошив и смачно поцеловав, пискнувшего Нестерку, пробормотал неопределенно:
– Вот, сын. – Огладил жену, произнеся довольным голосом: – Не подгадила, мать, хвалю! – И, едва скинувши сапоги, провалился в глубокий, без сновидений, сон. Дело, задуманное им еще там, в Устюге, начинало понемногу оживать и рождало в душе то чувство полноты и удачи, которое было главным во всей его взрослой (да и не только взрослой!) жизни.
Первый поход на стойбище удмуртского князька, немирного с вятичами, сотворили играючи с Митюшей Зверем вместях. (Прочие ватаманы еще только присматривались к Анфалу.) Оставив половину дружины рубить хоромы (раненых с незажившими язвами тоже), Анфал повел своих молодцов в этот первый для них и для него вятский поход. До того с Митюхой Зверем долго сидели, поругиваясь, обмысливали набег. Зверь предлагал поджечь село и в замятне ударить с напуском. Анфал отверг:
– Истеряем и полон, и добро! Што там вымчат из огня – слезы!
– А иначе Махмутка успеет всех своих ратных созвать. Нас с тобой обложат, как медведей, не выбраться будет!
– Не, не, постой, – досадливо мотал головою Анфал.
На развернутом куске бересты углем было грубо нарисовано становище князька-мусульманина (потому и имя носил не свое, а бесерменское!) со всеми подходами к нему.
– У него где засеки? – вопрошал Анфал. – Тут и тут? А енто цьто?
– Овраг. Не перелезть! Частолом! – отвергал Зверь, но Анфал, вновь и вновь возвращаясь к карте, видел и понимал, что ворваться в укрепленное городище можно было (и легче!) именно тут. И в конце концов, прекращая спор, взял прорыв на себя, выпросив только проводника. На том и порешили.
Заросли ивняка, черемухи, орешника и невесть чего рубили саблями, сцепивши зубы. Ближе к стану начали пролезать полком, проделав дыры в сплошном частолесье. Метнувшееся в очи лицо девки-удмуртки, с распяленным в неуслышанном крике ртом, Анфалу помнилось долго – пришлось рубануть. Дале пошла уже мужская горячая работа. Княжеская дружина, кто был, кто выскочил распояской, кое-как схвативши оружие, едва ли не вся легла под саблями. Самого Махмутяка, подслеповато моргавшего красными золотушными веками, повязали в самом тереме, забрали его наложниц и женок, среди которых были и русские рабыни, захваченные в набегах. Они радостно кидались на шею освободителям, не гадая о своей дальнейшей судьбе. Потерявши предводителя, и те, кто защищал от Митяшиных молодцов засеки, сдались. Полон женок, детей, молодиц, повязанных ратников, на которых тут же навьючивали кули с добром, гнали целою толпой. Волокли связки шкур, корчаги с медом и пивом, кули с ячменем и сорочинским пшеном из княжеских погребов. Целые поставы холстов, полотна, укладки с узорочьем из резной кости, серебра и жемчуга, медную кованую, русской работы посуду и оружие. Словом сказать, разгром был полный. Анфал тотчас расплатился с купцами, ведая, сколь опасно залезать в долги, наградил своих ратных, и тех, что шли в поход, и тех, кто остался дома. Себе взял совсем немного: куль снедного на прокорм, хорошую ордынскую саблю да янтари и жемчуг для жены. Ведал и то, что не в богачестве, а в дружине сила всякого воеводы (что понимал еще великий киевский князь Владимир, с его присловьем, перешедшим в легенды: «Серебром и златом не налезу дружины, дружиною же налезу серебра и злата»). После той удачи и иные, помимо Митюши Зверя, ватаманы начали поглядывать на Анфала уважительно.
А когда удался и еще один поход, и еще, и речной караван, снаряженный Анфалом, спустившись по Вятке до Камы, пограбил татарские рядки и бесерменских гостей торговых и, паче того, сумел с добром и полоном на тяжело нагруженных лодьях воротиться назад (где гребли, стирая ладони в кровь, где пихались, где тащили суда конями, бечевою, волоком), слава Анфала окрепла нешуточно, и стало мочно ему собрать первый совет вятских ватаманов, дабы договориться об устроении совместной рати, что, впрочем, возможно было совершить токмо через год (до того укрепляли Хлынов, ставили хоромы и острог, рубили поварню, бани, амбары для рухляди). Торговые гости теперь заглядывали ему в глаза, искательно вопрошали: «Анфалу Никитичу!» Искали, чем привлечь, заслужить, чтобы не остаться обделенными на распродажах полевой добычи.
Анфал безразлично оглядывал толпы испуганных женок и повязанных мужиков, выведенных на продажу. Вечерами с торгов сыпал веское серебро в скрыню, дабы прикупить у тех же купцов брони и оружие. Вести со сторон приходили смутно и с задержкою. Далеко не сразу узналось о разгроме Витовта на Ворскле, о делах новогородских, о войне с великим князем, что все не кончалась, невзирая на заключенный мир.
Рассохин пропадал где-то на Москве, обивая боярские пороги. Слал грамотки, винясь в том, что покинул Анфала под Устюгом, и объясняя свое отсутствие происками «новгородчев», пытавшихся его изловить. «Поди, врет», – безразлично думал Анфал, кидая в огонь очередной берестяной свиток с выдавленными на нем неровными буквами новгородским писалом. Рассохин мало интересовал его. Больше занимал устрояемый им союз вятских предводителей отдельных дружин, который наконец-то к исходу 1400 года был собран.
Сидели в новорубленной широкой, на два света, сотворенной дружинниками Анфала горнице. Многие не расставались с оружием. У многих были местные счеты и взаимно пролитая кровь.
– Князем хочешь стать? – вопрошал, зло кривясь, Онфим Лыко, самый неуживчивый из местных воевод. Анфал глянул серьезно. На столах, кроме закусок, медвежатины, зайчатины, пирогов, были только легкое пиво и квасы. Без обиды отверг:
– Не то, други! Воли хочу! И для себя, и для вас! А волю надобно защищать соборно, всема. Не то полонят нас не хан, так князь какой, или перережут, как куроптей! И хочу не того, о чем ты мыслишь, Лыко! Того легше достичь! Нет, хочу совета по любви, по дружбе нашей, кровью слепленной, хочу воли для всех! Штоб совет – ну хошь как сейчас, штоб соборные решили – содеяли. А там – будет сила в нас, будет и власть наша над бесерменом да инородцем! Бают, где-то там, за горами, за лесами, за Камнем, за Диким полем, за рекою Итиль и еще далее, ближе к великим горам, за степями монгольскими, есть царство пресвитера Иоанна, царство христьянское, вольное, и живут там вольные люди, поклоняют токмо Богу одному! Дак то самое царство хочу я воздвигнуть здесь, на Вятке, в этой земле! Вот чего я хочу и почто пришел сюда к вам с дружиною своею!
– Сумеем, выстанем? Воздвигнем и создадим? Али так и будем которовать один с другим да сожидать, егда нас не хан, дак князь под себя заберет!
Молчали. Ошеломил их Анфал. Доселе о мечте своей не баял так вот, открыто и всем сразу. Ведали, что удачлив, ведали, что богат. Но такого не ждали от него.
– Ну а как мыслишь о том сам-то ты, с чего начинать? – поднял голову рассудливый Неврюй Побытов. – Ить, коли вместях, и закон какой надобен, иначе все одно, передеремси вси!
Но – сдвинулось. Загомонили разом, задел их все же Анфал за живое: сами ведали, что поврозь не выстать, а и под власть вышнюю, под боярский, либо московский, либо новогородский, сапог никто не хотел. А тут – эко! Вольное царство вольных людей!
Гуторили долго, все же остановясь пока на том, чтобы ходить в походы вместях, а там уж, коли слюбится, стерпится, и создавать это царство попа Ивана, или Беловодье там, – кто уж как зовет! Не уходить на поиски, а именно создавать тут, на Вятке, на вольной местной земле.
И то была удача, думал Анфал, укладываясь спать в этот вечер рядом со своею терпеливой и неустанной женой, которая робко посунулась к богатырю супругу, сожидая мужевой ласки за все свои дневные хлопоты. Могли и переругаться вси! Он обнял жену, все еще думая о своем, как ему казалось, великом замысле.
Глава 10
Владимир Андреич, большой, слегка оплывший, опустив тяжелые плечи, сидел в кресле, нарочито поданном ему, и хмуро оглядывал братьев. Юрий Дмитрич сердито косился на Василия (братья не любили друг друга, и оба это чувствовали, встречаясь, как теперь, нос к носу). Не подписанная Юрием отказная грамота стояла колом между ними. Помнилось, что Юрий, в случае смерти Василия, может стать великим князем Владимирским и Московским, по старинному лествичному праву, по которому стол занимали сперва братья, в черед, потом, в черед, племянники. И поскольку все прочие устранились, заключивши с Василием ряд по новому, измысленному митрополитом Алексием правилу, выходило, что умри Василий, и княжить – не его старшему сыну, а сперва – князю Юрию, и уже потом единственному наследнику престола сыну Василия, Ивану. (Ибо старший сын Софьи умер!) И значит… И ничего это не значило или значило очень многое! Во всяком случае, именно Юрий ходил в походы, водил рати, жертвовал земли тому же Троицкому монастырю в память покойного Сергия.
Но и не любя друг друга, братья понимали, что они – одно, и Москва – одна, и великое княжение – одно, и рушить его преступно, да и глупо прежде всего! И потому важные государственные дела решали вместе и верили друг другу.
Для новой большой войны с Новгородом сил не хватало, да и негоже нарушать подписанный мир, – тем паче что потерявший терпение город мог откачнуть к Витовту.
Юрий вновь беспокойно пошевелился на скамье (сам Василий тоже сидел на скамье, дабы не обижать брата), вымолвил, глядя в стену:
– Анфал!
Владимир Андреич поднял зоркий взгляд на Юрия, кивком головы одобрил второго племянника, пояснил Василию ворчливо:
– Ходит тут один! Новгородский беглец, Рассохин. Обещает невесть што! А Анфал Никитин – брат двинского воеводы Ивана. Ивана убили, утопив в Волхове, а Анфал сбежал, и рать собрал, и отбился, и на Вятке теперь! Ворог им первый! Дак пущай Рассохин самого Анфала сюда пригласит, – ворчливо заключил Владимир Андреич.
– Послать Анфала Никитина с нашею ратью на Двину! – строго и прямо закончил Юрий. – И мир будет не нарушен, и… – Он не договорил, поведя рукою в воздухе и сжавши в кулак. – А отсель малыми силами на Торжок.
– Кого?
– Александра Поля!
Александр Борисыч Поле ездил за Софьей и уже по тому одному был близок к Василию. Василий выслушал брата благодарно, склонил голову: ничем не ущемил его Юрий, подавший ныне дельный совет.
– А ударить должно им враз! В одно и то же время!
– Из смоленских княжат, – пробормотал Владимир Андреич, видимо доселе вспоминавший родословие названного боярина. И трое родственников-соперников, в сей миг ставших единою семьей, удоволенно поглядели друг на друга.
– Где он?
– Рассохин бает – в Нижнем сейчас!
– Дак и позвать сюда! Скорого гонца пошли, в два дни доскачет!
* * *
Анфал Никитин не обманывал себя, ведая, что своих сил у него ныне противустать новгородцам на Двине недостанет. И когда с вестью от князя и Рассохина прибыл к нему княжой гонец, медлить не стал, оставя все торговые дела на сотоварищей и Герасима, бежавшего в свой черед из монастыря. С нынешним расстригой они обнимались еще в Хлынове, тиская друг друга в объятьях.
– А я ведал, цьто ты посхимилси!
– Я-то? Рано мне ишо Богу служить! – отвечал Герасим с усмешкой. – Утек я из монастыря, да и на-поди! Послужу по первости людям, а там уж, когда оружие в руках держать не замогу, може, и в монастырь подамсе!
И они вновь жали друг друга в объятиях, хлопали по плечам и спине, пили пиво, хохотали. И в Нижний распродавать добычу и добывать оружие взял Анфал Герасима с собой. И теперь, накоротко перемолвив с обретенным другом, свалил на него все недоделанные дела, наказавши, не стряпая, ехать на Вятку и собирать людей. Сам же устремил в Москву на легких санках всего с двумя кметями и мчал, не останавливая порою даже, чтобы поесть. Февральские метели как раз укрепили пути, и кони шли ходко, сани словно по воздуху несло, заводные скакали следом.
Пена летела с удил. В Москву въезжали на заре третьего дня, и только тут, в виду города, Анфал, выбравшись из санок, пересел в седло.
С великим князем Московским встречались назавтра. Анфала, вздевшего зипун, крытый персидской парчой, провели в терема. Двинский воевода, успевший обозреть Москву, отметил про себя и каменные стены, коих не смогли преодолеть ни Ольгерд, ни Тохтамыш, захвативший город обманом, и узорные терема знати, и людскую тесноту, и изобилие торга, уступающего разве что нижегородскому, и нескудное громозжение посадских палат. Москва уже начинала догонять Тверь и даже Новгород Великий. С великим князем не следовало шутить и баять надо сторожко. Посему, пройдя в палату и углядевши князя, он поклонил ему мало не до земли и баял пристойно, ничем не выдавая своих тайных дум.
Василий был еще молод, глядел задумчиво и заботно. «Встанут?» – вопросил. Анфал пожал широкими плечами: «Явимся, там и видно станет! А токмо пограбили новогородчи вдосталь двинян!»
– Княжую рать пошлю к Устюгу! – домолвил Василий. – Тамо и встретитесь!
– Дорогой не переймут? – возразил Анфал, остро глянув в очи князю.
– Поспешим! – возразил Василий. – Своих посылаю тотчас. И ты скачи!
– Я-то не умедлю, княже! – просто отмолвил Анфал и, принявши княжой подарок – саблю аланской работы и дорогую бронь, – вновь поклонил до самой земли.
– Больших сил у нас нет! – напутствовал Анфала боярин Федор Товарко уже после того, как двинянин покинул княжеский покой. – Иным поможем: на Торжок пойдет рать! И владыка обещает помочь! – примолвил московит, не договорив, впрочем, чем и как, но Анфал понял, склонил голову.
– К Петровкам?! – повторил, утверждая.
– К Петровкам! – твердо отмолвил боярин, склоняя голову. – Ты и сам не умедли, воевода!
Вновь летели сани, и неслась дорога, взмывала и опадала даль, и Анфал, щурясь от летящего встречь из-под конских копыт снега, думал про себя: ну, теперь поквитаемси, господа вятшие!
* * *
Василий Дмитрич начинал чувствовать то, что чувствует, по-видимому, рано или поздно любой облеченный высшей властью. Бремя судьбы вверенной ему Богом земли (а понимал он именно так, да так и толковали ему все без изъятия) вызывало в нем самом смутную дрожь, которая усиливалась, когда он садился за грамоты или решал с избранными из бояр государственные дела. Он был в центре паутинного сплетения многоразличных воль, сильных и слабых правителей, и ему приходилось считаться как с далеким непонятным Тимуром – Темерь Аксаком, Железным хромцом, так равно и с князем Иваном Владимировичем, который женится сейчас на дочери Федора Ольговича Рязанского, тринадцатилетней застенчивой красавице, по сложному династическому родству – его племяннице, ибо женат князь Федор на его родной сестре и, следственно… Ничего не следственно! Церковь разрешение на этот брак дала, молодые – двадцатилетний старший сын Владимира Андреича Храброго, Иван, и юная Василиса – любят друг друга. А что молода – дак по бабьим приметам крепче слюбятся! Софья, сестра, сама приезжала в Москву на правах мужней женки, крепко расцеловала Василия, всплакнув на встрече (это уж как водится!). Соня принимала гостью с церемонной сердечностью.
Ни слова не говорено было о том, что брак сей заключался не без умысла. Та остуда в отношениях с князем Олегом, кою вселил в него Витовт, сейчас рушилась, и рушилась к хорошу, не к худу! О прошлом годе Олег с пронским и козельским князьями на Хопре у Дона, в Червленом Яру, одержал знатную победу над татарами. Был захвачен в полон царевич Мамат-Салтан и иные ордынские князья, и, главное, не виделось никакого, как встарь, в отместье карательного похода на Русь. Настроенья в Орде позволяли бить степняков по частям, чем и пользовались русичи. Иван Федорович Кошкин и вовсе толковал, что Орда вот-вот падет, а Железному хромцу не до Руси нынче, да и вовсе не до Руси! Нынче и дань в Сарай возили от случая к случаю, но, однако, возили, и двор баскака Ордынского как стоял в Кремнике, так и стоит!
И все-таки, чтобы считать тестя Витовта главным врагом Руси… Жестокая плотская страсть первых лет его брака с Софьей схлынула. Да и Софья потишела, чаще стала посещать церкви и монастыри. Ныне сама завела речь о богомольном путешествии в Лавру преподобного Сергия. И все же зло оставалось как заноза, кололо и жгло. Ну, Новгород, ну, Псков, ну, нижегородские князья, обвивающие пороги всех по очереди ордынских ханов… Семен, тот и самому Великому хромцу Тимуру служил! Этих он додавит, исполнит предсмертный батюшков наказ. Но Витовт? Витовт, обманувший его самым грубым и непростимым образом! Великая Литва! Русско-Литовское государство, наследники Василия на Витовтовом престоле! А на деле? Вот наконец перед ним текст нового Виленского соглашения, новой унии, подписанной 18 января Ягайлой и Витовтом! Литва по этому соглашению (со всеми русскими землями, да, да!) принадлежит Витовту токмо при его жизни, а после – отходит к католической Польше и Латынским ксендзам! И Русь такожде?! Продал его Витовт! Ну нет, тестюшка, этого ты не узришь, доколе я жив! И главное – не мешать! Главное – не мешать ничему! Из Рязани доходят слухи, что скрывающегося у Олега Юрия Святославича отай зовут вновь занять смоленский престол.
А тем часом Баязетовы турки вот-вот захватят Царьград, твердыню православия. А он, он сам, вот что обидно, подарил Смоленск Витовту! Нет, не будет того! И с Новым Городом он еще поспорит! Он еще не возвращал, и даст Бог не возвратит ему ни Волока Ламского, ни Бежецкого верха, ни Торжка. Чтобы это все попало Витовту или Орденским немцам? Да не будет того вовек! Он даже кулаком по столу ударил и тут же вызвал хоромного боярина, велел найти новогородского беглеца Рассохина, вызвать Остея, коему и приказал отай готовить рать для нового похода на Двину.
Поднял голову. Слепо уставился лицом на икону в красном углу.
– И Киприана, – договорил вслух (боярин уже ушел, но позвать позовщика и направить к владыке было делом недолгим).
Пальцы продолжали бессмысленно мять твердый пергамент Цареградской грамоты. Сейчас не надобна была Софья, не надобен был никто. Великие усопшие стояли у порога княжой изложни и ждали от него твердых решений государственных, господарских дел. Тем паче о намерениях Юрия Святославича с тестем своим Олегом отбить Смоленск у Витовта Софье знать совершенно ни к чему. Что там навыдумывает еще дорогой тестюшка, его дело, но он, Василий, дарить Русь католической Польше не даст!
Начали собираться бояре: Федор Кошка с сынами, Иваном и Федей Голтяем, Вася Слепой, Илья Квашнин, маститый Михайло Морозов (сам Иван Мороз нынче хворает – за восемьдесят старику, поди, и не встанет уже!), Зерновы, Окинфичи всем кланом – Иван Хромой, Александр Остей, Иван Бутурля, Андрей Слизень, Михайло Челядня, Никита Григорьич Пушкин, Федор Товарко.
За окнами мело. Снежная крупа косо ударяла в слюдяные оконницы, расписанные травами. Куски слюды, частью залепленные снегом, вздрагивали в своих свинцовых переплетах.
Подходили княжата, братья Василия. Явился наконец и Киприан. Пред ним почтительно расступались, и Василий принял его первого, келейно, еще не выходя к боярам. На многоречивые объяснения Василия Киприан ответил: «Что возмогу, сыне, то совершу! Задержу новгородского архиепископа у себя, егда прибудет на сбор».
* * *
Оставшись после заседания Думы с двумя боярами, Морозовым и Федором Кошкиным, Василий Дмитрич прямо вопросил, без всяких дальнейших подходов, стоит ли отвечать новгородцам новым походом на Двину?
– Рассохина привести нать! – отмолвил Федор Кошка.
Приведенный в княжеские хоромы Рассохин со страхом думал о том, что сказать, когда его спросят: почто оставил Анфала одного под Устюгом? К счастью, того не спросили! Зато принужден был ответить на другой вопрос: выстанут ли двиняне вторично противу Новгорода?
– Не… Не ведаю… – запинаясь, начал было Рассохин и вдруг, сообразивши дело, обрадованно воскликнул: – Встанут, ежели Анфал поведет. (По крайности, в случае неуспеха похода будет на кого свалить вину!) Бояре молчали в сомнении, верили и не верили.
– Иди! – сказал в конце концов, махнувши дланью, Морозов.
– Зблодит? – прямо вопросил Кошка, когда Рассохин покинул покой. – Когда и зблодит! – раздумчиво протянул Федор Кошка. – Да, надеюсь, не в етую пору. Анфал не позволит ему!
Глава 11
Сколько еще раз в русской истории встанут вот так, лицом к лицу, глава страны или представитель вышней власти, олицетворяющие собой закон, и мужик, воин ли, монах, варнак, мятежный беглец, представитель той вечной мятущейся стихии «народа», «толпы», «вольницы», которая сама по себе ничто без власти и способна только к разрушению и мятежу, но без которой и сама-то власть тоже ничто, ибо когда гаснет та низовая бунтующая сила, рушится и все возводимое над нею здание государственности.
Анфал, разумеется, не поведал князю о тайных думах своих, о царствии пресвитера Иоанна – мужицком вольном содружестве. Но и Василий не сказал Анфалу, что вслед за Двиной настанет черед Вятки, что не для того посылает он рать на Двину, чтобы мирволить воровской вольнице, а для того, чтобы сковать страну едиными скрепами верховной власти, объединить стихию, направив бурный ее поток в единое русло, начертанное государственной волей.
И ни Анфал не догадывал, что вольница, по самому существу своему, не уляжется в начертанные берега, ни Василий не думал о том, что вышняя власть может забыть о народе и покуситься в корыстном вожделении немногих на общее благо страны.
Поход на Двину готовился со всею возможною поспешностью. Весна! Пока не рухнули пути! Пока не протаяли дороги!
– Главное – не трусь! – наставлял напоследях Иван Никитич сына Ивана. – И наперед не лезь! Наперед лезут чаще всего со страха! Бронь дам на один поход, а там – сам уж! Такие, как мы, брони добывают в бою! Куплять, дак нам Островое продать надоть, да и того не хватит! И шелом отцов не потеряй тамо – на Двине! Чаще всего погибают в первом бою. Ну, мать, давай икону!
Наталья Никитична прибавила в свой черед:
– Отцову честь не роняй! И дед у тя был славный воин. И погиб на бою. Со славою погиб!
Мужа отправляла. Сына отправляла на рать, теперь – внука!
– И невем: воротитце ай нет? – заплакала. – Стара я уже стала, Ванюшенька, временем засну: слышу, как Никита мой к себе зовет. Я уж тебе не сказывала того, а чую, скоро нам встреча! Любила я батьку твово, и сейчас люблю. А только все, кто были, в могиле уже! И Василий Васильич, и Марья Михайловна, и Шура Вельяминова… Подруги ведь были с великой княгинею! – выговорила она, и в голосе прозвучала эхом, далеким отзвуком, прежняя гордость сановной дружбой.
– Умалились мы, мать? – вопросил Иван Никитич (доселе о том не прошал ни разу!).
– Да нет! А просто как-то стало скушливо жить. Устала я! Ведь всего всякого довелось хлебнуть, да сам ведашь! Во младости занимает все! И верба цветет – радость, и крестный ход – тоже радость. А в Пасху, когда свечки несут да целуются оногды и с незнакомыми, таково робко и радостно бывало! А ряжеными ходили, в снегу валялись, девками-то, да и опосле того, радостней было жить! Первый муж помер скоро, и памяти не оставил долгой, а тут батя твой, Никитушка! – вымолвила, помолодевши лицом, и Иван на миг узрел в проясневшем взоре матери отсвет прежних красоты и любви. – А ныне все как-то не корыстно стало.
Ивану вдруг, глядя на разгоревшее лицо сына: в такой поход! На Двину! Впервые! – стало как-то удивительно ясно, прояснило, что вот – у сына все впереди, а у него уже многое сзади, а у матери все в прошлом – молодость, жизнь, покойный отец, бывший когда-то молодым дерзким ратником, не побоявшимся спорить с самим Василием – великим тысяцким града Москвы, решившимся и на большее (об убийстве боярина Хвоста дома не поминали, и сам Иван далеко не сразу вызнал о том, но было, состоялось, произошло). И неведомо было доселе, стыдиться того или гордиться сим было должно? Тем паче после того наслоился целый ворох событий: и казнь Ивана Василича Вельяминова, и крушение Вельяминовых, и смерть великого Алексия, а затем и князя Дмитрия Иваныча и преподобного Сергия. Век менялся на глазах, уходил, исшаивал с последними носителями его, которые, ежели и не поумирали еще, то медленно и непрерывно отходили в тень, угасали, старели, отдалялись от дел господарских. Уезжали в свои родовые поместья, где кончали дни в теплых горницах, среди мамок, слуг, бахарей, изредка выбираясь, чтобы потолковать с такими же древними старцами о старопрежних молодых и гордых временах, столь дивно красивых и величественных в воспоминаниях, особенно дорогих потому, что юности, как бы того ни хотелось, никому и никогда не удавалось вернуть. И только в детях, во внуках, в каждом новом поколении, опять привычное исстари – внове, и в первый након, – и дымные ночлеги, и скрипучее седло, и снег, и усталь, и рассказы бывалых ратников у дорожных костров, и ночлеги в припутных избах, и ратный труд, влекущий к себе и страшный одновременно, и первые раны, и первые смерти боевых товарищей, и добыча, и удаль, и влекущий или испуганный девичий взгляд; проносящаяся мимо жизнь, для которой ты – неведомый сказочный странник, богатырь из иной земли, из дали дальней, примчавший на взмыленном коне и через мгновение, через малый час исчезающий в отдалении пространств и времен.
Иван давал сыну последние советы, наказывал, кого держаться, не лезть дуром вперед и не робеть на борони, но Ванюха уже плохо слушал родителя. В глазах у него полыхал огонь дальних странствий, и отец понял, отступился, чуя непривычное робкое чувство жалости и тревоги за эту стремительную юность, которое, быть может, уже и не воротится назад!
Юный Иван едва распростился с отцом и бабой Натальей Никитишной, как ее звали по покойному мужу все соседи, устремил с жадным замиранием в груди в Кремник, в дружину, что в ночь уходила в поход. Шла весна, пути могли рухнуть ежеден, и потому собранная рать выступала не стряпая. На Вятку к Анфалу были загодя посланы княжие гонцы. Встреча ратей назначалась в Устюге. И вот, вослед отцу, деду, прадеду, не догадывая о том, Ванюха суетится, увязывает возы, проверяет, как кованы кони да где запасные подковы, гвозди, сбруя, всякий надобный в дороге снаряд. Об оружии – сулицах, рогатинах, стрелах, о бронях и шеломах, увязанных в торока, меньше всего и речей, и забот. Всякий путь – прежде всего путь: не обезножили бы кони, не порвалось бы вервие, да как увязан снедный припас, да у всех ли ратных есть сменные сапоги, поршни ли, да хватает ли рукавиц ратным (не поморозили б руки дорогою!), да еще тысяча мелочей: нитки, шило, дратва, пуговицы, суконные подшлемники, подпруги, сыромятина в запас, да деготь, да рогожи, да шатры, да мало ли что – и все надобно, а иного в пути попросту не достанешь! Суетятся старшие, ворчат конюхи, торопливо стучит колотушка санного мастера. «Куда запасные завертки класти?» – кричит молодой кметь своему старшому. «Лжицы у всех есть?» – рассудливо прошает дорожный кравчий. (Нож есть у каждого на поясе, о том и прошать не надо. А вот чем уху хлебать дорогою? Тут надобен глаз да глаз.) Спать (спать остается всего часа два) густо набиваются в молодечную. Первый раз на полу, на попонах, меж двумя незнакомыми кметями. Пахнет портянками, войлоком, кожей. Смрадное тепло и храп мужиков наполняют горницу. Снится какая-то неподобь, но не успевши и досмотреть сна – тут же будят. Спать хочется! Ванюха, вывалившись в темень и ночь, хватает ком снегу, издрогнув, трет себе рожу и за ушами до боли, до острых ледяных уколов, но зато просыпается. Сани выезжают одни за другими, топочут кони, переходя на рысь, минуют темные улицы Кремника. Гулко отдается эхом нутро городовых, заранее отверстых ворот. И с раската вниз и в ночь, мимо сонных хором, мимо валов окольного города, и уже по сторонам робкие елочки да тощий кривой березняк, и уже наступает и обступает лес, и уже согреваются замерзшие было ноги, и зубы перестают стучать, и только месяц бежит и бежит в вышине над лесом рядом с возами (возчики гонят вскачь!), да крепкие комки снежного льда из-под конских копыт ненароком попадают в лицо, заставляя сжимать зубы и вздрагивать. Впереди Радонеж, далее которого Переяславль, Ростов Великий и наконец Ярославль, где он еще не бывал, где им надобно переправляться через Волгу и куда стремятся попасть как можно скорее.
Впереди долгая дорога до Вологды, до сказочной Тотьмы и наконец до совсем уж далекого неведомого Устюга, где их должен встретить легендарный Анфал, где будут бои с новогородскою ратью, откуда он воротит взрослым и сильным, овеянным ветром далеких земель и пространств, и где солнце летом, бают, не закатается совсем, а зимою зато царит вечная ночь, и откуда привозят изогнутые рога сказочного подземного зверя, огромные, желтые, которые одному и поднять-то едва-едва…
На вторую ночь заночевали в Радонеже. Едва втиснулись в путевую избу. Жрали какое-то горячее хлебово из пшена и репы, сдобренное солониной. Спали не раздеваясь, только скинувши зипуны, которыми тут же и укрывались, и сунув сапоги под голову, грелись друг о друга. И тут уж было не до расспросов или хождений куда-ни то. Токмо спать!
Сказка началась к вечеру другого дня, когда караван спускался к Переяславлю, едва не состоявшейся некогда столице Московского княжества и его же церковной столице.
Переяславль явился как-то сразу и весь. С горы открылся город, и ныне еще мало уступающий Москве, с громождением теремных и храмовых верхов, с луковицами глав, повисшими в воздухе, с белокаменным храмом Юрия Долгорукого там, в середине города, за кольцом валов и рубленых городень, за кучею островатых кровель посадских хором, особенно хорошо видных отсюда – с горы и в отдалении. И ширь Клещина озера, нежданная после разлива боров, утеснявших доселе дорогу, и дальний высокий берег, и кровли, и верха Горицкого монастыря там, где легчающее утреннее небо уже проглядывало упоительною весеннею голубизной. И безотчетно, натянутыми поводами удерживая коня, тем же отцовым, дедовым, прадедовым движением Ванюха замер, побледнев, следя восстающую красоту.
– Эй ты, сопленосый, чего застыл? Ай заморозил что? – окликнул его старшой. Кругом хохотнули. Не собираясь, впрочем, обижать молодого ратника, а так, порядку ради. – Как тя? Никитка? Федоров? Не рушь строй!
Иван повернул к старшому чужое, бледное, серьезное и вдохновенное лицо. Сказал звонко и гордо, с легкою обидой: «Мой прадед Федор грамоту на Переяславль князю Даниле привез! По то мы и Федоровы!» Старшой удивленно повел бровью, хмыкнул, смолчал. Пробормотал себе под нос: не врешь коли… Не кончил, тронул коня.
Уже вечером, когда укладывались спать в просторном подклете монастырской трапезной, ратники, не пропустивши его гордых слов, растормошили Ивана: не брешешь? Сказывай!
Иван честно старался передать все, что помнил из рассказов бабы своей и отрывистых слов отца.
– Ишь ты, Окинфичи тогды против Москвы были! А ныне-то! Первый род! Так и вручил грамоту ту?
– Из рук в руки. Долго опасился потом, не убили бы ево! И жили-то сперва здесь! За озером! Тамо вот, верно, на горке! Кто-то после прадедов терем сожег. Ну а потом в Москву перебрались.
– Вон оно как бывает! – протянул доныне молчавший старшой. – По роду – честь. По чести и род. Ну, Ванюха, с тебя спрос теперь не как с прочих. Двойной!
Иван токмо улыбнулся в потемнях, уловивши скрытую похвалу старшого. Ну а чтобы не уронить родовой чести, по то и идет на Двину! Еще тихо, вполгласа выспрашивали его сотоварищи, пока старшой не окоротил: спать, спать! Из утра в путь! Дневка у нас одна – в Ярославли городи!
Тихо. Темно. Захрапывают ратные. Иван лежит, подложив руки под голову. Темный, черный от сажи потолок закрывает от него тихо вращающийся над головой небесный свод с зимними холодными звездами. И по телу, мурашами, гордость. Неведомая доселе, когда о подвигах прадеда сказывала баба Наталья, все то казалось далеким и не важным уже. А ведь прадед видал тот же город, молился в том же соборе, заезжал в тот же вот Горицкий монастырь! Дивно! Эдакий город московскому князю подарить! Он вздохнул полною грудью, поворочался, уминая снопы овсяной соломы под попонами, и заснул счастливый.
Когда сказывал, расспрашивали, даже посетовал про себя, что мало запомнил из говоренного бабушкою и родителем. «Бают, Родион Квашнин с полком подошел? – прошали его. – Дак то после! Когда наш прадедушка грамоту ту привез, так и началось. Прадедушка и еще как-то так ездил, пробирался мимо Акинфовой рати, предупредить словом…»
И опять дорога, деревни, боры, сумасшедший предвесенний грай ворон и промытая синь неба, и золотистое солнце, обливающее чуткие, еще дремлющие, только-только просыпающиеся боры. Еще не зазвенели ручьи, еще не вскрылись великие и малые реки, но уже зимнюю сиренево-серую хмурь прогнало ликующими потоками золотого Ярилы, и скоро Пасха, и он молод, и близит весна!
Идут рысью, кое-где переходя в скок, кони. Виляя на раскатах, торопятся груженые санные возы. Снег по утрам хрустит, подмерзнув, но к вечеру раскисает, начинает тяжко проваливать под коваными копытами коней. Скорей, скорей! Туда, на север! Наперегонки с весной!
Росчисти, деревни, белые озера полей и пашен и неотличимые от них белые поляны замерзших, засыпанных снегом озер, что будут вскрываться медленно, таять, отступая от берегов и оставляя на прибрежной кайме снулую, задохшуюся подо льдом рыбу. И голубой туман над полями, и розовые, сиренево-розовые тела молодых берез, как раздетые застенчивые девушки, и синие тени на голубом снегу. Близит Ростов!
Город поболее Москвы. Огромный собор – чудо тех далеких времен, еще до татарского нашествия. Осколок величия древней Владимирской Руси, ныне уходящей в предание, в неясную память столетий, подобно легендарному Китежу, утонувшему в озере, дабы не достаться врагам.
Измученные, голодные, они толклись на княжом дворе, сожидая, когда их поведут кормить. Вязали торбы с овсом к мордам коней, топтали сапогами снег, обильно политый конскою мочою. От многоверстной скачки гудит все тело, и ходишь раскорякою, с трудом сползши с седла, шею натер суконный грубый и мокрый ворот дорожного вотола, свербит тело (не с последнего ли ночлега в курной избе прихватили с собою дорожных вшей?). Хотелось бы в баню, хотелось бы сменить волглую льняную сорочку… Но завораживал невиданный доселе град и красный кирпичный терем князя Константина Ростовского, того, давнего, от тех еще ранних времен, и круглящиеся закомары, и ленты каменной рези, и медные главы со шлемами-куполами, вознесенными ввысь… Их ведут сперва в собор: короткая приветственная служба, которая на время заставляет забыть усталь и голод, а тем часом на княжой и монастырской поварнях уже доходит варево, и князь Федор, ограбленный на Двине, готовится в путь, советуясь с воеводами княжеской рати: Иваном Андреичем Хромым, что провожает ратных токмо до Вологды (после чего намерен посетить свою волость Ергу), и Васильем Иванычем Собакиным, с которым князь пойдет вместе до Устюга – возвращать отобранные княжщины и черный бор с новогородских двинских волостей.
Там, в теремах, за столами, крытыми камчатною скатертью, куда простым ратным и ходу нет, чинно пируют ратные воеводы, отведывая пироги, рыбу, грибы, сыр, творог и прочие разносолы, пристойные во время Великого поста, но и смягченные (путникам позволено!) наличием блюд сомнительно «постных». Все это запивается разноличными квасами и медом, меж тем как внизу, в молодечной, пьют пиво и тот же кислый квас, едят щи, кашу, квашеную капусту и пироги, наедаются до отвала, памятуя, что впереди опять скудная дорожная снедь и сухомять до самого Ярославля.
И Ванюха (от принятого пива кружит голова и дальние лица дружины плывут цветными пятнами) хохочет, бьет кого-то с маху по плечу, о чем-то толкует громко и неразборчиво, ощущая себя кметем, воином, бывалым ратником, едва ли не героем, меж тем как старшой, усмехаясь, мигает кому-то из «стариков»: «Отведи парня-то, не заснул бы в снегу на дворе!» И Ивана ведут, и он, едва добредя заплетающимися ногами, дорогою все же сумев помочиться у бревенчатой стены, падает носом в кошмы и тотчас засыпает в блаженном опьянении юности. А в молодечной еще длится пир, звучат песни и здравицы, и боярин Иван Хромой, спустившись сверху, обходит столы, испивая чару за ратных, коих ведет с собою, и ему отвечают здравицею и тянут чары к нему, расплескивая хмелевую брагу. Московская рать идет на Двину!
Из утра излиха перебравший Иван крутит тяжелою головой, спотыкается. Как чашу спасения опруживает ковш хмельного кваса (сразу легче голове), седлает коня. И опять бежит дорога, и опять сани ныряют на взъемах, и дергает повод заводной конь, и становит уже привычной конская рысь, и не так болит спина, и не так уже сводит икры ног, и наконец-то находится сама собою надобная посадка. И он счастлив, он откидывает стан, он уже словно татарин, словно рожден вместе с конем! Но тут конь спотыкается, Иван кубарем летит через конскую шею в снег, и вчерашнее пиво опять отдает в голову хмельною мутью. Благо конь тотчас остановил и ждет хозяина, что, закусив губу и отряхивая снег, подымается, ощупывает себя и, озираясь вокруг, не потерял ли чего, неловко, не враз попав ногою в стремя, лезет в седло и долго-долго догоняет своих, ощущая боль во всем теле, и уже не считает себя конным татарином.
А дорога извивается, минуя деревни, выбегает на глядень, откуда видна ширь окоема окрест и простор неба над головою, по которому волглые, сиренево-серо-белые текут и текут облака, отмечая безмерную даль небес над безмерным простором лесных синеющих далей, и снова ныряет в леса, почти под кроны оступивших путь лесных великанов, где еще прячется в укромности зима, и снег продолжает хрустеть, и от топота копыт начинает гудеть все еще промороженная земля.
Московская рать идет на север! И – как сказка, как обещание чуда – в конце концов открываются урывистые волжские берега, величавые, пахнущие далекими землями, с рублеными теремами над кручей, с игольчатой бахромою боров, с изгибистой лентой реки, уже своей, уже не Итиля, но Волги, по которой вот-вот пойдут груженые купеческие караваны и ушкуи новгородских и вятских разбойников. Великая дорога, по которой веками уходят туда, в земли незнаемые, охочие русичи, плененные навек сказочными далями и чудесами восточных земель – за степями, за Хвалынским морем, тамо, далеко! За краем ведомой земли, за рубежами неведомого. И сколько, и сколькое в русском размашистом характере рождено размахом этих степных пространств, этою далью, означенной уже тут, на сановитых берегах еще оснеженной, еще скованной морозом великой реки, грядущей Великой России!
Ярославль-город на горы стоит, на горы стоит на высокие, на красы стоит на великие!
Вновь рубленые городни, островатые верхи костров, главы соборов и терема, вознесенные над городскими стенами. Еще пока независимый, со своими князьями, город как-то спокойно (как тает лед на лесных озерах) входил и вошел в орбиту власти государей московских, подобно Костроме, Угличу, Юрьеву во второй половине XV столетия.
Древний город – «медвежий угол» – на стечке Которосли и Волги, возник, скорее всего, как выселок Ростова Великого. Больно удобно было по Которосли водою добираться из Ростова до Волги, и надобно было при устье Которосли это предместье Ростова Великого, закрепляющее выход к большой воде, к великому речному пути, пронизывающему всю эту лесную мерянскую землю и уходящему в земли незнаемые, к богатым торговым городам Средней Азии. Да! Возник еще до монгольского нашествия, когда торговали с Великим Булгаром, а возможно, и еще ранее, когда путь отселе шел к устью Итиля, к древней столице волжской Хазарии, у которой пересекался этот путь с великою шелковой дорогой из далекого Чина (Китая) на Запад, в земли Византии, а до нее – Римской империи. Ну и вот, Ростову Великому, когдатошнему центру всей этой земли, некогда мерянскому, языческому, а затем христианскому, славянскому уже городу, центру местной епископии (но и идол Велеса долго стоял в ограде, упорно не сдаваясь натиску православия), надобился Ярославль, как Новгороду Великому – Ладога, как Москве – Коломна, свой ключ-город на выходе к Волге, где с мелких речных судов товар перегружался на крупные и где стояла бы крепость, защищающая землю от речных заморских разбойников, словом, именно ключ-город. А раз надобился – он и возник. С течением лет Ростов уступил первенство Суздалю, Суздаль – Владимиру, Владимир – Москве. В княжеских разделах единая ростовская земля распадалась и распадалась. И уже Ярославль стал центром независимого княжества, и уже сам вел торговлю на волжских путях с городами Поволжья, с тем же Булгаром, Сараем, с Хаджи-Тарханом, Казанью, а там и Нижним Новгородом.
И зримая красота Ярославля, узорные храмы его, расписанные чудесными мастерами, – все это родилось в основном в XVII столетии. Но вот что дивно и что показательно не для одного Ярославля, а, скажем, и для Городца, и для Переяславля, Мурома, Суздаля, да и самого Ростова, и множества иных градов, переживших древнее величие свое, но получивших каменное узорочье теремов и храмов много позже веков своей славы, независимости, величия. Как будто духовная память «места сего», продолжая витать в пространствах, овеянных древнею славой, воплощается и воплощается в памятниках, в сокровищах зодчества, в каменной красоте. И непонятно уму, но поздние памятники эти обретают свой, присущий только месту сему, образ! И возникают местные школы зодчества, своеобразные, несхожие с другими, и в Тотьме, и в Ростове, в Суздале, в Муроме и в Ярославле. Несхожие, разные, но напоминающие о древних, ушедших в далекие века временах!
К примеру, барочные храмы Тотьмы одни могли бы украсить среднеевропейскую страну, как Румыния или Бельгия, настолько они величественно и истинно столично-прекрасны. И тоже эта волшебная красота не тогда появилась, когда Тотьма только набирала силу как торговый город на северных путях России, не тогда – потом! Но это «потом» сразу воскресило целую эпоху великих дерзаний, придало городу неповторимость, не сравнимую более ни с чем. Это уже только в эпоху классицизма, и то не везде и не всегда, начали появляться по России стандартные, тяжелые, с обязательными колоннадами, друг на друга похожие ампирные храмы. Казенное единообразие поздней русской империи проникло и сюда, в зодчество императорской церковной Руси. Но до того каждый провинциальный город России являл собою свою, несхожую школу зодчества, и прав был Грабарь, назвавший Россию по преимуществу страною зодчих. Впрочем, когда Грабарь начал узнавать нашу древнюю иконопись, воссоздатель церковной музыки России, Бражников, еще и не приступил к своим воистину героическим изысканиям.
И узорный Ярославль XVII века чем-то незримым напоминает тот Ярославль, где всего-то и было два, кажется, каменных храма, в самом начале XIII столетия возникших и исчезнувших впоследствии: собор Успения Богоматери и церковь Преображения, наверняка схожие с древними храмами Ростова Великого более, чем с позднейшими ярославскими. Но и бревенчатые храмы были, и княжеские терема, и вязь рубленых городовых стен, и башни-костры. В те времена, среди нехоженых лесов и болот, среди лесистых «пустынь» севера, куда как сановит и казавит казался город Ярославль, от коего прямая дорога шла, переплеснувши Волгу, в Заволжье, к русскому Северу, в землю, еще недавно дикую и незнаемую, а ныне полнящуюся народом и уже властно заявляющую о своем бытии. И – как знать? Коли не состоялось бы великое княжество Московское, погибла бы в волнах бед и бурь Владимирская Русь – не возникла ли бы тут некая новая Великая Пермь – земля северных русичей, со своим народоправством, законами и навычаем? Сколь надо было не знать, не ценить, да попросту презирать наконец русскую историю, чтобы покуситься залить эту землю водою, погубив ее навсегда по нелепому, преступному плану поворота северных рек!
Шла весна, близил ледоход на великой реке, ждать не приходило ни дня, ни часу, и потому переправу через Волгу – ради всякого случая разгрузив и облегчив, как можно, возы со снедью и справой – начали немедленно. Баня, дневка, отдых – все будет на той стороне!
И вот белая синева. Пугающе дальний тот берег, и далеко друг от друга расставленные сани в серо-синих потемках движутся, словно плывут, к тому, противоположному, спасительному левому берегу. Где-то потрескивает. Какие-то смутные гулы доносит с верховьев. Кони, сторожко поводя ушами (животные чуют опасность лучше людей!), ступают на синий ноздреватый лед. Всадники, многие, запаслись шестами, иные держат долгие копья поперек седел. Кто-то ведет своего скакуна в поводу, и только уж к исходу ночи, вымочивши сапоги и копыта коней в заберегах, ратные вздыхают облегченно – пронесло! Обретают голос, окликают друг друга с судорожным весельем. Замечают кого-то, поскользнувшегося на наледи и тщетно пытающегося поднять на ноги взоржавшего коня, а конь взмывает, бьется и падает, он сломал ногу, и надобно прирезать его, снявши сбрую и седло. А ратнику жаль, он плачет, зло всхлипывая: конь свой, родной, выращенный с жеребенка, и он просит прирезать коня товарищей, у самого никак не поднимается рука. И все, ругаясь, шуткуя, окликая один другого, чутко наставя ухо, ждут: ждут грозного гула двинувшейся стихии, ждут того рокового мгновения, когда – брось все и спасай жизнь, ибо сожмет, зажмет, перемелет в ледяном крошеве и бросит изуродованный труп на корм рыбам. А то провалишь в весеннюю водомоину и будешь красными сливеющими пальцами цеплять обламывающиеся ледяные края, а темная вода с тугою силой будет тянуть тебя, отчаянно сопротивляющегося, туда, под лед, в холодное рыбье царство.
Последние возы! Последние ратные. На легких дощатых санках-волокушах переправлен сам боярин Иван Андреич Хромой (не рискнул переправляться в возке, который волокли пустой, располовинив поклажу). Последние сани, последние хмурые возчики молча, крестясь, выбираются через хрустящий заберег на берег, где уже там и тут пылают костры и ратники сушат мокрые валяные сапоги и иную намокшую лапоть. И уже не страшно! И уже охота поглядеть, как рухнет волжский лед, как валом пойдет бешеная вода, ставя на ребро огромные прозрачные льдины, как будет ледяное крошево подрезать берега, как поволокет дрань, сено, вырванные с корнем кусты и деревья, как с пушечным гулом будут лопаться куски ледяного панциря и дорогая рыба, осатанев, попрет к верховьям, против течения, слепо и упорно пробиваясь туда, где вымечет икру и, потерявши силы, поплывет вниз, едва живая, совершив новый круг жизнерождения, непрестанного торжества непрестанно обновляющейся природы.
Горели костры. Издалека еще довозили сквозь волжскую широко раскинутую хмурь крестьянскими конями остатнее добро. Вновь догружали, увязывали возы. Ратные в очередь подходили к бочонку с пивом, черпали, с маху выпивали, крякали, отирая рукавицею усы и бороду. Верхом проехал боярин Василий Собакин, то и дело выкликая: «Баня, баня будет, други!» – одобрительный гул тек ему вослед.
Парились до одури. Хлестались вениками и поддавали на каменку. Голые, очумев, выкидывались наружу, валялись в снегу. Приходя в себя, поджимаясь, лезли снова в огненный жар. Нанятые портомойницы выпаривали вшей, стирали рубахи и исподники ратных. Вся приречная слобода гудела разбуженным ульем. Отмякшие, непривычно легкие, переодетые в чистое ратники разбредались по избам, где их уже ждали щи, каша и пироги, ждал терпкий ржаной квас и моченые яблоки. Кто-то уже чистил коня. Кто-то придирчиво осматривал копыта своего скакуна, а конь, поджимаясь и пошевеливая ушами, приподымал то одну, то другую ногу, за которую ухватывал хозяин, и прочищая холщовою тряпицей копыта, смотрел – все ли гвозди на месте, да не болтается ли подкова, не надобно ли перековать коня (конь обезножит дорогою – хуже нет! – ратник без коня никто, разве посадят править возом).
Где-то тренькала балалайка, где-то за огорожами раздавался заливистый бабий смех и визги, а проходящая старуха обиженно поджимала губы, заслыша неподобь: «Стыда нету! Ратных узрели, и удержу не стало на их! Готовы подолы на голову заворотить!»
Иван, отмытый, попросту стоял, ощущая щекотную сухость и ласку чистой поскони, и, щурясь, глядел на солнце, на медленно текущие редкие облака, на бело-сизую громаду Волги, что теперь совсем не казалась страшной, как давеча. Он был счастлив. Счастлив до того, что готов был плясать от радости, а что впереди бои, возможные раны и даже смерть – не думалось вовсе. Высил на круче ярославский острог с белокаменными храмами в нем на урыве берега. Начиналась дорога в неведомое. Впрочем, на Вологде многие ратные уже бывали в прежних путях, а вот дальше, и уже за Тотьмой – мало кто. И как-то уже яснело, что прежняя родная земля перед величием этих пространств поменела, съежилась, и предощущением великой страны, еще не созданной, еще только намеченной в истоках, веял весенний воздух, наполняя грудь ширью, радостью и тоской.
До Вологды добралось не войско, а толпа грязных измученных оборванцев, многажды перемокших в мелких реках и в мокром снегу, на обезноживших конях, с расхристанными возами, отощавших, точно зимние волки, с черными лицами и голодным блеском в глазах. Но тут были великокняжеские владения и, невзирая на недавний новгородский погром, нашлись и кормы, и справа, и лопоть, и подковы коням, и даже сменные кони для иных, не говоря уже о банях, отдыхе, надобном всем. А пока отъедались и отсыпались, уже и думы не было, как там у воевод и о чем спор.
Впрочем, Иван Андреич, памятуя, что за князем служба не пропадет, расстарался: не токмо достал все потребное, но и договорился с наместником о дощаниках и лодьях. Людей и тяжести, да и боевых коней тоже, порешили сплавить к Устюгу по Сухоне водой, а возы и вовсе задержать, доколе не подсохнут дороги.
Иван, опоминаясь, продирал глаза, выбирался на глядень, озирая непривычно дикие дали, а ночью завороженно следил розовое светлое задумчивое небо с негаснущею зарей. Тишина!
– А там на Двины так и ишо светлее! – говорили ему. – Где ни то за Колмогорами и солнце не закатаитце вовсе! – А когда он прошал почему, пожимали плечами, отмолвливая одно: «Север!»
Север… Здесь и очи у белобрысых местных девок были какие-то иные: светло-задумчивые, что ли? И на вопрос об этом ему опять отвечали однозначно: «Весь!» Чудины-меряне встречались и под Москвой, но какие-то не такие, и часто черноволосые, а у этих и волосы что кудель! Когда пробовал заговаривать – девки стеснялись, тупились, отходили посторонь. Бабы, те смотрели храбрее, оногды и сами задевали – прошали. Одна так прямо заявила ему, что, мол: «Какие у тебя парень губы красные, словно бы у девки! Целовать – дак любота!» Бывалый ратник толковал ему вечером: «Вот бы ты, паря, и пошел с нею! Сама просила, дак!» Но Иван, вспыхнув полымем от той похвалы, застеснялся так, что и вновь, после дружеского разъяснения, вряд ли сумел бы взять и пойти с незнакомою бабой, да и московская сударушка не позволила забыть о себе.
А весна шла, упорно догоняла ратную дружину московитов. И уже нагревались прясла огорожей, просыхающих под весенним солнцем, уже на освобожденных от снега взгорках торопливо лезла первая весенняя трава. Уже оживали мухи, уже птицы торопливо вили гнезда и по промытому влажному небу тянули к северу птичьи караваны, возвращавшиеся из южных жарких стран к родимым гнездовьям.
В мае грузились на дощаники и лодьи. Перекладывали добро и справу, отбирая, что понужнее. Заводили по шатким мосткам стригущих ушами и вздрагивающих кожею коней. Впрочем, и так уже было видно по всему, что на Двину рать выступит пешей или в дощаниках, а верхами будут ехать одни воеводы.
Наконец отвальная – и в путь, по синей холодной воде, отпихивая шестами последние ноздреватые серо-сизые льдины, неуклюже поворачиваясь в стремнинах весенней, идущей вровень с берегами, реки. И опять труд, до кровавых мозолей стертые веслами ладони, и опять мокрая сряда и справа, и брань воевод. (Один челн опружило, и полуутопших ратных, что начинали пускать пузыри, вылавливали, цепляя за платья баграми, волокли мокрых через набои. Ругмя ругали, переодевая в сухое и заставляя тотчас грести, чтобы хоть как-то согреться после невольного купания.) Тотьму прошли, не останавливая. Поджимало время. Река со всеми ее извивами казалась бесконечно длинной, и когда наконец перед самым Устюгом поднялись высокие обрывистые берега, всех охватила радость, невзирая ни на что: ни на пороги, мели, ни на опасные перекаты, и даже на то, что близок конец пути. Иное: неведомая прежде ширь, величие Севера через очи проникло в души. И как-то понятно становило, почему шли и шли русичи в эти дикие нехоженые места!
Устюг, полный ратным людом, кипел. Улицы переливались через край. Уже подошли вятчане, и Иван на улице, у собора, совсем близко узрел самого легендарного Анфала Никитича. Двинский воевода шел развалисто и неспешно, с кем-то разговаривая, и такая сила была в нем, такая медвежья властная стать, что Иван отпрянул посторонь и во все глаза провожал героя, а тот, увлеченный беседою, даже и не глянул на юного московита из пришедшей наконец-то рати. «Эко припозднились!» Сам он уже и слухачей посылал на Двину, и готовил суровый урок новгородской вятшей господе, отмщая за казненного брата своего, Ивана Никитина.
После еще не раз видал Иван Анфала, но все издали, и так и не решился заговорить со знаменитым двинским воеводою, что привел свою и вятскую дружбы вновь отбивать у Господина Великого Нова Города утерянную родину.
Глава 12
Добравшиеся до Устюга ратники и слухачи, загодя посланные Анфалом, отъедались, отпивались – приходили в себя. Анфал вел вятчан тою же весенней, рушившейся на глазах дорогою. И уже по Югу, переждав ледоход, как москвичи по Сухоне, выплывал до Устюга.
Слухачи приносили вести неутешительные. Дважды разоренная Двина бунтовать уже не хотела. Мужики собирались косить, а сенов здесь, на Севере, где зима семь-восемь месяцев в году, требовалось немало. И как раз накануне покоса нагрянули Анфал Никитин с Герасимом, с ратью московитов и вятчан. Тщетно Анфал призывал, памятуя о доброхотной помощи ему устюжан, брать в руки оружие и гнать «новогородскую сволочь» со своих погостов. Мужики предпочитали убегать в леса, дабы пересидеть там эту новую ратную беду. Зорили деревни. Сведавши, что дорогую рухлядь крестьяне прятали в монастырях, начали зорить святые обители. Одирали дорогие оклады в храмах, тащили церковную утварь, что из серебра, засовывали в торока парчовые и бархатные ризы. Особенно старались вятчане, обыкшие к грабежу, словно и не православные вовсе! Анфал вешал особенно упрямых на деревьях. Но по мере того, как рать спускалась все далее берегом Двины, приближаясь к Колмогорам, становило яснее и ясней, что поход не удался. Двинян было не поднять. Захваченных в пору первых успехов, когда трупы посеченных новгородцев бросали на путях без погребения, двинских посадников – Андрея Иваныча, Осипа Филиппыча, Наума Иваныча и Дмитрия Ратиславича – в железах волокли с собою. Боязно было их с малою охраною отсылать в Устюг: доброхоты новогородские могли отбить дорогою. Анфал ярел. И единожды Иван – смурной от открывшейся ему изнанки войны: убийств, грабежа и разора, обрушенных на мирных, ничем не виноватых, жителей, – встретив воеводу с налитыми кровью глазами, с саблей в руке, с которой стекала кровь, едва не ринул в бег, столь страшен показался ему знаменитый вождь разбойного люда. Происходящее ужасало его. Он как-то тупо брал свою часть добычи, совал в торока, заливаясь жарким румянцем, когда бывалые вятчане звали отпробовать понасиленную ими женку, и отчаянно мотал головой: «Не надо, мол!» Стыдясь глянуть на распятое изобнаженное тело, бесстыдно раскинутые ноги и пустые заплаканные глаза… И конь, доставшийся ему, не радовал, хотя и положил в уме довести животину до дома. Ничто уже не радовало. Иван не робел на борони, да ведь и боев настоящих-то не было вовсе! Был грабеж: вешали не врагов, а своих, не пожелавших вступить в Анфалово войско. И когда уже подходили к Колмогорам, явилось возмездие.
Как после вызналось, не растерявшиеся новгородские воеводы, оставленные на Двине, – Степан и Михайло Ивановичи с Микитою Головней, скопивши вокруг себя вожан, невестимо подошли и ударили на Анфала с Герасимом. Была ночь. Вернее – северная ночь: тишина, яснота, словно туманный день без солнышка, и розовая полоса по всему окоему до полунеба, а там, в вышине, бледно-голубая далекая твердь. В такие ночи тут даже собаки не лают, и потому поднявшийся гомон заставил Ивана вскочить. Он тотчас понял, услышав ржанье коней, топот, лязг железа и крики, что прихлынул враг. Верно, безотчетно ждал того. Ратники еще очумело протирали глаза, а Иван, криво застегнув на груди рубаху, уже намотал портянки, сунул ноги в сапоги и суматошно искал оружие: бронь, которой не пользовался уже давно, шелом и отцовскую саблю. Бронь была незамысловатая, но доброй двинской работы, и терять ее не хотелось вовсе. Он выскочил к коновязям. По-за тыном бежали, рубились, кто-то криком кричал, раненный в живот. Иван, сцепивши зубы и тщетно унимая дрожь всего тела, седлал коня, затягивал подпругу уже со слезами на глазах, страшась, что не успеет и будет схвачен, как глупый куропоть, попавший в волосяной силок. Но – Бог ли спас! Он уже был на коне, когда во двор ворвались какие-то «не наши»! Токмо и понял. Дико вскрикнув, огрел плетью коня и ринул, даже не обнажая сабли, встречь бегущим. Чье-то копье проскрежетало по кольчатой рубахе, порвавши накинутый сверх летник. Конь летел наметом, и поводной, груженный добром, скакал вслед за ним без повода, просто по привычке. Где-то там впереди, у церкви, рубились. Ор и мат стояли до небес. И Иван, придя несколько в себя, поскакал туда, рубанувши вкось встречного мужика – своего ли, чужого, не понять было, тотчас, впрочем, загородившегося щитом. Сзади догоняли выбравшиеся из свалки, кто в одежде, а кто и в исподнем, потерявши все, даже оружие, ратные. «Сто-о-ой! – летел крик, догоняя Ванюху. – Сто-о-ой! Твою мать!» К нему подскакивал старшой, вымолвив заполошкой: «Вертай, наших выручать!» И с тою же тупой безоглядностью, с какою ударил давеча в бег, Иван поскакал назад, где во дворе оставленного дома все еще шла драка.
Кони со ржанием вздымались на дыбы. Слепо рубя своих ли, чужих, Иван почти не чуял тупых тычков вражеских рогатин. (После все тело было в черно-синих пятнах ушибов: кольчуга только и спасла от смерти.) Рубил, выдыхая воздух с каждым ударом, рубил, прикрывая от страха глаза, и, кажется, кого-то ранил, чью-то рогатину переломил. Те вспятили наконец, и трое оставших в живых перераненных ратников Анфаловой дружины взгромоздились на крупы коней и на поводного Иванова жеребца, торопясь убраться прочь.
Потом скакали тесною кучкою туда, к высокой шатровой церкви, где все еще стоял ратный зык, рев и скрежет железа и где Анфал, отчаянно гвоздя боевым топором, отбивался от наседающих на него вожан, кликом сбирая к себе ратных.
Пленные двинские воеводы: Андрей, Осип, Наум и Дмитрий – были освобождены. Полон и половину добычи пришлось побросать, но рать Анфал все-таки спас, собрал и отступил в относительном порядке, отбиваясь от наседавших новгородских кметей. Спасло еще и то, что вожане были мужики, плохо понимавшие ратный строй, а московские кмети, да и вятские ухорезы, прошедшие не одно сражение, чуяли строй и умели собираться воедино в бою.
К заранью, когда едва зашедшее солнце снова вылезло из-за края горы, чтобы осветить мир, Анфал даже попытался бросить своих в напуск. Новгородчи вспятили, в свою очередь потерявши набранных было полоняников. Раздетые, разутые молодцы, кто-то в одном сапоге, кто и босиком, выбив двери хлевов, куда их затолкали победители, бежали к своим, крича на бегу. Опомнившиеся ратные становили в строй, поливая подступавших вожан стрелами. Но тех было слишком много. И сметя силы, Анфал предпочел отступить. Бой затихал, хотя еще со сторон летели редкие стрелы и густая мужицкая ругань. Но уже и менялись полоном, отдавая чужих за своих, уже и собирали оружие, всовывая его в руки непроворым, что выскочили в одних исподних рубахах и босиком. Пополошившаяся было рать вновь становила ратью, и Иван, бледный от пережитого страха, все еще унимая дрожь в теле, начинал понимать, что уцелел и отделался легче многих, сохранив и коня, и справу, и даже поводного скакуна с нахватанным в прежние дни добром, увязанным в торока. Он глядел на толпящихся супротив них, на горке, вожан, и беззвучно молил Господа, обещая впредь никого не понасилить из женок и не грабить, по крайности самому, местных крестьян.
Анфал стоял в полуперелете стрелы от вражьего войска, сжимая в руке уже не саблю, а невесть откуда взявшийся воеводский шестопер, и, поминая всех святых, отдавал приказания. Наконец ему подвели коня. Он, тяжело шатнувшись, влез в седло, видно, и ему досталось в драке, но усидел и, кивнув головою, поехал вдоль строя ратных, равняя ряды и хмуро оглядывая свое потрепанное войско, уже наполовину залитое золотыми жаркими лучами восставшего от короткого сна древнего Ярилы, бога тех, прежних славян, которые достигали и оседали всюду, где мог расти хлеб и ловилась рыба.
Потом, день за днем, огрызаясь и переходя в короткие сшибки, они отступали, вновь обрастая добром, а кто и полоном. (Теперь не стеснялся никто: Двину оставляли ворогу, потерявши надежду на восстание двинян против Господина Новгорода, и потому грабили всех подряд и забирали с собою, что только можно.) Воля, к которой стремился Анфал, оборачивалась злою неволей, женочными слезами и плачем понасиленных девок, что вятчане уводили с собой, чтобы позже продать их на каком-нибудь волжском базаре восточным купцам.
Все же и новгородцы, хоть и шли следом за Анфалом почти до Устюга, не могли сокрушить его московско-вятского войска. Так и разошлись, без мира и без боев, уже зряшных в виду рубленых стен Устюга.
Потом уж вызналось, почему новогородцы оставили их в покое и не стали осаждать устюжской крепости. В ту же пору, как рать Анфала с Герасимом обрушилась на двинян, иная московская рать, в триста кметей, ведомая боярином Александром Поле, захватила, изгоном, Торжок, пленив двоих новгородских вятших: посаднича сына Семена Васильича и боярина Михаила Феофиловича, коих Новгород Великий предпочел выкупить. Торжок был ограблен – в который уже раз! Москвичи возвратились с полоном, и война как-то тупо замерла, тем паче что митрополит Киприан задержал у себя на Москве приехавшего на собор русских православных епископов новгородского владыку архиепископа Ивана, и вятшая господа Великого Нова Города не ведала, что предпринять. Не ведал, что предпринять, и сам Василий, так и не понявший в конце концов, кто из них победил на этот раз? Во всяком случае, Двина осталась за Новым Городом, а с тем вместе и надея подчинить себе вольный город отодвигалась к неясным будущим временам.
В августе, в ночь, в навечерие праздника Успения Богородицы, от полуночи до света являлись на небе светящиеся призрачные столбы, в верхней части своей красные, как кровь. И знаменье это, испугавшее многих «бяще страшно видети», толковали не к добру, ожидая очередных бед и несчастий.
До Москвы, измучивши себя и коней, чудом доведенных все же до отчего порога, Иван с расхристанным московским воинством добрался только к концу сентября. Повзрослевший, почти постаревший, худой, уже не парень, а муж, кметь, воин. И хотелось ему одного: в укромности где ни то, с глазу на глаз, выплакаться на груди все понимающей бабы своей, Натальи Никитишны. Войну он уже познал. Понял. И больше ее не хотел, впрочем, понимая в душе, с горем, что теперь ратная стезя для него неизбежна и неизбывна, как жизнь.
Глава 13
Собор в Москве, на котором был задержан Киприаном новгородский владыка, происходил в июле, и в июле же пришла нежданная весть из Орды: скоропостижно умер молодой, полный сил хан Темир-Кутлук, и на престол взошел его юный брат Шадибек.
Тверской князь Иван Михалыч тотчас устремил в Орду за ярлыком на свое княжество.
Срочно собиралась Дума, дабы решать: что делать? Собственно, об одном шла речь: ехать ли к новому хану-мальчику самому Василию или, как предлагала Софья, ограничиться посылом киличеев с дарами?
– И еще надобно выяснить, отчего умер Темирь-Кутлуй! Кто его отравил, да, да!
– Ну и что ж, что Иван Михалыч тверской поехал? Мыслите, ярлык на Владимирский стол у нас отбирать?! А я не мыслю того! Был я в Твери! Вот, с батюшкою был!
– Где Федор-от?
– Лежит, недужен!
– Шадибек – младший брат хана. Что изменилось в Орде? Пора тепа, бояре, подумать о достоинстве страны, да, да! О достоинстве! Не быть подстилкой-то у литвина какого…
– Какого именно?
– Да Витовта!
– Так и скажи!
– И скажу! И все скажут! Смоленск отдали, Мстиславль отдали, быват, и Ржеву отдадим? А там Можай, а там и сама Москва! Забыли, как Ольгерд под городом стоял? Вспомните, други, что мы – Золотая Русь! Великая Русь! Что наша земля гордится такими мужами, как великий Алексий! Как преподобный Сергий! Как Дмитрий Прилуцкий! Да мало ли! Мы днесь – твердыня православия! Нашею милостыней стоит Царьград, и сам император Мануил Цареградский нашею помочью сидит на столе!
– Усидит ли только? Баязет, бают, который год уже стоит под городом!
– Тем паче! В Литве ксендзы, в Галиче вси церквы поиначили на богомерзкое латынское служение. Сербское, Болгарское царства под бесерменом. Кому, кроме нас, блюсти ныне заветы горняго Учителя нашего Исуса Христа!
– А ну как наш великий князь поедет в Орду да тамо и умрет скоропостижно, подобно Темир-Кутлую?!
Ропот пошел по рядам. Иван Федорович Кошкин вбивал, точно гвозди, суровые слова:
– Вызнать надоть, как и пошто тамо солучилось, господа!
– И дань!
– Да! И дань посбавить! С Новым Городом война, серебра нет, суздальски князи, што волки, так и крутят вокруг Нижнего. Гляди, Семен даве царевича Ентяка привел! Весь город разорили. А и ныне, бают, Семен крутится где ни то под Нижним, в лесах! Што травленый волк.
– Дак и ехать в Орду?! Кланяться? Кому только?
– А чую, не без Идигу тут дело сотворилось!
– Едигей Витовта разбил! И Шадибека не он ли поставил!
– Ежели к Едигею…
– Власть!
– Пока не ясно, чья тамо и власть!
– Я тако мыслю, други, – заговорил Иван, – и тако реку: не нать ездить великому князю Московскому нынче в Орду!
– А што, Иван, тя спрошу, твой батяня, Федор, о том бает? – прищурясь, произнес Михайло Морозов. – Поди, того не скажет, что ты днесь нам молвил.
Василий слушал, то собирая брови хмурью, то краснея, то бледнея. Его и упрекали, и хвалили, и берегли. (И в самом деле, не хотелось ехать в Орду!) Вчера только охотились в заповедном бору под Крутицами, и он, Василий, самолично зарезал рогатиною матерого кабана, облепленного хортами. Добыли трех огненных лисиц, загнали молодого медведя. И так пахло в бору хвоей и смолой, а на полянах земляникой… И скакать, не то плыть в степь, когда еще косят в полях, ставят пахучие высокие копны, когда и самому бы, скинув зипун, в одной рубахе бело-полотняной, пройти с литовкою-стойкой, валя ароматную кашку и ловя ухом сердитое жужжание шмеля, запутавшегося в скошенной груде трав… Эх! И нету той пыли ордынской, и ветер относит посторонь кровососов, а там, бросив горячую косу, взлететь на коня, нестись вихрем, догоняя волка-перволетка, дуром высунувшегося из раменья на скошенный луг… И как трубили рога! Как еще на заре, по росе, выезжала вся конная свита: загонщики, псари, доезжачие…
– Нет, не поеду в Орду! Вот с Семеном надобно кончать! Враз. Не давать ему воли, затравить, как того матерого волка! Нижний должен принадлежать Москве! Надобно твердою ногою стать на Волге! И чтобы весчее, лодейное и повозное платили не даруге татарскому, а нашему даньщику! Своему! Ставленному великим князем Владимирским!
Он поднял голову, слепо обозрел ряды скамей, седобородых бояр в долгой сряде, шапках, отороченных соболем, с посохами в руках. Утишил мановением длани шум и ропот, высказал, оборотив лик к Ивану Кошкину:
– Быть посему!
Дума разноречиво зашумела. Говор-спор не утихал, тек, возвысил, когда в двери палаты пролез припозднивший татарин-баскак московский, коего нынче нарочито задержали – отвлекли, дабы на свободе поговорить о главном.
Со сторон татарину, коему тотчас расчистили место, начали объяснять вполгласа, что, мол, решали, кого да с какими дарами послать к новому хану в Орду. Татарин кивал, остро поглядывая на закаменевший лик великого князя московского, самого главного улусника Золотой Орды и самого богатого изо всех русских князей. И Василий, скользом ловя этот взгляд, тихо гневал в душе: небось, тестюшко не ездит в Орду, не кланяет татарам! И ныне не ездит, все одно! Хотя… Ягайле вот поклонил…
Тесть долил. Чуял Василий, что долог и непрост будет его спор с Витовтом, который навряд раздумал и ныне подмять Русь под себя! Вспомнилось Мономахово: «Жену любите, да не дайте ей воли над собою».
Вот идет Дума. Решают дела господарские, а промеж бояринов русских – татарин сидит! Надзирает. И за ним, за князем, надзирает тоже! Доколе! Нет, не еду в Орду! Прав Иван Кошкин: пора разогнуться нам, пора силу казать!
Дума подходила к концу. Бояре завставали с лавок. Юрий Патрикеевич, принятой литвин, «засевший» многих думцев, подошел, поклонил низко, в особицу приветствуя Василия.
Вот и литвинов садим выше своих, шевельнулась досадная мысль, и тотчас окоротил сам себя: «Православный, однако!»
Развалисто ставя стопы, к ним подходил татарский баскак:
– Порадовать тебя хочу, князь! – вымолвил, улыбаясь широко и чуть-чуть глумливо. – Темир-Аксак Баязета разбил! Спас Царь-город от турков! Радуйся, коназ! (Татары, невесть почему, упорно говорили «коназ» вместо «князь».) Из Сарая грамота пришла!
Весть была и в самом деле важная. Судьбу святыни православия спас, хотя или не хотя того, ревнитель Мехметовой веры, Тамерлан, Железный хромец русских летописей. Спас, отсрочивши на полстолетия падение великого города, о чем пока не догадывал никто. (А и что с нами будет через пятьдесят-то лет, а инако вопросить: ведали мы ай нет полстолетья назад, что будет, и что совершило с нами нынче?) Бояре столпились, окружив татарина. Судьба Константинова града занимала всех. Пото и пришлым за милостынью греческим митрополитам подавали не скудно. Привычен был Цареград – свой, православный, домашний почти. Привычны греки, даже те, что сидели в секретах и брали взятки, изничтожая империю, и не ведали, не ведал никто, что через века такое повторится на Великой Руси.
Князь, выслушавши татарина, уходил к себе особыми дверьми, там, позади тронного креслица. Толпа думных бояр, князей выливалась в широкие двустворчатые двери думной палаты. Скоро слуги кинутся наводить порядок, чистить лавки, заново натирать воском полы, очищать и убирать свечные стоянцы. Где-то отворили слюдяное окно, волна свежего воздуха врывалась, вынося духоту и жар тел собравшегося человечьего множества. Только что это было единою волей земли, и вот уже теперь, рассыпаясь на кучки, на пары собеседующих, возвращаются в свое личное, к своим страстям, нуждам, корыстям и тайным замыслам. Кто рассказал татарину о том, что было говорено в Думе до его прихода? Откуда и от кого далекий Идигу ведал и знал, чем дышит каждый из бояр великого князя Владимирского? А из письма его, писанного семь лет спустя и сохраненного нам историей, яснеет, что ведал и знал, поименно называя доброхотов и врагов золотоордынского хана!
И ведь все замыслы, и все чаянья шли к приращению земли, и хотя порою на волоске висела сама судьба Руси, зело еще не великой, но мысли, устремленья, воля земли и вятших ее направлены были к одному – к расширению, к росту. О том, чтобы что-то отдать, чтобы положить себе рубеж замыслов и желаний – о том и речи не было в те века, и потому, скажем – в те великие века, несмотря ни на что, ни на хождения ратных, ни на моровые поветрия, неурожаи, глады и засухи. Земля расширялась и мужала и уже начинала спорить за вышнюю власть с самою Ордой.
Глава 14
Юрий Святославич Смоленский был «князь прямой» – горяч, гневлив, горд, заносчив и скор на решения. Древняя кровь, отравленная кровь смоленских Ростиславичей, бушевала в нем, лишая мудрой сдержанности, явленной почти безродным со смоленской точки зрения Иваном Калитой, да и всеми прежними московскими государями. Но уже ушли в небытие века, когда Смоленск дерзал спорить с Золотым Киевом, вручал Новгороду Великому князей, спорил о власти со всеми окрест и победоносно дрался с ляхами и Литвою. Как, на чем и когда исшаяла смоленская сила? Все еще ценилась, впрочем, древность и чистота кровей. Ни рязанские, ни московские владетели не брезговали брать в жены княжон-смолянок, и Олег Иваныч Рязанский, помогая Юрию Святославичу, помогал родичу своему, зятю, хотя и не ведал, помогая, как к тому отнесется Василий Дмитрич, уже раз изменивший ему в делах с Литвою и Витовтом.
В Смоленске я был дважды. И оба раза как-то проездом. Еще помню, подивился отсутствию храмов на подъезде к городу, видимо уничтоженных властным представителем «научного атеизма» в те золотые годы всевластия ненавистников России. Но оценил и удивительно выбранное место для собора, выстроенного Шеделем на месте взорванного творения самого Владимира Мономаха, гениального политика, полководца, писателя и гениального зодчего, или, точнее, проектировщика возводимых его мастерами городов, храмов и не сохранившихся до наших дней теремов. Оценил и суровую мощь городских стен, воздвигнутых Федором Конем уже много спустя описываемых нами событий и, однако, как бы и в память о них. Создавая этот каменный оплот страны, Россия окончательно побеждала в споре с Литвой (споре, увы, не конченном и продолженном до днесь, вплоть до предпоследнего, девятнадцатого, столетия!).
Но мощь и основательность создаваемого не мечом, а трудом оплота как бы предвосхитила позднейшие победы русского оружия в многовековом споре двух славянских государств, навечно разделенных духовно католичеством. Да и природно-суровыми зимами России, граница которых как раз и проходит по нашему рубежу с католическою Польшей, которую несколько веков толкали на Восток, в тщетном усилии сокрушить православную Русь руками братьев-славян, уже окатоличенных, уже приобщенных к западному «менталитету» (образу жизни и поведению).
Но это все – и петровское зодчество, и зодчество Федора Коня – было потом, а что осталось от того, древнего Смоленска, столицы независимого княжества, а еще прежде – главного города обширного племени славян-кривичей, только по капризу истории не ставших во главе объединения восточных славян в единое государство – Русь (Киевскую, а позже – Владимиро-Московскую).
От тех, дохристианских времен, разумеется, остались только предания. Город был многолюден и крепок зело. Олег, идучи от Новгорода к Киеву, предпочел обойти его стороной. От времен смоленской княжой независимости узрел я находящийся тогда в полном забросе и донельзя изувеченный храм на бывшем княжеском дворе, вроде бы небольшой, но какой-то необычайно легкий, стремительный и ни на что решительно не похожий. Я вгляделся и обмер: передо мною был знак, след подлинно великой школы зодчества, не меньшей, чем Владимиро-Суздальская или Новгородская. И потом, читая о князьях смоленских, все вспоминал этот, словно летящий, храм с дивным обрамлением граней, расчлененных изящными полуколонками, как раз и придающими храму «полет».
Воистину была Россия, Русь, как писал Грабарь, по преимуществу страною зодчих!
Уж ежели какая ни на есть Тотьма являет не в трех ли каменных храмах своих красоту и величие, способные украсить целую европейскую страну! (И как мы мало ценим это наше почти уничтоженное богатство, заставив, загадив страну угрюмыми бетонными кубами-коробками!) Через тот остаток смоленской древней архитектуры я и князей смоленских начал лучше понимать со всеми их всплесками гордости, жестокости и благородства, со всею безудержностью страстей.
Да, в начале пятнадцатого столетия, кирпичного пояса стен, возведенных Федором Конем, еще не было, но и без того город был «крепок зело» и почти неприступен. Брали его обманом, изменою, измором, но штурмом, кажется, никогда, вплоть до наполеоновских времен, во всяком случае.
Знаменательно, что и князь Олег, хоть и звали тайные доброхоты Юрия Святославича на смоленский стол, собрал для похода всю наличную рязанскую силу, да кроме своих полков, созвал пронского, муромского и козельского князей с их ратями. Надежда была на то, что после разгрома на Ворскле оскудевший ратниками Витовт еще не сумеет собрать значительных сил противу, да на то, что Василий Дмитрич на сей раз по крайности останет в стороне и не поможет Витовту!
Рать переходила Днепр еще у Дорогобужа. Олег ехал верхом, как прежде, как всегда. Чуял, что это его последний поход. Сделать предстояло еще так много! Ежели бы москвичи понимали, чем страшен этот неодолимый разлив литовских сил, вгрызающихся в самое чрево страны! Он воевал (чаще воевал, чем уступал силе!), сдерживая ордынских разбойников и изо всех сил сопротивляясь натиску Литвы на Русские земли. И что завоевал в конце концов? Вот он едет, уже с трудом держась на коне. Ноют старые раны, ноет, будто неведомый зверек грызет его изнутри, правый бок, о чем он не говорит никому из ближних, ибо князь должен быть здрав и крепок, бессмертен должен быть князь! А он, как и все, не бессмертен. И что настанет потом? И в чьи руки попадет Рязань – великая богатая земля с дерзким и упорным народом, подымающимся раз за разом, после каждого погрома и разора – татарского, литовского или московского? В его книжарне, укрытой в монастыре на Солотче, за Окой, есть книги, коих нет более нигде, еще от той великой, утонувшей в отдалении лет киевской старины! Он читал поучения Мономаха, «Слово» некоего летописца, по всей видимости воина и княжого мужа, «О полку Игореве», читал скорбную повесть о начале русской земли, о святом Андрее, не ту, владимирскую, а другую, в коей сказывалось, как апостол Христов крестил черниговских и иных русичей. Чел о Траяне, чел римские сказания и повесть о греческих древних героях, осаждавших Трою, чел удивительные сказания старины, о коих там, на Москве, уже и памяти нет. И что? Даже его стремянный, Онька, не ведает грамоты, а бояре, обыкшие больше к мечу, чем к перу, едва выводят на грамотах имя свое! И как, и с чем оставит он наследника своего Родослава? Или, быть может, Федора? Кому из них поможет Москва, и поможет ли? И кто из них, так же как он, Олег, в редкие миги ратной тишины будет погружаться в седые века великой древности, плыть с героями Эллады к берегам Кавказа, с древлекиевскими князьями стоять под стенами Константинополя, пробираться на утлых лодьях варяжских к Студеному морю? Кто из них оценит величие римлян, создавших ту, первую великую империю, что и до днесь изумляет живущих вослед и после нее на землях, рассыпавшихся на тьмы тем племен и народов, а некогда властно съединенных рукою римских кесарей? Кто оценит Омировы сказания, кто вздрогнет, читая про виноцветное море, про ахейские с бронзовыми носами корабли? Про чудовищную Медузу со змеями вместо волос, про растущих из земли от посева драконьих зубов воинов? Кто поймет величие времени, текущего из тьмы веков в неведомое грядущее? Поймет величие Божества и безмерность мира? Он вспомнил о Сергии, вспомнил тот памятный разговор, и скупая улыбка раздвинула на миг морщины старческих щек. Скоро он уйдет туда, где они вновь и навек станут собеседниками и сподвижниками Божества, он и Сергий. И тогда, возможно, он поймет то, чего не понимал всю жизнь и что понять неможно смертному, или, возможно, – токмо уйдя от мира, удалясь в пустынь, как это содеял Сергий.
Юрий, тоже уже далеко не молодой муж, заботно вглядывался в сухой, иссеченный шрамами лик старого рязанского князя, не ведая его горьких дум. Глухо и ровно топотали кони. Хорошие кони добрых степных кровей. Нынче все князья послушали его, вняли, явились с дружинами. Но будет ли так, егда он умрет?
В Смоленске, недавно обманом захваченном Витовтом, творилась явная неподобь. Князь Роман Михайлович Брянский, посаженный Витовтом наместничать в городе, не мог ничего сотворить, даже боялся выезжать с княжого двора. Ляхи, оставленные Витовтом, попросту разбойничали, грабя по домам и в торгу. Бояре шумели, доходило до драк: кто был за Витовта, кто за Юрия.
Латинские прелаты возводили невдали от городского собора, Мономахом строенного, свою богомерзкую кирху, что еще более разогревало страсти горожан. Кончавшийся июль истекал зноем, селянки от жары подтыкали концы плахт под узорные пояса, соблазняя парней и ратников видом белых рубах от шеи до подола, под которыми уже не было поддето ничего, и эта невинная в иную пору вольность подливала масла в огонь: оружные ляхи лапали горожанок, смоляне кидались выручать своих женок, девок и баб. Доходило до потасовок.
– Хотим своего князя! – кричали князю Роману, когда он показывался верхом, пытаясь унять колготу. «Витовта! – орали иные. – Пущай едет к нам! Брянского князя не хотим!»
Ну а латинских патеров не хотели вовсе никто. Срубленную было латынскую ропату подожгли, а затушенную, якобы спасая от огня, разметали до основания.
Вот рослый усатый лях, придерживая саблю, волочит упирающуюся, раскосмаченную, без плахты, в одной рубахе женку. Валит ее под тыном, задирая подол. Та визжит, отбиваясь руками и ногами. Подбегающие парни лупят ляха по морде наотмашь, к нему бегут на помочь ратные, обнажая оружие. В густеющей толпе посадских зловеще блеснул топор. Женка уползает на четвереньках, пугливо оглядываясь на начинающуюся нешуточную драку. Визг, ор, мат, кровь. Уже несколько топоров машутся в воздухе против неравной череды сабель, готовясь собрать смертную жертву свою. Городовой боярин, торопя коня, скачет, чтобы унять, разнять, покуда улица не покроется трупами и не завопит заполошно набатный колокол. По крутой, заворачивающей улиткою улице от воды, мимо собора, проходит скорым шагом отряд спешенных рейтар. Сверкают литые нагрудники, колышутся копья. Улица стихает было, и тотчас восстает вопль в торгу, и туда кидается княжая чадь, утишать очередную колготу. А с неба – потоки расплавленного золота, а в улицах – пыль. Потрескивает пересушенное дерево городень, и умные поливают водою кровли своих хором, бережась нежданных пожаров.
А на острове посреди Днепра, где окрест каменных кирпичных храмов тесно громоздятся хоромы, амбары, лавки и весь берег заставлен лодьями, насадами, паузками торговых гостей, что поднялись доселе по Днепру, или по западной Двине, или конями и водою наехали из Новгорода и Плескова, ибо груды западных товаров пойдут на восток, в пределы Владимирского княжения, а хлеб, воск, мед и лен поплывут на запад, в пределы Литвы, Польши и земель Ордена, – так на острове кишение, и непотребь, и тревога сильны особенно; гости сожидают при всяком размирье грабежа и не ведают, защитит ли их власть и – какая? На брянского наместника плоха надея, это уже видят все. И потому тут, на речных вымолах, особенно шумно, и крики, и мат, и которы, и прямые драки не престают ежеден. Но и тут ждут: чем окончит городовая пря? Ведают, что ежели чернь захватит город, их попросту разграбят, разобьют амбары, порушат лавки, сожгут али потопят товар. Иные уже загодя грузят лодьи, собираются уходить, не расторговавшись. Да ить какая и в межень? Днепр обсох, жди осенних дождей, не то посадишь лодью, а дожжешь тута! Город ждет, город на срыве уже, городу надобна власть, хоть какая власть!
И когда чередою показались оружные рязанские всадники, начинающие обходить и облагать город, в улицах восстал вопль, и организовать какую-то правильную оборону костров и прясел стало решительно невозможно.
Князь Олег подъехал к воротам. Снял шелом. Теплый ветер отвеивал его седые поредевшие волосы.
– Горожане! – позвал он. – Я – рязанский князь Олег Иваныч! Со мною ваш хозяин – Юрий Святославич! Он пришел всесть на отчий стол и править городом! Смоляне! Слушай меня! Отворяй ворота!
С костра ему пробовали отвечать бранью брянские кмети. Юрий кипел. Олег, холодными глазами ища по заборолами кого из воевод, был спокоен. Когда увидел, как поднялись на глядень сразу несколько бояр в шеломах и бронях, явно из тех, кто не желали сдавать города, поднял руку, помолчал и деловито выкрикнул:
– Витовт вам не поможет! А я тута со всею рязанскою ратью! Аще не отворите града и не примете господина вашего, великого князя Юрья Святославича Смоленского, на его отчину и дедину, на великое княжение смоленское, то убо имам многое время стояти под городом и вас предати мечу и огню! Изберите себе чего хощети: смерть али живот!
– Возьми нас сначала! – не так-то решительно отвечали ему.
– И брать не буду! – возразил Олег. – Запас снедный не завезен. Обойму город, сами изнеможете тою порой! Да и полно гуторить! Я сказал!
За воротами скоро началась свалка. Защитники ворот не продержались и часу. Горсть польских рейтар смела толпа оружных и осатаневших горожан. После ора, криков, скепания оружейного ворота со скрипом отворились на две стороны.
– Вот и все! – произнес Олег, вкладывая в ножны свою видавшую виды саблю, и, оборотясь к Юрию, домолвил: – Город твой!
Юрий Святославич хищно глянул, сугорбясь, в нутро ворот, резко тронул коня.
– Дорогу, дорогу князю Юрию! – кричали, теснясь и бряцая оружием, бирючи. С костра сводили повязанных бояр, старший из которых дерзнул что-то, неслышимое в реве, возразить Юрию. Смоленский князь, исказясь ликом, мгновенно вздынул и резко бросил вниз сверкнувшую на солнце саблю. Повязанный старик боярин, уронив разом утонувшую в крови голову, безвольною грудою осел на землю. И уже без Юрия толпа начала бить и волочить прочих. Кинулись по городу, вышибая ворота в домах витовтовых доброхотов, грабили и убивали, не щадя ни женок, ни детей.
Роман Михалыч Брянский сдался Юрию без боя, разумея сказать, что не сам, мол, не своею волей, а от Витовта. Юрий, забрызганный кровью, обезумев, не слушая слов, сам рубанул князя вкось, по лицу, кмети довершили остальное.
Олег, решительно раздвинув саблею осатаневшую толпу, вступил в покой.
– Остановись, князь! – возгласил. Хотел защитить Романа, но было поздно. Осуровев ликом, глянул в бешеные глаза Юрия (из задних горниц уже волочили детей и княгиню брянского князя).
– Женку и чад не тронь! – повелел, вкладывая саблю в ножны. Рязане уже оступили своего князя тесной толпой. Юрий рычал, опустивши чело, глянул слепо и страшно, сглотнул ком, ставший в горле, выдохнул:
– Отпускаю! Пущай едут к себе!
Меж тем погром Витовтовых доброхотов по городу продолжался. Били и грабили вплоть до позднего вечера. Бесстыдно заголив, прирезали двух латынских ксендзов. Ляшскую дружину истребили почти полностью: мало кто успел ускакать, дорвавшись до коновязей. На вымолах грабеж останавливали уже княжеские ратные.
Сгущались сумерки. Город успокаивался, глухо гудя. Юрий в горницах пил квас, все еще пыхая неизрасходованным гневом. Прислуга, с белыми от страха лицами, накрывала столы. Волокли жареную дичь, пироги, кисель и прочее снедное. В кувшинах подавали кислое молоко, хмельной мед и квасы. Для дружины на поварне обжаривали целые туши свиней, несли корзины хлебов, выкатывали бочки пива.
Приволокли Жирослава Радзинича с сыном, одного из бояр, злоумышлявших на Юрия. Боярин, слегка побледнев, держался гордо. Сын глядел на Юрия волчонком, теснясь к отцу.
– Меня казнить не имеешь права! – высказал боярин, стряхивая руки державших его и выпрямляя стан. – Без Витовтова слова ты в этом не волен, князь!
– Я в том не волен? – вопросил Юрий почти шепотом, подступая к боярину, и рыкнул в крик: – Я?!
Олег не успел остановить, никто ничего не успел содеять. Боярин лишь коснулся рукояти сабли на поясе своем. Стражники схватили его за плечи. И тут Юрий вырвал из ножен дорогой хорезмийский клинок и кинул его вкось и вниз, отрубив по локоть правую руку боярина. Жирослав шатнулся, поднял обрубок руки, из которого фонтаном хлынула кровь, хотел защититься левою рукою, но вторым взмахом Юрий отрубил и ее. Сын с жалким криком кинулся защитить отца и пал с разрубленной головою. Все замерли. Боярин стоял, качаясь, поливая пол кровью, слепо глядя на мертвого сына, что еще дернулся, остывая, раз и другой. Молчал стол. Молчали кмети. Молчала стража, приволокшая Жирослава. Юрий вытирал платом красный клинок.
– Увести! – повелел. – Повесить! – И стражники, судорожно дернувшись, поволокли Жирослава вон, а иные, смятенно глядя на Юрия, начали неловко подымать обрубки рук и труп ребенка.
Олег вместе с пронским и козельским князьями устало сидел за столом. Свербило в боку, кружило голову, и вовсе не хотелось есть. Юрий все делал не так. И вязалась пакостная мысль: «Не удержать ему города! Витовт, занявши Смоленск, был добрее! И казнить мочно было бы! Но не враз! И – по суду, дабы не расправа, а казнь. Казнь виновных! И токмо! Не то перекинет судьба, и те же смерды пойдут громить Юрьевых доброхотов! И что тогда?» Но – молчал. Видел, ведал, что Юрий нынче ничего не поймет, и баять ему о том – напрасный труд.
– Я помогу тебе утишить город, – вымолвил он устало, – а потом уйду! Вскоре! Ты же набирай рать! Не стряпая! И прекрати грабежи. Купцов распугаешь – налоги не собрать будет тебе.
Юрий дернул плечом, недовольно сдвинул брови. Подумал, не высказав только: «Никто не смеет давать советы великому князю Смоленскому! Даже ты, тесть!» – подумал, не вымолвил. Но Олег понял. Улыбнулся устало, и хмуро, и чуть насмешливо. Опять же помыслил, не сказал: «Упустишь, не воротишь, князь! Другого разу помочь тебе у меня станет навряд» – но Юрий понял, набычился:
– Прости, Олег Иваныч, – сказал негромко.
Олег молча кивнул головой. Может, и удержит? Явилась надежда, в которую так похотелось верить ему!
А вокруг кипел, гремел, разворачивался пир победителей, иных не смывших и крови с доспехов и платья своего.
Глава 15
Василий Дмитрич узнал о захвате Смоленска Юрием, будучи в Красном. Как раз выдался свободный час для отдыха – соколиной охоты, вкус к которой Василий поимел еще будучи в Орде. В Золотой Орде? Орда уже не называется Золотой! Та, Батыева Орда, окончилась, и теперь Орда, что кочует меж Доном, Кубанью и Волгой, называется попросту Большой. Прав или нет Иван Кошкин, его нынешний первый наперсник и казначей, что ордынцам уже незачем платить прежнего «выхода», незачем и ездить в Орду? Что Шадибек, как и Темир-Кутлук, все одно друзья московскому дому и по всякий час готовы были помогать великому князю московскому уже потому, что они – враги Литвы и Тохтамышевы? Прав ли он, что молчаливо позволил нынче Олегу с Юрием воротить Смоленск? Вопреки тем боярам, кто, ненавидя Олега, всячески клевещут на него?
Он немо смотрел, как сокол усаживается, отряхивая перья, на кожаную перчатку сокольничьего, как вздрагивает, топорщится, замирает наконец, дозволяя надеть себе на голову кожаный колпачок. Еще не все птицы собраны, еще скачут по полю, в цветных летниках и суконных шапках, сокольничие. Еще разгоряченно играет конь под ним, мешая читать развернутый свиток грамоты. А сын боярский, проскакавший неведомо сколь верст пути, в пыли и поту, разрумянясь лицом, восторженно сказывает ему о захвате Смоленска рязанами, словно сам был при том и участвовал в деле. Права Софья! Особой любви к Витовту на Москве не имеет никто! А к ней? А к его детям?! А к юному Ивану, его единственному наследнику, ибо и третий сын, рожденный Соней, Данилка, умер, проживши только год… Пока ты молод и свеж, не чуешь злых ударов судьбы, не ведаешь того, что и сама судьба твоего «продолженья во времени» висит на тоненькой ниточке здоровья или болезни, или иной какой зазнобы этих вот, по малости совершенно беспомощных малышей. Чудесно! Ибо никто не ведает: кого, как и когда родит, и родит ли вовсе данная Богом супруга? У самого Витовта так-таки и нет сыновей, и уже не будет никогда впредь! А не драться за власть, подчиняя все новые и новые земли, он попросту не может!
Вверху стояли горячие, невесомые облачные громады. Тяжелые ветви дерев, отягощенные жарой и пылью, клонились долу. Созревал хлеб, и уже сытным духом спелой ржи тянуло по-над нивами, кое-где неосмотрительно потоптанными сокольничими. Подумав об этом, Василий ощутил легкий стыд: бить перепелов можно было и не портя крестьянского хлеба. Он свернул грамоту. Отдал ее гонцу, повелел: «Скачи на Москву!»
Шагом, полуспустивши летник с плеч и не подбирая поводья, поехал по полю. Сокольничий подскакал, с гордостью показал лису, убитую соколом. Василий только кивнул, продолжая думать. Тихо звенели тонкого серебра сканной работы створчатые поводья, набранные из отдельных изузоренных и прорезных пластин. Колыхалась на груди жеребца невидная ему с седла узорная, украшенная жемчугом чешма. Он ехал вольно, отвалясь станом, слегка пошевеливая легкими сафьяновыми, булгарской работы, востроносыми зелеными сапогами с красными червлеными задниками, обшитыми по верху бисером. На боровую охоту, где и обдерешь сряду о ветви, а где-то и свалишься с седла, и в крови замажешься, кончая матерого секача или лося с устрашающими лопатами рогов, – там такого не надевал, конечно. А порою и вместо сапогов брал сыромятные поршни и шапку, не алую, скарлатом крытую, а простую суконную, с одним лишь соколиным пером.
Ехал, вдыхая горячий сытный дух полей, и чуял, что неохота домой, в терема, неохота узреть Софью, слышать ее злые слова о Юрии Святославиче Смоленском.
Воротясь, уже внутри Кремника, надумал обойти сперва службы, проследил, как высаживают соколов по клеткам, из ивовых прутьев содеянных, чтобы не побились бы невзначай дорогие птицы! Каи начинают кормить… Прошел в конюшни, что тянулись вдоль городовой стены, обращенной к Неглинке. Не снимая дорогих сапогов, прошел вдоль донников, рассеянно выслушивая отчеты конюших, что сейчас убирали и чистили лошадей. (Рассеянно – ибо продолжал думать о Смоленске и князе Юрии.) Долго глядел, как плечистый и кряжистый Онтипа Лось убирает княжеского коня, а тот, вздрагивая атласною шкурой, не больно, балуя, хватает Онтипу за рукав мягкими губами и дергает к себе, верно, ждет, когда будут поить и кормить, и требует поскорее. Вышел из сумрака конюшен, постоял, щурясь на солнце. Неспешно двинулся к теремам, проминовав повизгивающих и порыкивающих в сворах на своем дворе красных хортов. Прошел в мастерские, где тоже стоял, тут уже рукотворный, визг и звяк. Мастера узорили медь, пилили железо, оковывали серебряное узорочье для седел и конских обрудей. Упряжь и конскую справу княжой дружины починяли, а часто и строили тут же, на княжом дворе, не отдавая мастерам с посада. И книжарня была своя, и портна ткали, и вышивали, и узорили тут же. И туда, в девичий, в женочий мир, разом встрепенувшийся, завидя Василия: «Князь, князь идет, бабы!» – заглянул в своих сафьяновых сапогах и дорогом летнике, проплыл, прошествовал, следя, как алеют склоненные над работой лица, как пугливо, любопытно и озорно взглядывают на князя, тотчас отводя взор: «А ну как и пригласит которую к себе вечерней порой? Ненадоскучила еще ему женка та?!» Василий взглядывал, усмехаясь. Не баловал тут никогда, себя блюл. «Не сожидайте, бабы!» – выговорил мысленно, кидая глазом не столь на зарумянившиеся лица красавиц, сколь на хитрый узор иной рукодельницы, предназначенный для украшения той, верхней, теремной жизни, о которой тут могли токмо мечтать. Вопросил сенную боярыню, сунувшуюся встречь: «Сытно ли кормят мастериц?» Та залепетала, замитусилась вся. Неужто рыльце в пушку? Проверить нать! Как-то мало думал о том, как кормят златошвеек. Больше всегда заботил прокорм ратной дружины!
И в молодечную заглянул, где его уже ждали, готовились, заслыша, что великий князь пошел обходом по службам. Даже и пол выпахали начисто, сожидая князя!
О чем-то прошал, что-то говорил. Ратные готовились к трапезе. И скоро к нему прибежал захлопотанный холоп из верхних теремов: мол, княгиня сожидает ко столу! Пришлось пойти. Подымаясь по ступеням, все ожидал гнева Софьиного, думал, как и что ответит, как возразит жене. Но Софья смолчала, несколько удививши Василия: «Ведаю!» – кратко отмолвила, когда попытался заговорить о Смоленске. Обозрел, сощурясь, стол, крытый камчатною скатертью, домрачеев, готовых ударить по струнам. Узревши всех братьев вместе с Юрием, коего не ждал так рано, понял, почему Софья была так сдержанна с ним до столов и так заботно и богато изодета к трапезе. Вошли вслед за князем Иван Кошкин, Онтипа и старший сокольничий. Все уселись, блюдя чин и ряд, на перекидные скамьи, в очередь забираясь друг за другом. Соня настояла, чтобы она и старшие боярыни в годах, а также княжеские вдовы сидели за столом вместе с мужиками: «Не татары, чать! Не бесермены какие мы!» – изъяснила супругу. Токмо что женки сидели по левую руку, а бояре – по правую. В обычных застольях боярских, на пирах хозяйка токмо входила поднести гостю чару из своей руки да расцеловаться со знатным гостем, а за столами сидели одни господа. Женки трапезовали особо, в иной горнице.
Когда все уселись, дьякон прочел молитву. На молитве стоя перекрестили лбы и после уж, вновь усевшись, протянули руки к трапезе. Уху хлебали серебряными и резными кленовыми лжицами. Мясо резали каждый своим ножом. Брали, кто обык, вилкою, а кто и просто руками, для чего вдоль столов был положен нарочитый, вытирать жирные пальцы, рушник.
