Читать онлайн Чудо, тайна и авторитет бесплатно
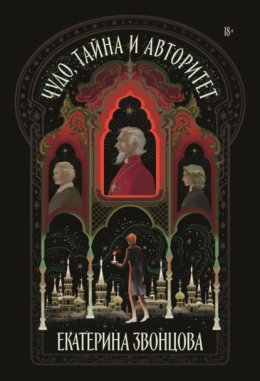
Франсуа Вийон, «Баллада пословиц»
- Мой принц, безумцы правду знают;
- Что жизнь похитит, смерть вернет;
- Предателей не выбирают;
- А крик слышнее в Рождество.
Книга издана с согласия автора
© Екатерина Звонцова, 2021
© Издание на русском языке, оформление. Popcorn Books, 2023
Cover art by Kelly Chong © 2023
Внимание: в романе присутствует тема сексуализированного насилия над детьми.
Если вы или ваши близкие стали жертвой насилия, мы рекомендуем обратиться за психологической помощью к специалистам и в органы правопорядка.
Вот список организаций, которые могут помочь:
Проект «Тебе поверят».
https://verimtebe.ru/
Центр «Сестры»
https://sisters-help.ru/
Горячая линия Следственного комитета «Ребенок в опасности»
8 (800) 200–19-10
Пролог
То, чего не видят
Он крепко-крепко смыкал ресницы, чтобы не защипало в глазах, и думал о чистой рубашке, что поутру оставила на кровати матушка. Стоять согнувшись уже устал, но не нюнил, не ерзал, терпел: вода лилась нежнее парного молока, пахла мыльной розовой негой, а сестрица щадила волосы – ни пряди еще не дернули ловкие пальцы, ни кусочка кожи не оцарапали ногти. Будто не моет, а гладит; будто не с головой дело имеет, а с каким сокровищем. Старается. Разве можно тут роптать и рюмиться?
Сестрица напевала «Шарф голубой», снова и снова – может, сетовала, а может, просто занимала скучающие мысли, пока руки прядут влажный шелк чужих волос. Он слушал. Ему нравился сестрицын голос-колокольчик, какими бы простыми словами он ни звенел. Ему нравилось, что она вот так, рядом, и только для него поет тоненьким, почти заговорщицким полушепотом:
- В Москве проживала блондинка,
- На Сретенке, в доме шестом,
- Была хороша как картинка,
- И нежная очень притом…[1]
Лилась и лилась вода в кружеве пены, падала и падала в лунно-оловянную глубь старого таза; легчала и легчала голова. Ему всегда верилось: мытье – вроде цыганской ворожбы; наверное, оно хорошо не только от грязи, но и от всякой там порчи. Неспроста недобрые люди плохо пахнут и обходят сторонкой баню. Неспроста мыло – душистые, точно сваренные из чистых цветочно-овощных запахов «шаромы» и «огурцы»[2], – такое дорогое. Неспроста омывают покойников, прежде чем укутать в саван. И неспроста мыться он сегодня будет дважды: еще вечером, тоже в парной воде. Наверное. Если, конечно, выйдет, – как он подумал, едва увидев белую, хрусткую от чистоты, отороченную кружевом рубашку в матушкиных дрожащих руках.
«Тебе бы волосики помыть… и вот это тебе на потом. Новая…»
- Ах! Крутится, вертится шарф голубой,
- Крутится, вертится над головой,
- Крутится, вертится, хочет упасть.
- Кавалер барышню хочет украсть.
Больше всего ему нравилось сестрицыно «Ах!», от которого розовый рот округлялся и оживлялся улыбкой, и нравилось еще воображать, как он вырастет – и купит ей шарф из лучшей кисеи. Будет этот шарф нежным, как мыльная пена, и легким, чтоб взаправду концы от ветра летали, и красивым – может, даже с тонкой серебристой отделкой. Хорошая ведь сестрица, заслуживает десяти шарфов. Вот, возится с ним… а он и рад, правда, еще вспоминает давнее: как с матушкой они омывали папеньку. Папеньке сестрица тоже тогда мыла волосы, желтоватые и жидкие, и так же бережно, и потом расчесывала. Разве что с губ ее слетали другие слова – тихое, заунывное Трисвятое, перемежавшееся всхлипами. Но много с того дня прошло, почему вдруг ожило в памяти?
Он все-таки мотнул слегка головой, надеясь, что забудется. И исчезли из памяти темная квартира, где давно живет другая семья; и жалкая лампа, умирающая вслед за папенькой; и мыльный запах – иной, дегтярный. Раздалось над ухом ласковое: «Скоро, скоро уже все, потерпи, светик». Он впился в край таза крепче и открыл глаза. Их защипало, но он даже не смаргивал слез. Задвоились, задрожали пенные кружева, и очень захотелось сунуть в воду руку, взбаламутить их со всей силы, порвать в клочья. Но пора было распрямляться, а кружева медленно таяли сами, оставляя лишь белую муть.
– Таких прехорошеньких ручек, – запела сестрица, уже аккуратно вытирая ему голову кусачим полотенцем, – не видел на свете никто. Ходил к ней кудрявый поручик в нарядном и светлом пальто…
Он не выдержал, засмеялся, боднул ее руки: пусть уберет противное полотенце! Спросил, когда заделался в поручики тот, кто к ней ходит, почему пальто не светлое и вообще нет там никакого пальто, а вечно непонятно что. Она надулась, щелкнула его по носу и пробурчала: «Мал ты рассуждать», но тут же сама о свои слова споткнулась, сникла, прикусила губы и все к тому же носу прижалась отчаянным поцелуем. Обняла так нежно, будто решила укачать, запела тише – снова про шарф, барышню, улицу. Он слушал. Сестрица пахла табаком, мускусом, золой и морозом, хотя на площади еще не была. От огневицы[3], возле которой они притулились на полу, в любимом закутке меж ней и стенкой, тянуло сытым бодрым теплом: печку щедро накормили щепками, но не настолько, чтобы жалила и щипалась.
- Но вскоре то счастье пропало
- На самый ужасный манер.
- Поручику стряпка сказала,
- Что «стал к ней ходить анжанер».
Сестрица продолжала нехитрый рассказ, а он сидел, положив голову ей на плечо, и глядел на рубашку, свесившую с кровати кружевной рукав-хвост. Была она словно неживой зверек, может, снежная змея. Не шевелилась, зато глядела, безглазо, но пристально. Ждала его, напоминая: «Мое кружево не ис-стает, мое кружево не пор-веш-шь». А он, слушая про шарф, барышню и улицу, вспоминал теперь отчего-то странный свой предутренний сон.
Снились ему сегодня трое, разные, и не одновременно, а один за другим. Сначала молодой мужчина в голубом хитоне – смуглый, длиннопрядый, с неряшливой русой бороденкой, – грустно и ласково взирал ясными серо-небесными глазами из-за тюремной решетки. Он не просил: «Освободи меня», но сердце плакало, и надрывалось, и стремилось прочь – за ключом в неизвестно чьем кармане. Но ключ не нашелся, и узник исчез вместе с темным своим казематом. Потом тощий, оборванный, желтолицый юноша с темным взором, не чародейским, но больным, горько плакал, сидя посреди серой улицы и обнимая издыхающую лошаденку; подле колен его лежал окровавленный топор. Он не просил: «Утешь меня», но ему, горемыке, хотелось отдать карманный молитвослов с перламутровым обрезом, тот, который принес на день ангела сестрицын кавалер. Но книжицы не было, и юноша пропал со своей улицей, и лошаденкой, и топором. И наконец величественный, прекрасный, посеребренный сединой и страданием мужчина лежал в изодранном зелено-золотом мундире, на окровавленной подушке, и сомкнуты были его тяжелые веки, и сложены на груди ухоженные ладони. Дышал он хрипло, со свистом и страшным бульканьем, потом и вовсе перестал. Ног ниже колен у него не было – сплошь ошметки, осколки, рванье. Он не просил: «Воскреси меня», но сами хлынули из глаз горячие слезы, и захотелось упасть рядом, и лепетать заплетающимся языком: «Вернись, вернись!»… но залепетать не вышло, и мертвеца скрыло дымчатое марево тумана, и оборвался сон.
- Поручик на скетинг-ринге
- Увидел блондинку в окне.
- Он к ней подошел и красотке
- Хватил кулаком по спине.
Не раз он слышал эту песню: прицепилась к Москве хуже репьев, пели ее на улицах все, кому не лень. Но впервые он, стыдясь своего невежества, спросил осторожно у сестрицы, что такое скетинг-ринг, где это, что там делают. Она прервалась, вздохнула тихонько и ответила:
– Там богатые господа катаются на коньках с колесиками, быстро-быстро.
– Как на рысаках? Так, что ветер в ушах? – удивился он.
– Быстрее даже. И музыка там, и сладкую воду подают.
Он затрепетал; готов был уже выпалить, как это здорово – коньки с колесиками и сладкая вода, и вот бы ему тоже побывать там и попробовать, и хорошо бы с сестрицей, вместе, за руку… Но слова «богатые господа» предостерегающе зашипели на него, как сердитые гуси из крестьянской подворотни: «Не с-смей, не с-смей ее печалить, не с-смей напоминать». И он просто кивнул, пробормотал так же тихо: «Здорово как…» – и покорно сел попрямее, чтобы сестрица могла расчесать его подсохшие локоны.
– Мне бы уйти, светик мой, – сказала она, орудуя уже деревянным гребешком с выжженными рябиновыми ягодами. – Ждут меня, вчера-то не свиделись…
Он предчувствовал, что она это скажет, поэтому оказался готов. Как ее не понять? Ответил быстро, шутливо, чтобы спрятать обиду и печаль:
– Ходил к ней кудрявый пору-учик в нарядном и светлом пальто-о… – И сестрица, конечно же, дернула его за прядь, но затем продолжила причесывать медленно, бережно, склоняясь иногда, чтобы поцеловать то в щеку, то в ухо, горячо и благодарно.
– Я вернусь, – как заклинание, повторяла она. – Обязательно вернусь, скоро-скоро, принесу тебе что-нибудь…
Он молчал или отвечал невпопад: снова думал о сне, о троих. Жалко ему их было очень, пусть и не существовало никого, лишь вымыслы. Различимые такие, живые были у них лица; понятная такая, настоящая боль. Вот бы поговорить хоть с одним, с любым. Наверное, и они бы его поняли, и пожалели бы, а может, даже бы и спасли. Хотя, может, наоборот, нахмурились бы с усталым пренебрежением: «От чего спасать тебя? От розового мыла? От белой рубашки? Что тебе не живется, раз все не просто так и не навсегда?» А он потупил бы глаза и, наверное, покраснел бы от стыда, потому что сам не знал ответа, ничего не знал, а думать много было страшно. Одно понимал: скорее бы снова вечер. Скорее бы помыться уже целиком. Оттереться простым дегтярным мылом от розового запаха. Тем самым, которое для мертвецов. Смог бы он все это сказать троим из сна? Может быть. А они бы…
- Всегда так на свете бывает.
- Окончился этот роман.
- Мужчина от страсти пылает…
– Сестрица, – тихо прервал он, и гребешок замер в волосах. – Ты иди. Иди. А я матушку подожду. В постели пока полежу, почитаю те твои приключения про остров…
Она поцеловала его снова и, обняв сзади за шею, повторила:
– Я скоро, скоро вернусь, и будет у нас какой-нибудь праздничный обед, вот.
Он потерся подбородком о ее сухие бледные руки, и они соскользнули, забрали с собой тепло и покой. Сразу захотелось схватиться, удержать, выдохнуть жалобно: «Не оставляй…», но он смолчал. Сестрица, переодевшись потеплее и схватив заячий свой тулупчик, ускользнула из детской; только соломенная ее обережная куколка в ленточках и пятнистом платке осталась на подушке. Он же встал от огневицы, благодарно погладил остывающий ее бок и пошел к своей постели. Белая неживая змейка ждала.
Какой все-таки странный, но дивный сон – про троих. Кто же они, не ангелы ли? Замученные, страдающие, но все же ангелы: так было от них горько, но светло; так хотелось и их спасти, и чтобы они помогли чем-нибудь. Вдруг сумеют? Может, стоит хотя бы попробовать умолить их. Пока заперта дверь. Пока змейка свисает до пола так безвольно и беззлобно.
Первым он подумал о юноше, обнимавшем лошаденку. Тот казался таким несчастным и слабым, что просить его о многом было бы бесчестно. С него хватило бы и самого маленького, способного принести недолгую, но настоящую радость желания. Почему не…
«Отведи нас с сестрицей на скетинг-ринг».
Вторым он вспомнил величавого мертвеца с раздробленными ногами – наверное, много у него было силы и власти, пока кто-то не позавидовал, не обозлился, не поранил. И лицо его – каменное, гордое, истерзанное – казалось теплым, участливым. Встреться он в добром здравии, был бы, наверное, возмущен всем здесь. Всем-всем. И смог бы это поправить одним взмахом руки, одним приказом. Услышал бы…
«Забери нас и матушку из этого дома».
Последним вспомнил он молодого узника. Не преступником он был, точно нет: в ясных глазах – сострадание; изувеченные ладони в крови, но хитон чистый – точно не коснулся его ни один удар грязного кулака. Не походил он на того, кого пленили насильно; скорее сам ступил в темницу, просто чтобы обернуться потом к угнетателям, раскинуть руки и прошептать ласково-насмешливо: «Ну, вот он я, глядите на меня». Он светился силой и милостью. Он мог, наверное, выполнить любое желание, даже большое-большое, способное счастливее сделать весь мир. Но сил на такое не было. И самое заветное желание оставалось одно, маленькое, подлое.
«Пожалуйста, пусть в комнату войдет матушка. Матушка, а за ней сестрица. И никто, никто больше, никто».
Пусть белую рубашку с кружевом надевать больше не придется. Никогда.
1. K
Сущевская полицейская часть
1887 год, 24 декабря, вечер
Мать всегда говорила: «Светлые мысли летят на свет. Нужны они тебе – просто зажги свечу». Сегодня K. звал их что было сил, но они все не спешили. Тогда он решил, что чем более одиноким и крохотным будет свет, тем заметнее в вечерней кромешности, – как желтая искорка маяка в ночи всегда по-особенному заметна затерявшемуся кораблю.
Загасив масляные лампы, K. зажег на подоконнике тощенький огарок – к счастью, тот завалялся в ящике стола бог знает с каких времен, возможно, даже остался от предыдущего сыскного надзирателя[4]. Долго еще K. стоял у окна, наблюдая за новорожденной свечкой. Из какой-то щели малозаметно сквозило, отчего огонек дрожал, без конца возился, но гаснуть не гас. Он то поджимал лапки, поудобнее пристраиваясь на фитильке, то привставал на цыпочки, вглядываясь любопытно в морозную завесь, в высящиеся за ней зыбкие чернильные силуэты. Наглым золотым хохолком своим он словно напоминал всей Москве: горит, горит еще свет в полицейском участке. Сегодня же праздник, святой день, точнее, святая ночь, когда всем должно быть тепло и спокойно.
Горела свеча и теперь, когда K. от окна отошел, сел за стол, сложил поверх него сцепленные в замок руки, вытянул вперед. Глядел он в пустоту, куда-то в закуток под подоконником, на шныряющие там тени – то ли побеспокоенных сквозняком комьев пыли, то ли загулявшихся мышат. K. слушал тишину, мысленно, впрочем, нарушая ее: «Еще немного – и просто пойду домой. Немного – и домой. Домой…»
Часть стояла тихо, нежила в снегу желтоватое тело, не мешала инею рисовать на позвякивающих окнах кружевной иноземный лес. Осанистая, спровадившая в небытие не одно десятилетие, чрезвычайно солидная в глазах всех соседних улиц, Сущевка взирала вокруг сонно и снисходительно, показывая, что ей-то ни до каких обывательских праздников, цветных гирлянд и позолоченных мандаринов дела нет. Тут, кроме K., не было сейчас никого – разве что отогревался у фонаря на пожарной башне часовой, несчастливо выигравший худшую за год ночную смену в карты. Вольнохлебная агентура доложилась и разбежалась по кабакам и каморкам еще днем; сыщики сдали дела и разошлись – кто в седьмом, кто в восьмом часу. «С Рождеством Христовым!» – искренне проорал почти каждый; настроения царили самые хмельно-радужные: все-таки не зря в последние месяцы, вопреки обычной дурной традиции, кривая убийств и разбоев[5] по участку пошла резко вниз, господин Эфенбах[6] и высшее полицмейстерское начальство были весьма довольны. Людей премировали – кого рублями, кого дармовыми билетами в театр, кого даже поездками – и распустили до завтрашнего полудня, за редкими исключениями в виде самых несчастливцев вроде того часового. K. не относился к таким: не уходил сам, только тревожно повторял, как заклинание: «Еще немного – и просто пойду домой. Немного – и домой. Домой…»
С чего именно здесь? С чего вообще он решил жечь свечу, да сегодня? Ночь святая, но она же – самая темная в некоем мистическом смысле. Да, матушка?
R., как и часто, ушел последним, не столь давно. Когда он, по обыкновению, заглянул в кабинет попрощаться, свечи еще не было, но лампы уже не горели. K. сидел и думал, пытался понять, отчего же резвится гадливая колкость в груди и горле; отчего не тянет встать и начать собираться; отчего он вот так застыл и ждет, ждет ведь именно этих скрипучих, тяжеловатых, но осторожных шагов, медленно близящихся по коридору…
– Иван! – Дверь была открыта, и его просто окликнули, пару раз стукнув в створку. – А с чего это ты в таких потемках? Лампы пришли в негодность? Выписать нужно?
R., уже в плотном длинном плаще без меха, встал в проеме. Совсем не толстый, наоборот – сухопарый, зато очень высокий, он будто не вмещался там; осыпающиеся гипсовые откосы ему неумолимо мешали. Он немного сутулился, и поза эта резко расходилась с его чеканной выправкой. Как обычно, R. не улыбался, но по светлым глазам, глядящим приветливо и мягко из-под плавных ухоженных бровей, читалось: настроение у него неплохое, а бутыль коньяка под мышкой, явно даренная кем-то из благодарных просителей, скоро поднимет его еще немного.
– Нет, это терпит, я так, – ответил K. – Уходить собираюсь, вот уже и…
– Уходить, – сощурившись, R. кивнул на стопку бумаг, белеющую в сумерках. – Знаю я тебя. Совсем ты что-то не умеешь отдыхать, нельзя так…
Он пенял этим часто, а K. всегда кивал. Не слушать его – преждевременно седоватого, говорящего веско и вкрадчиво, устрашающего шрамом через щеку и неизменно мнящего себя не начальником, но родителем, – было невозможно, несмотря на то, что ему едва исполнилось тридцать два и разделяло их с K. всего пять лет. Трудно поверить, что, когда R. прислали на место проворовавшегося предшественника и поставили чиновником по особым поручениям над несколькими частями, включая Сущевку, K. скрипел зубами, писал-сжигал заявления то об отставке, то о переводе. Тогда он и видеть-то «новое лицо (харю, по замечаниям) из Петербурга» не желал, потому что сам метил на это место, думал – повысят. Потом увидел. И даже если бы не прискорбные обстоятельства, открывшиеся в первую же встречу, K. уже вряд ли покусился бы на столь вожделенную должность. R. часто заседал здесь, по соседству, и все жалобы, наветы и посягательства, которые сыпались на него из рога изобилия московской преступности, были хорошо заметны. Так навьючишься – вовсе для себя не поживешь, если не умеешь работать спустя рукава. К. не умел, а пожить хотел, и было чем. Остался подчиненным. По другой уже причине стискивал иногда зубы в тщетной надежде перетереть меж ними непроизносимое и неотступное. Обстоятельства. Их, проклятые.
– Скоро я пойду, – повторил он, взял бумаги и небрежно закинул в ящик, демонстрируя свой праздношатайный настрой.
– Невеста забудет, как ты выглядишь. – R. все же слабо улыбнулся; шрам, похожий на летящую птицу, дрогнул; глаза блеснули в темноте. – К ним ведь сегодня?..
– Надеюсь, что так. – K. тоже улыбнулся, как смог, и спросил то, о чем в принципе догадывался. – А вы что же, где празднуете?..
– Дома. – R. лениво качнулся с носков на пятки, точно падающая статуя; оперся длинной ладонью о дверной косяк; пошевелил пальцами, словно изумляясь, что они-то все же не каменные, движутся. – Один. Буду спать.
Семьи у него не было; к барышням он интереса не проявлял, сколько бы хозяйки балов ни подталкивали к нему в очередной вечер робеющих дочерей. Куда больше этого завидного жениха тянуло к ровесницам и особам старше, преимущественно вдовам, но и с ними он чаще углублялся в пространные беседы о политике и нравах, чем в пустой звонкий флирт. О нем со смесью недоумения, неодобрения и уважения говорили: мол, он спешит себя состарить – или уже состарился де факто, документы и имя ненастоящие, ну а моложавой внешности он достигает при помощи волшебных карлсбадских или тифлисских ванн. Так или иначе, хотя до балов, особенно полицмейстерских и литературных, R. был довольно большой охотник, обществами совсем легкомысленными он пренебрегал, не находя радости ни в игристом, ни в трепетных нимфах на выданье.
Сон в Рождественскую ночь в холостяцкой квартире на Неглинном проезде R., конечно, заслужил: поработал он в этом году на совесть; благодаря ему-то показатели и выправились, сгладились давние взяточные скандалы. Всех надзирателей он непреклонно проверял на честность; сыщиков и агентов перед наймом экзаменовал сам и с изощрением испытывал боем; раненых же при исполнении выхаживал на собственные средства, дабы не только выжили, но и сочли радостью и долгом вернуться на службу. Оно и верно: хороших подчиненных легче растить и холить, чем раз за разом искать заново, да и на душе так меньше вины. K. не раз замечал, как две несовместные вещи – прагматизм и сердечность – уживаются в этом сложном человеке, то мягком и предупредительном, то стремительно отступающем за завесу угрюмого тумана.
– А к нам… – Он запнулся, даже почувствовал, что краснеет, торопливо поправился: – К ним, к L., не хотите? Нелли, может, опять будет читать Байрона и Вийона в своих переводах; в прошлый раз вам, кажется, понравилось…
– …и прищеголяет вновь в мужском костюме? – R. уже не улыбался, но глядел так же тепло, лукаво. – Заметили, кстати, эту тенденцию? Столько появляется разных странных модников; никого уже не удивишь перьями на шляпе или открытой грудью, а вот высокие сапоги, сюртуки на девицах, красные парики или, к примеру…
Он запнулся; взгляд вмиг заволокся тучей. Голова склонилась к плечу, мраморно-белый лоб рассекли трещины. Пальцы еще раз проскребли задумчиво по дверному откосу, затем рука упала. R. помедлил, пожевал сероватые губы и, тихо вздохнув, бросил только:
– В общем, нет, наверное, Иван. На венчание, как решитесь, обязательно зови, и я приду. Да и в праздники, думаю, где-то увидимся; вы же, как я помню, тоже любите каток на Патриарших. Но сегодня едва ли, устал…
«Его не будет, – захотелось выпалить как можно скорее. – Никого не будет; не тревожьтесь; у них-то свой какой-нибудь бал». Но K. сказал лишь:
– Очень жаль. Но могу понять. На Патриаршие или в Зоосад, да, пойдем кататься…
Разумеется, у них будет свой бал, с каким-нибудь своим вольным переводчиком стихов, а может, и со, что называется, слоном напоказ – приглашенным писателем вроде молодого колкого Чехонте, как недавно. Граф будет звучно хохотать в обрамлении молодежи и жадно глядеть в оживленные лица, шутя, что глазами пьет освежающую кровь. Графиня – ходить как тень, задумчиво кивая каждому гостю и изредка позволяя себе нервную улыбку, полную предчувствия бури. Lize будет задирать нос-пуговку и делать вид, что ей дела нет ни до пустой бальной книжки, ни до прочих девиц, наслаждающихся фруктами и шампанским и смеющихся над крючковатой ее спиной. А он… вероятно, он вновь явится в таком облике. Костюмы его строго скроены, но пестрят узорами цыганских платков; черные кудри разделены пробором, но отросли до середины шеи; в ушах звенит золото – кольца, треугольники, монеты. Говорят, в нем играет дурная кровь; говорят, скоро это во что-нибудь выльется; говорят, жаль, ведь он – жгучий, медово-смуглый, с теплым бархатом голоса – потрясал бы свет в лучшем смысле, блистал бы, будоражил… если бы не вечный кровавый узор под манжетами, не сумрачные улыбки, не руки, в нервном омерзении отдергиваемые от любого почти касания.
Говорят.
Как найти мужество увидеть и еще чуть больше – спросить?
«Как вы? И для чего басмановщина-бесовщина, не от серой ли пустоты внутри?»
– Что же. Отчалю. – Но сначала R., наоборот, прошел в несколько размашистых шагов к столу и торжественно, с легким стуком водрузил на него бутылку. – Не скучай, Иван. Не засиживайся. И не иди к милой и к ее родителю с пустыми руками. От меня можешь передать всем им теплый привет. С Рождеством Христовым.
– С Рождеством.
Лицо захотелось спрятать в ладонях, отстраниться, лишь бы не глядели так ясно и по-доброму. Выражение вязалось с отвердевшими чертами и шрамом тяжелее, чем сутулость с офицерской осанкой.
R. кивнул, беглым движением пятерни зачесал назад волосы, устремившиеся было на покатый лоб, распрямился и вышел, не сказав более ни слова.
Не прошло и пяти минут, как K. зажег ту самую свечу на подоконнике. Постоял, посидел, а потом и лег грудью на стол, прижав к сомкнутым рукам пылающий лоб и проглотив немного злых, отчаянных слез.
«Светлые мысли летят на свет. Нужны они тебе – просто зажги свечу».
Зажги свечу, Ваня. Знай мать, что он зовет, кроме мыслей, – осудила бы, а может, и посмеялась: таки не крестьянка, не купчиха, особа из благородного пансиона, просвещенная и рациональная. Сказала бы: «Так то Бог, Вань, Он есть, а это…»
А этого всего не бывает. Еще немного – и он придет в себя. Задует пламя, пойдет домой переодеваться, быстренько схватит экипаж, ну а до Дмитровки недалеко. Там все хорошо, только нужно будет улыбаться, и ничего не выдавать, и на любой упрек в угрюмости прижиматься губами к прохладной щеке: «Ничего, Нелли, трудный день, сама знаешь. Вот пустят женщин в полицию, поработаешь с мое, тогда и будешь меня…»
Мысли были не светлыми, а тяжелыми, возились в мозгу, точно толстые свиньи в слишком мелкой луже. Но лицо обсыхало от слез, тело расслаблялось, разжималась понемногу и хватка на сердце. K. засыпал, и, как ни пытался сам себя разбудить, напомнить о бале и о костюме, вроде бы неглаженом, – все это более не казалось важным, да что там – даже и настоящим, так, сон над снежным оврагом…
Свеча задрожала. Окно распахнулось: его с силой толкнул ветер. Костлявой рукой огарок подхватили, точно сорванный в снегу цветок, и понесли к столу.
Совиный дом
10 лет назад
Дом – сливочно-белое подражание веронским палаццо – стоял в самом начале Каретного, в густой зелени лип и кленов. Стерегли его совы: грозные птицы поглядывали вниз с фасада, обнимали когтями высокие окна, расправляли крылья, точно силясь ими соприкоснуться и замкнуть особняк в зачарованный круг. В них часто всматривались с улицы, любопытные подходили и к воротам, чтобы увидеть получше. Совы ведь не девы-нимфы, не амуры и не пошлые Прометей с Гераклом. Белоснежные существа эти, вырезанные из камня с необычайной детальной искусностью, одним видом говорили: люди в доме обитают тоже незаурядные.
Граф и графиня D. жили словно супружеская чета, хотя четой не были. Связывало их нечто более глубинное и мистическое; напоминали они двуглавое односердечное создание, единое взглядами и помыслами. Волоокие, стройные, статные, они были близнецы – причем того загадочного подвида, который срастается в материнской утробе. После рождения пришлось разрубать их ударом ножа, стиснутого в суеверно дрожащей докторской руке. Но даже разрубленные, выросшие, разъехавшиеся по разным губерниям, они словно никуда друг от друга не девались и обречены были рано или поздно соединиться. Овдовели в один год: возлюбленный идальго графини погиб, спасая лошадей из горящей конюшни, а ангел-панночка, жена графа, из-за малокровия не вынесла родов. Вместе граф и графиня вернулись в семейное гнездо – почерневшие от горя, находящие тусклые улыбки лишь друг для друга. У графа осталась хотя бы дочь, крошка Lize – белокурая, хорошенькая лицом, вся в мать, только вот чахлая и вдобавок горбунья. У графини и такой отдушины не было, не успелось. «Бедная» – иначе ее не называли, как ни была она богата. Говорили, еще чуть-чуть – и горемычная наложит на себя руки.
Все изменил случай в одно светлое Рождество. В тот день, самолично приехав с пожертвованиями в любимую Троицу в Листах, графиня обнаружила на задворках ее, в обледенелом закутке внутреннего двора, цыганку. Несчастная к тому времени совсем закоченела и умерла, но на руках ее возился спеленутый в несколько шалей мальчик, едва года от роду. Смуглый, чернявый, он строго поглядел на склонившуюся графиню, а потом вдруг улыбнулся – и все было решено. Она выхватила ребенка из мертвых рук, понесла прочь, забыв о молитве, и увезла, чувствуя себя истинной преступницей. Впрочем, мальчика не хватились. Граф, пользуясь членством в благотворительных обществах, споро состряпал документы, подмазал формальности – и цыганенок стал законным сыном графини. Поддерживая скандальный поступок сестры, любящий брат, конечно, хватался за соломинку. И знал, что делал: ребенок спас ее раненое сердце так же, как Lize спасла сердце отца. Разъезжаться близнецы уже не стали; дом постепенно ожил и засверкал. D. полюбили гостей; все обустроили, украсили – и зажили, веселее с каждым годом.
Об их семейных превратностях говорили на удивление мало, сплетня о цыганенке быстро потеряла пикантную свежесть и перешла в разряд обыденности – возможно, из-за удивительного сходства приемыша с матерью и дядей. Подрастая, мальчик словно брал от графини и графа все больше знакомых их друзьям черт, внешних и внутренних. Как и граф, он был любопытен до наук; как и графиня – нежен и мягок. Его тянуло ко всему живому: цветам, голубям, приблудным котам и собакам, которым графиня позволяла жить в саду, а зимой – греться в летнем домике. Такой она была натурой, привечала всех: зверей, сирот, друзей покойного мужа. Тепло у нее находили и всевозможные голодные студенты, особенно – дети давних пансионных подруг.
Одним из таких и был Иван. Мать его жила в обнищавшем имении в Твери, а он изучал в Москве законы, рьяно мечтая о какой-нибудь – не обязательно, впрочем, юридической – карьере. Позорно беден он не был; сносно содержал себя; мыслить не мыслил о странных способах поправить положение, например стукнув топором чистенькую злобную старушонку. И все же в дом на Каретном, под совиную сень, он захаживал часто, каждые несколько дней, и, конечно, не пренебрегал приглашениями на вечера и балы, ставшие со временем регулярными. Иван тосковал по матери и по самому этому чувству, которое будят в одиноком юноше светлое жилище, улыбка женщины и тарелка супа. Нравился ему и граф – знаток Платона, вин и искусств. Граф уже тогда рисовал изумительную графику, с которой позже блистал на вернисажах. Образы его удивляли: хрупкие нимфы, пойманные карандашной штриховкой; созданные единым чернильным росчерком эльфы с трогательно точеными ножками; набросанная углем Мария-Антуанетта – на эшафоте, в оголяющем ключицы рваном платье… Граф был фигурой во всех смыслах внушительной, а вот все, что он рисовал, – нежным, буквально эфемерным. Иван восхищался тогда еще потаенными работами: видел в них уязвимую, сокровенную грань широкой этой души.
Граф вечно окружал себя «сестриными приблудышами» – прогрессивными юношами и барышнями. Уже тогда он часто шутил, что глазами пьет их кровь, хотя не так чтобы нуждался в омоложении: ни болезни, ни облысение, ни даже брюшко – ничего ему не грозило; разве что смуглое лицо из-за богатой мимики не щадили морщины, особенно в углах пухлого, яркого рта. Ивана он из кружка выделил сразу – поначалу просто зацепился взглядом за ярко-рыжие волосы, но вскоре завел привычку беседовать с ним наедине, чаще всего о литературных новинках. Иван, в свою очередь, тянулся навстречу, настолько, что однажды – как раз когда граф ему одному показал рисунки – в ответ рассказал самый важный свой секрет. Граф тогда лишь щелкнул многозначительно языком, подмигнул и крутанул в пальцах большой медальон с портретом Диккенса – одну из многочисленных подвесок, которые носил на жилетной цепочке и под настроение менял. «Вот вы какая натура…» – пробормотал он и впоследствии к теме возвращался лишь раз-два, а потом деликатно забыл… До времени.
Вообще в Совином доме было много интересных лиц, как среди хозяев, так и среди прислуги. Последняя состояла из нескольких стариков, служивших еще деду и бабке D., и из целой ватаги их подросших детей. Смешливые горничные Оля и Танечка обхаживали графиню и читали с ней по ролям фривольные романы. Средних лет чета Сытопьяновых, оправдывая фамилию, готовила блюда как в Париже. Печальный лопоухий Саша воскрешал почившие еще во времена крестьянской реформы розы. Желчный Петуховский всеми командовал, вел часть семейных дел и выбивал долги из злоупотреблявших добротой. Брил, стриг, а в неопасных случаях и лечил всех бездомный студент Лигов, племянник покойной жены графа. Были и пухлый кучер-татарин, и сухая, как прошлогодняя свинушка, гувернантка Lize, и семейный портной Котов, тайно (как самому ему казалось) щеголявший по вечерам в недавно сшитых платьях, и прачка с задатками оперной певицы – в общем, слуг куда больше, чем господ, что Ивана всегда забавляло. И был человек, занимавший особое, достаточно непонятное положение.
Аркадий служил гувернером и одновременно учителем маленького D. по большинству предметов. Высокий и тонкий, с непропорциональными ладонями, он разделял длинные, почти до плеч, волосы на пробор и укладывал по моде молодого Листа. Когда он улыбался, нос его чуть морщился, а ходил он словно скользя водомеркой. Была у него и броская привычка поматывать головой, чтобы русые пряди не лезли вперед, – из-за длинной шеи, какую у женщин называют лебединой, движение выглядело особенно дурацким. Аркадию было двадцать два, но восемнадцатилетнему Ивану он казался вопиющим, возмутительным мальчишкой, не только внешне. Жизнелюбие и веселость, умение просто объяснить сложное, желание ухватить все на свете интересное, хоть по верхам, – все это делало его в глазах проницательного ласкового ребенка бесценным товарищем, а в глазах Ивана – чудаком. Одним своим существованием чудак этот, недавний студент, отказавшийся от юридической карьеры, рушил наивную Иванову убежденность в том, что двадцать с хвостиком – немалый срок жизни, недостижимая звезда, под светом которой он-то станет уже богат, сыт и известен, найдет и займет правильное место. А этот… ну какие двадцать два, думал Иван, наблюдая, как Аркадий вышагивает среди пестрых роз, а D. семенит рядом, слушая о Македонском и его любви к духа́м. Какие? Иван снисходительно усмехался, а юноша наигрывал мальчику «Песнь свободного человека», смешно и грозно склоняя голову на бетховенский манер. Какие? Эти двое то сражались на палочных мечах, то рисовали карту несуществующей страны, то лепили из глины Луну. Систему воспитания и обучения, которую Аркадий использовал, можно было назвать либеральной: он поощрял все, что нравилось мальчику, и мало к чему принуждал, а D. все равно делал успехи, вопреки убеждению, что цыганские дети от природы ненавидят учиться и не умеют сидеть на месте. D. довольно рано начал играть на фортепиано и петь, хотя голос его уже в детстве казался необычайно низковатым. Он, как и дядя, рисовал, но предпочитал яркие краски и экстравагантно украшал работы то сушеными цветами, то перьями, то камнями: чтоб было объемнее. Ему отлично давались языки, неплохо – естественные науки, чуть хуже – письмо на русском и счет. Графиня и граф были довольны, подход их удивлял, раз за разом они заводили разговоры вроде «А не возьмете ли вы и Lize, если мы станем платить больше?». Аркадий смущенно отказывался, поясняя, что склонности у всех разные, и каждому ребенку в идеале нужен индивидуальный педагог. Он трезво оценивал свои силы: Lize учиться не так чтобы любила, барышней была нервной, да вдобавок с наемными учителями, особенно мужчинами, ладила плохо. Не проходило и месяца, чтобы кому-нибудь не отказывали от дома из-за ее криков: «Вы что, смотрите на мой горб?» или «Вы дурак, я вас не понимаю!».
Юношу можно было бы обвинить в желании идти простым путем, но проницательные наблюдатели видели иное. Он отдавал мальчику все силы, и не только их. Связь меж ними казалась столь же крепкой, сколь меж графиней и графом; никому более ребенок так не доверял. Перед матерью и дядей он все хотел выглядеть получше, вызывать гордость, получать похвалы. Он утаивал от них многие горести, но обнажал перед учителем. К примеру, на балах, стыдясь жгучей, слишком необычной даже в этой южно-красивой семье внешности, D. прятался за него и вкладывал ладошку в его ладонь. «Они говорят, у меня кожа темная. И лицо неправильное…» Аркадий хмурился, но раз за разом повторял: «Да. Но вы не отличаетесь ничем, кроме… можно сказать, масти. Как лошади. Или кошки. И это ничего не значит, это уже поняли все умные люди», – а затем все же мягко выталкивал подопечного поиграть с детьми гостей. Наивное объяснение неизменно успокаивало D., заставляло повеселеть, – ну а другие мальчики и девочки, услышавшие про лошадей и кошек и точно загипнотизированные этими словами, подумать не могли не принять цыганенка в круг. Им тоже нравился чужой гувернер. Он нравился всем.
Секрет был прост: Аркадий словно становился ребенком, смеясь со своим подопечным, а ругая – давал понять, что видит в нем маленького взрослого, с которого и требует соответственно. Никогда не оставлял вопросы без ответов. Не закрывал глаза ни на одну его беду, даже самую маленькую. Юноша этот, светлый обликом и спокойный сердцем, был словно чудесный алебастровый рыцарь, у которого мальчик – не родной собственной матери, уголек в серебре – всегда мог найти защиту и участие. Как они, казалось, любили друг друга… и как эта любовь сожгла одного из них дотла.
2. Инквизитор
Сущевская полицейская часть
1887 год, 24 декабря, вечер
Белое блюдце, посреди которого сонно оплывал огарок, встало на стол с чеканным стуком – так же тихо, но явственно, как пожалованная R. коньячная бутылка. K. вздрогнул; его прошиб колкий озноб: точно побежали от корней волос к пальцам ног кусачие красные муравьи. С жалобным стоном «А? Что?..» он дернулся, вскинулся, разлепил ноющие веки. Над ним нависал желтолицый старик, озаренный льдистым потусторонним светом.
Гость был худ, как скелет, но статен; густые седины его бесконечно колыхались, точно кабинет полнился сквозняками. Багрово-золотые одежды, тоже колышущиеся, доходили до пят, но пола не касались – ведь высокий силуэт парил над паркетом на расстоянии примерно пальца. Именно эта деталь осушила горло K., пригвоздила к нёбу язык, согнала последнюю дрему с рассудка. Потерев кулаком щеку, он попытался сглотнуть. Выше рука не поднималась, даже в крестном знамении, – словно отсохла.
– Ты звал меня, слуга закона, – сказал старик.
Речь его была словно литая. Каждый звонкий согласный он неуловимо усиливал, из-за чего «з», «н», «л» и прочие звуки напоминали звенья цепи. Собственно цепи тоже имелись: одна, тяжелая и длинная, опоясывала одеяние, перекрестьем шла по груди. Крупный, мерцающий алмазами крест покоился на цепи потоньше – той, что в два нахлёста обвивала длинную сухощавую шею.
K. открыл рот, но из горла вылетел только хрип. То не был ужас, благоговение, неверие – потрясение, лишь оно. Шевеля губами, глядел он на старика, парившего все так же недвижно и – теперь это стало ощутимо – обдававшего уличным холодом. Нет, не уличным… сильнее. Он наполнял полости костей промозглым ветром; он покрывал столешницу – в местах, где старик только что положил ладони, – кружевом изморози. Кружево это было не цветочно-витиеватым, как рождественский лес на окнах, но тревожно-изломанным, как битое стекло. Колючий узор неумолимо ширился, множился, полз все ближе к рукам K. Только вокруг блюда со свечой золотился еще островок теплой полированной древесины.
– Да… – собравшись, произнес наконец K. и, вытянув дрогнувшую руку, поймал на пальцы несколько капель воска. – Да, я звал… наверное.
Воск из-под сáмого пламени обжег, кожу засаднило – но нужно было проверить. Боль окончательно убедила его: он не спит; и лед, и старик – все настоящее. Напоминало, по правде говоря, старую книжку, любимую у матери; и даже не одну книжку, а вообще все, что выходило из-под пера одного обожаемого ею англичанина. Но правильнее было ведь еще посмотреть, послушать. К. нервно про себя усмехнулся: изумительно, что получается строить логические цепочки и вообще хоть чуть-чуть думать в эту минуту, под этим взглядом, в глубине которого переливаются серебристые от лунного света проруби!.. Запавшие глаза старика блеснули ярче, а стол тихонько затрещал: лед вдруг уплотнился. Предостережение – «Не смей, не смей умничать пред моим ликом».
– Кто бы вы ни были, – пролепетал K., – я рад, что вы пришли. – Не зная зачем, он опять протянул руку, в этот раз навстречу. – Вы поможете в моей беде… правда?
Старик еще раз качнулся, с брезгливым выражением опустил взгляд на ладонь К. Пожатия не случилось, не случилось, впрочем, и удара – только ногти и плоть под ними ожгло все тем же колким льдом, и пришлось отдернуть руку, с шипением тряхнуть ею в воздухе. Краснота быстро спала. Старик засмеялся, тихо и скрипуче.
– Не упрямишься, – прошелестел он. – Не споришь. Не обороняешься. И сам зажег свечу. – Он убрал со стола ладони, спрятал за спину и вдруг, развернувшись, поплыл к стоящему в углу шкафу. – Мне это по душе, не то что прочие. Хорошо. – Он бегло, будто даже лукаво глянул через плечо. – Я – Дух Рождественского Правосудия. Мое орудие – Тайна. И сегодня я в твоем распоряжении. Но сначала…
Остановившись перед затворенными дверями шкафа, дух вытянул руку и погрузил прямо в правую деревянную створку, точно нож в масло. K. не представлял, что он там ищет, а спросить не решался. Шкаф предназначался для личных вещей, но сейчас там вроде не было почти ничего, кроме меховой накидки и шапки…
– Расскажи мне, зачем я тебе нужен, – продолжая неспешно что-то нащупывать, велел старик. Голова его опять повернулась к K. – В чем ты повинен, раз изменил обычным для смертных методам и убеждениям? В чем таком, что я услышал твой зов?
Под взглядом этим язык К. вновь прилип к нёбу. Во-первых, поворот вышел противоестественным, на добрый совиный полукруг; человеческая шея бы от такого хрустнула, сломалась. А во‑вторых, было очевидно: ответ духу, скорее всего, известен, а вопрос – лишь некая проверка. К. не стал медлить, не отвел глаз и, сложив на коленях руки, точно провинившийся ученик, произнес самое простое, правдивое:
– Десять лет назад я… кажется, предал нынешнего моего начальника, очень хорошего человека. – Неожиданно этого показалось мало, и слова посыпались сами, заскользили с губ, как стая щенков по льду. – Начальником мне он тогда не был, а человеком хорошим уже был, сильно другим, правда, нежели ныне, а я…
– Кажется? – перебил старик так вкрадчиво, будто дальнейшее было и вовсе прахом.
– Кажется, – повторил К., прислушался к собственной жалобной интонации, закусил губы. – То есть я почти уверен. Но уверен бездоказательно. Доказательства как раз говорят о другом, но… но… я сам не понимаю, хотя так хочу понять, поверьте…
Может, духа разозлила внезапная сбивчивость мыслей, а может, он просто проявил своеобразное милосердие – мало ли что свойственно подобным сущностям, да еще в святую ночь. Вторая ладонь его быстро, властно приподнялась:
– Хорошо. Довольно. Замолчи.
K. смолк одновременно с облегчением и с досадой. Слова, еще множество, кипели внутри, но он понимал: услышит их со стороны, в тишине, сейчас – и может не сдержаться: вскочит и, пробежав через кабинет, сиганет в окно. Срыв неумолимо близился уже год. С январского дня, когда R. впервые собрал новых подчиненных в нижней зале, представился, выслушал имена, должности и тут же – жалобы-предложения. В минуту, когда их с К. взгляды пересеклись, и R. бархатисто, дружелюбно спросил: «Ваше имя?», K. назвался с внутренней дрожью, готовый к чему угодно, – даже к тому, что новый чиновник по особым поручениям сдернет с пояса наградной пистолет и выстрелит ему в лоб. Не произошло ничего. Имя, жалобы-предложения, лицо K., его голос, манеры – всё просто приняли к сведению, кое-что обсудили, за кое-что похвалили. R. не вспомнил его; более того, на лице не отразилось и тени мучительно-провального припоминания. Они улыбнулись друг другу, и R. отвлекся на следующего человека. K. несколько месяцев ждал, когда вскроется ловкое притворство, когда новый начальник начнет мстить, планомерно руша его карьеру и жизнь. Подставит в деликатном политическом вопросе; напишет донос о выдуманных пытках или укрывательстве каторжников; подбросит компрометирующее письмецо или деньги; уведет невесту; просто застрелит на очередной из обожаемых обер-полицмейстером утиных охот… Но R. его не выделял, а если вдруг выделял, то в хорошем смысле: хвалил за показатели, передавал в подчинение лучшего сыщика, ищущего перевода, вступался за проштрафившихся по глупости агентов и выручал внедренных; советовался по сложным делам. Они не дружили – R. друзей вообще не заводил, – но подобных отношений с начальством у K. еще не складывалось. Прежний, суетливо-говорливый W., больше кричал, чем делал; цифры для кривых бессовестно подгонял, а если попадался, валил это на подчиненных; сквозь пальцы (и крайне благосклонно) посматривал на мзду. Он был хорошим отцом шестерых детей – может, в том числе поэтому расточать заботу людям вне семейного круга не жаждал. R. был полной его противоположностью: внимательный, вдобавок азартный до блестящих раскрытий. Вне сомнения, сегодня чиновник по особым, имеющий в подчинении пяток надзирателей, – а завтра, может, и полицмейстер. Показательно бодрый, но глубоко печальный в самой сути человек. И – ну что за горькая ирония! – Жан Вальжан, воистину, во плоти. Глядя на него, К. долго метался между двумя одинаково чудовищными чувствами: глубокой личной расположенностью, крепнущей внутри, и скользким жаверовским возмущением, расползающимся извне. Потом одно из чувств победило, но стало только сложнее.
Дух нашел искомое; в руке его, выпростанной из недр шкафа, что-то блеснуло. Он подлетел обратно к столу и… бесплотными пальцами коснулся бутылки коньяка. Пробку выдрал простым зверским движением, каким сворачивают шею гусю, обхватил горлышко и поднес к глазам. K. показалось даже, что сейчас суровый гость к коньяку приложится – а вдруг, неспроста же покойникам оставляют подношения на могилах, все эти яблоки и хлеб? Но нет. Второй рукой дух тихо поставил что-то на стол, точно меж K. и собой. Это оказалась старая стопка, наверное тоже прошлого хозяина кабинета, – дорогая, хрустальная, с толстыми резными стенками, но вся грязная.
Дух наклонил бутылку и наполнил стопку до краев. И тогда – почему-то лишь тогда – K. увидел: на дне свернулось огромное насекомое. Желто-черное полосатое тельце зримо дрожало под янтарной жидкостью, но к поверхности не поднималось, точно прилипло к хрусталю. Мертвая оса. Не пчела, не шмель – оса. Ну конечно же.
Стало муторно; лицо и уши, похоже, вспыхнули, но K. промолчал. Опустив голову, глядел он на стопку; лишь раз посмотрел в лицо призраку – и убедился, что тот все видит ясно; оса – не бесчеловечное совпадение. Старик вернул бутылку на стол, опять уперся в него ладонями, склонился и легонько дунул. Стопка, точно ее подтолкнули, проехала по льду к K. и замерла на краю столешницы с его стороны. Коньяк не выплеснулся через хрусталь, даже не дрогнул. Оса лежала все так же покойно и скрюченно, точно сжавшийся в испуге чудовищный младенец.
– Мне… пить. – Вопроса не получилось.
K. торопливо сглотнул, не дожидаясь кивка. Старик покачивался и светился, без сомнения зная: заставлять не придется.
– Ты сам воззвал ко мне, – только и произнес он; лицо его застыло. – Назад решил повернуть? Так уже не выйдет.
Не выйдет? Да что это? То был секундный порыв – выплеснуть коньяк на пол, вскочить, разразиться бранью и отпрянуть. В конце концов, не в таких масштабах он думал, зажигая свечу; в конце концов, ему обещали лишь светлые мысли, а дальше он сам, возможно, что-то себе намечтал. Ему не так чтобы не верилось в подобные силы, нет, но он не сомневался: чтобы призвать их, умения и душевный склад нужны иные, чаще свойственные диким женщинам, а не усталым полицейским. Что, если его, например, разыгрывают, как-то прознав всю постыдную подноготную? Если все – большая мистерия кого-то из родных Нелли, охочих до шуток в духе «Волшебной флейты» Моцарта? Или самого R.? И К. сейчас просто возьмет, да и выпьет коньяк с дохлым насекомым на дне? А то и придется эту осу проглотить? Желудок скрутило; горло сжалось сильнее; рассудок запротестовал, ища новые и новые белые нитки, которыми наверняка шит весь странный разговор, весь образ костлявого гостя… Но рука уже послушно тянулась к стопке. На ощупь стекло оказалось ледяным. Разум обреченно смолк.
В конце концов, разве это важно – подлинное объяснение? Он заслужил что кару свыше, что людскую месть. Он все заслужил – и, как видится, именно это, а не мистический дар и не свеча, помогло духу найти дорогу. Пятиться и открещиваться бессмысленно, все равно сам съест себя поедом, рано или поздно. Почему не начать прямо сейчас?
– Что ж, твое здоровье, призрак. – Не сдержавшись, он бросил легкую шпильку хотя бы парадоксальными этими словами. И опрокинул коньяк в себя.
Пожалуй, хорошо, что зажмурился: когда верхнюю губу пронзил укол, это потрясло меньше, чем если бы K. увидел, как оса воскресает, выползает из рюмки и впивается в него. И все же он вскрикнул, дернулся, пальцы разжались, и зазвенел разбитый хрусталь. Жужжания не было – только боль пульсировала раз за разом, точно оса продолжала жалить, ползая вокруг рта. Открыв глаза, K. машинально махнул рукой перед лицом, но никого не увидел; старик же начал дрожать, двоиться, расплываться. Потолок качнулся. Стены надвинулись, ноги подогнулись. K. уперся взмокшими ладонями в стол, с отвращением и ужасом ощутил, как они примерзают к ледяным узорам, но сделать ничего уже не смог.
– Что ты дал мне, дух? – прохрипел он, силясь овладеть хотя бы взглядом.
Руки жгло; стужа глодала их, вонзая искристые зубы до самых костей.
Старик, кажется, улыбнулся и приблизился. Пальцы его легли поверх ладоней K. и резко надавили. Дух словно пытался толкнуть стол, а может, и проломить им пол, сбросить на нижний этаж вместе с паркетинами, коньяком, свечой и K…
– Вольному воля, дорога дальняя, грешная душа, – шепнул он.
Стол провалился в черноту.
Совиный дом
10 лет назад
В те годы в огромном фаворе был один вольный корреспондент. Материалы его выходили в разных московских газетах, от «Русских ведомостей» до «Будильника», неизменно под псевдонимом Оса. Текстов этих жаждали; внезапно много читательских умов влек их благородный яд. Были в них новизна и наглая оголенность – не то что приевшийся, тяжеловесно-сладкий дым отечества. Осе, бестии, любую сладость на свете заменяла горчайшая тема – домашние страдальцы: избитые, запертые в холодных сенях, растленные, заморенные, проигранные в карты… женщины, а лучше дети, дети – их муки особенно раззадоривали беспощадного писаку.
Жало его разило. Оса сполна оправдывал кличку, неприкрыто мнил себя новым Иваном Карамазовым, но не тепличным рефлексирующим интеллигентом Достоевского, а могучим борцом, нещадным ко всякой похотливой, твердолобой сволочи. Недели не проходило, чтоб Оса, что-нибудь где-нибудь нарыв, не раздул фельетон, или памфлет, или хоть заметку. Кусал он не страшась: домостроевцев всех сословий, полицию, попов, чиновников – тех, кто мучил, и тех, кто мучения спускал. Бывал от материалов настоящий шум, вмешивались опека и суды, пару раз лично государыня. Чем ярче разгорался скандал, тем выше были и шансы на справедливость в том или ином виде. Закрывались голодные дома призрения, слетали с постов начальники-растлители, женщины нападали на обидчиков и восстанавливались в правах. Осе было чем гордиться, а вот поражений он не знал; никто никогда не прививал его от заразы мессианства. И конечно же, он, вездесущий, невидимый и необходимый, не остался в стороне, когда в доме на Каретном пошли те самые чудовищные разговоры.
Начала их Lize. Она обладала чутким слухом и любопытным носом; страдала бессонницей, но лечиться чем-либо, кроме молока с медом, отказывалась. Вечерами ее частенько можно было поймать в кухне: она вертелась подле служанки, варившей младшему D. шоколад, и выпрашивала в дополнение к меду пенки. Сладкое – шоколадные эти пенки, пломбиры, суфле, марципаны, леденцы – вообще было радостью ее сердечка в любое время суток, может, поэтому она так плохо и спала, в отличие от брата, позволявшего себе одну чашку шоколада вечером и никаких лакомств днем. Уже тогда это портило ей кожу и зубы, сводило на нет крохи красоты, которые достались от матери… Но в тот раз любовь ее к сластям оказалась обстоятельством ценным. Ведь трудно сказать, чем могло бы все обернуться при ином раскладе.
Спальня Lize была рядом с комнатой D. Вплотную. Она-то первой и упомянула, что в некоторые ночи слышит через стенку странные стоны и крики; что там порой подолгу стучат, скрипят… на кровати скачут? D. только-только исполнилось десять. Lize, будучи старше всего на два года, природы звуков могла не понимать, но вскоре и слуги кое-что услышали. Они, впрочем, тоже поначалу не думали о чем-то скверном и проверять не проверяли: мальчик неизменно запирался на ключ, а если его звали, если начинали стучать в дверь и выспрашивать о шуме, отвечал, что видел кошмар, и только. Недетская его черта – отвращение к капризам, нежелание кому-то лишний раз помешать – и здесь, видимо, давала о себе знать. Впрочем, дело было не в ней одной.
К завтраку D. выходил разбитым, хуже в такие дни занимался, беспокойно ерзал, порой прихрамывал… Но домашние верили в сны – пока однажды мальчик не вышел с синяками на запястьях и шее. Огромные, черные, они напоминали следы рук и ничем другим быть не могли. Тогда же прачка пригляделась наконец к его постельному белью, вместо того чтобы по обыкновению небрежно бросить в стирку, – и нашла на простынях вполне понятные следы да вдобавок немного крови. С ее-то крика, полного ужаса: «Барин! Барин!» – в Совином доме все и переменилось.
Если бы D. мог на кого-то указать! Но как к нему ни подступались, он твердил одно – об огромном Василиске, во сне являющемся из темноты. Василиск неизменно вжимал его в постель, терзал, душил, а в конце оставлял лежать в горячей слизи и уползал сквозь дверь с тихим шипением и скрежетом. Целый месяц подобных «снов». Месяц, в который все были «слепы как кроты и глухи, как этот ваш Бетховен» – ревел граф, грозясь вышвырнуть всю прислугу не глядя. Простоватый, добродушный, на все прежде глядевший сквозь калейдоскоп жизнелюбия, он пришел тогда в истеричное неистовство: сестра с детства оберегалась им как сокровище, и воинственная медвежья защита эта распространялась на всякий дорогой ей предмет, мысль, тем более – ее сына. Сама же графиня не кричала – только глядела так, что лучше бы бранилась. Темные глаза ее были что у оленихи с развороченным животом.
В доме подобного не случалось; чистым и благонравным он был не только снаружи. Слуги давние, гости приличные – да они почти и не оставались с ночевкой. Кого подозревать? Как проверять? Все, разумеется, клялись в невиновности; кто-то говорил и об алиби, дескать, в такую-то ночь уезжал, в такую – пил снотворное, в такую – мучился животом. Был и другой вариант, менее для обитателей дома оскорбительный, но столь же тревожный, – что посторонний влезал, например, в окно.
Он неспроста появился: незадолго до первого «сна» мальчика возле Троицы в Листах окружила ватага пестрых цыган, стала хватать за руки, загалдела, пугая, – кучер еле разогнал. Жилистые чернявые молодчики позже мелькали и у дома, один мужчина, притащивший патлатого остроносого мальчишку лет двенадцати, вваливался в ворота и требовал хозяйку, но в конце концов всех отвадили. Надежно ли? И не из-за цыганской ли ворожбы D. все твердил о Василиске, не о людях? Впрочем, следов вторжения не обнаруживалось. Да и чтобы месяц кто-то, хоть самый ловкий хитровский вор, пробирался в дом ночами?.. Граф жил мирно, охраны, конечно, не держал, даже собак. Но не вытоптать ни разу клумбу, не сломать пару роз или побег плюща, не оставить на паркете грязных следов? Разве возможно?
Доискиваться было сложно; полицию привлекать – разговоров же не оберешься! Мальчика обезопасили, но сделала это графиня на дикий материнский манер: уперлась, что, пока не найдут виновного, будет ночевать на софе в детской, и не просто ночевать, а держа подле себя коробку с дуэльными пистолетами графа. И обещание свое исполнила.
Цыгане к тому времени пропали, версия о них как-то забылась, а вот потрясения не сгладились. Графиня упорствовала: не могло все быть так просто. Фараоново племя дико и хитро, но учинить подобное? Они скорее украли бы мальчика и Lize заодно, обворовали бы дом, в конце концов, навели бы какое проклятье – а может, и навели, раз все у семьи так разладилось. Но Василиск, считала она, не цыганского племени. Василиск все еще здесь, затаился близко, она чувствует. Тяжелые были слова… но многие в доме, особенно женщины и чувствительный, ранимый Котов, ее поддержали.
Исподволь, не сразу, мысли домочадцев приняли новое, пренеприятнейшее направление. Задали вопрос: «Кто у нас самый новый?» Спросил благоразумный Петуховский, тут же, впрочем, оговорившись, что «Это, конечно, ничего не значит-с, просто примем к сведению на всякий случай». Вспомнили быстро: последним взяли гувернера для D. И хотя никто этот факт не прокомментировал, Совиный дом погрузился в еще более тревожную задумчивость. Тут все дружили, с таким облегчением начали думать на цыган… и вдруг опять ищи змею не в траве, а на груди?
Аркадий на момент найма не имел рекомендательных писем, кроме как от университетских профессоров, давних знакомых графа. D. был первым его подопечным, место в доме – подработкой, но, окончив курс, он не подал в отставку. Объяснял это привязанностью к ребенку и охлаждением к стезе: как раз в месяц его выпуска по стране прогремело несколько позорных вердиктов – вроде дела Карауловых, где на каторгу отправился тот из наследников имения, кто отца явно не убивал. Но в свете ужасного происшествия невинные слова заиграли подтекстами: даже Иван их запомнил, хотя значения поначалу не придал. По его мнению, подкопаться надуманно можно было к половине слуг. К Котову – любителю платьев. К Лигову – ценителю разнузданных писулек де Сада и да Понте. Или к самому Ивану – он периодически в доме все же ночевал и знал планировку. Компрометирующее обстоятельство, например умение ловко лазать по деревьям, нашлось бы и у него.
Три года – все же немалый срок, а именно столько Аркадий прожил в доме без единого нарекания, да и рекомендовавших его профессоров граф уважал. Хотя отношения его со всем окружением охладились, обвинений он, разумеется, не предъявлял, заверяя: «Грязь лить – не платье отстирывать». Остальные домашние юношу обожали, при малейшем сомнительном намеке за него вступались. Волос не стрижет? Дело вкуса. Разговоры вольные? Такая сейчас вся молодежь! В тюрьме не был, приводов не имел, с нигилистами не путался, родители образцовые, среднего класса… Так что против него не было никакой вражеской коалиции, во всяком случае, не более, чем против кого-либо еще.
Одно обстоятельство все переменило: Lize мялась-мялась, да и сболтнула, что в недавнюю ночь – буквально за одну до той, когда брату оставили синяки, – кое-что видела. Тогда она, опять мучаясь бессонницей, подсматривала в замочную скважину: думала застать что-нибудь интересное, например, как Танечка и Котов в платье опять станут целоваться в коридоре… Но вместо них появился Аркадий. Он постоял немного, осматриваясь и прислушиваясь, а потом открыл дверь мальчика ключом и вошел. Когда вышел, Lize не знала – все-таки уснула, ведь значения случившемуся она не придала. Подумала: может, его что встревожило? А может, его позвали, а она не слышала? Тетка напустилась на нее: «Что же ты молчала?», но за растерявшуюся малышку вступился отец: «Глупая потому что, но честная, напраслину возводить не хотела, мое яблочко… Так, ангелок?» Lize закивала и прижалась сначала к нему, а потом к графине, лепеча: «Простите, простите…» – и шмыгая носом. Никто больше не стал ее допытывать.
На совет позвали почти всех, но бедный Аркадий ни о чем не подозревал. И ему, конечно, сильно повредило то, как он обмер, как заметался взглядом, услышав обвинения, точнее, поначалу вопросы графа:
– Что вы там делали ночью, у моего племянника? А ключ у вас откуда? Мне не говорили, что вы его брали.
Все это звучало пока мягко, но юноша долго, слишком долго не мог найти слов. На него многие теперь глядели с испугом и удивлением, а он забился в угол софы как громом пораженный. Лоб вспотел, глаза округлились. Он мотнул головой, но как-то неправильно, и волосы упали не назад, а вперед – сальные, неопрятные. Наконец, убрав их дрожащими руками за уши, он ответил одно-единственное, коротко и нервно:
– Ничего, ваше сиятельство. Хотел проверить мальчика, опасался за него, вот и вспомнил, что сделал когда-то свой ключ…
Сделал ключ! Графиня ахнула и упала без чувств – видимо, долгое напряжение и плохой сон помогли ей дорисовать не одно страшное продолжение простых слов. Все засуетились и загомонили, но Лигов подхватился, скорее унес ее в гостиную, стал настежь открывать там окна. Граф, выбитый и признанием, и обмороком из колеи и, видимо, напуганный, подскочил, грузно опустился на софу рядом с гувернером, сгреб его за ворот и разразился длинной, сбивчивой тирадой.
– Проверили? ПРОВЕРИЛИ? – заходился он, все бледнея, как если бы надолго задержал дыхание. – Почему не сказали? И какого же черта вы его сделали, кто вам дозволил, зачем?.. Не думали вы, что именно у вас этот ключ и крадут? С кем вы якшаетесь, с кем?!
Аркадий лишь загипнотизированно уставился на его перекошенный рот. Слова потрясли его, и он никак не мог осмыслить их подтекст.
– Я… ни с кем… на случай, если какая-то беда… – прошелестел он наконец и затравленно огляделся. Слуги смотрели на него, но все старались не столкнуться прямыми взглядами; сидели, почти одинаково вжав в плечи головы и комкая рукава или складки одежды на коленях. – Простите…
О, как это было жалко, как запоздало. Граф оскалился, криво усмехнулся:
– Ну вот и беда… А не вы ли наша беда, сударь, нет?.. Будь это все хиханьки, спросил бы: а от моего стола, от сестрицыной спальни ключи у вас имеются-с?
Казалось, он готов схватить жертву и за горло, и, пожалуй, ему хватило бы одного захвата для удушения. Его крупно трясло, пальцы скрючились. Но Аркадий к тому мгновению себя как-то переборол, более того, задетый, он одновременно и вспыхнул злым румянцем, и посерел. Скверно дышалось, видимо, уже и ему.
– Вам ли не знать, что нет. И тем более что я… я никогда не тронул бы его ни в каком из смыслов, – сказал он неожиданно тихо, но ровно, не пытаясь освободиться. – Будь это в моей власти, я никому не позволил бы его тронуть… – Он помедлил, приподнял подбородок, и незнакомый огонь сверкнул в его мягких глазах. – Более того, если только смогу, я своими руками убью того, кто сотворил это.
Все ахнули от этого апломба, казавшегося полным искренности и боли. Повисла тишина.
– Так вам известно что-то? – Граф даже перестал рычать, но глухой голос его зазвучал еще более угрожающе. Звериные глаза тоже блеснули, хрустнули пальцы. – Вам есть на кого указать? – Тут он чуть смягчился, перешел на шепот: – Так мы слушаем-с, мы для того и здесь, попробуйте… За ложь удавлю, за правду расцелую.
Оля, Танечка и Котов тихонько взвизгнули от страха. В молчании Аркадий глядел на графа несколько мгновений, а тот – на него, и терпение его таяло на глазах.
– Ну же… – Вернулась горькая злоба, но тоже истаяла, сменилась ледяной гадливостью. – Что молчите? Поборитесь за себя или покайтесь, хоть что-то.
Во взгляде графа читалось одно желание – использовав глаза как крючья, вынуть душу вместе с правдой. Сжимались кулаки. Тряслись губы. Саша, Сытопьянов и Петуховский наблюдали сцену все с большей тревогой, привстав с мест: подозревали, что вот-вот придется предотвращать смертоубийство.
– НУ! – Граф снова рыкнул, так, что многие вздрогнули. – О семье-то подумайте… не об этой, так о своей.
И Аркадий сдался, опустил голову; лицо его вновь занавесили волосы. Последние слова он произнес почти неслышно, но их словно разнесло призрачное эхо:
– Мне нечего сказать. Я знаю одно: этот человек будет гореть в аду.
Граф выругался, оттолкнул его в угол софы и прошипел:
– Змеюка! – Рука метнулась к груди, затеребила жилетную цепочку, на которой сегодня висели лишь прадедовы наградные часы с рубиновой крышкой. – Сволочь…
Не выдержав, он вскочил и, хлопнув дверью, ринулся в гостиную – проверять сестру. Прочие, поняв, что совет окончен, тоже начали расходиться – только Аркадий сидел, сжавшись, уставившись в пол и держась за грудь. Ушли все быстро, стараясь даже ртов не раскрывать – точно он враз стал прокаженным, чье рваное дыхание заразно.
Дальше все разговоры были только о нем и о графе; о ключе и неозвученном признании. В доме становилось все душнее, гаже. Графине понадобился вдобавок к Лигову настоящий доктор: лихорадка ее угрожающе разрослась. Мальчика же изолировали, вообще запретили ему выходить из комнаты одному, отдали его под строгий надзор гувернантки Lize. Но больше в тот день ничего не произошло. Все только начиналось.
Ивана на совет не позвали, но он там был – слушал из коридора, смотрел в замочную скважину. У этого шпионажа в духе Lize имелся умысел: нужно было все увидеть в красках, и как можно более сочных. Граф лично позволил это Ивану, еще когда пошли первые разговоры. Теперь Иван был потрясен. Какой отвратительный скандал, да еще ключ… ключ! В доме и так был запасной комплект, хранился у управляющего, проблем с доступом к нему не имелось. Так зачем? Всеобщее подозрительное настроение – особенно сумеречный, отчаянный гнев графа – заразило Ивана. Остаток дня он не находил себе места. Вечером они с графом встретились в кабинете и недолго поговорили.
– Он же не признается, потому что знает: доказательств, кроме слов Lize, нет, а ключ сам по себе маловато значит, – пробормотал граф, тяжело вздохнув и залпом опрокинув бокал вина. – Гадина… с этими его сладкими речами и либеральством вопиющим…
– Мальчик-то что говорит? – спросил Иван, который к вину почти не притронулся.
– Ничего. – Граф весь сморщился, точно нежнейшее бургундское горчило. Глаза его блестели так же лихорадочно, как днем, и казались влажными. – Не помнит он, чтобы к нему ходили… чтобы хоть кто-то, кроме этого Василиска. Опаивали его чем-то в эти ночи. Уверен, опаивали, вот он до конца и не соображал, что происходило… а этот-то вечно снотворное у Лигова брал! Снотво-о-р-рное. Говорил, мозги пухнут от учебы!
– Может, правда пухли… – Это состояние Иван, как всякий усердный студент, понять мог.
Но продолжать не стал. С чего, если Аркадий не нравился ему или, вернее, был не особенно понятен; такие головы… в таких головах, умных, гордых да тихих, никогда не поймешь, что происходит, ангелы поют или демоны пляшут.
– Может. Или что другое, да только не хочу копаться, не хочу, не…
Граф запнулся и яростно двинул бокал в сторону, едва не сбросив с кофейного столика. Схватил перьевую ручку, встряхнул с силой, принялся нетвердо вырисовывать то ли эльфа, то ли фею на обрывке какого-то письма. Иван молча наблюдал за этим. Линия рвалась, рисунок пачкался.
– Мы его выгоним, конечно, раз ему нечего сказать… – глухо продолжил наконец граф. – Только мало этого. Сколько их, таких детей, на свете, Ваня? Сколько? Гадюка… она же куда угодно заползет, в любой дом и в любую душу. – Он всплеснул могучими руками, возвел глаза к канделябру-венку под потолком. – Бабу нужно было нанимать, бабу… баба-то, пусть, скорее всего, будет нежная дура, но хоть не навредит.
Он казался осунувшимся и бессильным; даже в волосах сильнее проступило серебро. Иван молчал; ему было очень жаль и графа, и графиню, метавшуюся в горячке третий час, и D., и всех мальчишек, которым могло выпасть на долю подобное. Могло не выпасть, но… ключ? И вечные эти «обнять», «взять за руку», «склониться к самому уху»… от матери и дяди D. не получал столько ласки. Не было в том ничего хорошего. Как говаривал один из давних Ивановых приятелей, странствующий шулер и дуэлянт В.: «Больше касаешься – больше берешь власти. Над барышней, над собакой, над врагом».
Но Иван знал, как отблагодарить друзей за все прежнее добро и помочь им в нынешней беде. С кем связаться и что сделать. Не допивая вина, он пообещал, что все обязательно прояснится и наладится, попрощался и вышел в ночь.
То, что не исправить
На K. обрушились запахи: пригорающий пирог с капустой, дегтярное мыло, звонкий клубничный парфюм – и головокружительный шоколад с корицей. Не открыв еще глаз, не до конца очнувшись, К. придумал целую пьеску: как его нашла без чувств встревоженная долгим отсутствием Нелли; как перевезла к себе; как сорвался бал, и невеста – и, возможно, старшая L. – теперь хлопочут над ним, думая, что он умирает. Но микстурами, нюхательной солью и прочим таким не пахло, в нос все наглее забирался праздно-бытовой ароматный шлейф. Вдобавок К., судя по всему, не нежился на перине, а стоял на ногах, и кто-то жестко держал его повыше локтя. От этого кого-то тоже теперь тянулся престранный флер – помесь воска, пепла, роз и ладана. И по-прежнему веяло пронизывающим холодом, не сравнимым ни с каким декабрем.
– Дух… – прошептал, покоряясь, К. и поскорее открыл глаза.
Они оказались в кухне, и кухня эта легко вспомнилась: начищенная утварь всех форм и размеров, высокие посудные шкафы, красный резной буфет, необычный изразцовый узор на печке – молодой можжевельник. Потолок был высоким, окно – большим, но значения это не имело: на улице сгущался вечер, крася все в синь. Горело несколько ламп; самая большая красовалась на середине стола и превращала его в остров – старшего брата жалкого островка, созданного кабинетной свечой. Желтого сияния хватало на всю столешницу, где терлись боками три жестяные коробочки со специями, ажурная кофейная пара, молочник, молоточек, бронзовые щипчики-рыбки и сахарная голова.
– Ну дай, ну пожалуйста! – проканючил голосок. – Он все равно их не любит!
К. вздрогнул, поднял от стола взгляд и всмотрелся в теплый сумрак. Навстречу плыла осанистая красавица – мылом благоухала именно она. Косы ее обернуты были вокруг головы на баварский манер; рукава платья засучены по локти; на коже виднелись мучные следы. В одной слегка покрасневшей руке она несла блюдо с тем самым пирогом, у которого чуть обуглился правый бочок, в другой – турку, полную шоколада. К. узнал красавицу быстро и не поверил глазам. Агафья Сытопьянова, повариха D.! Ему не почудилось, кухня – их. К. испуганно отступил чуть вбок, впрочем, зря: женщина явно его не видела, пусть и смотрела в упор большими добрыми коровьими глазами в опушке соломенных ресниц.
Маленькая Lize трусила с поварихой рядом и помахивала десертной ложечкой, явно выуженной из буфета. Ложечку эту она то и дело пыталась запустить в турку, а Агафья уворачивалась, при каждом маневре рискуя подпрыгивающим пирогом.
– Барышня Лизавет Кирилльна! – загудела наконец она, грохнув обе посудины на стол и попытавшись своим дородным телом закрыть их от посягательств. – Ну как мальчишка! Хуже мальчишки! Братец ваш не балуется так…
– Отдай пенки! – страшным дурашливым тоном потребовала Lize, подлезая ей под локоть. – Он же не ест их! А они масляные такие, нежные! Чего им пропадать?
В эту минуту, раззадоренная вожделенной добычей, Lize не показалась К. такой невзрачно-болезненной, какой он видел ее прежде. Да, неровные плечи, выпирающий позвоночник, коротковатая гнутая шея… но блестящие глаза, качающаяся при каждом движении косичка, губы, которые то сердито надувались, то оживлялись лукавой улыбкой… может, свое дело делал мягкий свет; не зря ведь говорили, что лампы и свечи красят всех и при электричестве поубавилось в мире хорошеньких людей? К. улыбнулся, отвел глаза от борющейся за пенки парочки – и споткнулся взглядом о лицо призрака, наблюдавшего ту же сцену с брезгливым упреком. Определенно, старик ненавидел детей, или дородных поварих, или и тех и других. Впрочем, он уже зарекомендовал себя как особа, не жалующая весь свет. Какого умиления и тепла можно ждать от того, кто потчует ближних коньяком с мертвыми осами, да и в принципе от покойника?
– Для чего мы здесь? – спросил осторожно К., подумал, прикинул возраст Lize и уточнил: – Для чего мы… когда?
Дух, не разжимая губ, кивнул вперед – призвал смотреть и слушать дальше.
– Не в том ведь дело, что он не ест их, – проворчала Агафья, сосредоточенно обрезая погорельцу-пирогу пострадавший участок корочки. – А в том, что батюшка просит сладким вас поменьше баловать.
– Их тут капелька! – Ложка снова потянулась к шоколаду.
– Так чего и говорить? – Агафья ловко выудила воровское орудие из пальцев Lize, отложила и миролюбиво попросила: – Не шалите мне тут, наругают меня…
– Зато я тебя буду любить! – Lize обхватила необъятный ее стан и боднула лбом в плечо, потом снова засуетилась вокруг, неприметно пытаясь подобраться к ложке.
– Ой, лисица! – Агафья закатилась смехом, вздохнула и, покачав головой, отстранила девочку. – Ладно, завтра я вам их отдам, может, их и побольше выйдет…
– Но я хочу сегодня! – В возмущении Lize замахала кулаками. Чуть не сшибла чашку, пару раз махнула в опасной близости от турки, нежная ручка прошла над самым дымящимся шоколадом. – Завтра мне, может, чего другого захочется. Или ничего…
– Так уж! – фыркнула Агафья, подхватила пирог и зафланировала к подоконнику, конфисковав заодно ложку. – Вам каждый вечерок чего-нибудь да хочется…
– Ты что же, обижаешь меня? – тут же прицепилась к словам Lize, опять надулась. – Глупая… – Она взяла турку, поболтала, вздохнула с деланой печалью и принялась аккуратно переливать шоколад в кофейную пару. – Обжорой зовешь. А я вот помогаю тебе, смотри, как стараюсь, ни капли мимо или в рот. Могу даже и братцу отнести…
Перелив шоколад, она поставила турку на стол и с невиннейшей улыбкой спрятала руки в карманы домашнего платья.
– Нет уж, сама. – Агафья оставила пирог стыть, ухватила с ближней к окну полки поднос и с ним прошлепала на середину кухни. – Давайте-ка. И идите уже, идите…
Lize вздохнула еще раз, взяла чашку с блюдцем и, бережно прикрывая край ладонью, двинулась ей навстречу.
– Вре-едная… – тянула она разочарованно.
Агафья только опять хохотнула: будто из пушки выпалила.
– Не вреднее вас. Только вам замуж еще выходить, так что вредность поумерить бы!
Lize остановилась рядом, водрузила чашку на поднос и опять убрала руки в карманы.
– А меня не за характер любить будут, вот так! – Последовал неглубокий насмешливый книксен, а нос, наоборот, задрался.
– За что ж тогда? – хмыкнула Агафья, явно удивленная. – За красоту, что ли?
– И за нее, не сомневайся… – И Lize широко, светло заулыбалась.
Лампа затрещала, стала вдруг меркнуть, да и вокруг похолодало. К. посмотрел на духа, мрачного и неподвижного, а тот не сводил взгляда с двух силуэтов, становящихся все темнее. Масляный свет словно уходил в его глаза и там разгорался заново: зрачки пугающе пламенели, губы кривились, волосы колыхались так, что буквально окружали голову стылым белым нимбом. Ни дать ни взять чудовище, кровавый сгусток воплощенного страха, настоящий инквизитор из какой-нибудь Испании. Если бы повариха и барышня хоть на секунду увидели его, визг бы поднялся на весь дом. Звякнула цепь: замахнувшись, призрак ударил кулаком по столу, и, хотя ни один предмет не дрогнул, по сахарной голове пробежала свежая трещина. Даже сквозь время пробился необъяснимый испепеляющий гнев.
– Ты злишься?.. – опасливо спросил очевидное К. – Но почему?..
Тут же он раскаялся: призрак схватил его за плечи, дернул, развернул к себе, хотел, кажется, что-то сказать или даже рявкнуть – но лишь толкнул. Вроде легко, а будто котенка отшвырнул.
Поясницей К. врезался в стол – и с удивлением почувствовал боль. Прежде-то он сам себе казался бесплотным; стопы его, совсем как у духа, не касались половиц. Но по хребту точно врезали тупым топором; из глаз посыпались искры; посуда – будто К. вправду ее потревожил – закачалась, но, не упав, взмыла над столешницей. Движения предметов были замедленными или виделись такими. Пошарив по столу, К. что-то нащупал и машинально схватил – из-за нелепой мысли, что дух вот-вот нападет еще раз, решит с ним расправиться. Но дух витал на месте, скрестив на груди руки.
– Видишь, дурень? – только и спросил он, указывая на турку все с тем же отвращением, но уже спокойно. – Сюда, сюда смотри.
К. глянул на турку. На дне, в приторно пахнущей коричневой гуще, белели непонятные крошки, растворяющиеся прямо на глазах.
«Опаивали его чем-то… в эти ночи…»
Мир ожил – сперва закачался, а потом началось что-то вовсе немыслимое. Вся недавняя сцена: шоколад, ложка, объятье, пирог, само появление Агафьи и Lize – проигралась заново, но стремительно и задом наперед, так, что невозможно было выловить взглядом отдельных движений, а речь превратилась в комариный писк. К. замотал головой, выпустил турку, тут же зависшую в воздухе, – и вот уже осознал, что стоит не в три погибели у стола, а выпрямившись и снова рядом с призраком. Спина ныла. Агафья, копошащаяся у печи, осталась невнятным пятном, а вот Lize вновь стала четкой; свет заиграл в карамельной ее косице и быстрых глазах, цветом похожих на спелые вишни. Пальцы духа сжались еще более крепко, как-то предостерегающе, кольнули льдом. А потом Lize неестественно быстро – и опять спиной вперед! – пошла, явно к выходу из кухни. K. и призрака поволокло за ней с той же скоростью, точно течением.
Замелькал особняк, тоже задом наперед: кухонный коридор, холл, ступени, ступени, ступени, жилой коридор – и наконец беленая дверь, по-видимому, в комнату Lize. Здесь она остановилась; мир дрогнул еще раз, крутанулся как волчок – и «обратный ход» прекратился. Lize открыла дверь и вошла. Оглядела задумчиво светлые стены, солнечно-цветочные пейзажи, камин, застеленную серебристо-голубым покрывалом кровать – и заметила что-то на ней. Ахнула. Замерла. Нет, остолбенела, впившись взглядом в эту вещь.
К. заметил другое – за окном больше не было темно; солнце золотисто струилось сквозь нежный тюль. Ясно: сцена эта предшествовала «кухонной»; золоченые часы-зáмок на каминной полке говорили о том же. Конечно, это мог быть и следующий день… но чутье подсказывало, что кувыркания, лопотания, полет вещей указывают на некие выверты со временем, подвластные мрачному духу. К. поймал краем глаза поворот его головы – и повернулся сам, перехватывая взгляд. Старик холодно улыбнулся. Не сказал: «Ты прав», но до кивка снизошел.
Lize меж тем спешила к кровати. К. шагнул – проплыл – над полом вперед. Что ее так взбудоражило? Чего она ждала? Призрак не сделал и движения, но вновь возник за плечом ледяной глыбой, стоило только остановиться. От дыхания его – или дуновения? – зашевелились волосы на затылке и побежали по позвоночнику мурашки.
В руках Lize оказался конверт, надписанный ее же рукой: К. хорошо запоминал чужие почерки, помнил и этот. Мелкий, витиеватый, с непропорционально громадными заглавными еще более ажурного вида, он отпечатался в памяти, когда Lize подсунула «другу тетки, не чуждому литературы» почитать фрагмент своего недописанного романа – о приключениях молодой фрейлины, разумеется красавицы, сироты и желанного подарка для множества мужчин, включая Наполеона. Роман был, к слову, неплох, и К. вполне искренне его похвалил, но вскоре Lize все забросила: кто-то другой из значимых для нее «критиков» отозвался о тексте менее лестно.
Брови Lize сдвинулись, когда она сама узнала свои буквы. Губы поджались; некоторое время девочка явно сомневалась, лезть в конверт или нет, вертела его в руках, прощупывала. Он пах все тем же детским клубничным парфюмом – и вообще-то был уже вскрыт. Красное восковое сердце болталось, разломанное пополам.
– Господи, пожалуйста… – прошептала Lize, глубоко вздохнула и запустила в конверт дрожащие пальцы. – Пожалуйста, пожалуйста…
Трудно сказать, о чем она молилась, но явно не о том, чтобы вытащить на свет божий письмо, также написанное ее рукой. Сложенное вчетверо, оно пахло духами особенно остро; с ним выпала пара сухих цветков. К. попытался разобрать хоть строчку, но не успел – Lize тихо, как если бы порезалась бумагой, вскрикнула, потом зарычала и принялась быстро, яростно комкать письмо.
– Мерзкий, – прошипела она, крепко зажмурившись. – Мерзкий, мерзкий!
Конверт постигла та же судьба – К. не успел разобрать, например, кому послание предназначалось. Lize сжала оба комка в руках, посидела так какое-то время, кусая губы, потом поднялась и прошла к камину. Угли еле теплились, но она опустилась на колени, сама раздула их, выпачкав лицо в золе, – и швырнула бумагу во встрепенувшееся пламя.
– Мерзкий… – как заклинание, повторила она. Выпрямилась, развернулась к К., обтерла черные влажные щеки… и вдруг улыбнулась, точно осененная мыслью.
В эту минуту она вновь не походила на невзрачного ребенка, которого помнил К., – скорее на маленького чертика, о котором подумать «невзрачный», не то что сказать, – опасно. Но плечи и руки ее дрожали; губы тоже; улыбка раз за разом пыталась сползти с лица. Кто обидел ее? Чем? Похоже, у нее стащили тайное послание, прочли, а потом подбросили назад, давая понять, что секрет украден. «Мерзкий»… не брат ли? У этих двоих в детстве не было особо нежной дружбы; Lize знала: D. на самом деле существо чужое, ей не ровня. Он, в свою очередь, не навязывался ей, хотя и не пакостил так, как иные братья пакостят сестрам: не задирал, не ломал кукол, из-за горба не дразнил. Просто сторонился, видимо, гордая натура не давала заискивать и ластиться. И все же делить им было нечего – обоих окружали любовью и баловали, каждого по-своему. Так что с чего бы D. воровать письмо? Разве что они поссорились из-за чего-то?
Lize тем временем сделала странное. Снова подошла к камину, взяла кочергу и парой размашистых движений выгребла на пол кучу обугленной, мертвенно серой бумаги. Ее не волновали ни паркет, ни ковер: она козочкой прыгнула на пепел и затанцевала, закружилась – то на одной ноге, то на другой. Она плясала по рассыпчатому крошеву, яростно вдавливая его в ковровый ворс; платье в вышитый ромб шло колоколом, а коса извивалась, словно взбесившийся змееныш. Химера, настоящая химера… В лихорадочном движении К. почти не видел ее горба, зато отчетливо слышал стук сердца, точно стучала вся комната. Наконец Lize остановилась, словно у нее враз кончился завод, и резко опустила руки и голову. Засмеялась. Еще раз прошипела: «Мерзкий». Под ногами ее расползлось черное пятно. И мир тоже пустился в прежний муторный пляс.
Это перемещение показалось бесконечным; за окном несколько раз опустилось и взошло солнце, вспыхнули и погасли звезды. К. никуда не тащило, он оставался в той же комнате, ставшей, правда, мутной и тусклой, лишившейся хозяйки и огня. Дух маячил рядом, спокойный и сияющий. Пару раз, когда порывы неведомого ветра подхватывали К. и пытались отнести подальше, холодные пальцы ловили его за одежду и удерживали на месте. Время все летело, крутилось, куражилось. К. тщетно пытался уследить за ним по бешеной стрелке каминных часов, вслушивался в чистый гул, напоминающий игру мокрых пальцев на хрустале, не смел пошевелиться… Наконец все прекратилось. Вновь сгустилась ночь.
В комнате Lize вспыхнула круглобокая нежно-лимонная лампа. Все стало теплым, текучим и отбросило уютные тени; камин затрещал веселым искристым огнем, а с ковра исчезло пятно копоти. Вперед? Нет, наверное, опять назад – стрелка-то кружила вспять. Все дальше и дальше держала путь, пока не пришла к какой-то точке. К какой?
Дух, усмехнувшись чему-то, кивнул на дверь – точно пообещал подсказку. К. повернул голову, но увидел лишь все ту же девочку, одетую в ночнушку и с расплетенной косицей. Lize стояла босая, прильнув к замочной скважине, и что-то высматривала. Личико ее скрывала тень.
– Осторожнее, – неопределенно сказал дух.
В следующий миг К. снова что-то схватило и потащило вперед, словно рыбу на крючке. Прежде чем он успел хотя бы трепыхнуться, Lize пропала, а вот замочная скважина надвинулась – и втянула его в себя!
Прежде воображения К. вряд ли хватило бы, чтоб описать страдания, например, живой мыши, угодившей в мясорубку: когда все мышцы и кости сдавливаются, трутся о железные винты, проверяются на прочность и не проходят проверку – перемалываются в кровавое крошево. Теперь он примерно представлял, на что это похоже, с одной разницей: тело его выдержало, крик умер в горле. Боль скоро погасла, сознание вернулось – и К. осознал, что стоит у белой девичьей двери, но уже по ту сторону, в коридоре. Машинально и панически он принялся ощупывать себя, ища раны и следы содранной кожи. Дух витал рядом с прежней невозмутимостью.
– Я же сказал тебе: осторожнее, – только и бросил он сварливо.
Вокруг стелился сумрак; в нем еще чернее казалась соседняя с Lize дверь, понизу которой виднелись резные рельефные весы в рамке лаврового венка. Уткнувшись в нее взглядом, К. вздрогнул, опустил руки, забыв проверить, сколько у него уцелело ребер.
Та комната. Одна из тех ночей. Глухая тишина.
– Да, – шепнул призрак. К. замер, сжал кулаки. – Ну? Давно пора. Входи…
Тишина ли? В ушах шумело, понять не удавалось. К. посмотрел на призрака, потом – вновь на дверь. Ручка-лапа призывно изогнулась, мерцнула, свет побежал и по весам… Который час? Скорее всего, очень поздно. Ночь поглотила дом вместе со стражами-совами; горячий шоколад выпит, тот самый, с крупицами на дне. К. чувствовал – сладкий шлейф тянулся из-под двери. И одновременно некий другой запах – тяжелый, пряный, солоновато-мускусный – вкрадывался внутрь, струясь из-за угла. Второй запах был слаб, но отвратителен – может, и не запах вовсе, а оно, наитие, овеществившееся как смогло? «Давно пора…»
– Дух, – прошептал К. Догадка окрепла. – Так сложно дышать… он здесь? Кто он?
– Открывай дверь, – велел призрак. – И все узнаешь.
Вот, значит, как? Пироги, пляски, а теперь холодная смердящая прорубь. И бросили без предупреждения, и давят на голову, и твердят: «Ныряй» – без тени милосердия. Нет, К. был готов. Был, вот только, как ни пытался, не видел смысла становиться зрителем паскудных извращений. Нуждался он совершенно в ином. Две странные, бессмысленные картинки ему уже подсунули… нужно еще? Он покачал головой, не скрывая сомнения.
Глаза старика опять загорелись, как на кухне, где украли свет ламп, – и два сердитых ожога вспыхнули прямо у К. в сердце. По сухим губам пошла трещина усмешки.
– Ну что ты? Замысла иного тут нет и быть не может. Не зли.
Замысла? И правда, похоже, разозлился он не на шутку. Оттого, что вот так внезапно идет не по плану задуманное им «хождение по мукам»? Выглядело как недурное наказание, учитывая содеянное К. в прошлом. Выглядело… заслуженным завершением скитаний в прошлом. Но К. упрямо дернул плечами и чуть отступил, опасаясь, что его опять схватят, словно щенка, и швырнут, а то и пропихнут куда-то. Ну нет.
– А где в твоем замысле смысл? – напрямик спросил он. Походит он по мукам, походит… да только не по чужим. – Нужно-то мне от тебя иное, а это… к чему?
Призрак молчал, точно давая шанс отступиться, поддаться, забрать вопросы назад. Смотрел, мерцали алмазы на его кресте. И под взглядом этим К. не мог не признаться хотя бы себе: не все в его упрямстве диктовалось простой логикой сыщика, нуждающегося в именах, не в зрелищах. Предательски, спонтанно им овладел скользкий страх, который толкает не бить или бежать, но лишь беспомощно застыть. Так боятся не прыгнувшего, но еще достижимого для выстрела тигра, а гадюку, обвившуюся уже вокруг ноги. Старик хочет застать Василиска. Не просто застать – показать все, что это чудовище безнаказанно делало, вкрадываясь в ночные кошмары и обращая их явью. Заставить лицезреть – вот так, не имея возможности вмешаться, переживая то, что раньше лишь воображалось…
– Ты ничего иначе не поймешь подлинно, – шепнули ему наконец.
– Я и так понимаю, – как можно тверже, но и как можно миролюбивее возразил он. – Нет, не так, я представляю, ощущаю все мучения этого… – Он сглотнул, потерялся и повторил: – Кто это сделал? Назови его, и давай покончим. Мне будет что сделать далее.
Стук в ушах прошел. Тишина там, в комнате, все еще была густой, густой до дрожи: что с мальчиком? Но упасть в ужасную фантазию о его гибели К. не успел: цепи духа звякнули, словно в разочаровании.
– Покончим… Ты хочешь развенчания или подтверждения, но этого мало. – В душу опять уставились грозные глаза. – Мы пришли за правдой, а она здесь, вся правда только здесь и сейчас, и ты вот-вот сложишь ее из частей. – Тон еще остыл, резанул. – Если, конечно, в действительности готов к ней, а не тратишь впустую мое время!
К. и сам уже потихоньку жалел, что заговорил так малодушно и упрямо одновременно. Будто мальчишка; нет, барышня; нет – Нелли и не подумала бы топать ножкой, не пустилась бы с высшим созданием в капризы: «Я буду делать так, а не эдак». Он облизнул губы, снова принялся ладонями щупать бока и плечи, опустил глаза, силясь просто выиграть немного времени и овладеть собой… но тут что-то изменилось в самом воздухе, и руки его сами упали, а тело заныло, будто налитое свинцом. Коридор, прежде темный, но все же четкий, стал заполняться туманом. Стены задрожали и надвинулись. По ним пошла какая-то ледяная взвесь.
– Плохо, – отчеканил дух с досадой. – Доигрался, злишь время. – И добавил: – Не думал, что ты еще и жалок…
К. не успел вспылить. Пол дрогнул; стены снова шевельнулись; дом словно сжался комком, а потом раздались далекие шаги. Они были мягкими, тихими – человек почти не поднимал ног. Так действительно могла бы двигаться по коридору огромная змея с гибким скользким телом. До двери ей оставалось немного. Зато это значило…
– Так он еще снаружи! – выпалил К. облегченно, а дух воззрился на него еще злее. – Так хватит же! О чем спор? Мне всего-то нужно увидеть его лицо, это правда!
Может, зря. Но никогда не мог он побороть это оголтелое мальчишество: «Вы выше меня, но мне знать лучше, в чем вы скоро убедитесь». Так он держался со всеми старшими чинами, да и просто старшими. И – может, в силу его цепкой натуры – обычно они отступали, признавая неправоту, или готовы были искать истину в споре. Но не здесь.
– Всего-то… – сплюнул дух и засмеялся, будто не слышал большей ереси, но К. было что добавить. «Жалок» все еще жглось под кожей. Это он-то? Он?
– Ты сказал, что владеешь Тайной, но пока все твои тайны какие-то… – Он запнулся, но дерзнул: – Пустые. А эта, – он кинул новый взгляд на дверь, – и не тайна вовсе, я знаю, все знаю, как его терзали, я… Зачем?!
Раз не слушают, К. жаждал хотя бы этого – просто вырвать признание: «Тебя помучить, человечишка, напомнить, как ты бессилен», вырвать и одержать какую-никакую, но моральную победу над всевластным спутником, толкающим в чужую боль. Не дождавшись ответа, наткнувшись опять на грозное безмолвие, К. вслушался и, выдохнув облачко пара, устало повторил:
– Дух, он идет. Вот-вот будет тут. Прошу, мы правда можем обойтись без…
Скрипа кровати, проседающей под кем-то. Рук, поднимающих тонкую рубашку на безвольном детском теле. Влажных поцелуев, стонов сквозь зубы, криков в беспамятстве… Спина взмокла. Стало тошно от злости и слабости. Змея ползла, и все более бессмысленным и бессердечным казалось это повеление зайти смотреть. Не более чем глупым пылом ребенка, который не отцепится, пока не покажет взрослому раздавленную телегой ворону.
– Нельзя, – отрезал старик, едва не брызнув слюной. Да, не на того напал, уступать или признаваться в чем-либо он не собирался и вдобавок, вне сомнения, видел метания и помыслы К. насквозь. – И… «пустые»? Боже, глупец! – Казалось, он, недавно неколебимый, едва сдерживается, чтобы не раздуться и не лопнуть. – А я еще глупее. Ты же не понял ни тех моих слов, ни зачем на самом деле я привел тебя сюда…
– На самом деле? – К. огляделся. Шаги приближались. – Я просил помощи! Справедливости! – Подойдя к духу, но тут же, наоборот, отпрянув и загородив дверь D., он повторил с дрожью, решив по-быстрому исправить дело лестью, вдруг поможет: – Могучий призрак, имя, лишь имя, все, что мне нужно…
Он осекся: дух вдруг глубоко, совсем по-стариковски, по-человечьи вздохнул, понурился. Выражение лица переменилось на еще худшее: стало надменно-равнодушным, совсем как в первую минуту в кабинете. Желваки проступили на скулах. Губы сжались.
– Какая же омерзительная порода: и гордыня, и чистоплюйство. – Ноздри затрепетали, точно от самого К., а не из-за поворота коридора смердело. – Запомни, мальчик, две вещи, а ну как помогут… – Больше невозможно было смотреть в ответ, так грозно призрак теперь нависал, задевая лицо промозглыми седыми патлами.
Щеки обожгло, но гордыня – она ли? – оскалилась:
– Мальчик лежит там, и мне не нужно его повторное страдание, ни в каком времени!
Дух чуть отпрянул. Но крик его не испугал. И продолжил он, будто не слыша:
– Раз: ты не избавишься от грязи, не вымаравшись в ней. Два: не тебе учить тех, кого сам ты призываешь на помощь.
«Жалкий», – снова прочиталось по глазам, по расправившимся плечам, по тону.
– На помощь, на милость, на благое дело, а не чтоб ты потешался, – упрямо шепнул К. и понял тут же: это конец.
– ПОТЕШАЛСЯ! – Дух еще отпрянул, заревел, хлестко замахнулся, как если бы хотел отвесить ему затрещину, но передумал – и над ладонью лишь зажегся шар холодного красного огня. – Ну смотри у меня… смотри, раз так! – с треском, со скрежетом лед пополз всюду чудовищными щупальцами. – Вот тебе твой… – Дух усмехнулся и закончил с шипением: – прес-с-ступник. И катись на все четыре стороны!
К. не успел ни одуматься и запросить мира, ни даже в полной мере осознать, в чем его упрекают, чем грозят. Стремительно развернувшись, вздыбив плащ, точно кровавые крылья, дух швырнул огненный шар под ноги кому-то, показавшемуся из-за поворота, и исчез. Дом дрогнул, как в агонии. Взрыв осветил длинные волосы, белоснежную рубашку с ослабленным воротом, пустые мрачные глаза на белом лице – и все померкло.
Это был верный гувернер. Аркадий Борисович R., чью сутулость еще не исправила служба, а щеку не отметила шрамом Балканская кампания.
Развенчание. Подтверждение. Правда. К. застонал.
R. спешил, но старался не шуметь; оглядывался, словно дикое животное на незнакомой тропе. К. сглотнул, попятился еще, плотнее прижался к двери взмокшей спиной, прекрасно, впрочем, понимая: не сумеет, конечно, не сумеет ничему помешать. Он ударил в створку кулаком – почувствовал костяшками древесину, но не раздалось ни звука. Время было глухо к нему. Даже гневный призрак едва колебал его необратимое течение.
– Дух… – жалобно позвал К. – Дух, нет, я не хочу; если все так, точно не хочу…
Старик не появился, но рука его словно сильнее сдавила сердце. R. подходил все так же бесшумно, быстрее с каждым шагом, и на ходу доставал из кармана серебряный ключ. К. не видел более его лица; с трудом различал разве что движения. Они не были нервными, ни одно не производило шума – и даже ключ скрежетнул в замке глухо-глухо, повернулся быстро-быстро. В эти секунды R. стоял к К. вплотную, но все равно плыл в тумане. Одно было очевидно: глаза его, обычно ясные и спокойные, странного оттенка увядающих цикориев, превратились в полные темноты провалы. Дверь медленно, без скрипа, открылась – и R. скрылся за ней. А запах, отвратительный запах, остался здесь и стал сильнее.
К. шагнул в спальню прежде, чем осознал это. Дух ведь… был в чем-то прав? Преступление легче раскрыть, если его увидеть. Как ни тяжело смотреть в бездействии.
Он вовремя переступил порог – R. тут же запер дверь. Ключ он убрал в карман, еще раз внимательно осмотрелся и шагнул к постели. Решимость К. все же изменила; несколько секунд он не шевелился, даже смотрел не туда, а в сторону, на прямоугольник полузашторенного окна, на звезды за открытой половиной стекла. Тошнота не проходила. Неужели… неужели?.. Вспомнилось страшное: вторая после ключа улика, быстро переставшая казаться неоспоримой… неужели преждевременно?
О, сколько он этим мучился. Сначала десять лет после самой беды, потом еще пуще – когда оказался у R. в подчинении. Как мотало душу, какие яростные крутились в голове мысли: сначала о нем, потом о себе, снова о нем – и так до бесконечности. «Вальжан ты? Или все же Свидригайлов, которого я покарал, а теперь вынужден терпеть рядом?» Мысли нечем было подпитать, но нечем и убить, поэтому раз за разом они умирали от голода, воскресали и возвращались – два грызущихся волка. К. сжился с ними, как мог бы сжиться с какими-нибудь язвами в желудке, а потом, в прохладном марте, на втором месяце службы R. в московском сыске, произошло то, что сломало хребет одному из волков. Сейчас мертвый зверь опять зашевелился, поднял морду, испачканную кровавой слюной. К. дрожал от одного взгляда в его глаза. И мучительно сожалел, что разозлил старика, остался один не только в прошлом, но и в темном внутреннем лесу.
Когда он все же осмелился повернуться, R. стоял у кровати, на которой D. недвижно лежал на боку. Одеяло его сбилось; под воротом ровно и редко вздымалась смуглая худая грудь; волосы черным полотном стелились по подушке. Ангельское создание… по спокойному лицу было понятно: сейчас D. не видит дурных снов. На тихий оклик мальчик не отозвался, от прикосновения к щеке не очнулся. К. вздрогнул; мысли его об ангелах быстро сменились мыслями о мертвых принцах и о тех, кто приходит к ним.
R. выпрямился и взял с прикроватной тумбы пустую чашку. Заглянул в нее, принюхался, попробовал темной жидкости, пальцем собрав ее со дна.
– Да что же это…
Чашка полетела на пол, к стене – с силой и звоном, который рассыпался по всем углам. Кто угодно подскочил бы, но D. даже не повел головой; кудри его продолжали падать на лоб; ресницы оставались плотно сомкнутыми. Несколько секунд R. глядел на него в надежде, потом схватился за голову, постоял так еще, размышляя, – и опустился в изголовье. Выводы его явно были те же, что и у K.: в таком глубоком сне сотворить можно что угодно. И остаться неузнанным, ненайденным, безнаказанным.
– Нет, – прошептал R. – Нет, не сегодня.
Он не делал ничего, просто сидел, минуту за минутой – только подрагивающая рука водила по спутанным детским волосам. Взгляд же, по-прежнему пустой и почти не мигающий, устремлен был на дверь, в точку над ручкой. К., в свою очередь, жадно, пристально наблюдал за R., нет, за ними, за ребенком и взрослым, – и тошнота, и сердечная боль уходили все дальше. Нет, второму волку не воскреснуть. К. был прав, точно прав, а слова призрака «твой преступник» знаменовали лишь насмешливое, предостерегающее напоминание: не всегда. И мерзкий запах клубился вовсе не вокруг R.; источником было что-то другое. Кто-то.
И кажется, он был рядом.
Начавший задремывать R. подскочил: в двери снова проскрежетал ключ. На этот раз звук был иным, каким-то дробным – несколько раз в скважину явно не попали, точно рука дрожала. От нетерпения, от возбуждения? Удавкой мускусный запах обернулся вокруг шеи К. В спонтанном отвращении, едва дверь начала отворяться, он отпрянул как ошпаренный, тут же спохватился, развернулся…
Нет. Нет. Нет.
Обледенелая дверь, обледенелые стены. А в коридоре плавал туман. Силуэт, замерший на пороге, он делал текучим, неразличимым. Человек… Василиск… был высок, вот и все. Лицо, плечи, одежда – все расплывалось, да еще двоилось, как К. ни напрягал зрение. Он шагнул ближе и сощурился, но ничего не изменилось; прислушался – но человек будто не дышал, так что невозможно было узнать его по сопению, шмыганью носа – любому косвенному признаку. О… как же К. мечтал сейчас об одинокой своей свече.
За его спиной R. привстал и простер одну руку в защитном жесте над мальчиком.
– Вы… – пробормотал он, но и по лицу его, полному ужаса, ничего понять было нельзя. – Отойдите, не смейте, нет…
Быстрая реакция, поражавшая К. на облавах и учениях, в те годы явно еще не была ему свойственна: R. только вставал, а дверь уже закрывалась, бесшумно, но стремительно. R. подлетел, впился в ручку – но в скважине успел повернуться ключ. Пока R. трясущимися руками искал по карманам свой, смолкли спешные шаги. Запах тоже рассеивался. К. уже почти не сомневался: это не был запах в чистом виде. R., судя по его поведению, ничего необычного не почувствовал, когда выглянул в опустевший коридор, добежал до угла, потом до парадной лестницы, потом до черной…
– Боже, боже… – пробормотал он, возвращаясь назад. Прислонился в изнеможении к двери, сполз на пол, опять схватился за голову. Никого не стал звать. Почему?..
К. стоял над ним не в силах шевельнуться. Он проклинал себя, не понимал причину внезапной слепоты: ведь видел в темноте и ребенка, и чашку, и R. А силуэт в коридоре… почему он плыл? Почему менялся каждую секунду, точно выплавленный из ртути или сотканный из ночных облаков? R. поднялся, расправил плечи, вернулся к изголовью кровати и сел. Прижал мальчика к себе, зажмурился – но через несколько секунд отстранился. Поднял глаза. Посмотрел, как показалось К., прямо на него, хотя, конечно, в точку за его головой. Закрыл лицо руками. И затрясся от сдавленного плача.
Мир тоже снова задрожал – и куда-то провалился. К. больше не тянуло крючьями, стены не двигались – он просто падал в пустоте вместе с куском паркета, над которым парил. Вокруг летели предметы, то обгоняя его, то оставаясь позади: диваны и скелеты, чайные сервизы и экипажи, турецкие сабли, книги, иконы, газеты, гнилые яблоки, шпаги, а чаще всего – часы, бесконечное множество идущих часов. Фантасмагорическое зрелище… но К. оно не интересовало. Задрав голову, он все пытался уцепиться взглядом за спальню, которую покинул. За R., оставшегося один на один с какой-то ужасной правдой. Со слишком незакаленным сердцем, чтобы справиться.
Разговор на совете не зря показался странным, а граф не зря вцепился: R. кого-то узнал. Узнал, но не выдал; еще раз мальчика терзали… и, может, терзали бы дальше, если бы чудовище не забылось, если бы не синяки, которые оно оставило, утоляя желания и за пропущенную ночь. Пропущенную… именно так, если память не изменяет. Та самая, о которой Lize говорила, ничем для D. не омрачилась, проснулся он довольно свежим, без кошмаров. Значит, девочка сказала полуправду: да, R. заходил, а вот были ли потом какие-то звуки… об этом не спрашивали, это разумелось само собой, в доме уже стоял переполох, ну а она не уточнила… забыв? Или не пожелав? Что бы она сказала, если бы задали вопрос: «Зашел, а потом?» Еще эти пляски… насколько вообще можно было верить ей? Что носила в мыслях она, эта выдумщица, сладкоежка, чертенок? И зачем дух столько ее показывал? К. стиснул зубы; его прошиб пот. Что, если это подсказка? О том, например, что не один, вовсе не один ребенок в доме из-за кого-то страдал? Или…
– Ты вошел в комнату, – раздалось рядом, и К. вздрогнул, перестал наконец смотреть вверх: все равно бесполезно.
Призрак падал в полушаге, тоже застыв на нескольких скрепленных в шахматном порядке паркетинах, и глядел на него.
Волосы и полы его одежды развевались; глаза горели, но гнев оттуда сгинул. Осталась мрачная жалость, да и только.
– Ты был прав, – К. огромным усилием не потупил голову. – Во всем. Прости меня, и я благодарю за все подсказки. Я… сам виноват, что не смог увидеть. Гордый, упрямый трус.
Призрак хмуро кивнул, но тут же лицо его вдруг смягчилось, будто чуть помолодело. Он коснулся плеча К., и падение их резко замедлилось, предметы вокруг пропали. Темная пустота задышала, засквозила, заполнилась тихим, но более не страшным, очень мелодичным звоном цепей.
– Еще сможешь, – сказал призрак. – Скоро. Но моего орудия, видимо, тут недостаточно. Иди с Богом. Прощай.
Он обхватил костлявыми ладонями свой алмазный крест, улыбнулся бескровно – и прежде, чем К. успел остановить его, стал сгустком красного дыма. Падение вновь ускорилось, но кончилось быстро; удар был такой, словно К., как злосчастная та чашка, разбился на осколки. Хрустнули кости, но, когда он смог открыть глаза – и убедился, что глаза у него есть, – вокруг вместо холодной бездны был знакомый кабинет.
Никакого льда. Огарок в блюдечке почти не уменьшился – правда, красовался на столе, а не на подоконнике. Сон? Явь?.. Бутылка стояла нетронутая. К. вгляделся в нее, вспомнил опять гулкое, покровительственно-теплое «С Рождеством Христовым», а потом почти детский плач взрослого в темной спальне – и уронил голову на стол, сцепил ладони.
– Жалкий… – прошептал он. – Мерзкий…
Но на этот раз он прекрасно знал, кому предназначено это оскорбление. Даже в зеркало не было нужды смотреть.
Совиный дом
10 лет назад
Уже через неделю после печального совета Оса разродился новым злобным фельетоном – о нежнейшей любви учителей к маленьким ученикам. В пример он приводил не только отдельные места из «Пира» и прочие возмутительные атавизмы древности, но и некий современный благородный дом на улице К. Имена не назывались, дабы пощадить, конечно же, не преступника, но жертву, и графскую честь, и ту же Lize, девичьей репутации которой в будущем могли повредить разговоры о растлении. Но материал, во‑первых, был крайне обстоятельным, а во‑вторых – весьма прозрачным. Не много в Москве особняков со «слепыми стражами»; с садами, «полными не только прелестных роз, но и змей, эти розы пожирающих», и прочие, прочие ядовитые метафоры. Оса проявил недюжинный дар будить тошнотный трепет, жаркое возмущение и сальное любопытство одновременно – в общем, выступил в обычном своем духе.
В свете возбудились. Умы проницательные потянулись к семье D., и, хотя та отмалчивалась, слухи множились с каждым визитом. Болезнь графини; дурное настроение графа; долгое отсутствие балов и вечеров за картами; неразговорчивость слуг; сытопьяновская еда, приготовленная без обычного лоска и разнообразия, – все доказывало, что в доме произошли и продолжаются некие несчастья. Ну а самым громким доказательством было то, что юный D. с верным белым рыцарем не показывались в саду.
Ивану не нравились эти толки и осязаемый всеобщий стыд; не нравилось, что дом словно тоже захворал. Вдобавок сердце его совсем скоро, буквально наутро после того, как материалы все попали в нужные руки, мучительно заныло, – но поменять ничего было уже нельзя. Иван и сам не до конца понимал, что стало вдруг с ним твориться, куда ушли раж, неколебимость и жажда расправы. А ведь то обстоятельство должно было, наоборот, упрочить его убежденность: R. виноват и должен ответить.
В то самое утро Иван, как и каждый день, пришел на Каретный. Позавтракал с графом в минорном молчании; зашел поприветствовать графиню, мучившуюся от очередной мигрени; поиграл немного с Lize на фортепиано в четыре руки. У девочки же выяснил: R. все еще здесь, не знает, кого на него натравили, но через пару дней его попросят вон. Ждут только шумихи, надеются, что он неосторожной реакцией обнаружит вину или, обладая натурой чувствительной, побежит каяться, ну или – «Хорошо бы!» – повесится где-нибудь в саду. Он и так уже, пусть не живет арестантом, а лишь отлучен от мальчика, кажется, «задохся»: редко выходит, не ест, «впору класть в гроб». Иван мысленно ужаснулся, но тут же себя одернул: справедливо же, все сказала справедливо, да и сам план – не отпускать, пока не выйдет статья, – предложил он. Чудо, что R. еще не убили прочие слуги, графиня, граф… но слуги не все пока укрепились во мнении о его вине; графиня же с графом прекрасно понимали: случись что – расследовать придут убийство, а не то, что на него толкнуло. План вышел дальновиднее, коварнее. Иван ждал, что R., увидев статью, наконец заговорит. Вспомнит, как и советовал граф, о родителях хотя бы. Отцу его такой позор, да без покаяния, повредит; старший R. ведь простой городской доктор, по специализации – детский. Кто его после этого подпустит к маленьким пациентам, кто не подумает: «А не в отца ли сын?»
Со всеми этими мыслями Иван покинул Lize. Дальше ноги сами принесли к комнате мальчика, он хотел было постучать, поговорить… вот только о чем? Покой D. берегли, веру в сны не развенчивали; как бы не сболтнуть лишнего. Вдобавок ребенок этот никогда не проявлял к Ивану расположения. Сначала казалось – дело в безграничной очарованности Аркадием и только им, заставляющей равнодушно отворачиваться от прочих, даже самых незаурядных, взрослых. Позже появилось иное подозрение: D. чувствовал в Иване нечто дурное. Или не дурное, но так или иначе потаенное, отталкивающее, возможно, даже скользкое – во взгляде темных оленьих глаз порой сквозило жгучее «Знаю, все я про тебя знаю, держись подальше». Ивана продирало морозом, и он не навязывался. В конце концов, больно надо, это даже не плоть от плоти графа. Чудной все-таки народец, не зря многие его сторонятся. Не приручаются дикие звереныши до конца; не становятся домашними и покладистыми цыганские дети.
Передумав, Иван спустился, вышел на крыльцо, окинул взглядом подмерзающий розарий. Было спокойно; Саша, наверное, грелся сладким сбитнем где-нибудь в кухне, с Олей и Сытопьяновыми. Ветер трепал волосы, манил прочь, будто говоря: «Душно в этих стенах, плохо; ты сделал все, что мог, оставь их, прогуляйся». Иван решил так и сделать: взять плащ – и пройтись до Петровской колокольни; купить на ужин пару капустных пирогов в монастырской трапезной; заглянуть в книжный на Кузнецком; еще как-нибудь скоротать остаток дня… Но тут, повернув случайно голову, на фасаде дома он увидел движущуюся фигурку. Мысли высыпались из головы, как горох из дырявой корзины.
По карнизу шел D. С необыкновенной ловкостью, цепляясь то за увядший виноград, то за когтистые лапы сов, он продвигался вдоль окон, к какому именно – очевидно. Иван остолбенел. Хотел крикнуть, окликнуть мальчика, но испугался: дернется ведь, упадет! Каков… чертенок! Неделю он жил словно царское сокровище; в комнате с ним днем и ночью кто-нибудь находился, а сегодня вот, по словам графа, «взбрыкнул в прежней манере, потребовал одиночества, ну а мы сочли это благим симптомом и решили уступить…» Вот почему взбрыкнул: удумал свое. Лезет в чужое окно, зная, что все равно по коридору не пройдет, тут же кто-то привяжется вроде дамы Lize, которая занимается с воспитанницей по соседству и слышит каждый шорох. А уж чтобы пустили к Василиску…
Спотыкаясь, Иван ринулся в дом. Проскочил холл и парадную лестницу, пулей оказался в жилом коридоре, пронесся по нему. Везде было пусто, впрочем, он и не спешил с шумом. Другая, отнюдь не паническая, скорее ледяная и злая мысль вдруг овладела им и показалась гениальной: выследить, все услышать до единого слова, ну а потом пересказать там, где сведения удастся использовать наилучшим образом. В кабинете ли графа, в полиции или еще где – как сложится. Доказательств много не бывает, чем не следственный эксперимент? Главное, чтоб не вышло беды от этой тяги жертвы к преступнику, но за этим-то он проследит. Кулаки крепкие, голос зычный, а дом полон людей. Но мальчишка-то… ох, дурная голова. Решил, что мало ему было горя. Нужно еще.
Когда Иван оказался у нужной двери, D. уже влезал в окно. Это угадывалось по удивленному возгласу: «Господи, что ты делаешь здесь, давай руку!» Что-то стукнуло. Иван торопливо согнулся, прильнул к замочной скважине, надеясь, что она не закрыта каким-нибудь язычком. Не закрыта. Комната, просторная, светлая и почти пустая, была как на ладони; сизые тени дрожали на полу.
R., напряженный и бледный, стоял у окна; мальчик сидел на подоконнике и цеплялся за его плечи. Пока это не было борьбой, точнее, не той, которой с отвратительной тревогой ждал Иван. Не D., а скорее R. пытался освободиться и отстраниться, умолял: «Успокойся, успокойся, тише, отпусти…» Мальчик, наоборот, схватил его за шею, нагнул к себе и порывисто обнял. Оба на несколько секунд замерли, замерло и сердце Ивана. А ну как сейчас он… его… Ком задрожал в горле. Кулаки сжались. Вранье ведь, что чудовища при свете дня не являются. Являются, еще как, особенно когда нечего уже терять. Или можно ведь задушить просто, и бросить вниз, и сказать потом…
– Ну что ты, что? – услышал он ласковый голос. Объятие вернули, робко и слабо. – Нельзя так, упасть ведь мог…
Иван нервно усмехнулся. Увы, дружище, увы. Не упал.
– У меня дурное предчувствие, вот и все, – прошептал в ответ D. Острый подбородок его лежал сейчас у R. на плече, и Иван читал по губам. – Прости, прости, но ведь я не знал, когда тебя пустят ко мне или меня…
Каким он был несчастным, как цеплялся за эту спину. Будто и впрямь упасть боялся, только не в морозный сад за окном, а куда-то, где пострашнее. Иван вглядывался в каждую его черту, вглядывался и в линию чужих плеч: в чертах искал хоть что-то, кроме нежной решимости, а в линии, в линии… фальшь? Пружинистую хищность? Тайный умысел? Ничего не находил, кроме растерянности и горя.
– Пустят? Никогда, – тоже негромко, но отчетливо произнес R., выпрямляясь и отстраняясь; мотнул головой. Мальчик соскочил с подоконника, испуганно воззрился во все глаза. – Я не могу обманывать тебя… – Свет лезвиями ножа блеснул в гладких волосах, весь Аркадий на миг словно осветился, но тут же чахлое солнце спряталось и лицо его потемнело. – Это глупо и бесчестно. Только не кричи, не плачь, прошу, выслушай… – Он качнулся. Точно хотел сделать еще шаг, дальше в тень, но не смог. – Боюсь, скоро мне придется уехать. И я вряд ли уже к тебе вернусь.
Мальчик бледнел с каждой секундой, но держался: сжимал губы, распахнутые глаза оставались сухими, одно выдавало потрясение: ногтями левой руки он впился в правую свою ладонь. Крепко впился, даже заходили жилы на запястье. R. заметил это, охнул и, подавшись опять ближе, разомкнул хватку. Сжал тонкие кисти, глянул в лицо. Сколько власти в жесте: маленькие ладони меж больших. Власти ли? Снова Иван вспомнил своего Вулича, шальную его усмешку, хризопразовые искорки глаз. Детей Вулич не переносил, все авантюры прокручивал со взрослыми, их же – только их – ласково брал за руки, трепал по плечам, хлопал по спине. А все равно по уму говорил. По уму ведь? Или…
– Не делай себе больно, пожалуйста, не… – Казалось, R. мучительно ищет хоть какое-то утешение, хоть для кого-то, а не находя неумолимо бледнеет сам. Руки он уже отдернул, будто обжегшись. – Это… ведь это однажды бы случилось. Позже, но ты же перерастешь гувернеров, прекратишь нуждаться в учителях…
– Но не в друзьях же! – Мальчик повысил голос, быстро зажмурился – наверное, прятал предательские слезы. – Почему?! – Он посмотрел в упор, обиженно и жалобно. Зачастил: – Мама тебя выгоняет? Ей, может, нечем тебе платить? Так пусть возьмет из моего наследства, она же говорила, оно…
R. рассмеялся, опять качая головой, и ничего мрачнее этого смеха Иван давно не слышал. D. осекся, все-таки всхлипнул, яростно стал тереть глаза кулаками. Даже этот жест был у него как у маленького взрослого – полный горечи, а не каприза. Слишком усталый, без ожидания, что слезы кто-то вытрет. И без надежды, что сам повод для них куда-то уйдет.
– Дядя, значит? – пробормотал он. – Он же тебя любит… разве нет? Он не может нас разлучить, он… – И тут глаза блеснули, все лицо разительно ожесточилось и стало еще взрослее. – Ну конечно! Он задумал прицепить ко мне противного своего конопатого Ванечку, чтоб тот поселился у нас! Так? Ну этого, ты его видел, вечно тут толчется…
Иван, осознав, каким тоном произнесены слова, и еще раз приглядевшись к D., аж подавился. Столько желчности на тонкой грани с ненавистью; мало того что «конопатый», так еще «Ванечка» – хотя граф сроду его так не звал; он ни к кому, кроме сестры, не использовал ласкательных суффиксов. Тем не менее Иван выдержал, лишь закусив губу и поразившись про себя. Вроде D. и не родня Lize… а общего-то больше, чем кажется. Как ни странно, именно эта мысль верховодила в его сознании, ни тени колкого «Вот же слепой неблагодарный поросенок, кого и кому ты поносишь!» не возникло. Вслед за удивлением и обидой он ощутил вдруг жалость, а не гнев и – еще внезапнее – что-то вроде… стыда? Тут все же очнулся, вспыхнул, выругал себя. Да за что стыд-то? За то, что хочет помочь, за то, что торчит тут почти на карачках, чтоб этого дурного ребенка не придушили прямо на подоконнике, не сделали еще какое зверство? Застучало в висках, заскрежетали зубы. Захотелось вломиться к ним. Оттолкнуть друг от друга, дать затрещину одному и свихнуть челюсть второму. Но почему-то еще больше – убежать прочь, забыв все услышанное и сделанное как дурной сон.
– Нет, нет! – R. провел по волосам D., прислонился к окну рядом, и мальчик тут же снова к нему прижался. – Никакого умысла нет, ни на кого не держи зла, просто произошла беда, с которой… с которой мне не удалось справиться. Но я надеюсь, что…
«Зато я найду управу на тебя», – горько подумал Иван.
– А сестрица как будет без тебя?! – оборвал Аркадия D. Странный этот аргумент он разве что не выкрикнул. – Она же тебе эти свои… писуленции оставляла, надушенные, я видел! По кому она вздыхать будет, кого…
– Кого-нибудь достойного. – R. приподнял его подбородок, строго посмотрел в лицо. – Чего и тебе, кстати говоря, желаю на будущее. – Губы оживила вдруг знакомая, почти беззаботная улыбка, словно последний обломок витража в разбитом окне. – Глупостей по ее примеру никому не пиши. Особенно выдергивая их из тех скабрезных романов, где предлагают пойти на сеновал…
– Lize не любит сено, – возразил D. мрачно, но затем все-таки улыбнулся в ответ, сморщив нос. Мимика эта была не его и резанула Ивана особенно больно. – И вообще природу. Она городская душа, ей бы в кондитерскую, а не в коровник…
Они помолчали, не двигаясь. R. глядел вперед; Ивану, нервно застывшему в согнутом положении, казалось, что смотрят прямо на него, сквозь скважину, – но едва ли. R. просто не знал, куда деть глаза, как избежать полного мольбы взгляда мальчика. Похоже, ему тоже было стыдно – но… как стыдно? В сторону D. он так и не сделал ни одного предосудительного движения. Осознание это вселяло в Ивана одновременно облегчение и ужас – словно какая-то башня рушилась не то на его глазах, не то внутри него. Пока он бежал сюда, он ведь успел вообразить много вариантов этого объяснения между учителем и учеником. Но ни один, ни один…
– Тебе пора бы… – нарушил тишину R., хотел было отстраниться, но его схватили за руку.
– Как я буду? – прошептал D., это вновь пришлось читать по губам. – Я боюсь Василиска, я ведь помню… в последнюю ночь, прежде чем он нашел меня, ты крепко-крепко держал меня за руки, вот так. – Он чуть сдавил пальцы. – Долго… прося не бояться и обещая, что все кончится. И хотя потом он все равно пришел, злее, чем обычно, но больше-то я его…
R. дернулся – с такой му́кой, будто в него всадили нож; Иван тоже – и тошнота затопила его. Крепко держал… в ночь, когда появились синяки? А за горло? Растерянность исчезла, схлынул и страх, и тем более стыд. Хватит! Пора было удариться в дверь грудью и кулаками, воскликнуть: «Выходи, скотина!», приволочь сюда весь дом, наконец поймать ночной кошмар с поличным, но…
– Ты спас меня. Да? Как-то спас. – И еще крепче сжались детские пальцы.
Иван уперся в створку ладонями и лбом, зажмурился, рвано выдохнул. Гнев его, праведный и здравый, был отчего-то… ломким, неуловимо расколотым ровно посередине. Иван бессильно задыхался от него и одновременно отталкивал. Будто был второй какой-то смысл у слов. Что-то иное… Он стиснул зубы, впился себе в волосы, легонько потянул их, чтобы успокоиться, – и не отпрянул, продолжил слушать; снова глянул в скважину.
– А что ты помнишь еще? – дрогнувшим голосом спросил R., склоняясь к мальчику. Без тени страха, скорее… с надеждой? Тот помотал головой. – Лицо Василиска… нет? Было у него лицо?
– Не знаю… нет… – D. обхватил себя за плечи, поежился, но тут же руки упали на колени. – Другое важно. Он вернется. – Глаза его опять требовательно, испуганно взглянули в бледное лицо R. – Вернется без тебя, я точно знаю, вернется…
– Нет! – воскликнул тот с отчаянием. Ивана передернуло, но и следующие слова были не теми, которых он ждал, запутывали все безнадежнее. – Не вернется, не решится. Но на всякий случай я дам тебе три напутствия: может, они тебя уберегут.
– Лучше бы ты… – Но R. так отчаянно и затравленно глянул на мальчика, что очевидное «остался» застряло в его сжавшемся горле.
– Первое, – R. кивнул на тумбочку, где стояла обычно вечерняя чашка, – не пей больше на ночь шоколад, не бери его ни из чьих рук, ни за что и никогда. Второе, – он посмотрел на дверь, – кроме замка, у тебя есть задвижка наверху. Она старая, ею давно никто не пользовался, но она работает. Задвигай ее на ночь. Всегда. И третье… – Он склонился ближе; D. подался к нему. Лбы их почти соприкоснулись, голос R. стал совсем тихим, и Ивану пришлось напрягать слух: – Если вдруг увидишь это… существо еще хоть раз, напиши в любую из московских газет, что приносят твоей матери. Напиши редактору, что тебе нужен человек, зовущий себя Осой, и что у тебя есть рассказ для него.
– Рассказ?.. – пробормотал D., но по глазам читалось: он все запоминает.
R. улыбнулся, и уже не холод, но жар ударил Ивана, точно плеть.
– Оса собирает дурные сны. И побеждает чудовищ.
– Любых-любых? – Как всякий ребенок, D. не удержал робкого восторга.
– Почти всех. – R. помедлил, ненадолго отошел к комоду, но вскоре вернулся. Стоя к Ивану спиной, протянул что-то мальчику со словами: – И возьми еще вот это. Хотел подарить тебе на день ангела. Но пусть сейчас, пусть тоже тебя бережет. Я люблю тебя.
Блеснул металл. Снова они молчали какое-то время… а потом D. сорвался, обнял его, спрятал лицо на груди, обхватил дрожащими руками, такими смуглыми на белой ткани рубашки.
– Не уезжай, не уезжай, не… – горячо, но все тише бормотал он, и R. никак не мог оторвать его от себя.
– Я люблю тебя, – повторил он, покоряясь, обнимая худую спину в ответ. – Что бы ни случилось, помни об этом. А сейчас тебе…
– Что это вы тут делаете-с?
Высокий голос из-за спины заставил бы Ивана подпрыгнуть, а может, и врезаться в дверь лбом, если бы у него остались хоть какие-то силы. Но силы истаяли; голова заболела, кровь застучала исступленнее – и более всего отвратительное чувство походило на… вину. За что? Да за что, бога ради, пусть даже ничего сейчас и не стряслось меж двумя шепчущимися по ту сторону двери? Иван не понимал, не понимал вообще ничего. Ведь только что он получил довольно веское доказательство их с графом подозрений – второй приход R., эти синяки, слова мальчика, тайна, которую он от всех скрыл… где торжество? Почему вот-вот загорятся уши, точно его, Ивана, глубоко опозорили? Так или иначе, никак не выдав эту внутреннюю бурю, он как можно плавнее выпрямился, развернулся и с самым строгим видом приложил палец к губам:
– Тсс…
Перед ним стоял секретарь – в обычном костюме мышиной, а вовсе не петушиной расцветки; с одуванчиковой шапкой русых волос; с расчетной тетрадью под мышкой. Цепкие выпуклые глаза его забегали по Ивану вопросительно и настороженно, явно выискивая что-то подозрительное.
– Добрый день. – Иван кивнул и безмятежно улыбнулся. – Дособираю… – он помедлил, сделал внушительный вид, – материал, так сказать. Черты к портрету; ничто ведь так их не прибавляет, как наблюдение тайное…
Он даже сумел двусмысленно подмигнуть – помог задергавшийся глаз.
– Отвратительно. – Бледно-розовые губы Петуховского жеманно-одобрительно изогнулись, а потом он, явно потеряв к беседе интерес, зевнул. – Но умно. Ладно-с, а мне вот нужно бы заглянуть к мальчику, проведать… – И он пошел было дальше.
– Не ходите, он спит! – выпалил Иван и сам себе удивился. Петуховский был удивлен не меньше, заозирался. – Я уже заглядывал, ну, подглядывал и за ним тоже…
Звучало ужасно в контексте всего пережитого маленьким графом, но мысли Ивана слишком заметались. Путь по коридору у этого длинноногого секретаря займет меньше минуты, а вот тот же путь по карнизу даже у такого ловкого существа, как D., – минуты четыре. А может, R. так и не удалось его выпроводить; может, он еще тут; может, оба они, затаившись, слушают разговор в коридоре…
– Когда? – осторожно поинтересовался Петуховский, глянув Ивану через плечо.
– Да вот пять минут как. – Тот прислушался. В комнате то ли не говорили, то ли говорили теперь совсем шепотом. – И мне кажется, лучше бы зайти через полчаса или вроде того; может, проснется… жалко будить, у него ведь плохо со сном. Нет?
– Может быть, – задумчиво кивнул секретарь и, чуть оживившись, устремился к черной лестнице. – Что ж, раз так, пойду-ка пока в сад, выберу последние розы для графини, и пусть Александр срежет. Со мной пройтись не хотите-с…
Да что за народ эти деятели без тени обломовщины! В сад! Еще лучше! Иван спешно шагнул к секретарю, ухватил его под локоть и развернул в другую сторону.
– Да, да, буду рад, но, если можно, сначала просьбу! Как к хорошему товарищу!
Худой и действительно напоминающий одуванчик, Петуховский покачнулся, изумленно зыркнул из-под упавшей челки. Иван никогда с ним особо не расшаркивался, а тут ошпарил самой горячей дружеской улыбкой, припасаемой обычно для строгих экзаменаторов в университете. Улыбаться Иван умел, этого не отнять.
– Обещал мне тут граф, – он проникновенно понизил голос, – необычное издание, посмертный детектив Диккенса, где вроде бы нет концовки, можно и голову поломать… отвлекать его от дел не хочется, не поможете найти в библиотеке? Знаю ведь, читать вы тоже любите.
Петуховский, который вслед за графом относился к Ивану с покровительственным благодушием – пусть и был старше всего года на два, – конечно же, расцвел и согласился, затараторил что-то о последних выписанных из Англии романах.
Поиск «Тайны Эдвина Друда» занял даже больше, чем Иван надеялся, и ожидаемо окончился неудачей. Все время колупания в пыльных книгах он внутренне ликовал, сам не понимая почему. Укрыл заговорщиков. Маленького, не понимающего, что творит, и взрослого, который… который, черт возьми, что? Едва отступило ликование, едва отстал вездесущий Петуховский и закрылась резная библиотечная дверь, мысли снова накалились, впились крючьями. Голова совсем разнылась. Небо потемнело. Иван спешно покинул дом; пошел по холодному Каретному куда глаза глядят, погруженный сам в себя. Даже плащ не надел – просто волок на руке.
Что он услышал там, под чужой дверью? Как вышло, что мальчик запомнил чудовищную хватку на запястьях, но более – ничего? И что будет, когда – если – с годами оживет прочее? Боль; наверное, огромная боль от долгого самообмана… или? И снова громовой удар по вискам: а что, если «или» все-таки не имеет к R. отношения? Если он, Иван, не прав, и все прочие тоже? Что, если план их с газетой не мудр, а пагубен, не наказание, а преступление? Если…
Он одернул себя, замер посреди мостовой, поднял голову. Вдохнул. Выдохнул. Вспомнил склонявшиеся друг к другу лица юноши и мальчика, вспомнил испуганные графинины глаза, и синяки на тонкой коже, и цыган у порога. Смешал все в пестрый вихрь и слился с ним. Отбросил. Ветер дал ему пару хлестких морозных пощечин; прохожий толкнул, сверкнув красной сатиновой заплатой на локте; узорчатая карета-тыковка окатила подмерзшей грязью – все дергало, все волокло, все окликало: «Очнись, очнись, для чего это все?» И мысли, только что кипевшие смертельным водоворотом, вдруг прояснились. Замерли. Выкристаллизовались и наполнились ядом – привычным, бодрящим… спасительным.
Ничего не изменить. Так или иначе – нет. Если R. виновен, после осиной статьи он не выдержит, признается: измучен ведь. Если же невиновен, поступит предсказуемо, потребует извинений в той форме, в которой вправе получить их любой оскорбленный мужчина, – и Оса, человек чести, их непременно даст, не думая о разнице сословий. Скандал нужен так или иначе. Без шума правду не открыть. Для того, в конце концов, и есть беспощадное газетное слово, для того жужжат Осы всех мастей. И слава им. Иван накинул плащ, улыбнулся, прибавил шагу. Все же зашел в трапезную, купил себе пирогов и вернулся домой читать свежего Жюля Верна, дерзнувшего написать внезапно о русских[7].
Статья вышла через два дня. Еще через два R. выставили из Совиного дома.
Он не покаялся, не попробовал наложить на себя руки, не потребовал извинений – не сделал ничего. План провалился, сойтись пришлось на «унизительном», по словам графа, компромиссе: никаких полицейских, но и никаких выходных пособий. Огласка вроде получилась, но не гром среди ясного неба. Отсутствие имен тоже сделало свое дело: в дворянской Москве со временем внезапно нашлись и другие дома, подходящие на роль того самого, из фельетона: без змей, сов и роз, зато с грязными ночными секретами самого разного толка. Вряд ли R. теперь смог бы стать чьим-то учителем, но вот отец его, кажется, не пострадал, да и перед самим ним не закрылись все двери прочих служб.
Зато главное из-за фельетона все же изменилось, и необратимо. Яд перестал спасать.
Иван ярко запомнил тот туманный день: R. быстро уходил к воротам сквозь побитый заморозками багрово-белый розарий; Lize со злым лицом, делавшим ее еще некрасивее, наблюдала из окна, а прочие забились по углам, словно боясь встретиться друг с другом глазами. D. в своей комнате плакал, все еще не зная, почему его лишили белого рыцаря. Этот вой маленького призрака резал и слух, и душу. Может, от него все и попрятались?
Иван стоял с Lize и тоже не сводил с R. глаз. На краю дорожки тот помедлил: сорвал розу цвета чая, бережно спрятал в карман, смахнул кровь с уколотых пальцев. Все же обернулся – но взгляд метнулся не к гостиной, а к окну детской. Наконец ворота закрылись. Lize посмотрела на Ивана, кривовато улыбнулась и пробормотала: «Спасибо большое от всего сердца, за меня и за братца». Она потупила головку, сделала подобие книксена, запнулась, но ее тон… что-то екнуло в Иване, точно он услышал не благодарность, а издевку. Он кивнул с самым решительным видом, но, едва Lize убежала, сгорбился и, скрипя зубами, впился пальцами в собственные волосы, с силой их дернул.
Его мутило, лицо горело. Мучительно ныло жало – ведь это он, он был Осой, и, сам не ведая, Оса в те минуты умирал. Впервые он не верил в то, что написал, – только признаться до конца не смел даже себе. Гнев друга семьи схлынул, а сомнения голоса справедливости, не один год отвоевывавшего это звание, остались. Их укоренило гордое и скорбное молчание R.; укоренил плач мальчика, так и не спустившегося ни к завтраку, ни к обеду. Всем известно: оса, в отличие от пчелы, не погибает, единожды ужалив. Так и Иван жалил раз за разом, не зная печали и стыда. И вот его жало, кажется, сломалось.
«Если вдруг увидишь это существо еще хоть раз… напиши, что тебе нужен Оса». R. видел в своем палаче последнего и главного защитника для дорогого маленького друга. И чем больше Иван это осмысливал, тем сильнее ему хотелось действительно умереть.
3. Дознаватель
Сущевская полицейская часть
1887 год, 24 декабря, вечер
В голове K. вертелись красные сердечки из сургуча, расколотые пополам. Как он мог, странствуя с призраком, забыть деликатную деталь про сеновал, как не связал одно с другим сразу? Это же наверняка печати «писуленций» Lize, тех самых, которые она подбрасывала Аркадию, а тот… тот, видимо, не понимая, как деликатно реагировать, их просто возвращал. Читал, конечно, но не давал даже вразумляющих отрицательных ответов. На его месте, угодив в подобный переплет, K. так и поступал бы: никогда ведь не знаешь, что обернет против тебя – безродного человека в услужении – вспыльчивая и ранимая барышня. А мальчик… мальчик-то ни при чем.
Часть картинки, которая вырисовалась постепенно в рассудке К., была банальной и глупой: устав тратить клубничные духи, Lize решила выжить Аркадия из дома – вот и поделилась с домочадцами тайной, которую прежде хранила. К. даже не удивился бы, если бы в последнем ее письме содержался некий грозный намек, мол: «Я знаю о ваших ночных похождениях, загляните лучше ко мне, если не желаете огласки». Или еще что-нибудь похожее в духе недописанного романа. Авантюристка… сколько ей было, около тринадцати? Не удивительно, что, увидев письмо возвращенным и по-прежнему безответным, Lize взбесилась, начала танцевать, точно ведьма на балу у Сатаны. Разбитое сердце в груди маленького, но беспощадного охотника – что опаснее для дичи, которая ускользает?
Она обдурила даже Осу – и добилась своего. Боже милосердный, какой стыд для блистательного неподкупного газетчика – разрушить чужую жизнь из-за девчонки, которая и последствий-то мести, скорее всего, не понимала! Впрочем, не в ней одной было дело, нечего оправдываться. Оса слыл в читательских кругах Осой, но для друзей, для славной семьи из Совиного дома был скорее верной собакой. Что делает собака, видя, как напали на хозяина? Кусает обидчика, не разбирая причин.
К. уже не лежал головой на столе, но сидел, спрятав лицо в ладонях и по привычке терзая волосы. За десять минувших лет они стали жестче; прикрывать ими торчащие, нелепо заостренные уши К. перестал, так что цепляться за пряди, чтобы совладать с растерянностью, становилось все сложнее. А обуревала его единственная мысль: «Все проиграл, все…». В святую ночь ему, К., дали удивительный, мало кому выпадающий шанс. К нему пришел дух, пусть суровый, но справедливый, могучий и желавший осветить ему дорогу к правде. А он что? Замалодушничал и заупрямился там, где нужно было покорно распахнуть глаза; надерзил, забыв, какое обращение полагается с высшими силами… бездарь. Ну что заслужил, то и получил. Правда, которую удалось приоткрыть, рисовала его, К., просто законченным глупцом. Где, где были его глаза? И кого спасла, подменив оклеветанным учителем, глупенькая Lize?
Увы, пока оставалось только махнуть рукой, встать, погасить свет и… что, поехать домой и на бал к L.? Нет, только домой, и пусть Нелли простит. Последняя тень желания повеселиться улетучилась; остались свинцовая усталость и нытье в спине, запомнившей, видимо, удар о стол из далекого прошлого. К. растер щеки. Свеча все еще горела; оплывала медленно-медленно, точно и для нее время шло как-то по-своему или не шло вовсе. За окном, расписанным морозным лесом, продолжалась ленивая метель.
