Читать онлайн Февраль 1933. Зима немецкой литературы бесплатно
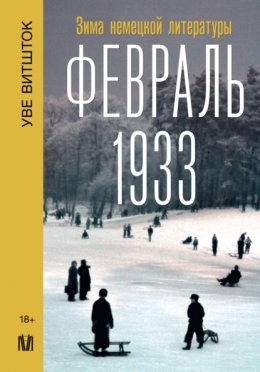
Uwe Wittstock
Februar 33. Der Winter der Literatur
© Verlag C.H.Beck oHG, München, 2021
© С. П. Ташкенов, предисловие, 2024
© А. В. Рахманько, перевод, 2023
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2024
* * *
В память о Герте Витшток
(1930–2020).
В феврале 1933-го ей было три года.
«Безумие, безумие творишь!»
Предисловие научного редактора
В память о Герте Витшток (1930–2020). В феврале 1933-го ей было три года.
Спойлеры – дело скверное. Но без них, к несчастью, не обойтись. Поэтому если читатель не хочет портить себе удовольствие от чтения, то лучше ему воспринять предисловие как послесловие и обратиться к нему в конце. Или же, задумавшись о природе и сути спойлера как такового, понять, что, прочитав одно только название книги, он уже угодил в ловушку главного спойлера: сотни талантливых/гениальных/великих жизней оказались разрушены/сломлены/обречены, когда зимой 1933 года к власти в Германии пришел диктатор.
«Календарный» жанр, в котором написана книга, снискал популярность в последние 10 лет – и неспроста: хроника повседневности иначе высвечивает факты Истории, прожектор частности выхватывает из темноты всеобщее. Автор и литературный критик Уве Витшток сделал методом многих своих текстов не реконструкцию «исторического полотна», но воссоздание ощущения исторического слома через сплетение нитей отдельных жизней. «Февраль 1933» хочется назвать романом, пусть и документальным, пусть автор и заявляет, что в нем «нет героев и подвигов», пусть все персонажи и равны друг перед другом и зачастую повторяют одну и ту же судьбу. Возникает желание назвать книгу также трагедией: не только вольных или невольных жертв тоталитарной системы нового нацистского режима, но и великой культуры в целом, растоптанной за какие-то несколько недель и вынужденной бежать в эмиграцию – одно из немногих слов тогдашнего нацистского жаргона, которые, к счастью, не сохранили «трупный запах Третьей империи»[1].
Скорость, с которой Германия полетела в пропасть «взбесившегося антигуманизма» (Томас Манн), – отдельная драма. Оказавшись у власти после не самой честной политической игры, нацисты в первую же неделю стремились закрутить самые важные гайки: ограничить гражданские права, устранить семиотическое присутствие «иных» в публичной сфере, уничтожить свободу слова. Они прекрасно осознавали власть, которой обладают культура и слово, поэтому первыми, наравне с евреями и коммунистами, пострадали журналисты, писатели и интеллектуалы: уже в начале марта на площадях немецких городов будут гореть первые книги на фоне расползающейся агрессии, резни и демонстративной безнаказанности приверженцев нового режима – гражданской войны в микроформатах. Этой стремительностью перекраивания культурных координат Витшток, среди прочего, объясняет, почему многие медлили до последнего, не решаясь уехать: опасность, в которой очутились люди, оказалась в буквальном смысле «невообразимой». Чем еще, как не отказом психики верить, что «ад восторжествовал» надолго, объяснить отчаянный оптимизм попытки Клауса Манна «отложить пьесу на год»? Или бесконечное ожидание постановки Эльзы Ласкер-Шюлер? Или Георга Кайзера, сперва не воспринявшего ситуацию всерьез? Никто тогда не мог предположить, сколько будет навсегда разлученных – еще не войной, но уже диктатурой. Эрика Манн несколько лет спустя будет также отмечать ту «скорость, с которой в 1933 году были перевернуты все значения и смыслы, когда стало возможным называть черным все, что еще неделю назад было белым»[2].
Осмысляя истоки и природу фашизма, философ Георг Лукач отмечал, что его идеология была обращена к тем сторонам жизни, которые сдерживались и подавлялись культурой: «Фашизм заинтересован в том, чтобы отчаяние масс застыло в своей тупости, мраке, безысходности… Фашистская “философия” холит и лелеет это отчаяние»[3]. То, что мы привыкли называть понятием высокой культуры, обнаружило здесь свою великую уязвимость, поскольку «так называемая оппозиция одиночек с исторической точки зрения несущественна»[4]. На смену Литературе насаждался ширпотреб с вереницей фёлькиш-авторов[5], запоминать фамилии которых даже не стали утруждать себя ни читатель, ни художественная история. Тем не менее нацистский проект по подмене культуры оказался успешен. Во-первых, социальное ядро нацизма формировали вокруг низов среднего класса, нажимая на еще не затянувшуюся рану национального унижения после Версальского мира. Во-вторых, благодатную историческую почву предоставляла и начавшаяся «эра толпы» (Гюстав Лебон): «…толпа руководствуется звериными эмоциями. […] Толпе претит демократия, она тяготеет к авторитаризму; ей нужен вождь»[6]. Такой «голодный империализм» толпы низов оказался идеальным плацдармом, на котором Гитлер в кратчайшие сроки реализовал «идею нигилистического цинизма, открыто порвавшего со всеми традициями гуманности»[7]. Искоренять прогресс, демократию и идею о равенстве всех людей помогала расовая теория, которую Гитлер выстраивал по принципу фетиша, стремящегося превратить мир в pax germanica. Лукач описывает этот процесс, с одной стороны, как активную фетишизацию нации, стиравшую «различия между оправданными национальными жизненными интересами народа и агрессивными тенденциями империалистического шовинизма», с другой – как агрессивную фетишизацию культуры, под маской которой скрывался «протест отмирающих элементов против исполненных будущего»[8].
Историк и специалист по культуре Германии периода нацизма Джордж Моссе, проанализировав внушительное количество источников и документов с 1933 по 1939 год, констатировал в них «удивительное единство стиля», частью которого была определенная «динамика»: «настрой на необходимость борьбы со злом»[9]. Но здесь же выделяется и множество четких векторов, по которым нацисты – правда, в рамках одной и той же плоской риторики – перекраивали культуру. Один из них можно обозначить словами Моссе как «фабрикацию героев и мифов»[10], а говоря проще – как регресс и героизацию прошлого. Витшток подробно цитирует одну из речей Гитлера, обнажающих риторику умаления отдельного человека перед лицом прошлого и проистекающей из него великой исторической миссии: так, в ходе февральской избирательной кампании он кричал о своей задаче – «восстановить чистоту нашего народа», кричал о своей цели – «пробудить благоговение перед великими традициями нашего народа, вернуть глубокое уважение к достижениям прошлого, смиренное восхищение перед великими деятелями немецкой истории». Гитлеровская риторика вычерчивает четкий треугольник прагматики, расставляющий по своим местам индивида, историю и фюрера: «благоговение/уважение/смирение/восхищение» – «великие традиции / достижения прошлого / великие деятели истории» – «восстановить/пробудить/вернуть». Уже совсем скоро фетиш национального величия будет так же кричать с заглавий псевдофилософских трактатов и псевдонаучных обоснований нацистской культуры: «Арийцы – созидательная сила в истории человечества» (Якоб Граф), «Расовое воплощение, расселение и мировое господство» (Людвиг Фердинанд Клаус), «Адольф Гитлер, спаситель Германии» (Вернер Май) и прочие, и прочие.
Виктор Клемперер, великий исследователь Lingua Tertii Imperii (LTI) – «языка Третьей империи» – называл основным свойством нацистского языка скудость: «LTI беден и убог… Нищета его – принципиальная, словно он дал обет бедности», при этом он «въедался в плоть и кровь масс […] через отдельные словечки, обороты речи, конструкции предложений, вдалбливаемые в толпу миллионными повторениями и поглощаемые ею механически и бессознательно»[11]. Хор голосов, неугодных новой власти и несогласных с ней, удивительно един в своей чувствительности к новым ядовитым стилистическим и риторическим регистрам: «Журналы по филологии […] настолько пропитаны жаргоном Третьего рейха, что буквально каждая страница вызывает приступ тошноты»[12]; «газеты, журналы, учебники, вся официальная литература стали напыщенными и наполненными грубыми солдафонскими вульгарными выражениями, которые столь типичны для самого фюрера»[13]. При этом, как и любое искусственное насаждение культуры, идеологизация (мифологизация вкупе с милитаризацией) не стеснялась искажать не только язык, но и историю. Среди наиболее известных примеров такой героизации – король Пруссии Фридрих Великий, дружбу которого с Вольтером нацисты предпочитали замалчивать или недоговаривать, потому что рационализм Просвещения представлялся делом крайне опасным для выстроенного фантазма фашистских идей. Или немецкие поэты прошлого, намеренно превращаемые «в создателей сырья для нацизма»[14]: так, нацистская культура – с легкой подачи Геббельса – оказывалась буквально реинкарнацией культуры эпохи Гёте и Шиллера, визитной карточки Германии. Подобные искажения – капля в море. Но, капля за каплей, мифология стала системной.
Когда Германия, делая «шаг над пропастью», лепила новых фёлькиш-фетиш-героев, фюрер был не один. Чисткой культурной сферы и созданием новояза занималось министерство Йозефа Геббельса, делая расчет на вкусы обывателей и транслируя государственный, низменного стиля язык агрессии, находивший отклик у целевого «электората». Геббельс не только ввел цензуру на издаваемые книги, неустанно пополняя списки запрещенных текстов, но и, что немаловажно, запретил критику литературы и искусства в целом: допуская в репортажах об искусстве лишь описание явлений и событий, он перекрыл кислород публичной интеллектуальной деятельности. В выступлении на ежегодном конгрессе палаты культуры в 1937 году после печально известной выставки «дегенеративного искусства» Геббельс, пожалуй, полнее всего продемонстрировал лицемерие своей риторики и пропагандистское мастерство подмены понятий, называя «извращенное», «безобразное и шокирующее» творчество модернистов «бесплодным продуктом снобистского декадентства», «большим скотством» и «звероподобным состоянием», а официальную «отмену» конкретных художников («этот акт был непосредственно связан с чисткой и координацией нашей культурной жизни») – «окончанием кошмара, довлевшего над нашими душами». Критика искусства, создававшая «тенденции» и «измы», оказывалась в трактовке Геббельса виновной в дегенерации искусства, поскольку она «не оценивала развитие искусства в соответствии со здоровым инстинктом, свойственным народу, а исходила из пустой интеллектуальной абстракции». О качестве искусства теперь следует судить по посещаемости культурных мероприятий новым критиком – простым народом, ведь «люди обладают здоровым чувством восприятия истинных свершений, понимая пустоту разговоров о мнимых достижениях. Вкус этот определяется имеющимся у них предрасположением, однако его необходимо систематически, но корректно направлять. […] Театр и кино, писатели и поэты, художники и архитекторы ощущают на себе плодотворность такого воздействия, о чем ранее не приходилось и мечтать. […] Так что фюрер действовал в национальных интересах, наведя порядок в этом хаосе. Такое искусство следовало закономерно убрать с обозрения, так как хотя и примитивный, но здоровый народный вкус должен соблюдать соответствующую духовную диету. […] Нынешний немецкий художник чувствует себя более свободным, чем прежде, не ощущая никаких препон. Он с радостью служит своему народу и государству, которые относятся к нему с теплотой и пониманием. Национал-социализм нашел у творческой интеллигенции полную поддержку»[15].
Однако, похоже, что более пристальное внимание министерство пропаганды уделяло печатному слову. Издательское дело в Германии традиционно носило личностный характер и соблюдало традиции, заложенные их основателями и носящие их имя: «Ульштайн» (продано в 1934-м и стало центральным органом печати НСДАП[16]), «С. Фишер» (чудом – а во многом благодаря начинающему великому издателю Петеру Зуркампу – избежал закрытия и «ариизации», хотя 123 наименования пришлось удалить из программы), «Ровольт» (половина книг конфискована, сожжена или запрещена; издательство передано в управление подконтрольному государству издательскому дому, закрыто в 1943-м, открыто вновь в 1945-м), «Кипенхойер» (две трети книг запрещены, было вынуждено открыться заново в 1946-м) и многие другие – как и упомянутые на страницах книги, так и оставшиеся за скобками. Но не все издатели и писатели отстаивали свои идеалы. К примеру, актуальный курс государственной идеологии и новые требования к печатному художественному слову транслирует небольшой пропагандистский текст-концентрат издателя и культурполитика Адольфа Шпемана «Об ответственности издателей перед нацией». Стандартная нацистская риторика подмены понятий заставляет понять неизбежность волны писательско-издательской эмиграции: «Великий мастер воспитания людей Адольф Гитлер буквально за несколько лет изменил наши души и внес в книгоиздательскую деятельность чувство огромной ответственности. […] Из безучастного зеркала культурной жизни издатель превратился в носителя культурно-политических целей. Находившийся ранее в услужении у писателей, он теперь стал представителем государства, идейным борцом, сражающимся на переднем крае идеологического фронта. Ныне издателю недостаточно быть мастером своего дела и высококультурной личностью, он должен быть пропагандистом государственных идей и лидерства Адольфа Гитлера […]. Эпоха дегенерации осталась в прошлом, и одним из доказательств этого является понимание того, что книги могут разрушать душу. Теперь уже невозможно, чтобы какой-нибудь литератор стирал свое грязное белье на людях, да еще получал за это деньги». Шпемана не смущает, «что при этом будут разрушены некоторые ценности, […] ведь широко известно, что во время большой уборки дома что-то из посуды может и разбиться». Наконец, в полном соответствии с установками Геббельса он формулирует задачи новой литературы, которая должна научить людей «различать фальшивые ноты, отличать прекрасную народную речь от стилизованного языка, внутренне ощущать настоящую поэзию, не признавая дешевого сочинительства, понимать диалектику и ценные научные достижения, не блуждая в тумане философствования»[17]. Его издательство «Энгельхорн» переживет только 10 послевоенных лет и в итоге растворится в истории.
Важно понимать, что приведенные цитаты и документы «дремучей необразованности и сознательной фальсификации»[18] в стиле «базарного агитатора-крикуна»[19] – не единичные случаи: одни и те же репрессивные процессы «обновления» обрушились лавиной и на всю систему воспитания и образования от детсада до университета, и на институт брака, и на все стороны социальной жизни, целиком и полностью подчиненной воле фюрера. Или, говоря словами Эрики Манн: «Все это носится в воздухе, которым с таким трудом дышит каждый житель Германии»[20]. В то же время она, уже находясь в эмиграции, не уставала возлагать надежду на отдельного человека перед лицом истории (которому в ней потом будет отказывать Лукач): «Те, кто могут оставаться в рейхе в безопасности, должны там остаться. Особенно если они не сливаются с окружающей унылой безмозглостью. Очень важно, чтобы хоть немного интеллектуалов и разумных людей осталось в стране»[21]. За рамками книги Витштока по большей части остались люди, которые не смогли или не захотели уехать и которым пришлось дышать этим трудным, тяжелым воздухом. О таком опыте внутренней эмиграции и «крушения личности в безличностном обществе»[22] после прихода нацистов к власти будет в конце 1950-х годов вспоминать писатель и драматург Эрих Эбермайер: «И вот ты становишься все более одиноким. Повсюду твои бывшие друзья клянутся в верности Адольфу Гитлеру. А вокруг тех, кто этого не сделал, образуется как бы безвоздушное пространство. Лучшие друзья юности становятся верными приверженцами национал-социализма. […] Они просто уверовали в национал-социализм и говорить с ними на эту тему бесполезно»[23]. Однако читатель, находящийся на временной дистанции к персонажам книги Витштока и знающий факты истории, может прочитать в ней и неоспоримый факт оптимизма: всякое Зло конечно.
Сергей Ташкенов
Шаг над пропастью
Месяц, который все решил
Эта книга не о героях и подвигах. Эта книга – о людях, оказавшихся в великой опасности. Многие из них ее не признавали, недооценивали, реагировали слишком медленно – иными словами, ошибались. Конечно, листая сегодня учебники истории, так легко заявить, что эти люди были полными дураками, раз не понимали, что означал для них приход Гитлера к власти в 1933 году. Но тем самым мы проигнорируем историческое мышление. Если тезис, что преступления Гитлера невообразимы, имеет хоть какой-то смысл, то в первую очередь – для его современников. Они не представляли себе – разве что догадывались, – на что способны фюрер и его окружение. По всей вероятности, такая «невообразимость» – характерная черта цивилизационного разлома.
Все разворачивается безумно быстро. Между приходом Гитлера к власти и Чрезвычайным указом о защите народа и государства, отменившим все основные гражданские права, проходит ровно четыре недели и два дня. Одного-единственного месяца хватило, чтобы бесцеремонно превратить правовое государство в тиранию. Бесчисленные убийства начнутся позже. Но уже в феврале 1933-го было решено, кого это коснется: кому придется опасаться за свою жизнь и спасаться бегством, а кто бросится делать карьеру под протекцией преступников. Никогда еще столько писателей и художников не покидало свою страну за столь короткий промежуток времени. Речь пойдет и об этой первой волне беженцев, продлившейся до середины марта.
Исходную политическую ситуацию, позволившую Гитлеру прийти к власти, с разных ракурсов анализировали историки разных мастей. Везде упоминается несколько одних и тех же факторов: поляризовавшее страну растущее влияние экстремистских партий; раздутая пропаганда, которая вбивала клин все глубже и блокировала любые компромиссы; ко всему прочему – нерешительность и слабость политического центра; напоминающий гражданскую войну террор справа и слева; набирающий обороты антисемитизм, бедствия и нищета Великой депрессии, установление националистических режимов в других странах.
Сегодня, к счастью, все по-другому. Но со многими факторами можно провести параллели: растущий раскол общества; непрекращающееся возмущение в Интернете, которое тоже вбивает клин все глубже; беспомощность среднего класса в попытке подавить интерес к экстремизму; растущее число террористических актов как со стороны правых, так иногда и левых; рост антисемитизма; спад мировой экономики в результате пандемии и финансового кризиса; установление националистических режимов в других странах. Так что, возможно, самое время задуматься, что может произойти с демократией в случае фатального ошибочного политического решения.
В феврале 1933 года в опасности оказались не только писатели и художники: для других ситуация была, возможно, еще более угрожающей. Первой жертвой нацистов в ночь после присяги Гитлера на пост рейхсканцлера стал старший сержант прусской полиции Йозеф Зауриц – по мнению газеты «Воссише Цайтунг», верный республиканец и профсоюзный деятель. Речь пойдет и о его убийстве. Но о писателях и художниках в феврале 1933 года сохранилось несравнимо больше личной информации, чем о любой другой группе населения. Их дневники и письма собирались, записи архивировались, мемуары печатались и изучались биографами с амбициями детективов.
Их истории показывают, что происходило с теми, кто пытался отстаивать правовое государство и демократию. И как трудно осознать, что обычная жизнь превращается в борьбу за выживание, а исторический момент требует экзистенциальных личных решений.
Всему, о чем здесь пойдет речь, есть доказательства. Этот рассказ строится на фактах, хотя и допускает некоторые вольности в интерпретации, без которых не описать исторический или биографический контекст. Естественно, в этой мозаике изображено далеко не все, что происходило с писателями и художниками в тот период. Томас Манн, Эльза Ласкер-Шюлер, Бертольт Брехт, Альфред Дёблин, Рикарда Хух, Джордж Грос, Генрих Манн, Маша Калеко, Габриэла Тергит, Готфрид Бенн, Клаус и Эрика Манн, граф Гарри Кесслер, Карл фон Осецкий, Карл Цукмайер и Берлинская академия искусств – это лишь примеры. Общая же картина не уместится ни в одной книге.
Многие, кто поначалу не оставлял надежды, так и не оправились после этого месяца. Слишком многие писатели замолкли и исчезли почти бесследно. Этот переворот предрешил судьбы всех.
Прощальный танец Республики
Суббота, 28 января
Уже несколько недель Берлин мерзнет. Почти сразу после Нового года ударили морозы, и даже самые крупные озера – Ванзе и Мюггельзе – скрылись под пластами льда, а теперь еще и выпал снег. Карл Цукмайер стоит перед зеркалом у себя в мансарде рядом с городским парком в Шёнеберге. Надев фрак, он завязывает белоснежную бабочку под воротником рубашки. Перспектива выйти из дома в вечернем наряде сегодня не особо вдохновляет.
Цукмайера не манят большие вечеринки: как правило, на них ему скучно, и, как только подворачивается удобный момент, он без лишнего шума исчезает с друзьями в очередном кабаке для кучеров. Но Бал прессы – самое важное светское мероприятие зимнего сезона в Берлине, подиум для богатых, влиятельных и красивых. Было бы ошибкой на нем не засветиться – бал пойдет на пользу его репутации востребованной восходящей звезды литературной сцены.
Цукмайер слишком отчетливо помнит невзгоды первых лет своей писательской карьеры, чтобы упускать такие возможности. Остававшись без гроша, он подрабатывал зазывалой и вылавливал на улицах авантюрных гостей Берлина после закрытия заведений, чтобы заманить их в нелегальные злачные места в подворотнях. В некоторых из них ждали полуобнаженные девушки, готовые не брезговать желаниями гостей. Однажды он даже – с парой пакетиков кокаина в кармане – попробовал себя в роли дилера на ночной улице Тауэнцин, но быстро передумал: хотя он и крепкий парень и обычно ничего не боялся, это занятие показалось ему слишком рискованным.
Но после выхода в свет «Веселого виноградника» все это в прошлом. Оставив за плечами четыре крайне патетические, совершенно неудачные и абсолютно провальные драмы, он впервые решился на комедийный сюжет – немецкую версию бурлеска о дочери виноградаря из провинции Рейн-Гессен, родины Цукмайера. Среду виноградарей и виноторговцев он знает вплоть до мелочей. Под его пером все это превратилось в своего рода народную пьесу: каждая нотка вышла верной, каждая шутка – удачной. Поначалу берлинские сцены задирали нос перед такой сельской комедией. Но когда Театр на Шиффбауэрдамм рискнул и устроил премьеру в канун Рождества 1925 года, с виду низкосортная постановка неожиданно обнажила когти: бо́льшая часть аудитории заходилась хохотом, а оставшаяся – гневом на кусачую сатиру, с которой Цукмайер высмеивал националистические бредни упрямых ветеранов войны и кадетов. Их ярость лишь подстегнула известность и успех «Веселого виноградника»: он стал настоящим театральным хитом, возможно, самой популярной постановкой 1920-х годов, и ко всему прочему был экранизирован.
Теперь, семь лет спустя, в репертуаре берлинских театров сразу три пьесы Цукмайера: во «Фрайе Фольксбюне» идет «Шиндерханнес», в Театре Розе[24] во Фридрихсхайне показывают сенсационного «Капитана из Кёпеника», а в Театре Шиллера – «Катарину Кни». Для кинокомпании «Тобис» он работает над сказкой, а газета «Берлинер Иллюстрирте» собирается приступить к публикации отрывков из повести «История любви», которая должна почти сразу выйти и в виде книги. Дела у него идут в гору. Далеко не каждый писатель к 40 годам добивается такого успеха, как он.
С террасы виднеются огни Берлина – от радиобашни до купола кафедрального собора. Эта квартира – второй дом Цукмайера, помимо виллы под Зальцбургом, которую он приобрел на гонорары от «Веселого виноградника». Квартира совсем не большая – кабинет, две крохотные спаленки, детская, кухня и ванная, – но он ее любит, особенно за вид на крыши города. Цукмайер купил ее у Отто Фирле, архитектора и художника, создавшего, в частности, летящего журавля – логотип компании «Люфтганза». Тем временем Фирле пользуется большой популярностью у зажиточной буржуазии и интеллигенции Берлина и больше не облагораживает мансарды, а проектирует виллы одну за другой. Через два года Фирле – о чем Цукмайер в этот вечер, конечно же, не догадывается, – построит в Дарсе на Балтийском море загородный дом для министра, получившего доступ к деньгам и власти, по имени Герман Геринг.
По многолетней берлинской традиции Бал прессы проходит в последнюю субботу января. Издательство Цукмайера «Ульштайн» прислало ему почетные приглашения, и жена Алиса без промедления отправилась на поиски нового вечернего платья. В этом году к нему из Майнца на неделю приехала погостить мать, и сегодня она тоже в новом платье: серебристо-сером, с кружевными вставками – подарок сына на Рождество. Это ее первый большой берлинский бал, и ей не скрыть своего волнения от сына.
Но для начала они хотят поужинать в хорошем ресторане. Вечер обещает быть долгим, начинать такую бальную ночь слишком рано не стоит, тем более – на голодный желудок.
* * *
Что касается планов на вечер, Клаус Манн явно поставил не на ту лошадку: маскарад у некой фрау Рубен в Вест-Энде. Заурядно и дурно. Он недоумевает, как там оказался.
Он приехал в Берлин три дня назад и, как обычно, остановился в пансионате «Фазаний уголок». В кабаре[25] Вернера Финка «Катакомба» он встретил свою сестру Мони, которая и пригласила его к фрау Рубен. Программа Финка показалась ему слабой, без задора, но он хотя бы снова увидел на сцене Кадидю, самую застенчивую из сестер Ведекинд, – она ему нравится и чем-то напоминает бывшую невестку.
С недавних пор Клаус Манн стал все чаще заглядывать в кабаре, хотя бы из профессионального интереса: он и сам сейчас задействован в одном из них – в мюнхенской «Перечной мельнице», основанной его сестрой Эрикой вместе с Терезой Гизе и Магнусом Хеннингом. Вдвоем с сестрой они пишут куплеты и репризы, с которыми Эрика, Тереза и два других актера выступают на сцене под музыку в исполнении Магнуса. Клаусу не помешало бы вдохновение для новых текстов, но «Катакомбе» оказалось нечего ему предложить. Стоило актерам Финка начать отпускать в его адрес со сцены колкие шуточки, как все это наскучило ему своей пошлостью, и он ушел, не дожидаясь конца программы.
Так же быстро он расправляется с маскарадом у фрау Рубен. Отказываясь и дальше умирать со скуки, он уходит очень рано, хотя и знает, что это грубо. Тухлый вечер. Уж лучше вернуться в пансионат, где в качестве вечернего развлечения он угощается порцией морфия. И немаленькой.
* * *
Сегодня в Эрфурте в Рейхсхаллен-театре премьера дидактической пьесы Брехта «Высшая мера» с музыкой Ханса Эйслера. Но полиция прерывает выступление Боевого коллектива рабочих певцов с объяснением, что пьеса является «коммунистически-революционным изображением классовой борьбы с целью совершения мировой революции».
* * *
Когда Карл Цукмайер приезжает с Алисой и матерью к залам Зоопарка[26], где проходит бал, на первый взгляд кажется, что с прошлых лет ничего не изменилось. Ожидается более 5000 посетителей, 1500 из которых – с почетными приглашениями, как и он. Остальные – падкая на зрелища публика, готовая выложить чудовищную сумму за вход, чтобы хоть один вечер провести среди знаменитостей страны.
В фойе гостям сначала предстоит пробраться через толпу, собравшуюся у двух великолепных автомобилей, кабриолета «Адлер-Триумф» и DKW серии «Майстерклассе»: оба отполированы до блеска – главные призы лотереи в пользу кассы благотворительного фонда Берлинской ассоциации прессы. Сразу после входа поток людей рассредоточивается, из залов и коридоров доносится музыка – танго, вальс, буги-вуги. Цукмайер направляет обеих дам в залу, где вальсируют. Здесь можно найти угощения буквально на любой вкус: есть и бары с клубной атмосферой, и уютные кафе, и пивные стойки, и камерные залы, где выступают сольные музыканты.
Самая роскошь – в большом двухэтажном мраморном зале: повсюду расставлены живые цветы, с балюстрад свисают великолепные старинные персидские ковры. Пары кружатся на площадке перед сценой с оркестром. Сверху, с галереи, можно наблюдать, как прогуливающиеся гости пытаются протиснуться между боковыми ложами зала и длинными рядами столов.
В этом году самые элегантные дамы носят светлые цвета, что сразу бросается в глаза. А последним криком моды, очевидно, принято считать длинное вечернее платье с небольшим декольте, но глубоким вырезом на спине – до талии или даже ниже.
Цукмайер выделяется из людского потока, как только они приближаются к ложе издательства «Ульштайн». Здесь просторнее, меньше народу, и официанты сразу же предоставляют ему со спутницами столик, бокалы и напитки. «Пейте, пейте, – приветствует их один из директоров издательства, – кто знает, когда вам еще доведется пить шампанское в ложе “Ульштайна”». Он облекает в слова то, что все более или менее понимают, но никто не хочет признать.
Около полудня правительство Курта фон Шлейхера, в начале декабря назначенного рейхсканцлером, подало в отставку. Смехотворно короткий срок пребывания у власти, менее двух месяцев, которые буквально не принесли стране ничего, кроме новых интриг. Пустая трата времени в период одного из самых тяжелых экономических кризисов. Вечером сообщили, что Пауль фон Гинденбург, рейхспрезидент, поручил предшественнику Шлейхера Францу фон Папену сформировать новое правительство. Политики недоумевают. Папен – член партии Центра[27], но не имеет какого-либо ощутимого влияния в парламенте. Как и Шлейхер, он оказался у власти только благодаря Гинденбургу и чрезвычайному указу после того, как партии не смогли набрать большинство против экстремистов из КПГ[28] и НСДАП. Но от напыщенного, ничего не смыслящего в политике Папена скорее можно ожидать путча, нежели возврата Республики хоть к каким-то стабильным демократическим условиям.
Прошлым летом, также прикрывшись чрезвычайным указом, он отправил в отставку правительство Пруссии. С тех пор крупнейшая территория Империи управляется временными правительствами, подчиненными имперским властям. Одно это уже было своего рода государственным переворотом, прозванным «прусским»[29], который подорвал федеративные основы рейха, – в результате теперь, после ухода с поста Шлейхера, Пруссия лишена руководства.
Правительственная ложа в Мраморном зале находится рядом с ложей «Ульштайна». Со своего места Цукмайеру хорошо видно: там почти безлюдно. Официанты вольно прогуливаются между пустыми бархатными креслами, нераспечатанные бутылки шампанского торчат из ведер со льдом. В прошлые годы здесь собирались министры и государственные секретари, чтобы, словно невзначай, втянуть в беседу издателей и редакторов и объяснить им свое видение мира. Но теперь, похоже, никто не чувствует на себе ответственности даже за такие простейшие государственные дела.
Остается лишь одно удовольствие – выискивать в толпе знаменитостей. Высокую, аскетичную фигуру Вильгельма Фуртвенглера, дирижера Берлинского филармонического оркестра, легко заметить, как и строгого, всегда немного меланхоличного Арнольда Шёнберга, который кажется каким-то неуместным среди праздничной сутолоки. Густаф Грюндгенс[30] и Вернер Краусс, очевидно, пришли сразу после выступления в Шаушпильхаусе на Жандарменмаркт, где они сейчас играют Мефистофеля и Фауста. Мелькает и лысина Макса фон Шиллингса, композитора, о котором давно не было ничего слышно, кроме того, что он с недавних пор занимает пост президента Прусской академии искусств.
Цукмайера отвлекает фотограф просьбой выйти из ложи для групповой фотографии со странным разношерстным составом: две молодые актрисы, оперная дива Мафальда Сальватини и профессор Бонн, экономист и правительственный советник, который, будучи ректором Высшей торговой школы, носит довольно нелепую золотую цепь с медальоном на груди.
Джозеф фон Штернберг, режиссер фильма «Голубой ангел», ненадолго выныривает из толпы, окруженный, как и подобает его статусу, молоденькими блондинками-актрисами. Марлен Дитрих осталась в Голливуде без него. Работая в свое время над сценарием «Голубого ангела», Цукмайер познакомился с Генрихом Манном, автором романа «Учитель Гнус», по которому был снят фильм. Ему симпатична накрахмаленность этого славного малого, он в восторге от книги. Однако в его глазах Манн выставил себя на посмешище, пытаясь навязать свою тогдашнюю любовницу Труде Хестерберг на главную роль вместо Марлен Дитрих. Своим сверхправильным почерком он писал продюсерам короткие записки, которые больше выдавали его увлечение Хестерберг, нежели доказывали ее актерские таланты.
Вернувшись в ложу «Ульштайна», Цукмайер сталкивается с коренастым, юрким мужчиной – Эрнстом Удетом – и его спутницей Эми Бессель. Удет и Цукмайер в восторге: они знакомы еще со времен войны. Цукмайера часто направляли в качестве наблюдателя на передовую, а еще он ремонтировал под огнем порванные телефонные линии. Нервы у него крепкие. Но сравнивать себя с Удетом он бы ни за что не стал. Удет – летчик-истребитель с манерами матадора, элегантный, энергичный, беззаботный: смесь любителя пошутить и любителя пострелять. К моменту их знакомства 22-летний Удет уже был назначен командиром эскадрильи летчиков и увешан орденами, как жертвенное животное – цветами. Противников он сбивал в воздушных боях один на один. Современный рыцарь, скачущий на турнир в поисках адреналина. К концу войны он сбил 62 самолета. Лишь один немецкий летчик переплюнул его успех в этом смертельно опасном деле – его командир Манфред фон Рихтгофен по прозвищу Красный Барон. Но последний попал под обстрел с земли и погиб за несколько месяцев до окончания войны, и ему на замену пришел командующий Герман Геринг. Он не был таким талантливым пилотом, зато ловко умел настроить нужные политические связи.
Больше всех Удетом очарована мать Цукмайера. А вот Алиса встречается с ним не впервые и знает, каким лихим обаянием он обладает. Как подлинный актерский талант, Удет не зависит от своей мрачной славы военного времени. Он выступает на авиашоу по всей Европе и Америке: демонстрирует взлеты, спирали и петли с остановленным пропеллером или пролетает так близко к земле, что подбирает крылом носовые платки с газонов. Он не растерял ни грамма веселого азарта. Однажды о нем прознала киностудия УФА и задействовала вместе с Лени Рифеншталь в нескольких приключенческих картинах: вот он приземляется на ледники высоко в горах, вот пролетает через ангар, от чего люди в ужасе бросаются на землю. Берлинская бульварная пресса обожает Удета: его романы с актрисами (например, с Эми Бессель), его известный на весь город американский спортивный автомобиль «Додж», его бурно обсуждаемую в обществе дружбу с такими кинозвездами, как Рифеншталь, Лилиан Харви или Хайнц Рюман.
С Удетом не соскучишься, но Цукмайер никогда не говорит с ним о войне – вместо этого они при встрече выпивают. Вот и сейчас они переходят с шампанского на коньяк. Удет с удивлением замечает, что многие гости бала – в медалях и нашивках: «Только посмотри на этих болванов». В предыдущие годы Бал прессы имел более гражданский вид, а теперь, очевидно, военное прошлое снова в почете. Даже Удет надел самый важный из своих орденов: Pour le Mérite – «За заслуги». Но поскольку он не любит делать то, что делают все, то прячет его в кармане. «Знаешь что, – предлагает он Цукмайеру, – давай спустим брюки и свесим голые задницы с балюстрады ложи».
Алиса и Эми тут же настораживаются. Они не сомневаются, что мужчины способны на многое, особенно когда они пьяны и подбивают друг друга на дело. И в самом деле, приятели без промедления снимают подтяжки. Но Алиса отлично знает свою роль в таких ситуациях: она умоляет обоих не устраивать скандал, и мужчины, не успев потерять лица, перестают раздеваться.
Уже за полночь начинают бродить догадки, будто рейхсканцлером будет назначен Гитлер. Арифметика здесь простая: если Гинденбург наконец захочет вернуть правительство хоть на сколько-то стабильную парламентскую основу, но при этом ни при каких обстоятельствах не задействовать в этом СДПГ, то, по сути, единственным партнером для него и Папена остается НСДАП. Гитлер, однако, как он ясно дал понять, не собирается довольствоваться министерским постом, будучи лидером крупнейшей фракции рейхстага. Либо он претендует на пост канцлера, либо остается в оппозиции. Все или ничего.
От этих мыслей на балу не становится веселее: гости хоть и танцуют, и пьют, как прежде, но в воздухе витает неприятное чувство, будто грядет нечто непредвиденное, что коснется их всех. Царит странное наигранное веселье. Между тем уже давно воскресенье, и Удет приглашает Цукмайера и двух его спутниц к себе домой на продолжение. Его броский, словно с рекламного щита, «Додж» припаркован перед залами Зоопарка. На морозе Удет кажется трезвым, но все понимают, что это не так. Цукмайер с женой предпочитают взять такси. Только Эми и матери Цукмайера хватает смелости сесть в машину, а потом они будут наперебой рассказывать, что на самом деле не ехали, а летели по улицам.
Квартира Удета заставлена трофеями из стран, где он побывал на съемках. В прихожей – чучело носорога, голова леопарда и несколько оленьих рогов. Есть даже тир, и некоторые газеты уже писали, будто Удет выбивает пулей сигарету изо рта друзей, слепо ему доверяющих. Но это для джентльменских вечеров; сегодня же Удет ведет гостей в небольшой бар, который он оборудовал для себя, так называемый «пропеллерный бар», и развлекает дам анекдотами из пилотской жизни и кинобизнеса. Время от времени Цукмайер снимает со стены гитару Удета и исполняет несколько своих застольных песен – совсем как когда он бродил по берлинским пивным, пытаясь заработать на еду в амплуа бродячего певца.
Веселые, но далеко не безмятежные утренние часы – как-никак, на деле они прощальные. Цукмайер и Удет встретятся вновь лишь однажды. В 1936 году Цукмайеру уже потребуется немалое мужество и доля безрассудства, чтобы отправиться из своего дома под Зальцбургом в Берлин. Нацисты не забыли, как эффектно он высмеивал военных в «Веселом винограднике» и «Капитане из Кёпеника», и уже давно внесли его пьесы и книги в списки запрещенных. Но Цукмайера не переубедить, и он все равно едет на встречу с друзьями-актерами – Вернером Краусом, Кете Дорш и Эрнстом Удетом. Последний не устает называть себя аполитичным, но через три месяца после Бала прессы он вступил в НСДАП и сделал карьеру в министерстве авиации под предводительством старого командира эскадрильи Геринга.
Эта печальная встреча в маленьком, неприметном ресторанчике станет последней. Они еще раз предаются воспоминаниям, после чего Удет призывает друга как можно скорее покинуть страну: «Уезжай куда глаза глядят и не возвращайся». На вопрос Цукмайера, почему же сам он остался, Удет отвечает, что полеты – это его все, и рассказывает об огромных возможностях в качестве пилота, которые ему предоставляет работа на нацистов: «Мне отсюда уже не выбраться. Но однажды за нами всеми придут слуги Сатаны».
В ноябре 1941 года Удет застрелится в собственной квартире в Берлине. Геринг обвинил его в неудачах люфтваффе в битве за Британию: кто-то ведь должен стать козлом отпущения. Прежде чем покончить с собой, Удет пишет красным мелом над кроватью обвинение Герингу: «Железный[31], ты бросил меня!»
Нацисты выдают его смерть за несчастный случай; Цукмайер узнает об этом, уже будучи в изгнании на своей ферме в Вермонте. Известие, как он позже вспоминает, не выходит у него из головы, пока он наконец не садится за письменный стол и за каких-то три недели не пишет первый акт пьесы «Генерал дьявола» – истории харизматичного генерала люфтваффе, который презирает Гитлера, но служит ему из необъяснимой любви к Германии и полетам. Война закончена – пьеса готова. Один из самых громких успехов Цукмайера.
* * *
Кадиде Ведекинд здесь не по себе. Поток гостей несет ее через бальные залы, Кадидя горда собой: в свои 21 она уже среди приглашенных гостей, литературных знаменитостей. Но ей не нравится толкучка в проходах. Ей комфортнее оставаться на заднем плане. Кадидя предпочитает наблюдать со стороны, чем пробиваться через толпы людей.
Подобная застенчивость не свойственна кому-либо в ее семье. Родители, Тилли и Франк Ведекинд[32], принадлежат к числу самых выдающихся личностей немецкого театрального мира и никогда не прочь устроить спектакль. Отец, умерший в 1918 году, был неутомимым провокатором, театральным берсерком, любимой мишенью которого становилась чопорная благопристойность добропорядочных бюргеров. Для него не существовало ни одной запретной темы, которую бы он не вывел на подмостки: проституция, аборты, онанизм, садизм, гомосексуальность. Он обладал неизменным талантом устроить скандал на пустом месте. Даже друзья не знали спасения от его вспышек гнева. Тилли была очень востребованной актрисой на протяжении многих лет: главным образом она появлялась в пьесах мужа, блистая в роли Лулу Ведекинд, раскованной импульсивной девушки, которая ради своего удовольствия издевается над мужчинами так же, как позволяет мужчинам издеваться над собой. Вместе Тилли и Франк могли бы наслаждаться жизнью театральной пары, вызывающей одновременно восхищение и страх. Но приступами яростной ревности Ведекинд превратил жизнь своей жены – а значит, и свою собственную – в ад. Дважды он доводил Тилли до попытки самоубийства. В итоге она овдовела 15 лет назад.
Сестра Кадиди, Памела, на пять лет старше нее и унаследовала некоторые особенности темперамента и таланта родителей. С юных лет ей комфортно на сцене, она обладает хорошим голосом и любит исполнять песни отца – как и он, под лютню. У нее есть все, чего не хватает Кадиде: смелость, предприимчивость, напористость. «Памела, – однажды запишет Кадидя в дневнике, – очень сильная и невероятно талантливая личность; мне же приходится скромно стоять в сторонке».
После смерти отца в 1918 году Памела и Кадидя познакомились в Мюнхене со старшими детьми семейства Манн – Эрикой и Клаусом. Они жили почти по соседству, от одного дома до другого – не больше получаса пешком. Сестра и брат Манны были очарованы способностями Памелы и сразу же в нее влюбились. Кадидя была еще слишком юна и не могла равняться с остальными. Втроем они образовали развитое не по возрасту трио, немного пугающее взрослых, и замахивались на все более смелые щегольские жесты. Клаус, пользовавшийся макияжем и не скрывавший своей сексуальной ориентации, обручился с Памелой в 1924 году и за две недели написал камерную пьесу «Аня и Эстер», полную аллюзий на лесбийскую интрижку между Памелой и Эрикой. Особой ценности в пьесе не было – всего лишь набросок, а не хорошо продуманное произведение: пара воспитанниц интерната погрязает в меланхоличных поисках любви и смысла жизни. Но Густаф Грюндгенс, один из величайших театральных талантов страны, был в восторге и прислал страстную телеграмму, убеждая всех троих поставить молодежную пьесу вместе с ним и проехать с ней по всей Германии.
Пьесу беспощадно разгромили: критики не простили сыну великого Томаса Манна ни одного его юношеского греха. Но театральная сенсация ему только на руку, все билеты распроданы. Стремительные события в жизни детей поэта, а также их труднопостижимые эротические связи подогревали любопытство публики, тем более что Эрика вышла замуж за Грюндгенса, хотя его, как известно, больше привлекали мужчины. В течение нескольких недель все четверо мелькали на страницах всех журналов и бульварных газет: они дергали за ниточки, а издания танцевали, как марионетки. Кто или что могло бы воплотить дикие, ненасытные и безудержные 1920-е лучше, чем этот ménage-à-quatre?[33]
Кадидя не в состоянии и не хочет гнаться за темпом жизни своей сестры. Даже их мать, которую все реже приглашают на большие сцены и важные роли, вязнет в любовных интрижках. Какое-то время фаворитом Тилли был Удет – летчик, которого Кадидя заметила в ложе издательства «Ульштайн». Цукмайер, сидевший рядом с Удетом, тоже время от времени навещал ее мать. Кадиде тогда было 12 лет, и Цукмайер играл с ней в ковбоев и индейцев. Она нападала на него, как только он появлялся в полутемном коридоре, прыгала с бельевого шкафа ему на шею с длинным кухонным ножом в руке, чтобы снять с него скальп. Однако вот уже несколько лет ее мать состоит в постоянных отношениях с врачом, по совместительству писателем, по имени Готфрид Бенн. Тилли от него без ума, но Бенн держит ее на расстоянии. Когда же у него наконец находится для нее время и он приглашает ее на свидание, Тилли взволнована, словно девочка. Она даже получила водительские права, купила маленький кабриолет «Опель» и ездила летом с Бенном на природу. Однажды к ним присоединилась дочь Бенна Неле, и Кадидя быстро нашла с ней общий язык.
Но Кадиде совсем не нравится этот угрюмый Бенн. Однажды ей довелось побывать в его берлинской квартире на углу Белль-Альянс-штрассе и Йоркштрассе, где он также принимает пациентов. Безусловно, он интересный человек, но все равно вызывает у нее отвращение. В целом она ничего не понимает в отношениях между Бенном и ее матерью. Однажды, когда она без предупреждения вернулась домой глубокой ночью, во всех комнатах горел свет, но никого не было видно, пока из спальни матери не вышел Ханс Альберс[34].
Подобные интрижки ей неинтересны. Кадидя мыслит иначе, она хочет быть хорошим человеком, хочет облегчать жизнь другим. Однако зачастую ей не хватает на это энергии; она не понимает, откуда у других берутся силы каждый день ходить на работу. Это было для нее проблемой уже в школе, а еще больше – когда она поступила в художественную академию в Дрездене в 1928 году. Учителя твердили, что она сможет стать выдающимся художником, если будет больше работать. Но ей это дается ох как тяжело: самодисциплина и трудолюбие – не самые ее сильные стороны, и она это отлично знает.
Наиболее счастливой она чувствовала себя во время каникул в Аммерланде на Штанбергском озере. У подруги ее матери, актрисы Лилли Акерманн, там есть дом, и несколько лет назад Кадидя регулярно проводила там время, предаваясь мечтам или играя с Георгом, сыном Лилли. На тот момент ему было всего 10, но Кадидю это не смущало. Вместе с ним по своей прихоти она основала империю под названием Калумина: здесь, в этом царстве грез, все наконец-то будет так, как ей кажется верным. Ее воля – закон, поэтому Георг со своими друзьями короновали ее как императрицу Каролу I. Вместе они придумали флаг и конституцию, а Георга назначили начальником генерального штаба – ему предстояло создать армию. Так пролетело три недели. Снова встретившись на следующих каникулах, они продолжили трудиться над своим придуманным миром.
Об этом она вспомнит, когда будет готовиться продолжить учебу в Берлинской академии. Ее рекомендовали Эмилю Орлику, у которого когда-то учился Джордж Грос[35]. Но даже попытка собрать портфолио из своих дрезденских работ вызывает у нее полнейший ужас. Ее воротит от каждого листа. С гораздо бо́льшим рвением она начинает записывать историю своей империи, Калумины. Похоже, из этого может получиться роман. В конце концов, в нем затрагиваются извечные, классические темы: прощание с молодостью, тяготы взросления, первая влюбленность. Отец всегда хотел написать роман, но так и не смог. Тем выше ее амбиции, она даже впервые добивается самодисциплины и развивает силу воли. Кадидя чувствует, что старые темы, будто сами по себе, обретают в рукописи новое, невесомое очарование.
К своему собственному удивлению, Кадидя обнаружила в себе талант, о котором даже не подозревала, – она умеет писать. Она поэтична, если дать ей достаточно времени. Издательство «Шерль» тоже верит в ее способности и включает ее книгу в свою программу: «Калумина. Роман одного лета». Аванс в 1000 марок! Девятьсот она отдает матери: той все меньше удается зарабатывать на актерской деятельности, и приходится тайком закладывать драгоценности, чтобы платить за квартиру.
Гораздо важнее денег для Кадиди ее только что пробившийся талант и надежда, что он попадет в благоприятные для роста условия. Все знакомые, с которыми она сталкивается в бальной суете между ложами и столами, подбадривают ее. Сначала она и слушать их не хочет, смущается, как обычно, и стыдится. Но постепенно ей начинает это льстить. Перед таким количеством комплиментов невозможно устоять. На мгновение Кадидя начинает верить, что, возможно, и она на самом деле представляет собой что-то особенное. Она испытывает прилив смелости, даже высокомерия, и думает: «Я – императрица Бала прессы».
* * *
Эрих Мария Ремарк тоже не устоял перед приглашением. Тем более что он недавно закончил черновой вариант нового романа «Три товарища». После напряженной работы можно позволить себе отдохнуть. И хотя он уже несколько месяцев не живет в Германии, в Берлине до сих пор много дел. Вот он и приехал повидаться с друзьями, разобраться с обязанностями и под конец потолкаться сквозь толпу бала.
Он замечает Цукмайера в ложе «Ульштайна», но, похоже, в этот вечер тот целиком поглощен Эрнстом Удетом. Ремарк и Цукмайер знакомы почти четыре года: практически закончив в 1928-м военный роман «На Западном фронте без перемен», Ремарк сначала отправил рукопись в самое известное немецкое издательство – «С. Фишер», – но получил отказ. А вот редакторы издательства «Ульштайн» встретили книгу с большим энтузиазмом и подняли на ноги всю компанию, чтобы обеспечить ей достойный старт. Сначала роман выходил частями в принадлежащей Ульштайну газете «Воссише Цайтунг». Когда же роман добрался до книжных магазинов, журнал «Берлинер Иллюстрирте», также относившийся к корпорации Ульштайна, перенес свою привычную дату выхода на несколько дней, точнее с воскресенья на четверг, чтобы успеть выпустить статью одного из своих авторов – Цукмайера – о книге Ремарка к первому дню продаж.
Это не была традиционная рецензия; не походила она и на обычную лесть коллег по перу. Статья Цукмайера звучала барабанной дробью, фанфарами, предвестием и пророчеством: «Появилась история, написанная человеком по имени Эрих Мария Ремарк, которую пришлось прожить миллионам людей, и ее прочитают и будут читать миллионы… Этой книге место в школьных классах, читальных залах, университетах, во всех газетах, на всех радиостанциях – и даже этого недостаточно».
«На Западном фронте без перемен» рассказывает историю солдата Первой мировой войны начиная с досрочного экзамена в школе в 1914 году и до его смерти в 1918-м. Лаконичными, лишенными поэтичности, но исполненными чувства фразами Ремарк описал панику и смерть в окопах, ужас ночей под шквалом разрывающихся снарядов, безумие атак под пулеметным огнем противника и резню на поле боя в штыковом сражении.
Многое Цукмайер пережил лично, но так и не сумел нащупать подходящий язык – вот почему «На Западном фронте без перемен» не могла не привести его в восторг: «Впервые совершенно четко и ясно Ремарк описывает то, что творилось в этих людях, что происходило внутри…» Роман придал художественную форму спутанным, страшным и душераздирающим переживаниям целого поколения, сделав их наконец доступными для восприятия. Для Цукмайера – и он подозревал, что не только для него, – это было чем-то вроде освобождения от кошмара. «Все мы не раз сталкивались с тем, что о войне невозможно говорить. Нет ничего более жалкого, чем когда кто-нибудь делится пережитым на войне. Поэтому мы молчим и ждем… Но здесь, у Ремарка, сама судьба впервые обрела форму. Вся целиком. Что скрывалось за нею, что горело под ней, что осталось. И написана она, создана, прожита так, что превращается в нечто больше реальности: в правду, чистую, достоверную истину».
На самом деле сотни тысяч людей испытывали те же чувства, что и Цукмайер, – не только бывшие фронтовики, но и тот, кто никогда не был солдатом, но пытался понять, с чем приходится жить этим ветеранам. Уже через несколько недель тираж романа достиг полумиллиона экземпляров; в том же году его перевели на 26 языков. Мировой успех.
И провокация для всех тех, кто пытался оправдать войну и смерть солдат, прежде всего для немецких националов и национал-социалистов. Они боролись с романом и автором, упорным повторением вбивая в сознание людей популистскую ложь: дескать, книга оскорбляет павших в бою, глумится над их жертвой во имя Отечества, втаптывает в грязь все благородное, что есть в солдатской службе. А сам Ремарк – не больше, чем самозванец, который и в войне-то по-настоящему не участвовал и вообще ее не знает, поскольку провел на фронте всего семь недель и после тяжелого ранения оказался в госпитале. Поскольку изначально его имя писалось как Remark
