Читать онлайн Яик-Горынович бесплатно
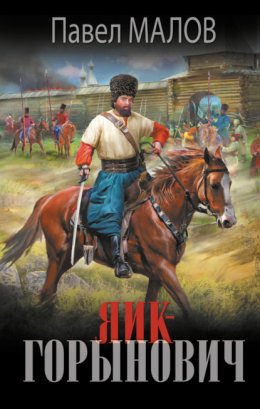
© Павел Малов, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024
* * *
Золочено у Яикушки его бело донышко,
Серебряны у Яикушки его белы краешки,
Жемчужные у Горыныча его круты бережки!
Яик ты наш Яикушка, Яик, сын Горынович!
Про тебя ли, про Яикушку, идет слава добрая.
Про тебя ли, про Горыновича, идет речь хорошая?
Старинная казачья песня
Часть первая
На Яике-батюшке
Глава 1
Восстание в Башкирии
1
По узкой лесной дороге, замысловато петлявшей среди невообразимого переплетения сучьев, молодой поросли деревьев, кустарников и высокого травостоя, ехало пятеро всадников в голубых форменных чекменях с ярко красными отворотами на груди и обшлагах рукавов, в высоких казачьих шапках, что сразу выдавало яицких удальцов, с пиками за плечами, с боевыми ружьями и шашками. Это был передовой разъезд одного из правительственных отрядов, присланного из Оренбурга в Башкирию для усмирения очередного тамошнего бунта, который поднял коварный Батырша.
Казаки ехали молча, не переговариваясь: чутко вслушивались в полуденные лесные звуки и зорко осматриваясь по сторонам, – не мелькнет ли где в чаще лохматая лисья шапка мятежника. Урядник, как глухонемой, подавал подчиненным знаки пальцами, – изредка только подъедет поближе, шепнет что-нибудь для верности. Казаки понимающе кивали, быстро исполняли приказания. Двое отделились от основной группы и отъехали немного вперед, с опаской сняли с плеч ружья и взвели курки. Лес угрожающе молчал с обеих сторон дороги. В глубине явно таилась невысказанная опасность. Дозорные насторожились, как будто что-то почуяли. Задние остановились. И в этот миг из чащи со свистом вылетели две стрелы: передние казаки, пораженные ими, взмахнув руками, со стонами повалились на землю. Трое оставшихся всадников встрепенулись, быстро вскинув ружья, дали залп в чащу, наугад.
Урядник крикнул одному:
– Родион, живо скачи к отряду, вызывай подмогу, а мы раненых пока подберем.
Тот, ни слова не говоря, довольный, что его отсылают из опасного места, тут же повернул коня и, нахлестывая его нагайкой, птицей полетел назад. Урядник с другим казаком, быстро перезарядив ружья, спрыгнули с коней и подбежали к стонавшим на дороге товарищам. Одному стрела пробила бок, и он был еще в сознании, хоть и потерял много крови. Другой же, с тяжелой раной в левой стороне груди, отходил. Лицо его покрылось восковой предсмертной бледностью, на губах пузырилась кровавая пена, взгляд стекленел.
Урядник, сняв баранью шапку, перекрестился по-старообрядчески, двумя перстами, велел своему товарищу грузить другого раненого на его лошадь. Сам, с ружьем на изготовку, присел сбоку дороги, за кустом боярышника.
В чаще напротив что-то подозрительно зашевелилось. Урядник мгновенно отреагировал, пальнул туда из ружья. В кустах послышался предсмертный человеческий крик и треск ломаемых веток. Кто-то со стуком упал на землю. В ту же минуту оттуда раздался душераздирающий визг, гортанные крики на башкирском языке, и на дорогу выскочила целая толпа мятежников с копьями, саблями, сайдаками и ножами. Кое-кто из лесных бродяг был вообще с дубиной, выломанной тут же. Вся эта пестрая, озлобленная толпа храбро бросилась на приготовившегося к защите урядника и казака, уже перебросившего раненого поперек седла. Лихой вояка-урядник снова метко выстрелил в сборище, от чего один из нападавших упал. Грохнул из ружья и казак, уложив еще одного бунтовщика. Лошадь с раненым он сильно хлопнул ладонью по крупу, и та понеслась прочь с места боя, назад, к основному отряду.
– Ну, рвем когти и мы, Афоня, чую, нам супротив толпищи не устоять, – нарочито весело крикнул урядник своему товарищу, вскочил на коня и понесся вслед за ускакавшей лошадью с раненым.
Казак тоже быстро прыгнул в седло, не обращая внимания на жужжавшие вокруг стрелы, лихо крутнулся назад, проскакал под носом у набегавшей толпы, умело и ловко взмахнул клинком. Голова одного из мятежников неожиданно отлетела от туловища, как кочан капусты, и нырнула в траву. Башкиры, враз оробев, отхлынули от сверкавшей, как молния, страшной казачьей шашки.
В это время урядник, завернувший за поворот дороги, нос к носу столкнулся с мчавшейся что есть духу на лошадях подмогой, которую вел Родион. Здесь было около тридцати казаков во главе с сотником Новоселовым. Тут же развернув коня, он радостно гикнул и поскакал вместе со всеми в атаку на врага. Казак Афоня, завидев своих, еще яростнее насел на бунтовщиков, беспощадно поражая их шашкой и топча конем раненых.
Башкиры стремительно сыпанули в лес. Казаки настигали их в чаще, безжалостно кололи длинными пиками и рубили клинками. Вскоре в лесу все замолкло. На земле остались только убитые бунтовщики да один казак, пораженный стрелой в самом начале боя. Сотник Новоселов велел собрать оружие и послал человека в обоз за похоронной командой. Нужно было зарыть убитого казака и оттащить порубленных башкир с дороги в лесную чащу. Родственники из ближайшего селения найдут их и похоронят по мусульманскому обычаю – до захода солнца.
Долго не задерживаясь, казаки двинулись дальше по лесной дороге. Следом прорысила сотня нарядных гусар в зеленых доломанах, отделанных на груди рядами «золотых» шнуров, с отороченными мехом ментиками на левом плече, в высоких смушковых шапках со шлыками на головах. Прогрохотала на выбоинах дороги артиллерия, потянулась однообразными, серыми от дорожной пыли рядами, царица полей – пехота. За нею – длинный скрипучий обоз, а замыкающими – снова казаки. Корпус был большой: около полутора тысяч штыков и сабель при семи пушках. Командовал подполковник Финк. Отряд направлялся в глухую лесную деревню Уразово Ногайской дороги, где, по сведениям лазутчиков, скопились крупные силы повстанцев и якобы находился сам Батырша.
В лесу вновь водворилось спокойствие. Как и раньше, беззаботно загомонили птицы, зажужжали насекомые. Отряд шел быстрым маршем. Уставших солдат в задних рядах подгоняли палками злые усатые капралы. Вовсе обессилевших подбирали обозные фуражиры. Подполковник Финк стремился засветло миновать опасный участок леса и окружить деревню, чтобы не вырвался знаменитый предводитель повстанцев. Он представлял, какая награда от правительства ожидает его за это дело!
Лес начал редеть. Сквозь сквозные просветы в деревьях стало видно зеленое разнотравье луга. Ярче засверкали солнечные лучи. За очередным поворотом дороги казачья разведка неожиданно наткнулась на препятствие. Проход был плотно загроможден срубленными деревьями, образовавшими непреодолимую преграду. Из-за завала раздались гортанные крики мятежников, и в казаков полетела целая туча стрел. Несколько человек упало с коней, остальные, сорвав с плеч ружья, дружно грянули в неприятеля убийственным залпом. Отъехали на безопасное расстояние, дожидаясь пехоту. Штурмовать укрепления – ее задача.
Офицеры подвели свои подразделения, выделили несколько взводов для лобовой атаки. Два крупных отряда мушкетеров под руководством опытных сержантов направились в обход: с левой и правой стороны завала. Вскоре в лесу загремели ружейные выстрелы, послышалось грозное солдатское «ура». Это вступили в бой посланные по лесу в обход группы. Тогда тревожно зарокотали ротные барабаны, запели флейты – передовой отряд пехоты со штыками наперевес бросился на преграду.
Подбежав на ружейный выстрел, солдаты по команде сержантов враз приостановились, сделали залп и, не перезаряжая мушкетов, вновь продолжили стремительную атаку. Башкиры на завале загомонили, яростно завизжали «алла», начали беспорядочно осыпать стрелами атакующих мушкетеров. Кое-кто из бунтовщиков стрелял из ружей и пистолетов, захваченных у солдат.
Мушкетеры, не обращая внимания на стрелы, продолжали набегать на завал. С криками падали раненые и убитые, матерились сержанты, сзади громкими криками подбадривали наблюдавшие за боем гусары и казаки. Артиллеристы при пушках застыли с зажженными фитилями. Стрелять было нельзя – можно было запросто угодить по своим.
Передние ряды атакующих солдат наконец достигли завала, цепляясь за сучья, принялись карабкаться вверх. Башкиры обреченно защищались, сбрасывая мушкетеров пиками, рубя саблями. На верху завала разгорелась жестокая рукопашная схватка. Солдаты умело кололи башкир штыками, били по головам прикладами, сбрасывали вниз. Кругом стонали раненые и умирающие, кричали, стараясь этим напугать противника, живые. На кучу деревьев лезли все новые и новые волны атакующих, так что они в конце концов своей массой задавили защитников. Оставшиеся в живых мятежники побежали к коновязям, которые были на опушке леса. Вслед им устремились перелезшие через завал солдаты. Другие мушкетеры стали быстро растаскивать деревья – освобождать проход. Вышли из леса две обходные группы солдат, начали стрелять в отступающих к деревне башкирских всадников.
Когда дорога была свободной, подполковник Финк бросил вперед казаков и гусар. Те быстро загнали мятежников в их деревню, но дальше не пошли. Поселение башкир представляло из себя настоящую крепость: улицы были перегорожены баррикадами из бревен и всякого хлама. Кругом виднелись многочисленные защитники.
Из центра села ударила пушка. Кавалеристы разбились на небольшие группы, рассыпались по всей поляне, которая, в окружности, занимала немалую площадь. Казачий разъезд, в котором были давешний урядник с Афоней и Родионом, углубился в лес на противоположном конце.
– Да никого тут нет, господин урядник, – беззаботно встряхнул головой геройский казак Афоня. – Нехристи все – в деревне… Что им в чащобе делать?
– Болтай!.. – презрительно хмыкнул опытный вояка, урядник. – Басурманы на всякие уловки мастаки. Схоронятся в лесу, а как мы пойдем на приступ деревни, вдарят нам в спину!
Обследовав порядочный массив чащобы и никого не встретив, казаки остановились передохнуть. Урядник обратился к Родиону.
– Атаров, табачок есть? Я свой во время недавней сшибки в лесу посеял.
– Как не быть? Имеется, – с готовностью отвечал тот. Достав расшитый жинкой цветастый кисет, протянул начальнику. – Угощайся, Иван Игнатьич, табачок добрый… Самосад с собственной плантации.
– Ну, коли угощаешь, Родион, дай-ка и мне щепоть, – потянулся за дармовым куревом и Афоня – веселый казак, большой любитель дурницы.
Удальцы крепко набили трубки, с наслаждением задымили.
– Покурим, малость отдохнем и до своих тронем, обратно, – говорил, задумчиво пуская кольцами сизый табачный дым, урядник Иван Игнатьевич. – Там скоро главная баталия начнется, надо как раз поспеть.
– На тот свет, чай, никогда не опоздаешь, Игнатьич, – лукаво подмигнул Родион Атаров. – Пущай солдатушки воюют, у них ни семьи, ни кола, ни двора, а у нас жинки с детишками в городке.
– И то правда, – согласно кивнул урядник. – Был бы то настоящий неприятель, вроде турков, а то так, башкирцы голозадые… С ими воевать – себя не уважать! Что мы, жандармерия, что ли?..
– Слышь, господин урядник, – полез с вопросом Афоня, – а правду говорят, что сам Батырша в деревне?
– Болтают, а там кто его знает?.. – пожал плечами урядник.
2
Когда разъезд вернулся на поляну, там уже вовсю кипело сражение. Артиллерия с дальней дистанции безжалостно громила укрепления башкир в деревне. Ей отвечала единственная пушка мятежников, но вскоре и она заглохла, поврежденная метким попаданием ядра. Роты солдат со всех сторон обложили населенный пункт, так что не могла проскочить и мышь. На стыках пехотных подразделений располагалась конница. На опушке леса, в окружении штабных офицеров, находился подполковник Финк. То и дело взглядывая в подзорную трубу, он руководил баталией.
От артиллерийского огня деревня в нескольких местах уже горела, обезумевшие жители метались между пылающими постройками, спасая жалкое имущество. Башкиры на баррикадах продолжали отстреливаться из луков от наседавших солдат. Те отвечали меткими ружейными залпами, от которых бунтовщики десятками падали внутрь укрепления, но на смену им заступали новые.
Офицеры подали команду, и мушкетеры стройными рядами дружно устремились на приступ. Артиллерия перенесла огонь с укреплений на передней линии вглубь села, а потом и вовсе замолкла. Громогласное солдатское «ура» слышалось уже на окраине, где вспыхнул яростный штыковой бой. Мушкетеры штурмовали баррикады, перегородившие узкие улочки. Мятежники, с отчаянием смертников, сопротивлялись. Видя свое безвыходное положение, некоторые с кинжалами бросались на солдатские штыки, лишь бы не попасть в плен. Мушкетеры кололи всех без разбора, прокладывая себе дорогу вглубь села. Сами то и дело падали под ударами сабель и копий башкир.
Кровавая рубка закипела на сельских улицах. Повстанцы цеплялись за каждый дом. Забаррикадировавшись в нем, отстреливались до последнего. И только когда солдаты поджигали соломенную крышу, выскакивали с обнаженными саблями на улицу. С диким визгом бросались на мушкетеров, напарывались на штыки, гибли под убийственным ружейным огнем, но не сдавались.
Мятежниками действительно руководил сам Абдулла Мязгялдин, или Батырша, как называли его русские, влиятельный мулла, вождь башкирского восстания. Он умело перебрасывал свежие отряды повстанцев в наиболее опасные места, не боясь ядер и пуль, носился на горячем коне в самом центре сражения. Молодой, красивый, храбрый мещеряк Батырша был кумиром башкирской молодежи, которая готова была пойти за ним в огонь и в воду.
Бой приближался к развязке. Солдаты железной стеной теснили мятежников к центру горящего села. Лучшие силы башкир гибли в яростных, но бессмысленных контратаках, которые неизменно возглавлял сам Батырша. Башкиры, по одиночке и группами, врезались в самую гущу наступающей зеленокафтанной пехоты, рубили солдат саблями, кололи пиками и копьями, резали ножами. Десятками падали под безжалостными ударами трехгранных русских штыков или сраженные пулями. Умирая, старались с земли в последний раз рассмотреть: сражается ли Батырша? Не убит? Не ранен? И, увидев любимого вождя на коне, с обнаженной окровавленной саблей, в окружении дюжины смелых батыров из личной охраны, улыбались и спокойно отходили из этого мира в иной…
Сподвижники, кто еще остался в строю, доложили Батырше, что положение безнадежное: солдаты с минуты на минуту возьмут село… Вождю нужно уходить!
– Я своих людей в беде не брошу, – презрительно ответил Абдулла Мязгялдин и вновь устремился в драку.
– Абдулла, уже почти никого нет, уходи в лес – мы задержим солдат! – умоляли его сподвижники – и падали один за другим под выстрелами мушкетеров.
Те, кто еще держался в седле, все израненные, продолжали защищать своего предводителя, рубясь из последних сил. Их прижали к забору крайней хаты, кололи штыками коней и самих всадников, стреляли в упор. Подоспевшие гусары и казаки рубили саблями.
Урядник Иван Игнатьевич со своими яицкими удальцами был здесь же. Разрубая до седла очередного башкира, набросившегося на него, с задором крикнул Родиону Атарову:
– Сам Батырша тут! Вон он, гололобый, в распахнутом халате… А ну-ка, отгоните с Афоней от него косоглазых, я попытаюсь его взять!
Родион, Афоня и еще несколько казаков накинулись на телохранителей Батырши, ожесточенно заработали клинками. Родион Атаров срубил одного мятежника, другому отсек напрочь руку. Третий чуть не снес голову ему самому, но казак вовремя увернулся, снизу ткнул башкирца концом шашки в бок. Тот со стоном повалился на землю.
Рядом Афоня рубился со здоровенным силачом-башкиром в стальной кольчуге, никак не мог его одолеть. Уже получил от него несколько легких колотых и резаных ран. Наконец, подоспевшие на помощь казаки с двух сторон атаковали силача, отвлекли внимание, и только тогда Афанасий ловко рубанул его по шее. Башкир в кольчуге, выронив саблю, со стоном полетел с коня, а казак уже искал себе новую жертву.
Пока кипела вся эта кровавая сабельная резня, урядник Иван Игнатьевич пробивался к Батырше. Тот, почуяв опасность, перемахнул через низкую изгородь и нырнул в высоко поднявшийся за околицей села луговой бурьян. Урядник пустился за ним в погоню. Азарт подстегивал старого служаку. Захотелось самолично привести на аркане знаменитого Батыршу.
Они быстро миновали свободное пространство перед опушкой леса и нырнули в чащу, которая поглотила их, как море. Ветки с силой стегали по лицу урядника, но он, не останавливаясь, гнал и гнал коня вперед. С остервенением рубил шашкой зеленую лесную мешанину – торил дорогу. Вскоре шум боя в башкирском селе остался далеко позади. Звуки скрыл шум леса. Иван Игнатьевич еле улавливал впереди треск сучьев под копытами коня Батырши и неуклонно правил туда. Он не думал, справится ли сам с противником, один ли тот, или подоспели соратники. Единственной мыслью было: «Поскорее догнать нехристя! Не дать уйти!»
Вскоре он перестал слышать треск сучьев, заметался по кругу, не зная, в какую сторону направить коня. Запаниковал… Не заметил, как метнулась сзади, из-за раскидистой старой ели черная фигура Батырши с обнаженным кривым кинжалом в безжалостной руке. Почувствовал только, как чьи-то сильные руки железным полукольцом охватывают его сзади за плечи… Молниеносный высверк кинжала у горла – и острая боль пронзает все его тело. Руки выпускают повод и шашку, тело головой вниз кувыркается под копыта коня. Все! Свет померк… Наступило вечное затмение…
В селе сражение подходило к концу. Лишившись предводителя, мятежники сопротивлялись вяло, старались и сами улизнуть с места боя. Лишь единицы, которым было нечего терять, продолжали сражаться отчаянно и обреченно. На одну из таких групп и напоролись яицкие казаки, среди которых был Родион Атаров. Выстрелив по ним из ружей и пистолетов, взяли упрямых бунтовщиков в клинки. Те тоже успели пустить по несколько стрел из луков, поразив одного или двух казаков. Родион, как всегда, еще загодя, во время сближения с противником, выбрал себе цель: невзрачного худого башкира с козлиной седой бороденкой. Вооружен тот был совней – длинным старинным копьем с большим плоским ножевидным наконечником. Казак думал, что легко справится со столь слабым неприятелем, но не тут-то было! Башкир оказался смел и довольно ловок. Он виртуозно владел своим допотопным оружием. Во время сшибки в ближнем бою вонзил совню в грудь казацкому коню. Родион глазом не успел моргнуть, как очутился на земле. К тому же во время падения выронил шашку и остался фактически безоружным: кинжал и разряженные ружье с пистолетом – не в счет.
Он быстро вскочил на ноги, чтобы не затоптали чужие кони. Увернулся от просвистевшей над ухом башкирской сабли, поднырнул под брюхо вражеского коня, ударил его кинжалом. Затем, когда конь, перекувырнувшись, упал, навалился на выпавшего из седла мятежника. Тот тоже выхватил кривой турецкий кинжал и силился достать им Родиона. Сталь со скрежетом чиркнула по стали. Оружие их перекрестилось, яростные взгляды – тоже. С губ башкира, вместе с непонятными отрывистыми словами, слетала кровавая пена. Он пытался дотянуться до горла казака зубами и – перегрыз бы его, как волк! Столько было в нем первобытной, дикой, нечеловеческой злости и презрения к врагу.
Родион, поняв, что перед ним не человек в привычном понимании этого слова, а дикий лесной зверь, который желает только одного – убить его во что бы то ни стало и насладиться его кровью и муками, и сам превратился в нечто подобное. Два первобытных одичалых существа со звериным рычанием катались по земле и никак не могли одолеть один другого. Силы были примерно равны, и они быстро улетучивались. Враги то и дело скрещивали и скрещивали острые кинжалы, норовя перерезать друг другу глотки. Лезвия соскальзывали, вонзаясь неглубоко в тела, нанося несмертельные раны. Все левое плечо казака было уже в крови; текло, как с резаного кабана, и с башкира. Глаза его вылазили от напряжения из орбит. Он рычал по-звериному и сучил по земле ногами.
Когда уже совсем иссякли силы, Родион пошел на отчаянный шаг. Поняв, что еще немного, и башкир его одолеет, он с силой ударил его лбом в лицо. Затем еще и еще раз! У башкира хрустнула переносица, все лицо окрасилось кровью. Он закричал от боли и ослабил хватку. Этим тут же воспользовался казак: отведя в сторону руку башкира, сжимавшую нож, он что есть силы ударил кинжалом его в грудь. Башкир с силой дернулся, вскрикнул еще сильнее, в голос, и сразу затих. Тело его обмякло, и Родиону не стоило большого труда перерезать мятежнику горло. Он победил! Враг был повержен…
Глава 2
Детство
Малорослый крепыш лет четырнадцати Матюшка Бородин с Андрюхой Овчинниковым, соседским мальчуганом, забавлялись на речке Чаган, пуская по воде кораблики из щепок с воткнутыми в середку веточками-мачтами и швыряя в них комьями засохшей глины. Кораблики были с белыми и зелеными тряпицами на мачтах. Матюшка пускал кораблики с белыми тряпицами и старался потопить Андрюхины – с зелеными. Рядом пересмеивались, наблюдая за их забавой, Анфиса и Ульяна Кирпичниковы – двоюродные сестры.
Андрюха Овчинников бросал земляные комья лучше Матюшки, и кораблики с белыми тряпичными флажками то и дело переворачивались кверху днищами, накрытые меткими попаданиями. Матюшка, обозлившись, в конце концов, не сдержался и кинул глиной в самого Андрюху.
– Так не честно, ты, Андрюха, туркам подыгрываешь!
– Вот еще чего, – обиделся, счищая с рубашки грязное пятно, Андрюха. – Я ж не виноват, что ты, Мартемьян, мажешь все время. Хочешь, белые мои будут?
– А что, верно, – засмеялась, сидевшая на берегу на корточках, зажав между колен цветную юбку, Анфиса, Матюшкина сверстница. – Так будет по правде, потому что у Мартемьяна деда – сам вылитый турка. Черный, как грач, и лопочет не по-нашенски.
– Что ты сказала? – попер на нее, бросив игру, Матюшка. – Сама ты, Анфиска, таковская. Мой деда, как напьется пьяный, сказывает, что он в полон к туркам попал, и ежели б, грит, не дал добро вступить в ихнюю армию, то его бы янычары заживо на костре спалили, во как! А еще посля плакался и кричал, что в первой же баталии ушел он от басурман обратно к казакам, в Азов-город.
– А мой деда говорил, – подала голос Ульяна Кирпичникова, сидевшая на траве возле Анфиски и болтыхавшая босыми ногами в воде, – что пора приканчивать войну с башкирским королевичем Бек-Булатом Бекбулатовичем. Сцепились, говорит, как кобели уличные и грызутся неведомо за что.
– И вовсе не правду твой дедуся брешет, – перебив Ульяну, торопливо зачастил Андрей Овчинников. – А вот я точно знаю, почему воюют. Потому что башкирцы и татаровья некрещенные казаков убивают. Вон моего батьку тожеть убили. Я как вырасту большой и сильный, сам в казаки пойду.
– Тю, придумал, – засмеялась веселая Анфиска Кирпичникова, – та тогда и войны никакой не будет. С кем же ты воевать пойдешь?
– С кацапами, – упрямо стоял на своем Андрюха. – Взрослые говорят: в России москалей завсегда много, не переводятся, как тараканы. Вот с Россией и стану воевать, за казаков. Как Стенька Разин…
– Гля, гля, ребята, кто сюда идет! – вскрикнул вдруг Мартемьян Бородин, указывая рукой на ближайший к речке переулок.
Оттуда к берегу спускались недавно обосновавшиеся в городке с родителями черкасы, братья Кавуны: Богдан и Василий, а с ними – младший Мишка Атаров, сын кузнеца, и дочка Варфоломея Добрякова, Фелицата, с подружкой Варварой, приехавшей погостить к родственникам из Оренбурга.
– Понаехали в городок голодранцы, – зло прошипела, глядя на них, Анфиса Кирпичникова. – Вишь, наглючие морды, как хозяева по городку ходют.
– А энто мы еще поглядим, кто здеся хозяин, – вызывающе процедил сквозь зубы Мартемьян Бородин и принял бойцовскую стойку. – Нехай только подойдуть сюда, мы их с Андрюхой зараз же отколотим, не сунутся больше.
Богдан Кавун, верховодивший в компании, не боясь, подошел со своими вплотную, приветливо взмахнул рукой.
– Шо, хлопцы, рибу ловите, чи шо? А то мы поможем уху вариты. Е шо-небудь на уху?
– А ну чеши отсель, хохол-мазница, тут наше место, – с ходу отшил его Матюшка Бородин.
Рядом с ним встал, сжимая твердые кулачки, Андрюха Овчинников, готовый не ударить лицом в грязь перед сестренками Кирпичниковыми.
– Цэ ваше мисто? – злорадно усмехнулся Богдан, с нескрываемым презрением оглядывая казачат. – Та я вас, куркулей недобитых, зараз в цэей речке скупаю, тильки пискните!
Рядом со старшим братом, плечом к плечу, стал щупленький с виду Васька Кавун, с другой стороны к Богдану прижался Мишка Атаров. Но это нисколько не поколебало Мартемьяновой решимости не уступить противнику ни пяди своей территории.
– Ну, хохол, в последний раз предупреждаю: не уйдешь – пеняй на себя! – Матюшка продолжал петушиться, выпячивая впалую грудь и наскакивая на Богдана Кавуна драчливым кочетом. К нему на подмогу поспешила, с неприязнью оглядывая Фелицату Добрякову, Анфиска Кирпичникова.
– Нэ, цэ вы уходьте отсель, – стоял на своем черкасенок Богдан. – Цэ вам нэ ваш баз, дюже нэ выкаблучивайтэся.
– Ах ты так, хохол! – Мартемьян вдруг, угнув по бычьи голову в плечи, с силой боднул Богдана Кавуна в живот. – Получай, шаромыжник поганый… Казаки, бей хохлов!
На его призыв прытко бросился в драку Андрюха, сбив с ног хлюпкого Ваську Кавуна, насел на Атарова. Анфиска с Ульяной, как кошки, налетели на Фелицату Добрякову и ее подругу Варьку.
– Ну погодьтэ, куркульски диты, – зло выкрикнул Богдан, сцепившись с наседающим на него Мартемьяном.
– А ну, что тута происходит, что за побоище? Прекратить! – раздался вдруг за спинами дерущихся ребят грозный мужской бас, и Мишка Атаров, обернувшись и подняв глаза кверху (он лежал на земле), увидел стоявшего поодаль своего отца Родиона.
– Батя с войны вернулся! – радостно крикнул он, вскочив на ноги, бросился к отцу, повис у него на шее. – Батя! Вернулся наконец. Мы так тебя заждались…
– Ну, ну, сынок, полегче, – аккуратно отстранил его от себя казак Родион Атаров, прибывший из Башкирии домой на излечение после тяжелого ранения.
Он заметно прихрамывал на правую ногу и то и дело хватался за побаливавшее до сих пор на непогоду плечо, порубленное башкирским воином в той памятной горячей схватке в деревне Уразово, где засел с основными силами легендарный предводитель мятежников Батырша.
– Батя, а что ты мне в подарок из Башкирии привез? – простодушно спрашивал Мишка, продолжая тяжело виснуть на шее у вернувшегося отца.
– А вот пойдем домой, поглядишь, – отвечал Родион, увлекая с собой сынишку.
Оставшись без верного товарища, братья Кавуны прекратили драку с яицкими казачатами и поспешно ретировались, грозясь подстеречь их где-нибудь в глухом закоулке. Мартемьян с Андреем в долгу не остались – тоже посулили братьям-черкасам добрую взбучку при первом удобном случае.
Глава 3
Ребячьи забавы
Вскоре Матюшка Бородин – верховод местных казачат – собрал в степи на берегу все той же речки Чаган свое грозное войско. Здесь были верный товарищ Андрюха Овчинников, Петька Тамбовцев, Андрей Витошнов, Петр Скворкин, Максимка Шигаев, старший по возрасту Митька Лысов и другие. Всего двадцать с лишком человек. В основном это были дети богатых казаков или старшин, но попадалась и голытьба вроде Митьки Лысова, которым было все равно, на чьей стороне – лишь бы подраться.
Братья Кавуны тоже кликнули по городку свою партию. К ним пристали Мишка Атаров, Ванька Зарубин, Федька Чумаков, Ванька Кирпичников, Афоня Перфильев, Тимоха Мясников, Сидор Рублев и еще человек с тридцать отчаянных казачат – сплошь городская беднота и голь перекатная. Из них Афоня Перфильев был из более-менее зажиточной семьи, да еще пару человек от силы.
Богдан Кавун начал было командовать казачатами, но тут его осадил гонористый задира Ванька Зарубин, которому ребята дали прозвание Чика.
– А что это пришлый, без роду-племени, черкас, нами, казаками природными, яицкими, раскомандовался? – нагло вопросил он, уставившись на Богдана. – Ну-ка, гэть с атаманского насеста, не то я тебя чик-чика – и поминай как звали!
Кавун разобиделся на Чику, сплюнул ему под босые, в цыпках, ноги, подхватил за шиворот младшего братишку и ушел.
– Скатертью-самобранкой дорога! – помахал ему вслед ручкой черномазый, похожий на цыганенка Ванька. – А ну-ка, робя, гуртуйся в круг, как у взрослых, выбирай себе ватамана!
Казачата мигом образовали плотное человеческое кольцо и под громкие одобрительные выкрики выбрали самого Ваньку Зарубина своим атаманом.
– А теперя полковника выкликай и есаула, – не унимался, продолжая завлекательную взрослую игру, Ванька Зарубин.
– Мишку Атарова – полковником, а в есавулы – Тимоху! – дружно загалдели казачата.
Кандидатуры старшин все «войско» поддержало единогласно, и вновь избранные старшины заняли места по правую и левую руку от атамана.
– Любы мы вам, атаманы-молодцы, или не очень? – спрашивал по традиции казачьих демократических кругов ушлый Ванька Зарубин.
– А чего нам любить вас-то, чай не девки, – засмеялся в ответ хитроватый, себе на уме, Федька Чумаков.
– Так положено, Чумак, – обиделся на приятеля Зарубин. – А будешь много болтать, мы тебя со старшинами чик-чика – и в кутузку, на хлеб да на воду.
– Да у вас в хате, Чика, сроду хлеба не бывало, – не унимался настырный Федька.
– Энто у нас-то хлеба не бывало?! – полез на него с кулаками Зарубин.
Чумак, парень не робкого десятка, дал Чике сдачи. Их еле разборонили казачата.
– Атамана не слухать? – кричал на Федьку, брызгая слюной, Зарубин.
– Будет брехать, ты дело говори, – рассудительно урезонивал его Федька.
– А дело вот какое, атаманы-молодцы, – приглушенным баском, подражая взрослым, заговорил Ванька Зарубин. – Думаю я, нужно разведку во вражеский стан послать да выведать, сколь велики у Матюшки Бородина силы.
– Верно говоришь, Чика, – поддержали своего атамана казачата.
Тут же выделили двух лазутчиков: Сидорку Рублева и Афоню Перфильева, направили их в зажиточную часть Яицкого городка на разведку. Не обнаружив никого из Мартемьяновой ватаги в городке, они вышли к берегу Яика, где повстречали сестер Ваньки Кирпичникова Анфису и Ульяну, якшавшихся с Матюшкой Бородиным.
– Где ваш друзьяк, Бородин? – поинтересовался у девчонок Афоня Перфильев.
– А нашто он вам сдался? – пожала плечами Анфиса. – Шукайте сами, коли нужно.
– Ванька Кирпичников, брат ваш, грозился вам все волосья повыдергать, ежели еще хоть раз с Матюшкой Бородиным увидит, – подал голос Сидор Рублев. – Ответствуйте, длиннохвостые, где энтот сукин сын?
Младшая Ульяна расплакалась, а Анфиса неопределенно махнула рукой в сторону городской околицы, на северо-запад.
– Тамо они, недалече отсюда, на речке, как раз сбоку дороги. В камышах.
Афоня Перфильев с Сидором Рублевым сейчас же бросились по указанному девчонкой направлению, на речку Чаган. Забрели в самые кушери, куда и не захаживал-то никто в здравом уме из городка, но бородинской команды нигде не отыскали. Хотели уже поворачивать в обрат, как послышался им от реки слабый водяной плеск и веселые вскрики.
Казачата ползком приблизились к месту, откуда доносились странные звуки, осторожно раздвинули молодые, зеленые побеги чакана. В реке, в каких-нибудь нескольких десятках саженей от них, болтыхались три статные, гладкотелые, грудастые, совершенно нагие девки – молодые казачки. Вздымая вокруг себя фонтаны прозрачных изумрудных брызг, они носились по мелкой прибрежной воде как угорелые, с разбега бросались на глубину, звонко хохотали, обдавали друг друга тугими водяными струями. Косы их – полурасплетенные, спутанные – мотались на головах, как мокрые шлейфы; полные, тугие груди с приплясом подпрыгивали на каждом шагу, белизна незагорелых молодых телес ослепляла.
– Ух ты, заглядение… Глянь, глянь! – с восторгом подталкивал дружка Сидор Рублев.
Афоня сторожко приложил палец к губам, разглядывал купающихся казачек с затаенным, еще не ясным, мальчишеским томлением. Едва сдерживал себя, чтобы так же, как Рублев, не вскрикнуть от телячьего восторга.
День был жаркий солнечный, прогретая река манила к себе голубоватой прозрачной свежестью. Казачатам и самим захотелось купаться.
– Знаешь, ну их к бесам, ватагу Бородина, айда искупаемся, – предложил Рублеву Афоня.
– С ими? – лукаво оскалился в улыбке Сидор Рублев.
– Поди сунься, они тебя искупают, – скептически хмыкнул Афоня Перфильев, – зараз без чуба останешься.
– А мы их – крапивой, либо ужаку за шиворот пустим, – нашелся чем застращать ничего не подозревающих купальщиц Сидорка.
– Не, лучше одежу стащить и на дерево, на самую макушку привязать, – сказал Афоня. – Вот смеху будет, как они доставать начнут.
– А давай я! – враз загорелся Сидор Рублев, казачок не робкого десятка.
– А стоит?
– А то!.. Побудь в карауле, я мигом.
Пока веселые подружки плескались да кувыркались в воде, Сидор юрким ужом сползал к берегу, где по траве была разбросана одежда казачек, и, собрав ее в большой бесформенный узел, потащил за собой в камыши. Неподалеку на берегу Чагана возвышался старый кряжистый клен. Давясь от смеха, озорник Сидорка Рублев ловко вскарабкался на самую его вершину и привязал там узел с девичьим бельем и одежей.
Дело было сделано, и, уже не опасаясь купающихся девок, Сидор смело вышел из камышей на берег и по-разбойничьи, в четыре пальца, свистнул. Сбоку показалась улыбающаяся рожа Афони Перфильева. Он дурашливо закричал, заулюлюкал, указывая пальцем на купальщиц. Те, дико завизжав, прикрывая руками груди, стремглав бросились на глубину. Застыли там, по шею в воде, со страхом поглядывая на беснующихся на берегу малолеток.
– Афонька?.. Вот я матери-то твоей все обскажу, выпорет! – узнала Перфильева одна из казачек. – Верни одежу, байстрюк.
– А вона она, вишь, на самой макушке, – засмеялся в ответ Сидорка. – А ну-ка достань, спробуй.
– Уходи, нечистый. И лупатого с собой забирай, – закричали остальные девки.
– Мы-то пойдем, а одежу как доставать будете? – не унимался с веселыми ужимками Афоня. – Так и быть, гоните по целковому каждая, достану ваше барахлишко.
– Ишь чего захотел!.. Иди прочь, мы и сами достанем.
– Ну, как знаете. – Афоня подал знак приятелю, и казачата с гоготом пошли прочь, обсуждая по пути детали забавного приключения.
– А давай поглядим, – предложил Рублеву Афоня.
Сделав большой круг по берегу, он с другого конца подполз к одинокому клену. Сидор Рублев – за ним.
Девки, крадучись, то и дело с опаской оглядываясь по сторонам, приблизились к заветному дереву. Поверив, что казачата ушли, они не прикрывались руками, и шутники теперь без помех рассматривали их обнаженные груди и другие части тела, что обычно скрыто одеждой.
– Рассказать ребятам – не поверят! – ухмылялся взволнованный необычным приятным зрелищем Сидор Рублев.
Одна из купальщиц, самая проворная, смело полезла на дерево. Казачатам снизу было все хорошо видно. Они то и дело подталкивали друг друга локтями и прыскали в кулак, боясь, как бы их не обнаружили стоявшие у дерева девки.
Комедия продолжалась долго, ведь Рублев не просто связал девичью одежду в узел, но для крепости намочил концы рукавов в воде и так их затужил, что казачки еще с четверть часа мучались с узлами, обламывая ногти и полушепотом матерясь. Казачата просто покатывались от беззвучного смеха в кустах, хватаясь за животы. Когда бесплатная потеха закончилась и девки наконец-то облачились во влажные платья, озорники тихо отползли в сторону.
Потом они еще долго купались в неглубоком, мелководном Чагане, гоняясь друг за другом наперегонки. Пуляли комьями грязи в лягушек, спугнули в густых камышах средних размеров сома. Назад в городок возвратились затемно, усталые, но довольные весело проведенным временем.
Глава 4
Ватага Бородина
1
Давно отцвел по буеракам шиповник, на Яике полновластной хозяйкой распоряжалось знойное и засушливое азиатское лето. В июне яицкая степь наиболее красочна – как цыганская, расшитая яркими цветами шаль. Безудержно цветут метелистые ковыли, покачиваясь под слабым ветерком, как море. Пышно распускается богатое разнотравье на будущих сенных покосах, ярко цветут полевые цветы, которых здесь великое множество видов: тюльпаны, ромашка, татарник, кашка, молочай, мать-и-мачеха. Воздух густо напоен эфирными ароматами чабреца, лабазника, подмаренника, шалфея. В начале июля созревает в казачьих садах вишня, черная смородина, зацветают на огородах овощи, на бахчах – кабаки, арбузы и дыни. На барских полях достигает восковой спелости озимая рожь. В середине июля крестьяне приступают к жатве ранних зерновых.
С этого же времени в дикой и первозданной яицкой степной целине, издревле не знавшей крестьянского плуга, начинается изнуряющая все живое засуха. Днями напролет задувают в истомленной солнечным жаром степи томительно знойные, обжигающие восточные суховеи, то и дело налетающие из-за подернутой парным горячим маревом реки, с левой, киргиз-кайсацкой стороны. Ветры не затихают и ночью, а с утра небо над головой – опять дымчато-белесое, почти без синевы небо; облаков нет и в помине, стеклянный, расползающийся над землей золотистый зной давит на плечи одинокому путнику, затрудняет дыхание.
В середине дня раскаленный, пропеченный солнцем воздух тонкими, едва заметными струнами дрожит на подернутом легкой дымкой недосягаемом горизонте. На проезжей большой дороге, на шляху, налетевший внезапно жаркий тропический ветер подымает и крутит в воздухе целые смерчи черной дорожной пыли. Высоко в небо взвивается высохший за лето легкий куст пепельного перекати-поля или оброненная проехавшим обозом ненужная тряпица, а то и брошенная кем-то из пешеходов рваная онуча.
От жары, острой жажды, обезвоживания организма, солнечного жгучего припекания не хочется ничего делать: лень пошевелить рукой или ногой. Наваливается какая-то непреодолимая истома, общая апатия, сонливость. Все время клонит в дрему, в спасительную тень, к речке. Но и здесь все как будто вымерло: не слышно заливистого кваканья лягушек, уханья жерлянок и тревожного крика степных птиц.
Но работникам даже в эту гиблую пору нельзя расслабляться. Казачья яицкая беднота и часу не сидела сложа руки. Летом, вестимо, один день весь год кормит. Казаки, не разгибая спины, трудились на огородах и приусадебных участках, любовно возделывали мать-кормилицу, землю. У кого имелись хутора, а таких среди основной казачьей массы были единицы, проводили там все лето. Самые дальновидные уже с конца августа начинали готовиться к третьему в году рыбному лову – так называемой плавне. Смолили и конопатили будары, чинили снасти для лова рыбы. В середине сентября начиналась заготовка на зиму сена.
Кому выпадала по жребию очередь нести сторожевую службу, отправлялись в начале лета на форпосты Яицкой оборонительной линии, где проводили время до самой зимы, возвращаясь в родные курени как раз к четвертому рыбному лову в конце ноября.
2
Дети бедноты, помогая родителям по хозяйству, все лето трудились наравне со взрослыми. Старшины же и яицкие богатеи своих отпрысков работой не неволили, давая им полную свободу.
Мартемьян Бородин со своими ребятами днями проводил на речке Чаган или на степных сыртах, на охоте. Охоту, по старинному казачьему обычаю, они называли «гульбой». Охотились в основном пешими, только у Матюшки Бородина да еще у нескольких казачат были кони. Самопалов и ружей тоже было раз, два и обчелся. Казачата наловчились стрелять из тугих татарских луков, которые имелись почитай в каждом казачьем дворе. Некоторые выпросили у родителей боевые казачьи шашки.
– Атаман, теперя можно и в поход за зипунами отправляться, – подмигнул Мартемьяну грамотный, почитывающий исторические книжицы Андрюха Овчинников. – Я буду, чур, Стенькой Разиным, а ты, Мартемьян, – головным донским атаманом…
– Ну нет уж, – отрицательно затряс головой строптивый Бородин, – врешь, Андрюха, Стенькой Разиным буду я! А ты – моим верным есаулом-помощником.
– Так ведь Стенька Разин был крамольником и душегубцем, – охладил их горячий спор рассудительный Андрей Витошнов. – Он супротив государя пошел, и ему за то в Москве, на Болоте, руки-ноги поотрубали… Он, разбойник, и к нашему городку приступал, да казаки приступ отбили. Он и ушел ни с чем, не солоно хлебавши. Утерли ему неумытое рыло наши деды да прадеды.
– А ты откель все это знаешь, Андрей? – удивился Матюшка Бородин.
– Старшие сказывали, – уклончиво ответил Витошнов.
– Ну тогда, Овчина, так и быть, будь ты Стенькой разбойником, а я супротив своих не ходок, – решительно переменил позицию Мартемьян Бородин.
– А мне все едино, – бесшабашно и лихо тряхнул русым казачьим чубом Андрей Овчинников. – Мне лишь бы за простых казаков, а там можно и супротив царя… Что он нам, на Москве, хорошего сделал?..
На гульбу двинули в конце недели всем «войском». В самом начале, едва отошли от Яицкого городка версты на три, Матюшка Бородин подрался со скандальным типом Митькой Лысовым, не признававшим никаких авторитетов кроме тяжелого ременного арапника собственного папаши, частенько потчевавшего его по одному интересному месту за всяческие непозволительные проделки.
– Гэй, лыцари мои степные, а ну вяжи смутьяна! – гневно указывал на своего противника Митьку шмыгавший разбитой сопаткой Мартемьян Бородин.
– Токмо подойди, эгей! – пятясь по рачьи от обступивших его казачат старшинской послушной стороны, визгливо кричал, светясь подбитым глазом, Митька Лысов. В руках его блеснул кривым лезвием нож.
От Митьки отпрянули, и он, злобно, по-взрослому переругиваясь с казачатами, ушел прочь. Дальше пошли без приключений. Дичь на глаза не попадалась, лишь далеко на горизонте маячило несколько испуганных сайгаков, которые тут же скрылись, едва завидели опасность. Гулебщики вскоре притомились и разбили бивак в небольшой рощице, в лощине.
– Куда двинем далее, робя? – вопросил своих Матюшка Бородин, смутно представлявший себе весь сложный механизм казачьей гульбы.
– Надо поучиться стрелять из луков и ружей, – поделился своими соображениями Андрюха Овчинников, – не то доведется сайгака убить, так и не попадут, мазилы.
– Это дело, – согласился сразу же Мартемьян.
Он велел двум казачатам снять с одной из лошадей войлочный потник, растянуть его меж двух, близко притулившихся друг к другу берез. Сам начертил в центре потника куском мела большой, неправильной формы круг и другой, посередке, поменьше.
Ребята отошли на двадцать шагов и начали поочередно пускать в нарисованную мишень стрелы. В маленький круг не попал ни один. Только Андрюха Овчинников послал свою стрелу ближе всех к центру, у остальных стрелы легли по краям большого круга или вообще за чертой. Мартемьян Бородин не смог попасть даже в сам потник, его стрела пролетела мимо мишени и ее потом не нашли, как ни искали.
– Не, я из этой басурманской оружии не стрелец, – брезгливо скривился посрамленный атаман гулебщиков. – А подайте-ка мне ружье.
Ему протянули одно из трех охотничьих ружей, имевшихся у ватажных казачат. Мартемьян сорвал у одного из приятелей шапку, подбросил ее высоко вверх и, быстро вскинув тяжелое ружье, выстрелил почти не целясь. Шапка упала к ногам хозяина, зияя огромной, с кулак, дыркой.
– Ну вот, шапку спортил, атаман, – заканючил разобиженный казачок, – че я теперь батяне скажу?.. Трухменка почти что новая, неделю назад на ярмарке в Оренбурге справили.
– Не скули, – беспечно отмахнулся от него довольный случайным попаданием Бородин. – Вот тебе на бедность, держи. – Он ловко бросил казачку серебряную монету.
Постреляв еще малость и наделав с дюжину дырок в потнике, свернули лагерь и вновь направились в степь. Не пройдя и версты, заметили в степи пасущийся табун лошадей, а дальше, чуть правее, островерхие, конусообразные юрты.
– Никак татаровья али калмыки, – вглядываясь из-под ладони вдаль, предположил самый старший из казачат, Андрей Витошнов. – Перекочевывают, видать, на летние пастбища.
– Это на нашей, казачьей земле? – возмутился Матюшка Бородин.
– А что ты сделаешь? У них – сила, – флегматично протянул Витошнов.
– А вот мы их сейчас!.. – Мартемьян схватился за эфес своей казачьей, выпрошенной у отца, шашки. – Казаки, атаманы-молодцы, в сабли басурман!
– А они у нас есть? – недовольно загалдели безоружные казачата. – Сам нацепил родительскую и фасонит.
– Их там много, поди, – урезонил атамана Андрюха Овчинников. – Давай вдругорядь как-нибудь.
– Ну вот, струсили, – покривился Матюшка Бородин. – И ты, Стенька Разин липовый…
– А вот и не струсил, – загорелся уязвленный Андрюха.
– А ты докажи, докажи, – подначивал друга Бородин.
– И докажу! – стоял на своем Овчинников. – Как стемнеет, подкрадемся к табуну и словим себе по жеребцу… Идет, Матюшка? Или слабо?
– Мне слабо?! – полез на него с кулаками Бородин.
– Ну ладно вам, петухи, – встали между ними Максимка Шигаев и Петька Тамбовцев. – Овчина дело говорит. Надо у нехристей коней отбить, атаман.
– А девать посля куды? – подал голос осторожный Петр Скворкин, старшинский сынок. – В городок ведь не приведешь, враз взрослые прознают.
– А мы их в степу, в каком-нибудь дальнем глухом байраке схороним, а после цыганам продадим, – предложил Андрюха Овчинников.
– Грех это, ребята, батюшка в церкви сказывал, – предостерег Андрей Витошнов. – Да и конокрадов мужики не жалуют, смертным боем бьют.
– Так мы ж не у мужиков крадем, у косоглазых, – ответил ему Овчинников.
Петр Скворкин, боясь показаться трусом, все же продолжал высказывать свои сомнения:
– А как навалятся на нас нехристи, что тогда? Их там, в кочевье, поди, несчитано.
– Ниче, брат, отобьемся, – заверил его Мартемьян. – Значит, казаки, решено: ночью идем воровать у косоглазых лошадей. Кто трусит – скатертью дорожка, пускай возвертается в городок, токмо посля этого он мне не друг!
– Я, пожалуй, пойду до дому, – вызвался уходить один Андрей Витошнов, – и вам, робя, советую тако же… Гульба-гульбой, а на воровское дело я не горазд. Что я, тать с большой дороги, что ли? Соловей-разбойник?..
– Иди, иди, Андрюха, за мамкину исподницу держися, – помахал ему на прощание рукой Мартемьян Бородин. – А еще друзьяк мне был первейший…
– Это нарушение государственного закона, Мартемьян, – продолжал доказывать свое Витошнов. – Вас за это по головке взрослые не погладют, да и полиция из Оренбурга набежит, коней искать будут.
Витошнов удалился, а казачата, отойдя подальше от табуна, в степь, где трава вымахала уже почти по брюхо лошади, расположились лагерем у высоких густых кустарников терна. Пустили пастись несколько бывших в отряде коней, предварительно связав им веревкой передние ноги. Принялись по-взрослому играть в кости, рассказывать похабные истории из жизни гулящих девок, которых, по слухам, хоть пруд пруди в губернском Оренбурге. В Яицком же городке такого сраму сроду не наблюдалось, казачки держали себя в строгости, парням ничего лишнего не позволяли. Иначе худая слава живо разнесется по всему городку. Пропала тогда девка, как есть пропала! Ворота ночью дегтем испоганят, замуж посля никто не возьмет, батяня под пьяную руку все косы обтрепет. Что за жизнь?
Глава 5
Гулянка у Кавунов
Назойливый Митька Лысов, затаив обиду на Бородина, решил расквитаться. Но одному идти против толпы не резон, нужна компания. А казачата в городке уже все по ватагам разбились: ребята старшинской стороны все сплошь у Матюшки, а войсковой, непослушной – у Ваньки Зарубина. И пошел Митька разыскивать Чику и его ватагу. Как раз был выходной день, у церковной ограды толпились нарядные по случаю церковного праздника – Ильина дня – казачки. Тут же крутилось и несколько казачат, среди которых мелькал, черный, как воронье крыло, вихрастый чуб Ваньки Зарубина.
– Привет, Чика! Отойдем, разговор есть, – приветствовал знакомца наглый Митька Лысов.
– А-а, ты, Лысый… Явился не запылился, – неприязненно покосился на парня из вражеского лагеря Зарубин. – Матюшка тебя, чай, подослал к нам, на непослушную сторону? Говори, выжига!
– Я с Бородой боле не вожусь, – тряхнул редкими соломенными волосенками Митька. – Он, куркуль, глаз мне ни за что ни про что подбил: во, гляди, – указал казачок на свою синеющую под глазом боевую травму. – Я теперь к вам перехожу, на войсковую сторону. Примете?
– Ну что ж, добро, – согласно кивнул головой Чика, – нам лишний боец не помешает. Гайда с нами, Митька.
В стороне Ваньку поджидали Тимоха Мясников – его верный дружок-телохранитель – и Мишка Атаров. Вчетвером обошли церковь и приблизились к кабаку, где у крыльца крутились еще ребята войсковой стороны.
– Мы тут гулянку малость затеваем, – рассказывал по пути Митьке Ванька Зарубин, – по случаю Ильина дня. Наши горилки должны, чик-чика, малость достать. Вон они, кстати, встречь нам бегут. Взяли уже, небось, чего-нибудь.
К Зарубину и его спутникам подошли сияющие хмельными улыбками Федька Чумаков, Ванька Кирпичников, Афоня Перфильев и Сидорка Рублев.
– Ну что, есть что-нибудь? – взглянул на скалящихся приятелей Ванька и подозрительно втянул в себя воздух. – Нажрались, дьяволы… За тем я вас спосылал?
– Не бреши, Ванька, – махнул не него рукой Федька Чумаков. – Ну хлебнули малость, что с того. Зато и с собой зелья хмельного прихватили, эвот в мешке – штоф.
Чумаков приподнял тяжелый мешок, в котором булькала вместительная посудина.
– Молодец, Чумак, держи крепче горилку, – сменил гнев на милость малолетний атаман. – Айда, чик-чика, до Кавунов, они песни запорожские дюже гарно спивают.
– С кем поведешься, от того и наберешься, – скептически усмехнулся Афоня Перфильев, намекая на украинские слова, то и дело проскальзывающие в речи Зарубина.
– Ниче, мы все казаки-братья, и запороги нам не враги, – убедительно ответил Ванька.
В хате у Кавунов никого из взрослых не было. Богдан объяснил, что родители со старшим братом, несмотря на церковный православный праздник, с вечера вчерашнего дня уехали на бахчу.
– Да и не ревнители они вашей старой, раскольничьей веры, – сказал Богдан. – Батько у мэнэ греко-католик, а нэнько и вовсе иудейского вероисповедания.
– Это как же понимать, жидовка, что ли? – присвистнул от удивления Ванька Зарубин.
– Иудейка, сказано тебе, – сердито поправил Чику Богдан Кавун.
– Ну и хай будэ так, – умело копируя его малороссийский выговор, согласился Ванька. – Нам, яицким лыцарям, все едино: что хрен, что редька… Ты, чик-чика, Богдан, чарки доставай, у нас горилка припасена. Выпьем в честь Ильи-пророка по маленькой.
– А ведаешь ли ты, Иванко, шо Илия-пророк тоже иудей бул! – обратился к Зарубину Богдан.
Говоря, он доставал из поставца глиняные чарки, расставлял их на дубовом некрашеном столе перед казачатами. Младшему братишке, Ваське, велел сгонять в ледник за соленой капустой, которую мать хорошо умела приготовить с грибами, и за огурцами.
– Врешь! – не поверил ему Зарубин. – Как может такое быть, чтобы православный святой был жидом?
– А вот и был, был, – настаивал на своем старший Кавун.
– Докажи!
– И докажу, докажу, – горячился Богдан.
– Докажи давай, – не отставал Ванька Зарубин. – Где такое написано.
– А ты святые писания почитай, Ветхий Завет, – сказал Богдан, – там все про это прописано… Иудей был пророк Илия. Он пред Господом Вседержителем великую милость поимел, и тот за это вечную жизнь Илие даровал. Пророк в небесной крылатой колеснице в небо взмыл, як птыця, и вмиг в Царстве Небесном, в раю то есть, оказался.
– Сказки, – скептически отмахнулся Федька Чумаков.
– Вот те истинный хрест, все так и было! – побожился Богдан.
– И где ж он жил, Илья энтот бессмертный? – спросил Зарубин.
– В Древней Иудее, в стольном их граде Ерусалиме, – заученно ответил Богдан Кавун, хорошо знавший священные писания.
До переезда на Яик, когда еще жили они в Малороссии, учился он в церковно-приходской школе и даже малость балакал по латыни.
Васька Кавун притащил из ледника закуску, и пиршество началось. Ванька Зарубин, достав из мешка вместительный штоф казенной водки, налил всем по первой.
– За Илию Бессмертного, пророка жидовского, – громогласно провозгласил он тост, подняв свою чарку.
Казачата дружно выпили водку, весело заработали челюстями, зачавкали капустой с малосольными грибами, аппетитно захрустели солеными огурчиками.
– А как житье на Украине? – основательно закусив, обратился к Богдану Кавуну Ванька Зарубин. – Каково там запорожским казакам? Не забижают их москали?
– Дюже озоруют москалики, – горько посетовал Богдан. – В Туретчину и к татарам крымским за добычею ходить не велят. Взрослые знающие людыны кажуть – регулярство среди козаков запорижских вводют, атаманов наказных сажают… А сейчас, думаю, и вовсе плохи у козаков дела – война, слышь, с крымским ханом!
– И откуда ты про все знаешь, Богдан? – удивился Кирпичников.
– Так, взрослые кажуть… – неопределенно пожал плечами черкас.
Ванька Зарубин, лихо взболтнув содержимое штофа, налил по второй.
– Давай, брательники, теперя за войско наше Яицкое выпьем. Да за Яик-Горынович.
Подвыпившие казачата одобрительно загудели, закричали «ура» и «любо». Дружно выпили за Яик-Горынович.
– А почто вы свою реку Горыновичем зовете? – задал давно мучавший его вопрос Богдан Кавун. – У нас на Украине сказка есть – мне нэнько в детстве рассказывала – про страшного дракона Змея-Горыновича. Он злой был, дракон, навроде царя московского либо короля польского: людей поедом ел, девок молодых в логово свое утаскивал, добрых молодцев огнем пожигал.
– То у вас, у хохлов он злой, а у нас – добрый, – нравоучительно проговорил Ванька Зарубин. – Он хоть и дракон, Яик-Горынович, но простым казакам завсегда на рыбном промысле помогает, самую хорошую рыбу в сети гонит. Богатые рыбные места при зимнем багрение указывает. Потому и чтут его наши казаки, и песни про него гарные спивают.
– Давай, Чика, затянем что ли нашу! – крикнул через стол расчувствовавшийся от выпивки Тимоха Мясников – лучший друг Ваньки Зарубина, добрый в городке песенник и плясун.
– Зачинай, Тимоша, мы подтянем, – согласно тряхнул смоляными кудрями похожий на черномазого цыгана Чика.
Тимофей Мясников, откашлявшись в кулак, чистым красивым голосом запел старинную яицкую песню:
- На краю Руси обширной,
- Вдоль Яицких берегов,
- Проживает тихо, мирно
- Войск яицких казаков.
- Да проживает тихо, мирно
- Войск яицких казаков.
И тут, подхватив припев, вступила в песню, как в кристально-чистую, родниковую воду, остальная казачья разноголосица:
- Ой да располынушка, горька травушка,
- Горчей тебя в поле не было.
- Горчей тебя царская служба…
- Ой да, ой да располынушка,
- Горька травушка…
Казачата пели хорошо, старательно выводя заунывную мелодию. Песня трогала сердца, брала за душу. После, по просьбе Чики, спел украинскую песню Богдан. Потом Тимоха Мясников лихо отплясывал посередине хаты вприсядку, крутя над головой огненно сверкающей, обнаженной казачьей шашкой. Когда после песен и танцев осушили еще по одной чарке, всех потянуло до девок.
– Айда, казаки, на игрища, – скомандовал Ванька Зарубин. – Возле церкви о сю пору завсегда полно девчат.
– Там и старшинских выродков немало, – с опаской напомнил осторожный Ванька Кирпичников. – Кабы потасовки не получилось.
– А ты струсил? – презрительно сощурился Зарубин.
– И вовсе нет, – тут же пошел на попятный Кирпичников, – я как все… Как ты, атаман. На игрища, так на игрища…
– Ох и встречу же я Матюшку Бородина, – потирал от нетерпения кулаки вечный склочник и скандалист Митька Лысов, – ох и поколочу же, потешусь над куркуленком! Кровавой юшкой у меня умоется.
В ребячьих разговорах за столом Митька не участвовал, занятый больше содержимым штофа да посудин с закусками: он не дурак был выпить и пожрать. В доме его отца жрать вечно было нечего, мать и старший брат батрачили на богатеев, отец воевал в Крыму, семья не вылазила из нужды. Митька Лысов мечтал сказочно разбогатеть и тогда показать кузькину мать всем своим обидчикам, городским богатеям. Но удобный случай выбиться из нищеты все не подворачивался, и Митька озлоблялся, завидуя успехам других, обвиняя их в своих несчастьях и бедах, грозясь поквитаться. У него была в городке масса личных врагов, число которых день ото дня все увеличивалось и увеличивалось. Причем врагом, не ведая о том, мог стать всякий, косо посмотревший на Митьку или сказавший ему какую-нибудь колкость. Лысов был мстителен, жесток, беспринципен. Казачьей своей честью не дорожил и в душе презирал всех окружающих, считая себя намного умнее и выше. Вот только капризная девка-удача почему-то обходила его десятой дорогой…
Глава 6
Драка
Когда в степи стемнело и на небо, как из рога изобилия, кто-то незримый и могущественный высыпал серебристые звезды, Мартемьян Бородин со своими пополз к маячившему впереди табуну татарских коней. Стреноженные кони чутко прядали ушами, часто отвлекаясь ото сна на ночные звуки и шорохи. У пылавшего неподалеку кострища полулежали пастухи, два молодых татарина в лисьих обтрепанных малахаях. Дымили небольшими глиняными трубочками, ведя неторопливый приглушенных разговор. Они не слышали, как сзади к ним подкрались казачата.
Мартемьян Бородин дал бесшумный сигнал, и гулебщики гурьбой навалились на пастухов, зажали им грязными, перемазанными глиной ладонями рты, скрутили руки и ноги. Мартемьян выхватил из-за голенища сапога остро отточенный нож и, не моргнув глазом, вонзил его по самую рукоять в податливо-мягкое, встрепенувшееся тело молодого татарина. Другого, так же умело и безжалостно, как курицу у себя во дворе, зарезал Петр Скворкин.
– Что вы наделали, дурни! – схватился за голову Максимка Шигаев, но Мартемьян и ему пригрозил окровавленным ножом.
– Молчи, Макся, не твое дело… Беги лучше к остальным, уводи коней. Мы с Петькой вас покараулим.
Спрятав нож, Бородин потянул из-за спины охотничье ружье. Петр Скворкин проделал то же. Казачата между тем, вклинившись в татарский табун, торопливо распутывали передние ноги коней, уводили их по одному в степь, подальше от огня. Там в условленном месте их поджидали трое всадников, следивших, чтобы никто не зашел к ним внезапно с тыла.
Когда все кони, которых украли гулебщики, были распутаны и уведены, Мартемьян подал команду своим. Те быстро вскочили на неоседланных татарских коней, охлюпкой, без седел, тронулись за своим атаманом. Мартемьян пересел на своего жеребца, взятого из дома, повел ватагу едва различимой при бледном лунном свете тропой прочь от места кровавого преступления.
Отъехав с полверсты, по сигналу Бородина пустили коней в галоп. Направлялись строго на северо-восток, правя по звездам. То и дело оборачивались назад, опасаясь погони. Так гнали коней несколько десятков верст, потом останавливались, давали им отдых, некоторое время трусили медленной рысцой. Потом снова – аллюром. К утру были уже далеко от татарской стоянки.
– Ну все, други, вертайтесь обратно в городок, – велел казачатам Матюшка, – а мы со Скворкиным схороним лошадей, где договаривались, и тоже назад вернемся. Посля в городке обмозгуем это дело, как цыганам коней краденых татарских сплавить.
На том и порешили. Максим Шигаев, Петька Тамбовцев и остальные казачата спрыгнули с коней и, распрощавшись с атаманом, направились напрямки, по бездорожью в сторону Яицкого городка.
– Ну и что ты на это скажешь? – угрюмо спросил приятеля Петьку Тамбовцева Максимка Шигаев.
– А что тут говорить? Татары… – уклончиво ответствовал Петька.
– Что, татары не люди, по-твоему? – не отставал въедливый Максим.
– Магометане, одно слово, – неопределенно пожал плечами Тамбовцев.
– А они нас трогали, магометане?
– Да что ты пристал, как репей, – озлился, по-волчьи ощерив белые крупные зубы, Петька Тамбовцев. – Ты Матюшке энто скажи, меня пытать нечего.
– А что говорить?.. Я уж сказал. Не ходок я больше с вами, – решительно отрубил Максим. – Я людскую кровь почем зря лить не научен.
– Бежишь, Макся, как Андрюха Витошнов? – с укором сказал Тамбовцев.
– Не, Петруха, разные мы с Матюшкой люди, – затряс отрицательно головой Максим Шигаев, – не одного поля ягоды. Он – старшинский сынок, а я – простой сын казачий. Мое место на войсковой стороне, вместях с братьями-казаками.
– Так и я навроде не из князьев буду, – нерешительно замялся, пряча глаза, Петька Тамбовцев. – Мой папашка завсегда бедной, войсковой стороны держится.
– Ну так и решай, Петька, с кем нам по одной дорожке идтить, – наставлял его на правильное решение Максим Шигаев. – С кем нам дружить сподручней: с лиходеем и убивцей Матюшкой Бородиным либо с нашими, войсковыми ребятами, с Чикой Зарубиным?
В городок друзья пришли с твердо принятым решением: с Мартемьяном Бородиным больше дружбу не водить, а переметнуться к Ваньке Зарубину. От этого выбора обоим стало легче, с души отлегло, как будто тяжелый камень свалился. Приятели разошлись по домам, сговорившись встретиться вечор у церкви и вместе поискать Ваньку Зарубина и его ватагу.
Прознав об их предательстве, Матюшка Бородин рассердился: уже четверо казачат за последнее время ушли из его ватаги, переметнувшись на войсковую сторону, к Ваньке Зарубину. Он решил хорошенько их проучить. Вечером у церкви Бородин со своей компанией подстерег Максима Шигаева и Петьку Тамбовцева. Окружив, прижали друзей к забору.
– Ну, что, Макся, посчитаемся? – зловеще процедил Мартемьян и, крепко сжав кулаки, надвинулся на Шигаева.
Друзья-перебежчики ловко выломали из забора по тяжелой, увесистой штакетине. Угрожающе шагнули навстречу Бородину и его ребятам.
– А ну-ка подходи, кто смелый! – храбро выкрикнул Максим.
Петр Скворкин сзади бросился ему под ноги, кто-то из бородинских с силой пихнул Максима рукой в грудь. Тот, споткнувшись о Скворкина, полетел вверх тормашками на землю. Толпа казачат с победным ревом накинулась на поверженного противника, стала пинать ногами лежачего, хоть это было не по правилам. Но бородинским на ребячьи строгие правила было начхать.
Робкий Петька Тамбовцев, бросив свою палку, со слезами принялся канючить прощения. Сильной оплеухой по голове его сбили с ног, тоже малость поколотили ногами. Максим, воспользовавшись моментом, когда его оставили в покое и переключились на Тамбовцева, быстро вскочил на ноги и бросился с кулаками на Мартемьяна. Точным, стремительным ударом Шигаев сбил главаря старшинских с ног, крутнувшись на каблуках, ударил в челюсть еще одного казачка.
– Держися, Петро, сейчас я тебя вызволю, – крикнул Максим распростертому на земле другу, и ударил третьего врага в ухо.
Казачата, бросив бить Тамбовцева, кинулись скопом на Максима Шигаева. Тот, подхватив брошенную Петькой штакетину, замахал ею с силой над головой, похожий на взбесившуюся ветряную мельницу.
– Не замай, куркули, зашибу! – орал он не своим голосом в темноту, надеясь, что его услышит кто-нибудь из зарубинских и поспешит на помощь.
Расчет Максима оказался верен. Его услышали, и вскоре от церкви к месту потасовки подоспела густая толпа войсковых казачат во главе с самим Ванькой Зарубиным.
– Эгей, яицкие неслухаи, наших бьют! – крикнул во всю мощь крепких и сильных, как кузнечные меха, молодых легких задира Зарубин и первый бросился в самую гущу свалки. Остальные – за ним.
Вскоре старшинские уже отлетали от их ядреных, свинцовых кулаков в разные стороны, как тряпичные куклы. Мартемьян Бородин, подбадривая своих оробевших сторонников, кинулся было на Зарубина, но Чика отвесил горе-атаману такого крепкого леща, что тот запахал носом в землю, как будто хотел бодаться. Не менее чем Ванька умелый кулачный боец Мишка Атаров уложил на землю бородинского дружка Петра Скворкина. Остальные старшинские, видя бессмысленность драки с зарубинскими многочисленными головорезами, стремительно, как тараканы на свету, разбежались в разные стороны. Мстительный Митька Лысов, догнав улепетывающего с площади за милую душу Бородина, свалил его кулаком на пыльную дорогу, навалился сверху и – беспомощному, не сопротивляющемуся – два раза с силой припечатал кулаком под глаз.
Победа была полная и блестящая, как выигранная у басурман баталия. Враг был наголову разбит и бежал, не чуя под собой ног. Ванька Зарубин стал полновластным хозяином городских улиц.
Глава 7
Нападение орды
Ночью городок разбудили громовые раскаты заговоривших на валу сигнальных пушек, да сумасшедший набатный звон как будто сбесившегося церковного колокола. По улицам проскакали гонцы с факелами, призывая казаков к оружию. Повсюду гремело: «Сполох! Сполох! Татары!»
Ванька Зарубин с Тимохой Мясниковым бежали в толпе полуодетых казаков к городскому валу. Их то и дело обгоняли конные, расчищавшие себе дорогу ударами ременных нагаек.
– Поберегись! Поберегись, дьяволы сонные, – кричали они, стегая поочередно то своих коней, то зазевавшихся горожан.
Ошалевшие от шума, гама и неразберихи сотники и десятники никак не могли отыскать свои подразделения. Атаман со старшинами был уже на валу, расставляя по боевым постам прибывавших из городка людей и распоряжаясь обороной. Пушки гремели, не умолкая. Посылали в степь горячие заряды картечи и каленые ядра. Укрывавшиеся за наполненными землей плетеными фашинами казаки стреляли в степь из ружей. В ответ им из темноты жужжали смертельными осами меткие татарские стрелы с орлиным оперением. Обмотанные паклей и подожженные, они перелетали через вал и вонзались в городке в деревянные строения. На улице то здесь, то там занимались пожары, которые выскакивали тушить простоволосые, в одном исподнем казачки.
– Ружье мне, ружье мне, господин атаман! – Ванька Зарубин, чуть не плача, тряс войскового атамана за рукав форменного чекменя. – Прикажи вооружить молодежь, господин атаман. Мы им, нехристям!..
– Отстань, молокосос, – гневно отмахивался от назойливого пацана войсковой. У него полно было и других забот.
Вокруг продолжали свистеть татарские стрелы, на валу за фашинами начали падать раненые и убитые казаки. Тимоха Мясников потянул Зарубина туда.
– Ванька, да кинь ты его. Вон гляди, у побитых сколько оружия!
Зарубин тоже сейчас сообразил, что ружья просто валяются под ногами, и радостно побежал вслед за Тимохой. Схватив себе по ружью, которые выронили убитые защитники городка, казачата заняли их места у земляных амбразур. Как обращаться с оружием, оба знали не понаслышке, не раз приходилось упражняться в стрельбе по мишеням под руководством сотника.
Верховые татары с гортанными криками «алла» носились вдоль крепостного вала. Не останавливаясь, натягивали свои тугие луки и пускали в защитников смертоносные стрелы. Казаки отвечали им из ружей с вала, валя с коня то одного, то другого всадника. Вот грянул близкий выстрел из пушки, и густая, раскаленная картечь повалила целую дюжину неприятелей. Дико заржали раненые кони, завизжали от боли люди. Татары волной поспешно отхлынули от городского вала, но на смену им из степи прибывали новые толпы.
– Ты гляди, да их тута целая орда, – восхищенно выкрикнул широкоплечий бородатый казачина, стоявший рядом с Ванькой Зарубиным, и выстрелил в наступающих из ружья. – Хреново дело, мальцы. В Ренбург за подмогой спосылать надо. Чтой-то атаман наш не чешется?..
– Не выдюжим, подмогу давай! – загалдели и остальные казаки.
– Выдержим, вы чего, аники-воины, – перекрывая их ропот, звонким тенором воскликнул бесшабашный Ванька Зарубин. – А ну, пали дружно по басурманам! Чик-чика им в душу… Пали знай, не зевай.
Ванька, быстро перезаряжая ружье, то и дело высовывался из-за фашины и посылал в наседающих татар пулю за пулей. Уже несколько всадников свалились от его метких выстрелов. Тимоха Мясников от него не отставал, тоже часто стрелял в неприятеля, пока не спалил весь порох. Торопко побежал вдоль вала, ища у погибших защитников пороховницы и патронные сумки.
Татары, видя, что ружейный и артиллерийский огонь из крепости все усиливается и усиливается, и среди защитников нет паники, решили предпринять приступ. Часть всадников спешилась и, отдав коней коноводам, с громким звериным визгом бросилась ко рву. Остальные, отъехав на порядочное расстояние, поддерживали атакующих выстрелами из луков.
Пешие татары, добежав до рва, стали прыгать в него и перебираться по дну на другую сторону. Сверху, с вала на головы им летели пылающие головни, камни, всякий ненужный хлам, песок и остывшая жужалка из печей; лилась расплавленная смола и кипяток. Это поднялись на городской вал казачки и молодые девки с подростками-казачатами, помогая взрослым отбивать неприятельский приступ. Казаки стреляли в атакующих из раскалившихся чуть ли не до красна ружей, громкими криками подбадривали баб и молодаек. Крепостные пушки продолжали расстреливать крутившихся в отдалении конных татарских лучников. Баталия была в полном разгаре.
Спешенные татары, выбравшись на другой стороне из рва, стали яростно карабкаться на высокий, крутой вал. Казачьи ружья сверху их уже достать не могли, и бабы с девками принялись еще неистовей обливать кипятком и закидывать камнями татарских смельчаков. Конные джигиты, сосредоточив огонь в месте предполагаемого прорыва, метили из луков по белым пятнам исподних рубашек полуодетых казачек. Пораженные стрелами, то одна, то другая защитница городка стала падать, скатываясь по другую сторону вала. Видя такое дело, казаки сердитыми криками, а то и несильными пинками поотгоняли баб и молодаек с вала внутрь городка.
– А ну, длиннохвостые, вали отсель по хатам. Не бабье это дело, с неприятелем воевать. Сейчас здеся, на валу, жарко будет, – кричали они казачкам.
В подтверждение их слов за плетеными, наполненными землей фашинами замаячили татарские меховые треухи и малахаи. Размахивая кривыми, острыми саблями, визжа, как резаные поросята, татары смело полезли на фашины, чтобы последним решительным ударом сбросить защитников городка с вала.
– Ну, Тимоха, держись! – весело крикнул другу Ванька Зарубин и, бросив бесполезное уже, разряженное ружье, потянул из ножен шашку, которую подобрал тут же, на валу.
Защитники вала тоже схватились за шашки и пики. Кое-кто продолжал стрелять в атакующих из пистолетов. Пушки на валу замолкли, казаки-артиллеристы, побросав банники и запалы, тоже приготовились к жестокой сабельной рубке. И тут неожиданно распахнулись городские ворота и густая толпа конницы во главе с войсковым атаманом и двумя знатными старшинами вырвалась из крепости на простор. Татары, поддерживавшие стрельбой из луков своих лезущих на вал товарищей, вмиг были смяты, частично порублены и рассеяны по степи. Других резервов у татар, очевидно, не было. Видя, что их конница в беспорядке откатывается от городка, дрогнула на валу и толпа атакующих пеших воинов.
Казаки на валу приободрились и с криками «ура» полезли с саблями наголо на фашины. Ванька Зарубин был в первых рядах. Спрыгнув на противоположную сторону городских укреплений, он смело бросился к ближайшему раскосому воину и, ловко отбив удар кривой сабли, раскроил ему шашкой череп до самого основания. Это был первый убитый им в жизни враг, и потому Чика все запомнил четко. С хрустким треском, как переспелый арбуз, голова татарина треснула под ударом оружия, прямо в Ванькино лицо ударила тугая струя крови. Враг инстинктивно схватился выронившими саблю руками за разваливающуюся на две части голову, будто хотел удержать ее на месте, не дать развалиться совсем. Изо рта его вырвался нечеловеческий, раздирающий душу вопль ужаса, как будто это кричала сама смерть. Мертвый уже татарин покачнулся на подогнувшихся ногах и грузно полетел навзничь вниз, с вала, прямо в зияющую пропасть чернеющего крепостного рва, заваленного пострелянными и сваренными заживо своими товарищами.
Защитники крепости дружным ударом опрокинули оробевшего противника в ров, стали палить им в спины из ружей и пистолетов. Вновь занявшие свои места у городских пушек канониры приготовились дать по бегущим последний смертоносный залп. Вылезавших на другой стороне изо рва татар рубили подоспевшие на выручку защитникам вала конные казаки. Остатки разбитого противника, видя полную безнадежность дальнейшего сопротивления, побросали оружие и подняли руки. Кое-кто махал нанизанными на сабли и копья белыми тряпицами, разорвав свои нижние рубашки. Еще через четверть часа все было закончено, и только заваленный трупами ров с прилегающими к нему окрестностями да горящие кое-где в городке дома и сараи свидетельствовали о разыгравшейся здесь ночью баталии.
Казаки, спустившись с вала в городок, тут же были разобраны жинками по домам. В хатах зажегся свет, казачки засуетились, рвя на полосы белые крахмальные простыни, делая раненым и увечным скорую перевязку. На валу, во рву и в степи, освещая местность смоляными факелами, почти до утра бродили и ездили на конях казаки. Достреливали или дорубливали раненых татар, собирали оружие, обшаривали сумы и кошели убитых.
В городке специальная похоронная команда собирала на валу и по улицам убитых казаков; до утра сносили всех на майдан – обширную площадь возле кирпичного здания войсковой канцелярии. Сюда то и дело подходили из городка ищущие своих казаков родственники. Отыскав среди многочисленных мертвецов своего, скорбно уносили покойника домой.
Бродивший в степи возле крепости Ванька Зарубин неожиданно нос к носу столкнулся с Мартемьяном Бородиным. Тот был занят каким-то непонятным делом, низко склонившись над телом убитого татарского витязя. Татарин был явно не рядовой, сотник или еще выше – мурза. Об этом говорили и богато расшитый золотыми узорами и замысловатым арабским орнаментом халат, и дорогие юфтевые сапоги красного цвета с загнутыми кверху острыми носами, и поблескивающее при лунном свете серебром и позолотой чеканное оружие.
Мартемьян вдруг резко взмахнул ножом и полоснул им по руке мертвого татарина. Почему по руке, Зарубин не понял. Да и зачем нужно было вообще бить ножом мертвого?
– Эй, Мартемьян, ты чего? – опасливо спросил Чика, трогая Бородина за плечо. – Чик-чика, малость умом тронулся?
– Пошел к черту, дурень! – сердито сбросил его руку с плеча Матюшка. Завернул в тряпицу и быстро спрятал что-то за пазуху.
Ванька мельком взглянул на беспалую, сочащуюся кровью руку мертвого татарина и вдруг все понял.
– Так ты, Матюшка, мародер никак?! – гневно вскричал казачонок. – Пока мы неприятельский штурм в городке отбивали и животы свои клали, ты здеся пальцы мертвым татарам рубил!.. А на пальцах знамо что – золотые кольца.
– Ну так что с того? – нагло взглянул на Ваньку Мартемьян Бородин. – Моя добыча – и баста! Что хочу, то и делаю. Да и нехристя этого я самолично срубил, в тылу под бабьими подолами не прятался, как некоторые.
Ваньке крыть было нечем. По давно заведенному казачьему обычаю все, что оставалось от врага на поле брани, считалось законной добычей победителей. Даже отрубленные с пальцами золотые кольца. Да хоть и голова, если взбредет кому из казаков взять себе на память отрубленную вражью голову!
– Ну гляди, герой, мы с тобой еще посчитаемся! – пригрозил, уходя в городок, Ванька Зарубин.
Он тогда еще не знал, что именно Мартемьян Бородин был виной постигшего Яицкий городок несчастья. Татары напали, обозленные угоном их лошадей и убийством двух пастухов. Это было первое накликанное Бородиным на Яицкое войско несчастье. Но, увы, не последнее…
Часть вторая
Раскол
Глава 8
Атаман Бородин
1
Прошли годы. Мартемьян Бородин стал войсковым атаманом, избранным на эту почетную должность казачьим кругом; Петр Скворкин, Андрей Витошнов и многие другие казаки из его бывшей мальчишеской потешной ватаги – старшинами. Наконец-то честолюбивый Бородин добился того, чего все время так жаждала его ненасытная душа – власти! Власть же открывала пути к богатству – другой его неуемной, всепожирающей страсти.
Самовольно захватив в первозданной яицкой степи огромные участки земли, он стал селить на них утекших из-за Волги от своих помещиков крепостных крестьян, дезертировавших из воинских частей солдат, беглых калмыков, отбившихся от своих орд киргиз-кайсаков и другой сброд. Мартемьян Бородин обещал им свою защиту и покровительство, снабжал на первое время кое-какими продуктами, хозяйственным инвентарем и заставлял работать на себя от зари до зари. Фактически атаман превращал всех этих людей в своих рабов, из которых выжимал все соки.
Питались бородинские невольники впроголодь, жили в землянках, шалашах или наспех сколоченных хибарах-завалюхах, шатавшихся при порывах даже несильных степных ветров. Роль надсмотрщиков выполняли казаки послушной, старшинской стороны, нанятые атаманом в городке, – в основном горькие пьяницы и бездельники вроде Митьки Лысова.
Невольники выращивали на бахчах арбузы и дыни, возделывали огороды, а кое-где и засевали пшеницей и другими злаками поля, пасли атаманский скот и заготавливали на зиму кизяки. За все это они не получали от скупого, прижимистого Мартемьяна ни гроша, а за малейшее неповиновение бывали биты плетьми или батогами. Наиболее строптивых атаманские холуи ночами отводили подальше в степь и там безжалостно рубили шашками, оставляя тела на съедение волкам. Здесь, в глухой яицкой степи, были свои законы, бородинские, волчьи!
Степные хищники, волки, хорошо усвоили повадки живущих в степи странных людей и уже не нападали на овечьи стада, не лазили в хуторах по овинам и катухам. Они терпеливо ждали в отдалении своей традиционной добычи, которую люди регулярно оставляли им в степных сыртах, ночами рубя шашками головы себе подобным. Страшные дела творились в степи, и никому из законных царских властей не было до них никакого дела.
Так атаман Мартемьян Бородин стал первым неофициальным помещиком на землях Яицкого казачьего войска. Его многочисленные поместья и хутора, разбросанные по необъятной степи, приносили крупные барыши, но вскоре Мартемьяну и этого показалось мало. Земля-землей, но была еще река Яик с многочисленными притоками и богатейшими рыбными промыслами, которая тоже могла дать большие доходы.
Правда, в отличие от дикой, бесхозной степной целины, которая хоть и считалась формально государственной, но фактически была ничья, река Яик принадлежала всему Войску, и казаки строго следили за своим рыбным богатством, не позволяя никому из чужаков к нему прикасаться. Только приписанные к Яицкому войску, служилые, коштные казаки имели законное право и привилегию ловить рыбу в родном Яике-Горыновиче. Рыбная ловля была единственным источником пополнения их семейного бюджета, не считая скудного государственного жалованья, конечно. Положенное казакам жалованье приходило из России раз в году и распределялось по дворам атаманом.
Мартемьян Бородин сразу же запустил и туда свою жадную лапу, обжуливая простых казаков непослушной, войсковой стороны, утаивая от них значительную часть царских выплат. Казаки глухо роптали, но пока терпели, – сами ведь избирали себе атамана и старшин. К тому же всех недовольных и языкастых Мартемьян Бородин приказывал безжалостно драть плетьми на майдане. А кому охота дуриком подставлять под плетки свою спину? Чай, спина не казенная!
Видя показную покорность казаков войсковой стороны, атаман обложил их незаконными поборами, штрафами и выдуманными им самим, фиктивными налогами, идущими якобы в пользу государства. Вскоре настала очередь и рыбных промыслов: Бородин стал сдавать их почти круглогодично на откуп, то есть в долгосрочную аренду, заезжим из России купцам либо своим местным предпринимателям и подрядчикам из казаков или оренбургских мещан и всяких торговых людей. Плату за аренду откупщики вносили в войсковую казну натуральную – отдавали часть выловленной в реке рыбы. Люди Бородина часть полученной рыбы, а также ценную черную икру продавали оптовикам на рынках Яицкого городка и Оренбурга. Другую часть засаливали и везли подалее – в Уфу, Синбирск, Казань, Нижний Новгород, Москву.
Из вырученных от продажи рыбы и икры денег десять с половиной тысяч Бородин уплачивал в государственную казну в форме налога, остальные обещался потратить на нужды Войска, а также распределить в виде паев казакам. Но паи год от году становились все скуднее и скуднее, а потом и вовсе пропали, войсковые нужды тоже атаманом не финансировались. Городок приходил в запустение, оборонительные сооружения постепенно ветшали и разваливались, простые казаки беднели и затягивали потуже кушаки на кафтанах и чекменях, а атаман Бородин со старшинами и немногочисленной послушной стороной жирели и обогащались на народном горе. Принуждая казачью голытьбу работать у себя на хуторах, а также на рыбных промыслах, заниматься засолкой и продажей рыбы и икры, старшины наживали до двадцати тысяч рублей в год, а атаман Бородин – и того больше.
2
Первым не выдержал скандалист и верховод всех несогласных Зарубин Чика. Где-то неделю спустя малого декабрьского багрения, увидав Мартемьяна Бородина на майдане, он не скинул традиционно в приветствии лохматой овчинной папахи. Гневно грозясь атаману жилистым своим кулачиной, не раз добре отделывавшим в детстве гладкую наглючую рожу Матюшки, Иван закричал во всеуслышание, при большом стечении городского народу:
– Атаман, с чего паи от продажи откупной рыбы отменил? Где наши трудовые, казачьи денежки? Почему старшины царицыно жалованье не додают? Почто недоимки якобы в государеву казну берешь с каждого казачьего дыма, а на самом деле свою мошну набиваешь? А ну ответствуй как ни на есть обчеству!
– Верно Чика шумит, – поддержали Ивана казаки, – справедливо!.. Давай отчет, Матюшка! Мы тебя в атаманы выбирали, мы и скинем. Не нужен нам такой атаман! Гэть!
– А ну, казаки-молодцы, взять застрельщика, – кивнул атаман своим и указал на Зарубина.
С десяток холуев послушной стороны, постоянно крутившихся возле атамана, во главе с двумя старшинами бросились исполнять его повеление. Чику окружили плотным кольцом, выбили из руки выхваченную из ножен саблю, повалили на землю, стали вязать татарским арканом. Еще с дюжину старшин и послушных кинулось на толпу, оттесняя зевак от Зарубина. Верный пес Бородина старшина Петр Скворкин выстрелил в воздух из пистолета.
– Разойдись, вашу мать, по хатам!.. Казаки, к пальбе готовьсь!
Безоружная толпа в страхе отхлынула от вскинувших дружно ружья казаков послушной стороны. На майдан из проулка с гиком и визгом, крутя над головой кривыми саблями и короткими турецкими ятаганами, вылетело десятка три конных татар и калмыков – сверхкоштных казаков – во главе со своим старшиной, которых Мартемьян подкармливал из собственных средств, используя для подавления беспорядков.
– Винимся, атаман, не вели казнить! – повалились на колени, прямо в декабрьский рыхлый снег, оробевшие горожане при виде вооруженных всадников.
Бородин дал знак, и сверхкоштные, со звоном вложив сабли в ножны, охватили полукругом центр майдана, куда атаманские холуи уже волокли связанного по рукам и ногам Ваньку Зарубина.
– Плетюганов ему всыпьте, братцы, по первое число, – объявил свой скорый приговор атаман, – чтоб остальным неповадно было!
Из канцелярии вынесли длинную дубовую скамью, уложили на нее спиной вверх связанного Чику, грубо сорвали с плеч потертый старенький кафтан и рубаху. На шею ему уселся здоровый рыжеволосый казак старшинской стороны, за ноги ухватились двое. Исполнявший роль ката, которая ему весьма нравилась, сверхкоштный яицкий казак татарин Карим Тугушев взял в руки тяжелый, с длинным змеевидным хвостом арапник. Толпа на площади глухо ахнула, когда страшный арапник молниеносно взвился вверх, со свистом рассек морозный декабрьский воздух и с силой захлестнул обнаженную мускулистую спину казака. На теле несчастного тут же отпечатался широкий кровавый рубец. Зарубин-Чика дернулся всем телом, заскрежетал от боли зубами, но стерпел, не крикнул. На крепко закушенных губах его под усами показалась кровь. Второй удар перечеркнул спину крест-накрест. Чика опять громко заскрежетал зубами – аж слышно было на площади. Черные цыганские глаза его полезли из орбит, в уголках глаз показались слезы.
– Держися, Чика, мы с тобой! – не удержавшись, крикнул из толпы казаков, подбодрил друга верный Тимоха Мясников.
– Кто кричал, шайтан? А ну-ка выходи, мало-мало, турма пайдеш! – направили коней на толпу татары с калмыками. Но Мясникова и след простыл: прикрытый товарищами, он поспешил вон с площади.
Экзекуция продолжалась. Арапник в руках палача Тугушева все так же зловеще свистел, сдирая со спины Ваньки Зарубина клочья белой, не загорелой кожи. Вся спина покрылась уже кровоточащими красными полосами. Чика, перестав скрежетать зубами, грязно матерился, посылая проклятья Матюшке Бородину.
– Отольются тебе, иуда, казачьи слезы! Будет ужо тебе, каиново племя! Будет!.. Чтоб тебя черти в пекле на вертеле поджарили, поросячий отросток! Чтоб тебе в задницу кол вошел, а во рту твоем поганом вышел! Чтоб у тебя ноги отсохли и ты на двор до нужника не ходил, а под себя гадил! Чтоб у тебя загребущие руки отвалились и ты чарку с горилкой до блевотного рыла своего не донес! Чтоб у тебя на шее зоб вырос, на спине – горб, а на лбе – хрен жеребячий! Чтоб ты до утра не дожил, а твою матерю сатана на косогоре тискал…
В толпе на площади от слов Зарубина смеялись казаки и стыдливо прикрывали расшитыми утирками рты казачки. Мартемьян Бородин побагровел от злости. Подлетев к татарину, резко выхватил из рук его арапник, сам заработал им по исполосованной, окровавленной спине Зарубина. Атаман хотел выбить из уст истязуемого мольбы о пощаде, крик боли, но в ответ на удары по-прежнему летели только отборная площадная брань и проклятия.
Глава 9
Начало Яицкой смуты
1
Тимоха Мясников этим же вечером осторожно поскребся в оконницу, затянутую бычьим пузырем, неказистой, бедной хатенки Михаила Атарова. Открыла ему Мишкина жинка, красивая молодая оренбургская казачка Варвара.
– Чего надо? – строго спросила она, как и все городские хозяйки опасавшаяся за своего супруга: как бы не влез, дурень, в крамолу против войскового атамана, видевшая во всяком пришлом госте смутьяна и разбойника, особенно в Тимохе – лучшем дружке битого только что на майдане Зарубина.
– Мне бы Михаила Родионыча на пару слов… – робко замялся на пороге казак.
Михаил вышел на голос из горницы в накинутом на плечи нагольном тулупе и в шапке, поманил Мясникова на улицу.
– Пойдем на двор, Тимофей. В хате сидеть – жарко от печки. Запаримся.
Тимоха охотно направился вслед за Михаилом, во дворе зашли за старую баню, присели на чурбаки под раскидистой старой вишней. Закурили трубки.
– Видал, что Бородин вытворяет? – без обиняков начал Тимофей Мясников. – Сегодня Чику выпорол, завтра и до нас черед дойдет… Совсем обнаглел, собака!
– А что сделаешь? – безнадежно глянул на собеседника Михаил. – У них, у старшин, сила, а у нас что?
– Врешь, Михаил, – не согласился Тимоха, – это нас, войсковых – сила, потому что мы – народ! А народ завсегда прав… А их, старшин и псов их верных, сколько? Горсть… Их смести – нечего делать! А прогоним Матюшку Бородина со старшинами – нам воля! Нового атамана изберем, своего, войскового, из бедных. И старшин – тоже. Жалованье по справедливости распределять учнем, и паевые деньги за откуп рыбных промыслов – тоже.
Михаил повертел с сомнением головой, глухо признался:
– Старики спрашивали надысь у атамана за откупа… Он говорит, что дела у откупщиков – купцов и подрядчиков – идут худо, рыбы почти нет, цены на рынках в связи с конкуренцией астраханских купцов падают, денег едва на погашение государственной пошлины хватает.
– Брешет, сукин сын! – гневно ударил кулаком по коленке горячий Мясников. – То-то он со старшинами как сыр в масле катаются… Деньжата, значится, есть, токмо не про нашу честь! Делегацию в Оренбург снаряжать надо. С челобитной губернатору.
– Это дело, – обрадовался Михаил, что Тимоха не призывает бунтовать. – Только в Оренбург писать бесполезно, там среди чиновников в губернской канцелярии у Матюшки все схвачено. Купил он все оренбургское начальство с потрохами!.. Лучше петицию в Петербург послать, самой государыне. А в челобитной все обстоятельно прописать о лихоимствах Матюшки… Вот только кто напишет?
– Я в грамоте – ни в зуб ногой… – признался Тимоха. – А давай к Якову Почиталину сходим. У него сын-малолетка Ванька большой мастак в писарском деле.
На том и порешили.
У Якова Почиталина они застали опередивших их Максима Шигаева и Петра Тамбовцева. Жестокая расправа с авторитетным среди бедноты Иваном Зарубиным переполнила чашу терпения казаков, всколыхнула весь городок. Казаки непослушной, войсковой стороны решили действовать.
В доме престарелого Якова Почиталина собрался своеобразный штаб недовольных. Малолетнего сынишку хозяина Ваньку усадили за стол в кухне, сунули ему в руку перо и бумагу, велели писать челобитную матушке-императрице. Каждый подсказывал что-то свое, поправлял товарища, спорил. Иван Почиталин несколько раз переписывал документ, когда, наконец, к полуночи, не был совместно сочинен окончательный вариант.
В челобитной подробно перечислялись все прегрешения и злоупотребления Бородина и верных ему лиходеев-старшин, красочно описывалась сегодняшняя расправа над Иваном Зарубиным, убийства в степи невольников, воровство казачьего жалованья и сокрытие от казны средств, полученных от купцов и подрядчиков за откуп рыбных угодий. Казаки просили позволить им переизбрать войскового атамана и старшин и взыскать с Бородина и его подручных неустойку в пользу Войска за невыплаченное жалованье и рыбные паи.
2
На следующий день ряды несогласных пополнились: узнав о составленной казаками челобитной царице Екатерине, старшина Иван Логинов, сочувствовавший простым казакам, предложил собрать по городку подписи, а кто не знает грамоты – пускай ставит крест. Всем эта идея понравилась, и старшине Логинову торжественно вручили челобитную, чтобы он первый приложил к ней свою руку. Иван Логинов призвал своих приятелей, сотника Копеечкина и казака Ульянова, также недовольных лихими деяниями атамана Бородина и старшин, и они втроем за неделю обошли весь городок, собирая подписи казаков непослушной стороны. Всего набралось около двух тысяч восьмисот подписей.
Через несколько дней, в конце декабря, тайно созвав круг, казаки выбрали делегацию в Питер из трех человек во главе с мудрым, степенным и рассудительным отставным казаком Петром Ивановичем Красноштановым. В делегацию вошли все те же Копеечкин и Ульянов. Челобитчикам по быстрому собрали на дорогу харчей, денег – по двадцать копеек с дыма, – теплую одежонку, заседлали добрых коней в розвальни, и на Святки делегация, помолясь Богу, не спеша тронулась в столицу империи.
Пока суть да дело, в городке случился еще один инцидент: на майдане опять по приказу Бородина выпороли двух непослушных, страховидного казака Ивана Бурнова и Варфоломея Добрякова, отказавшихся от наряда на дальнюю атаманскую заимку, куда он регулярно отправлял казаков из городка стеречь своих, работавших там на засолке рыбы невольников. Бурнов с Добряковым ссылались на то, что опоздают на большое зимнее багрение, которое начиналось 6 января, на Крещение… Исполнял приговор все тот же казак, татарин Карим Тугушев, заделавшийся штатным палачом при атамане.
Недовольных, затаивших лютую обиду на Бородина, в городке прибавлялось. Пользуясь тем, что главный заводила, верховод и атаман голытьбы Зарубин Чика лежит пластом у себя дома после жестокой экзекуции на майдане, бразды правления недовольными взял в свои руки старшина Иван Логинов. Развернув кипучую деятельность против атамана Бородина и верных ему старшин, Логинов добился того, что его выбрали атаманом большого зимнего багрения.
Глава 10
Зимнее багрение
С утра на Крещение весь лед реки Яика напротив городка был усеян собравшимися на багрение казаками. Каждый сидел в небольших санях, в которых была запряжена всего одна лошадь. Поперед всех – атаман Логинов. Он прохаживается не спеша вокруг своих саней, пробует сбрую, похлопывает по загривку лошадь. Возле него верхом на лошадях – следящие за порядком казаки. Среди них и Митька Лысов – ему, чем бить тяжелым багром подо льдом рыбу, лучше исполнять полицейскую службу!
Иван Логинов нарочно испытывает казачье терпение, то вдруг зачнет шутковать: вскочит как оглашенный в сани и поднимет для сигнала руку. Кто-нибудь из нетерпеливых рыболовов сорвется враз с места, думая, что сигнал для начала багрения атаманом дан. Ан не тут-то было. Логинов, захохотав, спрыгивает с саней на лед, дает отбой ложной тревоге. А рванувшего с места казака наметом догоняют верховые дозорные, рубят с остервенением шашками сбрую на его упряжи и багры. Митька Лысов, злорадно оскалившись, порет провинившегося рыболова нагайкой по спине, выбивая из его старого овчинного тулупа тучи пыли.
– Ты гляди, Митька Лысов что творит, курва, – обратился Михаил Атаров к стоявшему рядом в своих санках Ивану Кирпичникову. – Выслуживается перед атаманом, кат.
– И правильно делает Митрич, – пожал плечами вислоусый Кирпичников. – Знай, казуня, свое место, не суйся поперед батьки в пекло.
Иван, как и остальные казаки, сгорает от нетерпения, ожидая сигнала к началу багрения. Алчно поглядывает вдаль, куда предстоит скакать по льду Яика несколько верст. Там – места для подледного лова рыбы, или «етовы» по-местному.
Михаил Атаров только неопределенно покачал головой и ничего больше не сказал. В принципе, Кирпичников прав: нарушать казачий порядок никто не должен. За нарушение – кара! Так было всегда, испокон веков, еще до начала монголо-татарского владычества…
Михаил переминается от холода с ноги на ногу, хлопает себя руками в больших лохматых волчьих рукавицах по бокам. В санях у него – орудия лова: железная пешня, лопата, острия двух багров. Деревянные составные шесты крепко привязаны к задку саней. Каждый шест длиной до десяти сажен, чтобы можно было достать до самого дна реки, где в яминах спит зимующая в Яике рыба.
Рыбные лежбища еще с осени тщательно разведаны и отмечены казаками. Это и есть «етовы». И нужно поспешить поперед всех, успеть занять самый богатый «етов». Обскачешь в бешеной гонке остальных – быть тебе этой зимой с рыбкой! Нет? Не обессудь, ничего не поймаешь. И тогда семья пойдет с протянутой рукой под церковь, а сам – в батраки к старшинам или Матюшке Бородину! А семья у Михаила Атарова большая: пятеро детей, мал-мала меньше. Двое сыновей и три дочки. Попробуй, прокорми такую ораву!
Атаман Логинов несколько раз подавал ложные сигналы к началу багрения, забавлялся сам и тешил своих конных «опричников». Громче всех ржал нахальный Митька Лысов, видя, как бросались к саням по ложному сигналу изнемогающие от ожидания рыболовы. Ему, как и его товарищам, беспокоиться было нечего: за свою полицейскую службу они все равно получат долю из общего войскового котла в конце рыбалки, или «удара», как называли лов рыбы казаки.
Наконец сигнал к началу гона был дан, казаки, попрыгав в сани, как сумасшедшие погнали коней к месту лова. Некоторые, не удержавшись, стремительно летели вверх тормашками с саней на лед, и хорошо, если отделывались сломанными руками, ногами или ребрами. Одного молодого неловкого казачка лошадь затоптала насмерть, проломив тяжелым, подкованным копытом череп, треснувший, как арбуз.
Стремясь опередить друг друга, казаки остервенело нахлестывали плетками своих лошадей, а когда подворачивалась чужая, жестоко били ее по глазам. Отвешивали крепких плетюганов и зазевавшимся соседям-конкурентам, норовя оттеснить их сани к берегу, где лошади увязали в сугробах, а повозки опрокидывались. Началась страшная, беспощадная, дикая борьба за выживание, не терпящая слюнтяйства и компромиссов. Друг переставал быть другом, как на войне брат переставал быть братом. У каждого была семья, которую нужно было обуть, одеть, накормить, сына снарядить на царскую службу, дочек – замуж выдать, а значит, приготовить им богатое приданое. А цены на казачье снаряжение, оружие и бабскую мануфактуру на оренбургских рынках ого-го какие! Отойди-подвинься. Не разгуляешься… Лошадь – от семи до десяти целковых, ружье – четыре рубля, простая казачья шашка – два рубля, а ежели побогаче, покрытая серебром, – восемь-десять рублей, позолоченная и того дороже, двадцать рублей и выше!
Михаил Атаров гнал свою лошадку, не отставая от остальных, порол ее плетью – аж рука к концу занемела. Зорко высматривал впереди дорогу, чтобы невзначай не врезаться в задок чужих саней, но и обгонять себя не давал. Опыт у него как-никак был: участвовал уже не в одном десятке багрений.
Когда прискакали на место, Михаил остановил лошадь, быстро выскочил из саней и, схватив пешню, торопко побежал, оскальзываясь на льду, к заранее облюбованному месту саженях в двадцати от крутого правого берега. Этот «етов» казак заприметил еще по осени, наблюдая с берега на закате солнца, как крутился здесь у поверхности воды огромный косяк рыбы.
Место еще никем не было занято. Только позади слышал Михаил тяжелый топот по льду подкованных казачьих сапог да чье-то разгоряченное сиплое дыхание. Атаров наддал ходу, чтобы опередить преследователя, но вдруг почувствовал под ногами что-то твердое, ударившее сбоку. Он споткнулся о неожиданное препятствие и во весь рост растянулся на льду. Выскользнувшая из рук железная пешня, как стрела, заскользила в сторону берега.
Метнувший ему под ноги деревянный шест казак с радостным воплем пробежал мимо, направляясь к законному «етову» поверженного Михаила. Атаров стремительно вскочил на ноги и в два прыжка быстро догнал обидчика. В душе у него клокотала ярость. Он готов был растерзать противника, как лютый зверь. Крепко схватив казака за шиворот чекменя, он с силой развернул его к себе и, не раздумывая и не примеряясь, двинул кулаком в ухо. И тут только признал в неприятеле… Тимоху Мясникова, можно сказать, друга детства, но было уже поздно. Сбитый с ног крепким ударом, Мясников, потеряв шапку, рухнул навзничь на речной лед.
– Прости, Тимоха! – только и успел промямлить сконфуженный Михаил и, схватив Тимохину пешню, принялся быстро, с остервенением долбить лед у своего «етова».
Куда делся Мясников, он не видел. Он вообще ничего не видел перед собой, кроме крошащегося под его ударами, летевшего во все стороны льда. Через пять минут лунка была готова. Михаил сбегал к своим саням, притащил шесты и острый металлический наконечник; умело собрал багор и окунул его в дымящуюся на лютом январском морозе черную воду полыньи. Все, место он за собой застолбил! Теперь ни одна душа не смела оспаривать у него этот «етов». За какие-нибудь полчаса вокруг вырос целый лес торчащих из ледяных лунок багров. Большое багрение началось!
Казаки, сбросив на лед, чтоб не мешали, чекмени, тулупы и полушубки, – некоторые в одних рубахах – принялись с силой бить в полыньях рыбу, опуская багры до самого дна. Наколотую на острие багра рыбину вытаскивали на лед и снова продолжали лов. Белуги, осетры и севрюги просто кишели на дне реки. Много их уже трепыхалось на мокром, залитом водой и свежей рыбьей кровью речном льду.
Рыба была крупная, пудов по семь-восемь, а то и все десять. Иной раз попадались белуги до двадцати, а то и тридцати пудов. Таких великанов казаки вытаскивали вдвоем-втроем, помогая друг другу в багрении. Тут уже конкуренция была не в счет: не поможешь сейчас ты, потом и тебе не помогут. Каждый это понимал и не отказывал в подмоге соседу. Помимо белуг и осетров в лунках попадались шипы, белорыбицы, судаки, лещи, щуки, сазаны, сомы, головли и другая промысловая рыба. Казаки тащили все, что только нанизывали их багры, без устали прочесывавшие речное дно.
Михаил Атаров натаскал из проруби уже порядочную гору рыбы, как багор его с натугой вошел вдруг в довольно крупную рыбину: белугу или осетра. Что улов крупный, Михаил определил по тому, как заскрипело и начало прогибаться в его руках прочное древко багра, когда он попытался было вытащить пойманную рыбу на поверхность. Огромная белуга бешено билась на дне реки, норовя соскользнуть с пронзившего ее острия казачьего багра. Михаил, напрягая все силы, еле удерживал чудовище на месте, но о том, чтобы одному вытащить рыбину из воды, не могло быть и речи.
– Эй, друг, подсоби! – жалобно попросил он соседа, багрившего слева от него, даже не взглянув на него и не зная, кого просит.
Сосед живо подбежал с шестом к лунке Атарова.
– Держи его, Михаил, крепче! Я его сейчас тоже прищучу, – весело прокричал казак знакомым до боли баском.
Михаил Атаров повернулся в его сторону и узнал в подошедшем все того же Тимоху Мясникова со вздувшимся, похожим на красный вареник левым ухом.
– А-а, опять ты, Тимофей! – вяло протянул Атаров и смущенно отвел глаза в сторону. Ему стало стыдно за то, что побил недавно приятеля, хоть и был тот сам виноват. – Не держи обиды, брат, не со зла я… Не рассмотрел тебя впопыхах…
– Да ладно, кто старое вспомянет, тому глаз вон, – беспечно отмахнулся Тимоха. Быстро окунул свой багор в прорубь Михаила, с силой заработал острием по дну, нащупывая пойманную соседом рыбину. – Ага, вот она, стерва, нашел! – радостно выкрикнул он и вонзил острие багра в ходившую ходуном по дну огромную белугу.
Вдвоем, поднатужившись, казаки потянули рыбу наверх. Белуга продолжала рваться с багров, их древки гнулись и жалобно поскрипывали. Казаки опасались – как бы вовсе не переломились под тяжестью речного чудовища.
Другие рыболовы, видя их тщетные усилия, поняли, что улов действительно выдался необычный. Несколько человек тоже поспешили на помощь от соседних «етов». Уже четыре или пять багров пронзили не желавшую расставаться с родной водной стихией необычайно огромной величины белугу. По весу она тянула пудов на сорок, не меньше. Казаки воочию в этом убедились, вытаскивая тяжелый улов на поверхность. Вот, наконец, показался из воды шиповидный хребет белуги. Рыбина яростно забила по воде громадным хвостом, подняв тучи брызг, окативших с ног до головы казаков. Но они не бросали добычу, осторожно, но неуклонно подводя ее к кромке льда. Последнее усилие – и вот уже сорокапудовая рыбина бешено бьется на льду, расшвыривая другую, уже подмерзшую на морозе рыбу, окрашивая вокруг снег и лед алой кровью, обильно струившейся из многочисленных ран.
– Ух ты, большая какая зараза! Живучая… – обливаясь потом, тяжело выдохнул Михаил Атаров, бросил багор и поспешно схватил валявшуюся на льду пешню.
Резкий взмах тяжелого оружия, удар по рыбьей остромордой голове, и белуга наконец затихла, распластавшись во всю свою длину на льду среди остальной, выловленной в реке рыбы.
Глава 11
Екатерина
Делегация Петра Красноштанова в Санкт-Петербурге сумела передать челобитную императрице Екатерине. Хитрая немка, незаконно занявшая престол своего мужа Петра Федоровича Третьего, любимого, к слову сказать, народом, решила не омрачать первые годы своего царствования репрессиями против простого люда. Наоборот, она стремилась снискать в российском народе любовь и уважение. И вот, как по заказу, представился удобный случай!
Она разбиралась с бумагами яицких казаков в своих альковах, полуодетая, перед сном. Помогал и консультировал ее так же небрежно одетый неотразимый красавец, бывший блистательный гвардейский офицер – артиллерийский поручик и личный адъютант генерал-фельдцейхмейстера графа Петра Шувалова, – ее тайный любовник Григорий Орлов.
– Ты погляди, как много написано, Гришенька, – удивленно говорила Екатерина, вертя перед глазами исписанные корявым, мальчишеским почерком листы. – А подписей-то сколько… Сосчитай, Гриша, радость моя!
– И охота тебе этим заниматься, Фике? – недоуменно пожал плечами Орлов, но все же принял у императрицы листы и начал считать.
– А Яик – это где, Гришенька? – спросила любовника плохо знавшая географию своего государства Екатерина.
– Река Яик проистекает на востоке вашей империи, ваше императорское величество, – гримасничая, начал просвещать несведущую правительницу Григорий Орлов. – Начинается она, кажется, в горах Урала, а впадает в Каспийское море, кое в старину наши предки, русичи, прозывали морем Хвалынским.
– Ты считай, считай, Гришенька, – проговорила, зевая во весь рот, императрица. – И рассказывай, рассказывай… Весьма занимательно сие. Я слушаю.
– Что я, Юлий Цезарь, что ли? – пошутил Орлов, но счет не прервал и продолжил рассказывать об Яике. – Казаки издавна поселились на этой реке и несут верную службу по охране наших юго-восточных границ от нашествия орд киргиз-кайсаков, хивинцев, бухарцев и прочих диких инородцев…
– Так сие весьма полезное предприятие, – благосклонно кивнула головой Екатерина. – И что же они хотят, эти яицкие казаки?.. Какие у вас, русских, сиречь странные и неудобопроизносимые названия. Что сие значит: яицкие казаки? Почему яицкие?
– А я про то, дорогая моя Фике, и сам, положа руку на сердце, не ведаю, – честно признался Григорий Орлов. – Нужно бы о том знающих людей порасспросить из Академии наук, того же Михайлу Ломоносова… А хотят они, матушка государыня, сместить с должностей своего войскового атамана да проворовавшихся старшин, кои казачье жалованье, от казны регулярно, каждый год им присылаемое, зажуливали. Тако же и атаман Мартемьян Бородин делал.
А еще сей прохвост казачьи рыбные промыслы на откуп частным лицам сдавал, а паев простым казакам из откупных денег ни копейки не выплачивал. Да сверх того беглых крепостных мужиков у себя по хуторам укрывал, да инородцев всяких, да дезертиров из твоего славного войска, матушка. И не просто приют им давал, паспортов не спрашивая, а превращал в своих рабов и заставлял работать на себя день и ночь. И объявил себя яицким помещиком, захватив в степи государственные земли. А всех недовольных в Яицком городке приказывал жестоко плетьми драть. Вот, как тут прописано: Чику Зарубина арапником исполосовал всего, чуть ли не до смерти прибил. И многих других тако же.
– Что есть Чика? – вновь поинтересовалась императрица, услышав незнакомое слово.
– Не могу знать, матушка, – пожал плечами Орлов. – Имя, наверно, такое.
– Какие странные, если не сказать больше, у вас, у русских, имена, – посетовала императрица Екатерина. – Ну и что же этот… как его бишь, Бородкин… Бородавкин…
– Бородин, – подсказал Григорий Орлов.
– Да, да, Бородин. Что он хочет?
– Матушка, – с досадой взглянул на любовницу бывший гвардеец, – я поражаюсь твоей рассеянности!.. Не Бородин что-либо хочет, а казаки жалуются на Бородина и хотят его с атаманства сместить и позволить им выбрать нового атамана.
– А это по закону, Гришенька?
– Ну как же, Фике, конечно, по закону… по ихнему закону, по казачьему. Они испокон атаманов над собой сами на кругах избирали.
– Что есть круг? – спросила Екатерина.
Орлов продолжал терпеливо втолковывать императрице-иноземке:
– Кругами, матушка, зовутся своеобразные собрания казаков, когда они собираются все вместе, буквально становясь в кружок, и решают различные важные вопросы… Круг – это, можно сказать, казацкий Сенат.
– Ах, я утомилась, Гришенька, от всех этих кругов, яицких казаков и их дурацких проблем! – капризно надула губы Екатерина. – Ты подсчитал уже подписи, мой друг?
– Почти, – устало отбросил кипу исписанных листов фаворит императрицы. – Я думаю, Фике, что тут будет более двух тысяч человек. Я на глаз вижу.
– Это все их казацкое войско подписалось под сей петицией?
– Думаю, что нет, государыня. В яицком войске казаков, должно быть, намного больше.
– Ну и что будем делать, Гришенька? – спросила Екатерина.
– Я думаю, нужно удовлетворить народную просьбу, – посоветовал немке бывший гвардеец. – Ежели мы сейчас челобитчиков накажем, то этим непродуманным шагом только обозлим лишний раз народ, который и без того зол. А решив дело в их пользу, ты, Фике, заслужишь горячую любовь своих подданных, прослывешь доброй и справедливой императрицей… Надо уважить казачков, надо… К тому же Бородин – лиходей, а таких, для пользы твоего блистательного правления, матушка-государыня, надлежит наказывать.
– Хорошо, Гриша, убедил, – согласно кивнула головой Екатерина. – Бери бумагу, пиши указ.
– Я?.. – замялся Орлов. – Может быть, секретаря кликнуть?
– Гриша, ты в своем уме?! – постучала холеным, вымытым до белизны пальцем по своему виску Екатерина. – И так нездоровые слухи про нас по столице ходят… Хочешь еще подлить масла в огонь?
– А кашу маслом не испортишь, матушка, – пошутил Григорий Орлов. – Царь я или не царь, в самом деле? Григорий Первый! Звучит, а?..
– Но, но! – погрозила ему пальчиком Екатерина. – Хоть ты и думаешь, что я ничего в вашей загадочной русской душе не понимаю, но от графа Никиты Ивановича Панина я кое-что слышала о предшествовавших моему правлению российских царях… Так вот, дружочек мой Гришенька, в России уже был один царь Григорий, самозванец Гришка Отрепьев, Лжедмитрий Первый… Его на Москве чернь живота лишила, на Красной площади на кострище сожгла, пеплом зарядила пушку и выстрелила!
– Не стращай, пуганые, – беспечно отмахнулся фаворит. Взял бумагу, перо и приготовился писать под диктовку. – Что писать-то, сказывай?
– А напиши-ка ты, Гришенька, вот что…
Глава 12
Тяжба
1
Всю зиму продолжалась тяжба между казаками войсковой стороны и атаманом Бородиным. Ни одна из враждующих партий не уступала. Весной, по высочайшему повелению императрицы, из Петербурга в Яицкий городок прибыл для расследования обстоятельств дела генерал-майор Потапов. Он велел казакам избрать сорок человек доверенных, которые под присягой могли бы доказать виновность атамана Бородина и его старшин. Иван Логинов, метивший в войсковые атаманы вместо Бородина, собрал сорок человек – в основном почтенных стариков, которых уважало войско, – и направил в распоряжение генерал-майора Потапова. Выборные, целуя крест, подтвердили все, что было написано в челобитной.
Генерал лично проводил расследование, допрашивал потерпевших, свидетелей, обвиняемых… Картина злоупотреблений властью и других тяжких преступлений руководства Яицкого войска вскрылась окончательно. Участь Мартемьяна Бородина была решена. Все материалы следствия были отправлены в Санкт-Петербург, там долго и нудно их рассматривали и изучали. Пока суть да дело, высокий столичный чин своей властью велел отстранить от должностей войскового атамана Бородина и еще двух старшин, наиболее повинных в злоупотреблениях, Скворкина и Акутина. Через год наконец-то пришло на Яик решение Военной коллегии: войскового атамана Бородина и двух вышеупомянутых старшин снять с занимаемых мест, лишить чинов, наград и взыскать в пользу простых казаков войсковой стороны денежный штраф.
Беднота ликовала, празднуя победу, но недолго. Генерал-майор Потапов велел казакам экстренно собрать круг и выдвинул своих кандидатов на пост войскового атамана и старшин. В атаманы он предложил… Бородина! Правда, не прежнего, Мартемьяна, а Федора, родного сына отстраненного атамана. В помощники ему – дьяка Суетина и старшину Митрясова. Старшина Иван Логинов поднял бучу среди казаков, подзуживая крикунов. Несогласные закричали, что предложенные генералом люди им не любы, а в атаманы следует выбрать самого Логинова! Пошумев и ничего не решив, круг разошелся. Генерал Потапов оставил вместо себя майора драгунского полка Новокрещенова с командой кавалеристов и на следующий день отбыл с докладом в Санкт-Петербург.
В его отсутствие майор Новокрещенов, подкупленный Бородиным, предпринял против строптивых казаков войсковой стороны крутые меры. Зачинщик беспорядков старшина Иван Логинов был арестован и сослан на вечное поселение в Тобольск, ездившие в Петербург с челобитной сотник Копеечкин и казак Ульянов отданы в солдаты. Выборных стариков – доверенных старшины Логинова – безжалостно перепороли кнутом и сослали в кандалах в Сибирь. Только старику Петру Красноштанову, тоже ездившему в столицу с челобитной царице Екатерине, удалось вовремя бежать из городка. Он стал скрываться по глухим дальним хуторам и заимкам. Власть в войске фактически вновь перешла в руки Бородина и отстраненных старшин, которые стали продолжать творить свое черное дело.
Тяжба в Яицком войске разгоралась. На смену Потапову производить следствие среди казаков в конце 1766 года приехал из Оренбурга командующий войсками генерал-майор Черепов. Это был властный и жестокий начальник. Он не стал долго церемониться с бунтовщиками, велел согнать на площадь перед войсковой канцелярией все население Яицкого городка, выкатил на середину три пушки, окружил площадь вооруженными драгунами.
– Будете у меня бунтовать, сукины дети? – закричал зычно в толпу.
– Мы не супротивники государыни и господина оренбургского губернатора, – закричали вразнобой казаки. – А Матюшку Бородина и отпрыска его в атаманы боле не хотим! Не любы они нам. И остальные старшины со своими прихлебателями – тоже.
– Пушкари, подпаливай фитили! – властно приказал самодур Черепов. – Эскадрон, к стрельбе по смутьянам и ворам готовсь!
Толпа на площади глухо охнула, дружно повалилась на колени.
– Винимся, батюшка, в своих грехах. Не вели казнить, супротивничать больше не будем! – покорно закричали безоружные казаки. Драгуны, сгоняя на майдан народ, не велели казакам брать с собой кинжалы и шашки. Не на войну, мол, идете.
Не слушая их, генерал Черепов подал знак своему помощнику, майору Новокрещенову, и тот крикнул драгунам:
– А ну-ка, ребята, поверх голов смутьянов пли!
Драгуны дали из ружей залп в воздух, а кое-кто выстрелил и в лежащих на декабрьском снегу людей. Несколько человек было убито и ранено. Казаки с женщинами и детьми вскочили на ноги и стремглав бросились с площади в переулки. Вслед им, так же поверх голов, зловеще рявкнула пушка.
– Пропадаем, православные! Ни за грош пропадаем, – в страхе кричали разбегающиеся по дворам казаки. – Побьет нас как есть окаянный Черепов…
2
До весны все притихло, но к весенней плавне опять в Яицком городке закипел глухой ропот и недовольство. Казаки непослушной стороны собирались то здесь, то там кучками, перешептывались, сердито трясли бородами, яростно сжимали жилистые кулаки. Больше всех горячился Ванька Кирпичников, который был уже в звании сотника:
– Старшины, мать их за ногу, царицын милостивый приговор похерили, под сукно запрятали! В нем ясно прописано: Матюшку Бородина со старшинами от должности отстранить, драть кнутом и навечно сослать в Сибирь-матушку, за Каменный пояс… А замест того енералы Логинова с депутатами на каторгу спровадили, стариков плетьми били, а нас ни за что, ни про что на площади картечами расстреливали!
– А ты видал ту бумагу? – недоверчиво спросил казак умеренных взглядов, некогда водивший дружбу с Бородиным, Андрей Овчинников.
– Видал, мне старшина Логинов самолично показывал, – безбожно врал Кирпичников.
– Ну так вдругорядь надо в Петербург жаловаться, – сказал Овчинников. – Ежели генерал Черепов с майором Новокрещеновым и Бородин со старшинами самоуправством занимаются, матушка-государыня им враз укорот даст, пропишет по первое число.
– А кто ж в Питер поедет, уж не ты ли, Овчина? – ехидно подковырнул его Михаил Атаров. – Поезжай, спробуй… Вон Копеечкин с Ульяновым поехали, теперя в Сибири на каторге загибаются!
– Это вопрос… – неопределенно молвил Овчинников.
– То-то и оно…
3
Жена Михаила Атарова Варвара собиралась на Пасху съездить в Оренбург, откуда она была родом, – родственников попроведать, на родительские могилки сходить. Казаки непослушной стороны, прознав об этом, дружно заявились в хату к Атаровым. Пришло шесть человек во главе с Кирпичниковым. Хозяйка подивилась столь ранним гостям.
– Мы ненадолго, – успокоил ее Кирпичников. Обратился к Михаилу. – Тут, брат, вот какое дело: порешили мы с казаками челобитную губернатору Рейнсдорпу направить с жалобой на самодурство и жестокость его посланника генерала Черепова. Мараковали вчерась весь вечер, все обстоятельно прописали, про бородинские непорядки, про самоуправство майора Новокрещенова, про декабрьский расстрел на майдане, ну и все такое… Не могла ли, слышь, твоя баба в Оренбурге писульку нашу губернатору передать, в канцелярию тамошнюю? Слых есть, она как раз в Оренбург собирается.
– А что ж не передать, передам, – живо согласилась казачка, присутствовавшая при разговоре. – Дело чай не хитрое, к писарю в канцелярию сходить… Токмо там все чиновники – сплошь воры и пропойцы, мзду с просителей немалую берут на выпивку и для семьи. Жалованья-то, видать, писарского не хватает, а рыбу в Яике им ловить запрещено… Так что, казаки, не обессудьте, а на лапу канцелярским сунуть надоть. Сколько положите…
– А уж это мы мигом, Варвара батьковна, – согласно закивал головой сотник Кирпичников. – Зараз человека пошлю по дворам, соберет, кому сколь не жалко. Гроши к вечеру будут.
Он тут же распорядился среди своих, которые слушались его неукоснительно. Молодой безбородый казак побежал выполнять его повеление.
– Ну и вы ступайте себе с Богом, мне собираться надо, – выпроводила непрошеных гостей из хаты Варвара Атарова. – Завтра утром приходите, как развиднеется. Я чуть свет тронусь.
Казаки оставили ей челобитную для губернатора и ушли. Варвара замела за ними пол в горнице, покормила малых детей – сына и двух дочек, уложила их после обеда спать. Старшие сыновья и средняя дочка играли на дворе со сверстниками.
– Пойдем на сеновал, – потянул жену из дома Михаил Атаров.
– Невтерпеж? – укоризненно взглянула на него Варвара.
– Расстаемся ведь завтра… – замялся казак. – Я скучать по тебе буду.
– Не на век, чай, расстаемся. Приеду скоро.
– Знаю, ан все одно пойдем, – не отставал Михаил. – Что ж мне без тебя, к девкам на игрища идти?
– У-у, кобель бесстыжий, только о девках и думаешь, – упрекнула казачка…
На сеновале дурманяще пахло степью, сожженной солнцем травой, плесенью и мышами. Варвара забралась на самый верх копны, под самую крышу. Здесь было темно и прохладно. Роились у небольшого оконца надоедливые мухи, сквозь прорехи крытой камышом старой кровли просачивались солнечные лучи.
Казачка быстро разделась, легла, прикрыв исподней рубахой полные, сильно отвислые, литые ядра грудей. Михаил, не раздеваясь, тяжело навалился сверху, громко засопел, прижимая к себе Варвару. Ей было неудобно и горько – хотелось не этого, а чего-то большего, красивого и радостного. Чтобы душа пела и сердце разрывалось от прихлынувших чувств на части.
– Миша! – позвала она его робко.
– Ну чего тебе? – недовольно отозвался муж.
– Ты меня любишь?
– Вот еще… что за глупости, – продолжая противно сопеть и хрипеть на ней, недовольно отозвался Михаил. – Лежи уж, не болтай чего ни попадя! Любишь, не любишь… Чай нам не по семнадцать годков, чтобы про любовь толковать.
– Ну так на, забери энто, что тебе надо, навовсе, а душу оставь, – непонятно сказала Варвара. В голосе ее слышались слезы.
– Совсем сдурела баба, – отдуваясь, пыхтел разгоряченный муж. – Где это видано, чтобы то самое… отдельно от всей жинки обреталось? Чай в карман чекменя не положишь!..
За день он еще раза три водил ее на сеновал и полночи не давал уснуть в хате, так что совсем замучил.
– Забрал бы ты энто с собой, как я давеча говорила, а меня бы оставил в покое, – сетовала на мужа Варвара. – Ну прямо срам, да и только… Того и гляди дети увидят.
– А что же мне без тебя волком на луну выть? – сердился Михаил.
– Волки, небось, раз в году спариваются. Когда у волчицы течка, – упрекнула Варвара.
– Ты же не волчица, – выскалил зубы Михаил.
– Грех ведь какой, Миша… Пост ноне перед святой Пасхой Господней.
– В Священном Писании ясно сказано: плодитесь и размножайтесь! – парировал муж. – И вообще, лежи тихо, мешаешь…
На следующий день, рано утром, едва на дворе развиднелось, Варвара с попутным рыбным обозом уехала в Оренбург. Михаил остался один на хозяйстве. Младших детей он сейчас же сплавил старшей сестре, жившей неподалеку, на соседней улице, старших оставил при себе. Дочка приглядывала во дворе за скотиной, готовила, прибирала в доме, два сына вкупе с такими же зелеными малолетками постигали нелегкую науку воинской казачьей жизни. Под руководством старого отставного урядника учились джигитовке на городском майдане. Рубили шашкой лозу и соломенные чучела, стреляли из ружья по мишеням. В свободное от занятий время ездили на ближние степные хутора подрабатывать у богатых казаков. Семья жила бедно, еле сводила концы с концами.
Михаил, проводив жену в Оренбург, загрустил, затосковал по зазнобе. Все чаще начал прикладываться к вину с такими же как сам забулдыгами. Пили в основном вчетвером: он сам, Ванька Зарубин, его дружок Мясников и Митька Лысов. Чика никак не мог забыть нанесенного ему Бородиным всенародного оскорбления.
– Я Матюшке этого никогда не прощу! – горячился, стучал по столу кулачиной Ванька Зарубин. – Это ж надо так осрамить казака при всем честном народе!
– Смерть Бородину! – поддержал друга Тимоха Мясников, опорожнив очередную чарку. – Ванька, сей же час идем Матюшку изничтожать… Я первый за тебя пойду, куда скажешь. Казаки, а ну давай Чику в атаманы на очередном кругу выкликнем! Даешь Чику!
– Охолонись, Тимоха, какой из меня атаман? – отмахнулся от него, как от назойливой мухи, Зарубин. – Казаки изберут, кто им больше поглянется. Мне соваться со свиным рылом в калашный ряд не резон… А ты, Михаил, что молчишь? – обратился Чика к Атарову. – Чик-чика, скажи что-нибудь, что ты про это думаешь?
– А он сейчас об другом думает… – ехидно хихикнул Митька Лысов и понимающе подмигнул Михаилу. – У него баба в Оренбург-город до родственников умотала, он об ней и печалуется… Как бы его Варьку лихие оренбургские ухари-казачки не отбили. Так ведь, Михаил? Скажи, что не так.
– Пустобрех, ты, Митрий, как я погляжу, – хмыкнул с досадой казак. – Все бы тебе хихоньки да хахоньки, а путного слова от тебя не услышишь.
– Уж какой есть… Каким маманя на свет произвела, – прогнусавил Митька.
– Будя вам, казаки, собачиться, – урезонил сотрапезников Иван Зарубин. – Пьем, на московскую власть плюем и еще кое-чем занимаемся!
– Эх, братцы, Чика прав. Гулять так гулять! – вскочил из-за стола изрядно уже подвыпивший Мясников, сорвав с головы, с силой шмякнул об пол шапкой. Дико взвизгивая, пошел вкруг стола вприсядку. Гуляли как раз в его хате.
Митька Лысов живо присоединился к нему. И вдвоем они выдали такую ухарскую «Бышеньку», танец мелодией сродни «Казачку», что от тяжелого топота пошел ходуном весь дом и жалобно заскрипели половицы.
Потом прибег Ванька Бурнов, тоже недовольный Бородиным и старшинами, принес полуведерную бутыль водки. Пьянка разгорелась с новой силой, так что Михаил Атаров не помнил, как выбрался из хаты Мясникова и куда пошел. Очнулся он только утром под чужим плетнем с проломленной головой и без гроша в кармане. Что было после того, как ушел от Мясникова, Михаил решительно не помнил. Кто его бил и куда подевались деньги – тоже. Зато Митька Лысов, только притворявшийся сильно пьяным, все помнил отчетливо. Выйдя на улицу вслед за Михаилом, он подстерег его в глухом темном переулке и огрел по голове тяжелой пешней. Что Михаила спасло, так это казачья овчинная шапка на голове, смягчившая удар.
Лысов быстро обчистил карманы лежащего без чувств казака, которому давно завидовал из-за красавицы жены, Варвары. Снял небогатое старенькое оружие… Был Митька завистлив до невозможности! Как только приметит у кого-нибудь то, чего нет у самого, умрет, а отнимет! А ежели не удастся присвоить, постарается испоганить, чтоб никому не досталось. Как говорится: и сам не гам, и другим не дам!.. С некоторых пор страшно понравилась Лысову жинка Михаила Варвара. Просто невмоготу стало, как понравилась! Житья бедному Митьке не стало, ан не тут-то было: близко око, да зуб неймет! И решил тогда Митька, коли уж не достанется ему мужняя жена, Варька, отыграться на ее средней дочке Нинке.
Удобный случай вчера и представился: Варвара в Оренбург уехала, старший сын Евлампий на службу в «бикет» наряжен, средний Борис подался на хутор Бородина, где он как раз работал, Михаил – пьяный, напился до положения риз. Легко справившись с хмельным Михаилом, Лысов решительно направился к его дому. Задержался на немного у калитки, высматривая, никого ли нет на притихшей ночной улице. Вокруг все было спокойно, лишь кое-где во дворах подавала голос скотина да лениво взлаивали собаки. Во дворе у Атаровых тоже все было тихо. Двенадцатилетняя, рослая не по годам Нинка вышла из коровника с дымящейся парным молоком цибаркой – доила корову.
Митька, дождавшись ее ухода, осторожно, стараясь не скрипнуть калиткой, скользнул во двор, зашел в дом, куда перед этим скрылась девчонка. Нинка переливала молоко из ведра в кринки. Услышав легкое поскрипывание половиц за спиной, быстро обернулась и, вскрикнув от страха, выронила ведро. Оно, громко дребезжа, покатилось по полу. К ней подбегал незнакомый широкоплечий верзила с замотанным до самых глаз башлыком лицом. Глаза были узко прищуренные, горящие недобрым стальным огнем, – похотливые, рысьи.
В ту же минуту грязная, воняющая салом, табаком и псиной рука непрошенного гостя крепко зажала ей рот. Человек поволок перепуганную до смерти, извивающуюся всем телом Нинку в горницу. Бросив на кровать, навалился сверху. В одну минуту верхняя одежда на девчонке была сорвана, исподница изорвана в клочья. Куском, оторванным от ночной рубашки, незнакомец плотно заткнул ей рот. Глаза Нинки полезли из орбит: ей показалось, что неизвестный сейчас убьет ее. Но Митька, похотливо, как поросенок, взвизгивая, начал делать другое… Нинке стало больно, она задергалась под ним, заелозила по кровати ногами, замотала головой и от острой, пронизавшей все ее тело боли, лишилась чувств…
Натешившись вволю, Лысов бросил ее, где была, в горнице, на скомканной кровати. Даже не прикрыл большое кровавое пятно, натекшее под нее. Брезгливо вытер руки краем белой простыни. Устало прошел в кухню, жадно напился молока, которое перед тем разливала по кринкам Нинка. Вновь вернулся в горницу, прошелся по ней, заглядывая в углы, шаря на полках и по шкафам. Порылся в сундуке с вещами. В доме у Атаровых была такая нищета, что грабителя ничего не прельстило: денег и ценностей не было, а брать что-либо из вещей было опасно. Свои как-никак, городские, вдруг да раскроется его грабительство? Беды тогда не миновать.
Чтобы лишний раз не рисковать, не рисоваться во дворе, Лысов, растворив окно, легко выпрыгнул в сад. Пошел, крадучись, между деревьев к забору, который выходил на пустырь у самого обрывистого берега реки Чаган. Он был вполне доволен проделанным, и совесть его совсем не мучила. Да он и не имел понятия о таких тонких вещах, как человеческая совесть.
Глава 13
Волки
1
Борька Атаров, средний Мишкин сын, вместе со старым опытным чабаном, мусульманином Абакаром, пас в степи огромную отару овец Мартемьяна Бородина. Он был подпаском, миновала его первая батрацкая весна. Овцы мирно паслись на склоне невысокого сырта, выщипывая мягкими губами траву у подножья. Разморенные полуденным зноем сторожевые овчарки норовили спрятаться в тень под редко где растущими кустами. Лениво разлеглись в кушерях, вывалив красные влажные языки и тяжело поводя боками. Старый Абакар, невольник Бородина, беспаспортный бродяга, которых много шлялось тогда в яицких и оренбургских степях, раскладывал у шалаша костер. Вынув средних размеров, закопченный медный котел, гортанно окликнул Бориса:
– Эй, слышь, малец, ходи сюда.
Борис, делавший обход стада, неторопливо подошел к шалашу.
– Давай, сбегай к реке за водой, похлебку варить будем, – сказал пастух, протягивая котел.
Молодой казачок весело пошел к недалекому отсюда берегу Чагана. Спустился в неглубокий, с кривыми глинистыми промоинами, овраг, густо поросший на дне колючим кустарником, а у самой воды – камышом. Степной бурьян до того разросся в овраге за лето, что местами доходил Борису до пояса. Раздвигая свободной рукой траву, притаптывая ее ногами, парень стал с опаской пробираться к берегу.
Погода стояла безветренная, сухая, и в нос Борису сразу же шибанула острая, смердящая вонь звериного логова. В кустах терна послышалось какое-то приглушенное скуление и повизгивание. Казачок остановился, привлеченный непонятным шумом, подошел ближе и остолбенел. У самого склона оврага, сбоку куста, было вырыто небольшое углубление – нора. В ней барахталось и скулило шесть рыжеватой окраски щенят с острыми прямыми ушами и остренькими мордочками.
«Волки!» – понял парнишка.
Он почему-то обрадовался находке, быстро сбегал к реке за водой и на обратном пути схватил на руки одного волчонка. Когда он вернулся к отаре, собаки мигом вскочили на ноги, почуяли волчьего детеныша. Глухо заворчали, загавкали, крутя хвостами и щетинясь загривками. Борис прямиком направился к шалашу.
– Гляди, дядька Абакар, я волчонка у реки в овраге нашел. Там их целый выводок, а волчицы нет. Видать, сдохла или охотники подстрелили.
– Она на охоте, и хозяин ее тоже, – с уверенностью знающего человека сказал пастух Абакар. – А ты зря щенка прибылого унес, волчица искать станет, сюда по твоему следу придет, начнет в отместку овец резать… Отнеси сейчас же щенка обратно в логово, да смотри, на сучку не нарвись, не то плохо тебе будет.
Борис, вняв совету бывалого человека, быстро смотался в овраг и вернул на место взятого в логове волчонка. Волчицы, к счастью, еще не было. Молодой казачок поспешил скорее ретироваться от греха.
У шалаша старый Абакар помешивал деревянной ложкой с длинным черенком дымящееся варево в котле, плотно стоявшем в черном металлическом обруче на трех ножках – тагане. То и дело, предварительно подув в ложку, он пробовал юшку, крякал от удовольствия, степенно разглаживал жилистой, сухой рукой большие, пышные, белые от седины усы и бороду.
– Надо уводить отару в другое место, дядька Абакар, – сказал Боря, присаживаясь на корточки у костра. – Если волки поселились по соседству, добра не жди.
– Ничего ты не знаешь, малец, – зацокал языком, покачал недовольно головой старый пастух. – Это не волки с нами поселились, а мы пришли к их логовищу. Волчица ведь потомство мечет в одном и том же месте почти каждый год. Да… Это ее земля, ее родина… И нам бояться волков нечего, борз никогда не режет скотинку возле своего логова, уходит верст за десять-двадцать в сторону. Потомство свое бережет и волчицу.
– Как ты сказал, дядька?.. Какой борз? – переспросил Борис Атаров.
– А это волк так в наших, горных местах называется, – ответил старик Абакар. – Я ведь не здешний. Мой народ живет далеко отсюда, за Каспием, в горах Ичкерии. Вайнахи мы называемся, горные люди.
– Никогда не слыхал про таких, – признался Боря. – Башкирцев знаю, сколько раз в степи, на дальних форпостах видел, татар знаю, они в степи кочуют и в слободе Каргале живут, маменька сказывала. Она у меня из тех мест, из самого Оренбурга. Калмыков с киргиз-кайсаками встречать доводилось, а про твоих ни сном ни духом не ведаю… Далече, чай, до твоей Ичкерии ехать?
– А сколько верст до Оренбурга? – поинтересовался в свою очередь старик.
– А бог его знает.
– Думаю, не близко, – сам себе ответил Абакар. – Так вот, до Ичкерийских гор, возможно, десять раз столько же, сколько до Оренбурга!
– Да ну? – удивился парень.
Абакар снова отхлебнул из ложки, подставив под нее ломоть хлеба. Прикрыл от удовольствия глаза.
– Хорошо! Скоро готова будет… Подсаживайся, малец, к костру, готовь ложку.
– Дядька Абакар, а ты как здесь очутился, – не унимался досужий Борис.
– Долгая песня, – вздохнул старик. – Кровник я… Из тейпа от недругов сбежал, они меня зарезать хотели.
– За что?
– За бабу… Жену я у одного джигита украл, он меня кровником и объявил.
– А что такое кровник?
– Э-э, слушай!.. Долго рассказывать, все равно не поймешь. У вас, у казаков, другие законы, – с досадой поморщился Абакар. – Кровник – это кому объявили кровную месть. Значит – до крови, до смерти.
– У нас тоже не мед, – скептически хмыкнул парень. – Казаки и у нас по пьянке из-за баб режутся. Увидишь еще как-нибудь… Вот те и кровники.
Пастухи с аппетитом отведали сварившейся на костре похлебки. Старый Абакар с собаками обошел всю отару по кругу, прилег вздремнуть в шалаше. Подпасок Боря остался бодрствовать, то и дело взглядывал в сторону волчьего оврага, сжимая в руках кривой увесистый сук.
2
Старый матерый вожак и три молодых переярка быстро бежали в густой высокой траве, скрывавшей их целиком от постороннего глаза. Волки шли по зимней привычке, гуськом, хоть снега не было и ступать след в след не было никакой необходимости. Но матерый учил молодых сложной охотничьей науке и заставлял делать по-своему. Строптивых и нерадивых безжалостно трепал за загривок, а то и больно тяпал острыми, как ножи, клыками за бока и лапы.
Стая была голодна и была готова на все, рвалась в драку. Матерый то и дело останавливал бег и, взойдя на ближайший пригорок, зорко осматривал местность, а главное – прислушивался: не послышится ли в отдалении лай собак или воронье карканье. И то, и другое явно сулило добычу! Собаки указывали на деревню или пасшееся в степи стадо, вороны – на какую-нибудь крупную палую дичь, возле которой они кормились. Последнее было даже лучше, не пришлось бы грызться с собаками и увертываться от дреколья и топоров разъяренных деревенских мужиков с зарезанной овцой или молодым теленком на спине.
У матерого был великолепный слух, впрочем, как и у всех серых хищников, и слышал он на несколько верст вокруг. Но никаких звуков в степи не было, и стая продолжила свой стремительный бег по бездорожью. Один из переярков заметил сбоку зашуршавшего травой суслика и опрометью ринулся его догонять, суслик стремглав пробежал несколько метров и, спасаясь от преследования, быстро юркнул в байбачью нору. Нерасторопный переярок свирепо подлетел к норе, ничего не понимая, оглядываясь по сторонам в поисках исчезнувшей «пищи». Принялся быстро разгребать, рыть передними лапами землю, пытаясь просунуть морду в нору. Матерый подбежал к нему и несильно куснул за загривок. Переярок жалобно взвизгнул, отпрянул трусливо от вожака и, виновато поджав хвост, вернулся в стаю. Волки побежали дальше.
Вожак то и дело останавливался у сыртов и прислушивался. Вот, наконец, ему повезло: матерый услышал далеко впереди коровье мычание. Где-то там, за косогорами, паслось коровье стадо. Волки повеселели, матерый убыстрил бег. Вскоре голоса пасшихся коров, собачий лай и перекличка пастуха с подпаском стали слышны более отчетливо. Матерый остановился и потянул носом воздух, повертел во все стороны крупной лобастой головой с длинной густой шерстью в виде бороды на щеках и под нижней челюстью, определяя откуда дует ветер. Заходить следовало против ветра.
Пробежав еще некоторое расстояние, вожак лег в траву и осторожно пополз к стаду. Трое переярков, во всем копируя его действия, тоже поползли. Матерый поминутно останавливался и, выглядывая из травяных зарослей, зорко высматривал добычу. Приметив пасшуюся в отдалении от других коров молодую, полугодовалую телушку, волк заскользил по траве в ее сторону. Жертва ни о чем не подозревала, собак и человека тоже поблизости не было, все было тихо.
Вожак подполз совсем близко к беспечной телушке, резко вскочил на ноги, оттолкнулся сильными задними лапами от земли, взвился в прыжке в воздух и всей массой своего тяжелого, мускулистого тела обрушился на несчастную жертву. Она даже не успела ничего толком понять, как мигом повалилась в траву с перекушенным горлом. Матерый быстро закинул кровоточащую тушу за спину и со всех ног помчался прочь от стада. Переярки поспешили следом, успевая слизывать на бегу остающиеся на траве капли крови.
Когда коровье стадо осталось далеко позади, вожак снова чутко прислушался к звукам в степи. Шума погони не было. Пастухи, должно быть, не заметили пропажи молодой телушки. Изголодавшийся матерый сбросил со спины окровавленную тушу зарезанной телушки, принялся клыками вспарывать ей брюхо, чтобы полакомиться кишками и печенью. Молодые волки, жадно облизываясь, подобострастно застыли в отдалении. Они нетерпеливо повизгивали и переминались на месте, готовые стремительно наброситься на добычу, едва матерый закончит есть и отойдет в сторону. Но не тут-то было. Вожак не торопился: погони не было, и он обстоятельно, кусок за куском, проглатывал лакомые части жертвы. Наевшись, стал отрывать от туши большие окровавленные куски мяса и глотать про запас. Это он должен был принести волчице, кормящей молоком прибылых волчат – их совместное потомство.
Набив основательно вместительное брюхо, вожак не стал дожидаться, когда наедятся переярки. Бросил их возле обглоданной наполовину телушки, на которую они набросились с голодной яростью, жадно заглатывая крупные куски, давясь и сердито рыча друг на друга. По первозданной, безлюдной степи матерый один пустился в обратный путь и засветло был возле родного логовища. Но что это?! В овраге в нос ему ударил ни с чем не сравнимый, страшный и противный, тошнотворно-приторный дух человека! Несомненно, здесь не так давно был человек, и он, вероятно, хотел разорить его логово!
Матерый быстро подбежал к норе с копошащимися в ней прибылыми, нового, майского помета волчатами. Волк продолжал втягивать ноздрями воздух: запах человека исходил от одного из его щенков! Ага, вот от этого, крупного сосунка с острыми, прорезавшимися уже зубами…
Вожак с неприязнью фыркнул, подбежал к щенку, которого брал в руки человек, и схватил его за загривок. Схватил не так осторожно и бережно, как мать, когда перетаскивала детенышей с места на место, а с силой сжав челюсти, так что волчонок громко завизжал от боли. Матерый отошел с ним в сторону и еще сильнее сжал зубами волчонка, ловко перехватил его за горло. Под его большими, желтоватыми от времени, острыми клыками хрустнули хрупкие шейные позвонки прибылого, в рот матерого потекла горячая кровь. Вожак еще раз с силой сдавил огромными челюстями горло щенка, тот поперхнулся визгом, судорожно дернулся всем телом и затих. Матерый опустил труп на землю, но запах человека не исчезал, а как будто становился еще сильнее. И тогда вожак вновь подхватил мертвую жертву, вынес ее из оврага и бросил далеко в степи.
Вернулся в овраг и, поискав укромное место, растянулся во весь свой огромный рост под кустом. Закрыв глаза, задремал, дожидаясь с охоты волчицу. И во сне чутко, с опаской, вслушиваясь в неясные степные звуки.
Глава 14
Поездка в Оренбург
1
Варвара приехала в Оренбург засветло, у заставы расплатилась с сивобородым, кряжистым дедом-возничим, на подводе которого добиралась до города. Пошла, минуя огромные городские, распахнутые настежь, Яицкие, или Водяные, ворота. У караульной будки ее весело окликнули молодые гарнизонные солдаты-зубоскалы, лениво полузгивавшие семечки. Варвара отшутилась от них, стыдливо прикрыла рот кружевным крахмальным платочком, прошла по широкой главной улице, которая называлась Губернской, до перекрестка.
Родители ее, оренбургские казаки, жившие в Форштадте – казачьем поселке близ восточной стороны города, – давно поумирали, и женщина держала путь к своей родной тетке, младшей сестре отца. Та вышла замуж за состоятельного горожанина, откупщика и подрядчика, и жила неподалеку от Гостиного двора. Своих детей у нее не было, и тетка была всегда рада племяннице, встречая ее как родную дочь.
Когда улеглись первые радостные приветствия и поцелуи, тетка, Пелагея Капитоновна Долгополова, пригласила племянницу в залу своего богато обставленного, деревянного дома. Кухарке велела собирать на стол.
– Ты, Варвара, притомилась, небось, с дороги? Отдохни чуток, а потом я тебя покормлю.
– Да я не голодна вовсе, тетушка, – запротестовала казачка. – У меня припасено все с собой… Вот и вам гостинцев привезла, рыбкой и черной икоркой с последнего багрения Михаил Родионыч велели вам кланяться.
– Рыбка – это хорошо, рыбу вашу яицкую я оченно уважаю, и икру тем паче, – обрадовалась Пелагея.
Вновь крикнула прислугу: у нее помимо пожилой дородной кухарки было еще две расторопные девки и пожилой дед-дворник, он же печник, во дворе. Пришедшей на зов сенной девке велела снести все гостинцы на кухню и отдать кухарке.
– А где же дядюшка, супруг ваш, Харлампий Трифонович? – поинтересовалась Варвара. – В Гостином дворе, небось? Делами занятые?..
– Уехал Харлампий Трифонович неделю тому назад во Ржев-город Володимерский, – сказала тетка. – У него же там младший брат, Астафий, купец второй гильдии. Известный в городе человек, поставщик императорского двора бывший. Сено для царских конюшен в Санкт-Петербург отправлял. Еще при покойном императоре Петре Федоровиче, Царство ему Небесное.
Пелагея отчего-то взгрустнула.
– У вас там как, на Яике? Бывшего царя-батюшку казаки не поминают?
– Кто поминает, а кто и не очень, – искренне ответила Варвара. – У наших другая беда: совсем старшины казаков замордовали. Жалованья пятый год не выдают, налогами и поборами войсковую сторону обложили, рыбу ловить не велят, заставляют на своих хуторах батрачить. Ну, просто, тетушка, ложись и помирай!.. Мой-то средненький, Борис, тоже гнет спину на богатеев. Пасет на дальних пастбищах овец бородинских.
– Никак чабаном заделался? – переспросила тетка Пелагея. – А что, дело хорошее, я тебе скажу, племяннушка. Все без куска хлеба не останется, а то, глядишь, разживется и свой гурт заведет… Ты молись за него, Варвара. И за мужа своего молись, Бог ведь он добр и милосерден. Он все может, если захочет.
– Да я и то денно и нощно молюся, поклоны бью, и к батюшке на исповедь регулярно хаживаю, – призналась Варвара. – И на Господню церковь в кружку со святыми дарами свою лепту регулярно бросаю… Втайне от Михаила, конечно. Он у меня не того… не любит, когда в пустую трату деньги идут. Они нам, тетушка, ох как чижало достаются!
На глазах у Варвары показались слезы. Женщина поспешно вытащила из рукава утирку.
– Не плачь, Варварушка, – сама чуть не прослезившись, обняла ее Пелагея. – Знаю, знаю, что нелегко тебе с шестью ртами! А ну-ка прокорми всех, попробуй… Ну да чего уж там, пока Харлампий Трифонович в отъезде, помогу чем-нито. Свои чай люди, родня. Не волки лютые…
Пришла сенная девка и сообщила, что ужин готов.
– Пойдем, Варюшка, в столовую, пойдем. Откушаем, что Бог послал, – повела племянницу под руку хлебосольная тетка.
Женщины уселись за небольшой квадратный стол, покрытый расписной, с яркими узорами, скатертью.
– А к нам на днях сосед в гости заходил. Сотник Оренбургского казачьего войска Тимофей Иванович Падуров, – продолжала весело тараторить Пелагея. – Красавец, весь из себя!.. Интеллигентный, воспитанный, бравый офицер. Вот кого бы тебе в мужья, Варварушка, а не твоего Михаила, прости господи, что скажешь!.. Тимофей Иванович из Москвы как раз воротился, где был депутатом Большой государственной комиссии по выработке Нового Уложения, то бишь основных законов всей Российской империи. Так матушка-государыня всемилостивейше распорядилась комиссию такую созвать. Тимофей Иванович в ней наших оренбургских казаков представлял.
– И что же он говорит? – рассеянно спросила Варвара, откушивая первое блюдо, налимью уху, которую подала из кухни одна из сенных девок.
– А вот ты сама у него и спроси. Если хочешь, я пошлю свою девку Анфису за сотником, – предложила Пелагея.
Варвара вспомнила о поручении, которое дал ей Иван Кирпичников, и согласилась. Она решила через Падурова передать жалобу яицких казаков в губернскую канцелярию. Тетке про челобитную она ничего не сказала.
Девка Анфиса пошла исполнять поручение, и сотник не заставил себя долго ждать. Он явился минут через двадцать, гремя шашкой и скрипя начищенными до зеркального блеска сапогами. Лихо щелкнув каблуками, с достоинством поклонился хозяйке, галантно, как это умеют делать господа офицеры, поцеловал руку Варвары. Казачка, засмущавшись, быстро отдернула руку, спрятав ее под мышку. Ее руки не были созданы для офицерских поцелуев: это были рабочие руки простой крестьянской женщины, пахнувшие землей, коровьими кизяками и полынью. Натруженные, в мозолях и цыпках, руки.
– Честь имею представиться, – еще раз лихо щелкнул каблуками пришедший. – Сотник Оренбургского казачьего полка Падуров.
– Садись уж, будет расшаркиваться, – пригласила его к столу хозяйка. – Без церемоний давай, Тимофей Иванович, мы люди простые.
– В народе замечено, Пелагея Капитоновна, что простота хуже воровства, – заметил Падуров, присаживаясь к столу рядом с Варварой.
– Это моя племянница, прошу любить и жаловать, – отрекомендовала Варвару тетка.
– Очень приятно, сударыня, – учтиво поклонился сотник.
Варваре он нравился все больше и больше. Пелагея Капитоновна велела девке принести из подвала вина, чтобы угостить гостя. Не отказалась от приятного, прохладного напитка и племянница, храбро выпила полбокала.
– А вы государыню в Москве видели? – чтобы поддержать разговор, спросила сотника Падурова Варвара. – Какая она из себя?
– Видел, конечно, я матушку, – кивнул головой, приглаживая усы, сотник. – Они изволили присутствовать при открытии нашей Уложенной комиссии. Каждый депутат ей ручку облобызал, и я в том числе, грешный…
– В чем же грех, Тимофей Иванович? – удивленно подняла брови Пелагея.
– Царица!.. – неопределенно пожал плечами Падуров. – Нас много, а она одна… За всех нас душой болеет, почему и депутатов со всей России собрала государственной важности дела решать. А мы только каждый об своем думаем, а она за всех – об общем.
– Мудрено сказано, – почти ничего не поняла Пелагея. – Давайте лучше есть, пить и веселиться, как в Екклесиасте сказано, не то заскучаешь, право, от вашей, Тимофей Иванович, политики.
– Что ж, давайте веселиться, – не стал спорить с хозяйкой бравый сотник.
Когда было много всего съедено и перепито вина, Пелагея объявила, что на время покидает их, и пошла соснуть в спальню на второй этаж. Разморило ее от выпитого вина и жирной пищи. Варвара решила воспользоваться удобным случаем и попросила сотника передать послание яицких казаков губернатору Рейнсдорпу.
– А почему бы и не передать?.. С превеликим удовольствием, – охотно согласился сотник Падуров и спрятал поданную Варварой бумагу за пазуху. – Вы еще погостите у тетушки?
– Да, побуду какое-то время, – кивнула казачка. – Думаю, на Фоминой неделе назад, в Яицкий городок вертаться.
– Хорошо у вас, небось, летом? – мечтательно вздохнул Падуров. – Река, свежий воздух, сады зеленые, степной ветер… Не то что у нас, в душном, пыльном городе, среди грубой солдатни и вечно пьяной мастеровщины.
– Пьяниц и у нас в городке хватает, – улыбнулась Варвара. – Без мордобоя ни один пресветлый церковный праздник не обходится.
– Эх, Россия, Россия, азиатская ты наша сторонушка! – горько вздохнул сотник. – Никогда не бывать тебе европейской цивилизованной страной, о чем покойный император Петр Первый мечтал.
– А нужна ли нам та цивилизация? – спросила Варвара. – Жили без нее наши родители, и мы как-нибудь проживем.
– В грязи и коровьем навозе по шею! – уточнил сотник.
– Ну так что с того? Зато корова молоко дает, – пожала плечами Варвара.
2
Сотник Падуров еще несколько раз встречался с казачкой. Вечером, накануне ее отъезда из Оренбурга, гуляли за городом, возле Менового двора. Падуров предложил сесть на небольшой пригорок сбоку дороги, кинул к ногам Варвары свой новенький форменный чекмень.
– Так и сам к стопам твоим припаду, дорогая Варвара, – напыщенно говорил взволнованный сотник. – По нраву ты мне пришлась, скрывать не стану. Все бы отдал за…
– Я замужняя женщина, Тимофей Иванович, – погрозила ему пальчиком молодая казачка. – Не забывайся, пожалуйста, и охлади свой пыл. Давай останемся друзьями.
– Так муж с женой и есть наипервейшие друзья-товарищи, – не отставал Падуров.
– Опять ты за свое, – сердито сказала Варвара. – У меня шестеро ребятишек, окстись, Тимоша… Где ты раньше был? Я ведь, как и ты, оренбургская. Земляки мы с тобой.
– Я думаю, муж и дети в таких делах не помеха, – залихватски тряхнул густым русым чубом, выбившемся из-под шапки, горячий, как необъезженный конь, сотник. – Я ведь не под венец тебя зову…
– Остынь, бесстыжий, что говоришь! – сердито вскрикнула казачка.
Вдруг невдалеке весело запиликала гармошка, и молодые, луженые глотки в три голоса загорланили матерные песни.
– Бердские, небось, гуляют, – только и успел вымолвить Падуров, как их окружила внушительная толпа молодых парней-казаков из недалекой отсюда слободы Берды. С ними было и несколько молодых, хохочущих во все горло девах. Парни были сильно навеселе и вели себя агрессивно.
– А-а, ваше благородие, господин сотник с нашими девчатами забавляется, – нахально крикнул один, высокий и плечистый молодой казак, стоявший справа от гармониста.
– По гляделкам ему, Фома! А девку – по кругу, – посоветовал ему кто-то.
– Не замай, оглобля! – решительно шагнул навстречу буяну сотник Падуров, хватаясь за эфес шашки.
– Братцы, наших бьют! Бей сотника! – провокационно заверещал гармонист, снимая с плеча инструмент и передавая стоявшей поблизости девке.
Сзади Падурова кто-то с силой огрел сучковатой дубинкой. Нападавший метил в голову, но промахнулся, и дубина, скользнув по уху, обрушилась на плечо. Варвара, рванувшись к сотнику, закричала, но ее перехватили сильные мужские руки, зажали ладонью рот, поволокли в темноту.
Падуров в два прыжка настиг тащившего Варвару молодца, схватил его за шиворот и, с силой крутнув к себе, смачно ударил в зубы. Молодые ядреные зубы казака звонко щелкнули. Он отпустил женщину, не устояв на ногах, полетел на землю, нечленораздельно замычал. Схватившись за челюсть, выплюнул на ладонь несколько выбитых зубов. Варвара в испуге прижалась к широкой груди Падурова. Тот, выхватив шашку, плашмя, что есть силы рубанул по спине засучивавшего рукава форсистого городского казакина гармониста. Боец, с громким воплем, как ошпаренный, отлетел от сотника. Парень с дубиной в другой раз подкрался к сотнику из-за спины, замахнулся для нового удара.
– Тимофей, сзади! – предупредительно крикнула Варвара и первая, не дожидаясь Падурова, кошкой метнулась на казака, норовя когтями выцарапать ему глаза.
Обернувшийся сотник ловким ударом шашки разрубил его дубину напополам, быстро перебросил шашку в левую руку и точным, бойцовским ударом кулака в лоб, в переносицу, опрокинул казака навзничь. Варвара храбро кинулась на другого обидчика, повалила его на землю и стала быстро и сильно мутузить кулаками по чем попало. Парень, отбрыкиваясь, беспомощно барахтался под ней и никак не мог встать.
– Молодец, Варюха! Так его, злыдня, – подбодрил подругу разгоряченный сотник и бросился, посвистывая над головой шашкой, на целую толпу оробевших парней. Те, побросав выломанные перед тем дубинки, опрометью прянули в рассыпную.
На месте побоища осталась сиротливо лежать гармонь, потерянная кем-то шапка да просивший пощады парень, которого оседлала Варвара. Сотник поставил его на ноги и нравоучительно сказал:
– Ступай, оглобля, в деревню и передай своим, чтоб и дорогу в Оренбург забыли, не то последних зубов не досчитаются. Это говорю я, сотник Тимофей Падуров, депутат московской Уложенной комиссии! Так и передай.
Варвара нежно погладила его по щеке, потерлась своей щекой о его плечо.
– Ты смелый, Тимофей… Не то что наши, яицкие, семеро одного не боятся!
– Да и ты, Варюха, не из робкого десятка, здорово парней мутузила, – похвалил Падуров.
– Я же тоже оренбургская, как и ты…
Глава 15
Новый атаман тамбовцев
1
Пока Варвара гостила в Оренбурге у тетки, в Яицком городке на очередном кругу наконец-то выбрали нового войскового атамана. Им стал простой казак войсковой стороны Петр Тамбовцев, которого старики по привычке продолжили называть между собой Петькой и вспоминали, как посылали его не так давно на базар за семечками и орехами и драли иной раз за вихры. Непослушная сторона ликовала: наконец-то они утерли нос старшинской стороне и выбрали угодного им атамана!
Однако эта радостная весть совсем не коснулась Михаила Атарова, который продолжал пластом лежать у себя в хате, после того как ему по пьянке проломили череп. Кто его бил, Михаил так и не узнал, решил, что кто-нибудь из чужаков, из залетных. Их много теперь шлялось по Яицкому городку: беглые мужики из заволжских помещичьих имений, солдаты-дезертиры из степных крепостей и городских гарнизонов, утекшие с Дона и Терека раскольники, гонимые властями за крест и бороду, спасающиеся на Востоке от регулярства и притеснения «москалей» запорожцы, покинувшие свои улусы калмыки, ногайцы, киргиз-кайсаки и всякий другой сброд. Часть их трудилась на хуторах у старшин и зажиточных казаков, часть подрабатывала в городке и на рыбных промыслах у откупщиков, часть бродяжничала, промышляя мелким воровством, а то и разбоем на больших дорогах.
За отцом присматривала дочь Нинка и забегавшая изредка проведать больного братца старшая его сестра Марфа. У нее на попечении оставалось трое его младших ребятишек, да плюс своих трое. Борис в городке не появлялся, продолжал пасти бородинских овец и ничего о беде, случившейся с отцом, не знал. А старший сын Евлампий нес службу на форпосту.
Нинка о приключившейся с ней беде в тот памятный вечер никому не сказала. Ей было стыдно, да и что толку? Обидчика все равно не найдешь, да и искать его некому. Уж лучше так, втихомолку, в уголку переплакать девичью беду и завязать обиду в узелок, авось со временем полегчает. Но на улице как-то прознали, что она больше не девица, малолетние казачата-подростки при встрече цинично прищелкивали языками, лукаво подмигивали и отпускали вслед ей скабрезные шуточки. Ребята постарше недвусмысленно зазывали на игрища, соблазняя пряниками, медными деньгами и цветными лентами. Нинка плакала и убегала от них домой. Со временем и подруги начали ее чураться, как чумовую, а однажды кто-то ночью написал дегтем на воротах Атаровых обидное, непотребное слово. Нинка окончательно пала духом, целый день смывая и соскабливая кухонным ножом надпись.
Вернувшаяся из Оренбурга Варвара схватилась за сердце, увидев мужа в столь плачевном состоянии. Бросилась врачевать его травами и прочими народными средствами, как советовали соседки. Брала дрожжей, да вина горелого, да ладана, вбивала туда пару сырых куриных яиц, перемешивала все и мазала этим снадобьем мужнину рану. Не единожды приглашала бабок-знахарок, читавших над изголовьем больного всякие хитроумные заговоры. В конце концов, хлопоты ее не пропали даром, и Михаил стал поправляться. Но весеннюю плавню он, естественно, пропустил.
2
Эта, вторая в году, ловля по-другому еще называлась севрюжное рыболовство, потому что ловить разрешалось только севрюг. Все другие породы рыбы, попадавшие в сети, казаки должны были выпускать обратно в реку. За невыполнение этого закона виновные строго наказывались: их нещадно пороли плетьми и отнимали весь улов в пользу Войска. Севрюжный промысел, в отличие от багрения, производился сетями с небольших лодок, вмещавших только одного человека. На плавню также избирался особый, плавенный атаман, ему выделялись помощники, следившие за порядком во время лова, и пушка, по сигналу которой начинался «удар».
Как и во время большого январского багрения, в назначенный день и час все имевшие право ловить рыбу казаки высыпали на крутой берег Яика. Здесь уже поджидал их выбранный атаман и пушкари возле небольшой чугунной пушки. У каждого казака была с собой маленькая, остроносая лодка-будара и невод длиной около ста сажен с частыми ячейками.
Как только раздавался пушечный выстрел, казаки беспорядочной, дикой толпой бросались к берегу, стараясь опередить друг друга, быстро сбрасывали с крутого обрыва лодку с неводом и прыгали с головокружительно высоты следом. Самые ловкие умудрялись прыгнуть в свою будару, но большинство рыболовов плюхалось мимо, прямиком в холодную еще речную воду. Кое-кто ломал руки или ноги, выбивал зубы, но это были мелочи. Вскочив в будару, казак начинал что есть силы работать веслами, греб к месту начала лова. Во время тяги один конец сети рыболов привязывал к своеобразному поплавку, бочонку или большой деревяшке, другой тянул сам.
Тянуть сети начинали от Яицкого городка и ниже, до самого Каспийского моря, до городка в устье Яика, основанного предприимчивым астраханским купцом Михайлой Гурьевым. Ушлый рыбопромышленник удумал как-то потягаться с Всевеликим Яицким войском за право обладания рыбными промыслами, но потерпел полное фиаско и отступил… Выше Яицкого городка промысловой рыбы ценных пород, заходившей сюда на нерест из Каспия, в Яике не было. Ежегодно после весеннего половодья русло реки напротив городка перегораживали частоколом из вбитых в дно бревен. Эта загородка, по казачьи – «учуг», и была границей казачьих рыбных угодий.
А вообще, Яик – весьма длинная и полноводная река. Протяженность ее составляет более двух тысяч четырехсот верст. По своей длине Яик-Горынович уступает только Волге и Дунаю. Не берем здесь, конечно, реки азиатские, а только те, что протекают в Европе. Таким образом, Яик неожиданно оказывается длиннее Днепра – главной водной артерии бывшей Киевской Руси, и знаменитого казачьего Дона.
Севрюжный промысел, как и зимнее багрение, был не менее трудоемкий. Казаки тянули сети от заката до рассвета по несколько дней кряду. Заплывали нередко за сотню верст от Яицкого городка. Подплыв к берегу, выгружали улов, передавая приезжавшим из дома родственникам, и снова пускались в плаванье. Спали и трапезничали здесь же, на берегу, где кого заставала ночь.
3
Ванька Зарубин и здесь умудрялся доставать водку и потчевал вечерами ловившего по соседству с ним Тимоху Мясникова. Черный, как цыган, нагловатый, бесшабашный весельчак Чика духом никогда не падал, работать не любил, потому что, по его понятиям, «от работы лошади дохли!», и предпочитал праздность и удалые казачьи гульбища. Здесь он был одним из первых.
– По мне, лучше водку весь век пить, чем на старшин и богатеев горбатиться! – говорил он за чаркой Тимохе.
– Так ловим-то себе, Чика, – пытался убедить друга слабохарактерный Мясников. – На себя ведь работаем, не на дядю.
– Все одно рыбу атаман отберет, – бесшабашно отмахивался Иван. – У меня, чик-чика, почти каждый год отбирают, злыдни!
– Конечно, отберут, Чика, ежели ты осетров, шипа да белорыбицу ловишь и тайно, через знакомых калмыков, на базар в Царицын сплавляешь, – упрекнул его Мясников.
Зарубин ехидно хихикнул, покрутил чубатой головой, взяв штоф, налил другу полную, до краев, чарку. Не забыл и себя.
– Молчи, Тимоха, друг-ситцевый… Пей лучше! А об том, что знаешь, молчок. Никому ни слова!
Казаки, звонко чокнувшись, расплескав несколько капель синей, казенной водки, смачно выпили. Загрызли арбузом, украденным в степи, на ближайшей бахче. Зарубин придвинулся вплотную к Тимофею, отрывисто зашептал в самое ухо:
– И зачем мне сдалась та севрюга, что атаман велит неводами тянуть?.. Мелюзга, скусу никакого, цена копеечная… Да гад с ней, Тимоха, нехай отбирают! Зато я на себя хорошо поработаю, рыба сейчас в России в цене. В Царицыне на базаре белугу, шипа да осетра с руками рвут! Вот ты и смекай, где казаку лучше… Мы ведь на реке живем, рыбьих повадок понабирались: рыба ищет, где глыбже, а яицкий казак – где лучше!
– Поганая у тебя, Чика, хвилосифия, – не преминул ввернуть замысловатое городское слово рассудительный Мясников. Осуждающе покачал головой. – А ежели лучше в лакеях, что москалям жопу лижут, либо в татях, с кистенем на большой дороге махать, православным хрестьянам мозги из черепков вышибать!.. Пойдешь?
– Ну ты говори, казак, да не заговаривайся, а не то неровен час!.. – Иван гневно схватил Тимофея за грудки, несильно встряхнул, так, что у того слетела с головы шапка. – Когда ты видел, чтобы Иван Зарубин жопу москалям лизал или с разбойниками якшался?!
– Это я шутейно, Чика. Что сразу в бутылку лезешь, отстань, – отлепил его руки от своей груди Мясников. – По мне, ты хоть на голове ходи, мне все едино!
– То-то же, – отдуваясь, сказал Иван. – Пьем, Тимофей, мировую, посля еще стременную, потом – отходную и – спать!
– С тобой, дьяволом, пить – себе дороже будет, – невесело пошутил Мясников. – Вон, Мишка Атаров как-то на Пасху выпил, с проломленной башкой утром очухался. Что, про что – ни сном, ни духом не ведает… Грошей в карманах – ни шиша, сабли с кинжалом – тоже. Может, набеглые воровские людишки озоровали, думает, а может, свои, городские.
