Читать онлайн Искусство как опыт бесплатно
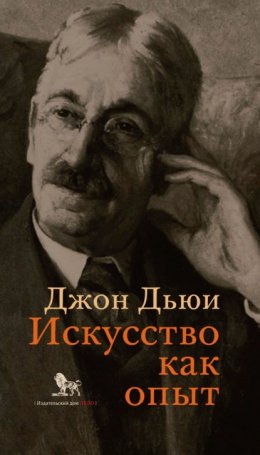
John Dewey
Art as Experience
* * *
© ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2024
* * *
Альберту К. Барнсу, с благодарностью
Предисловие
ЗИМОЙ и весной 1931 года меня пригласили прочесть цикл из десяти лекций в Гарвардском университете. Лекции, темой для которых стала «Философия искусства», послужили источником этой книги. Они проводились в память об Уильяме Джеймсе, и я считаю для себя большой честью, что эта книга связана, пусть и косвенно, с этим выдающимся человеком. Меня греют связанные с этими лекциями воспоминания о неизменной доброте и гостеприимстве моих коллег с гарвардского факультета философии.
В каком-то смысле я испытывал затруднение в том, каким образом выразить мою признательность другим авторам, писавшим на ту же тему. Некоторое представление об этом можно составить на основе приведенных в тексте цитат и упомянутых авторов. Я изучал работы по этому предмету многие годы – в основном английские, в несколько меньшей степени французские и еще меньше немецкие, и очень многое почерпнул из тех источников, вспомнить которые теперь бы, наверное, не смог. Кроме того, мой долг перед многими авторами существенно больше, чем можно понять по намекам, оставленным в тексте этой книги.
Но проще определить мой долг перед теми, кто помогал мне непосредственно. Доктор Джозеф Ратнер указал мне на ряд ценных источников. Доктор Мейер Шапиро любезно согласился прочитать двенадцатую и тринадцатую главы книги и дать рекомендации, которыми я не преминул воспользоваться. Ирвин Эдман прочитал значительную часть книги в рукописи, я обязан ему многими подсказками и критическими замечаниями. Сидни Хук прочел многие главы, и их окончательная форма в значительной степени определяется моими с ним спорами. Особенно это относится к главам о критике и последней главе. Очень многим я обязан доктору А. К. Барнсу. Все главы были одна за другой прочитаны вместе с ним, однако то, чем я обязан его комментариям и советам по поводу текста, – лишь малая часть моего долга перед ним. Мне посчастливилось общаться с ним на протяжении нескольких лет, и многие из наших бесед прошли на фоне выдающейся коллекции картин, им собранной. Влияние этих бесед, как и его книг, стало главным фактором, определившим мои собственные идеи о философии эстетики. Всеми здравыми мыслями в этой книге я в гораздо большей степени, чем мог бы здесь отметить, обязан важной образовательной работе, проводимой в Фонде Барнса. Эта работа отличается первопроходческим характером, сравнимым с лучшими достижениями на любом современном поприще, не исключая и науку. Я не могу не радоваться тому, что эта книга послужит распространению влияния фонда.
Джон Дьюи
1
Живое существо
ПО ИРОНИИ, нередко сопровождающей и извращающей практику в разных сферах жизни, существование произведений искусств, от которых зависит формирование эстетической теории, стало для нее самой препятствием. Одна из причин в том, что такие произведения – продукты, существующие внешне, физически. В обычном представлении произведение искусства зачастую отождествляется со зданием, книгой, картиной или статуей в ее независимом от человеческого опыта бытии. Поскольку истинное произведение искусства – это то, что такой продукт делает с опытом и в опыте, пониманию это не способствует. Кроме того, само совершенство некоторых из таких продуктов, их престиж, обусловленный длительной историей безусловного восхищения – все это создает определенные условности, встающие на пути живого понимания. Как только продукт искусства получает статус классики, он в каком-то смысле обособляется от тех человеческих условий, в которых он был создан, как и от последствий, порождаемых им в реальном жизненном опыте человека. Когда художественные объекты отделяются от условий своего порождения и своего воздействия в опыте, вокруг них возводится стена, почти полностью заслоняющая то их общее значение, с которым имеет дело эстетическое теория. Искусство удаляется в отдельную сферу, где оно отрезано от связи с материалами и целями любого другого человеческого начинания, дела или достижения. Следовательно, перед тем, кто намеревается писать о философии изящных искусств, стоит одна первичная задача – восстановить преемственность между теми утонченными и интенсивными формами опыта, каковыми и являются произведения искусства, и повседневными событиями, делами и страданиями, составляющими, как повсеместно признано, саму суть опыта. Горные пики не парят в вышине лишенные всякой опоры, и нельзя даже сказать, что они опираются на землю. Они и есть земля в одном из ее наиболее очевидных проявлений. И задача тех, кто занят теорией земли, то есть географов и геологов, прояснить этот факт и все его возможные следствия. Теоретик, философски осмысляющий изящные искусства, должен решить схожую задачу.
Если кто-то пожелает согласиться с этой позицией, пусть даже на время, в качестве эксперимента, увидит, что из нее следует вывод, на первый взгляд поистине поразительный. Чтобы понять смысл художественных произведений, мы должны на время забыть о них, отвернуться от них и обратиться к тем силам и условиям опыта, которые мы обычно эстетическими не считаем. К теории искусства мы должны подойти обходным путем. Ведь теория занята пониманием, прояснением, то есть пылкое восхищение – это не ее предмет, как и та эмоциональная вспышка, что часто называют оценкой. Можно наслаждаться цветами, их красками и тонкими ароматами, не зная ровно ничего о растениях как предмете теории. Но если некто намеревается понять цветение растений, он должен кое-что узнать о взаимодействии почвы, воздуха, воды и солнечного света, определяющих рост растений.
Парфенон общепризнанно считается великим произведением искусства. Однако он обладает этим эстетическим статусом только в той мере, в какой это произведение становится опытом для человека.
И если мы хотим перейти от личного удовольствия к формированию теории о той обширной республике искусства, одним из элементов которой является это здание, мы на каком-то этапе наших размышлений должны будем переключиться со здания на энергичных, вечно спорящих и проницательных афинян, чье гражданское чувство составляло единое целое с гражданской религией и чей опыт был выражен в этом храме, ведь они строили его не как произведение искусства, а как гражданский памятник. Нужно представить их как обычных людей со своими потребностями. Некоторые из этих потребностей были удовлетворены за счет этого здания. Следует подчеркнуть, что это все лишь размышления, а не исследование социолога, ищущего материалы, соответствующие его задачам. Тот, кто намеревается построить теорию эстетического опыта, воплощенного в Парфеноне, должен постичь, что общего у людей, в чью жизнь он проник, – создателей здания и тех, кого оно радовало, – с людьми, живущими в современных домах и встречающимися на наших улицах.
Чтобы понять эстетику в ее завершенных и признанных формах, надо начать с эстетики в ее сыром и необработанном виде; с эстетики в событиях и сценах, которые приковывают к себе внимательный взгляд и чуткий слух человека, возбуждая его интерес и доставляя ему удовольствие, когда он смотрит на них и их слушает. Надо начать со зрелищ, собирающих толпу, например, с мчащейся пожарной машины; орудий, выкапывающих в земле огромные траншеи; с виднеющейся вдали маленькой фигурки человека, взбирающегося по шпилю здания; с людей, притулившихся на высокой строительной конструкции, где они купаются в искрах сварки. Истоки искусства в человеческом опыте будут познаны тем, кто видит, как напряженная грация футболиста захватывает взирающую на него толпу; кто замечает, с каким наслаждением домохозяйка управляется со своими тарелками и с каким неослабевающим интересом ее муж ухаживает за газоном перед домом; кто обращает внимание на то усердие, с которым человек, сидящий перед очагом, ворошит кочергой дрова, не отрывая глаз от проблесков пламени и осыпающихся углей. Все эти люди, если спросить их о причинах их действий, несомненно, дадут разумные ответы. Человек, шевелящий головни в очаге, скажет, что он это делает, чтобы огонь горел лучше, но в то же время он загипнотизирован красочной драмой перемен, свершающихся у него на глазах, и в своем воображении он сам в ней участвует. Он не остается исключительно холодным наблюдателем. То, что Кольридж сказал о читателях поэзии, в какой-то мере приложимо и ко всем тем, кто с упоением погружается в свою собственную умственную и телесную деятельность:
Читателя должен нести вперед не только и не столько механический импульс любопытства, не только неустанное желание достичь последней разгадки, но и само странствие как действие, доставляющее ему удовольствие.
Смышленый механик, увлеченный работой и стремящийся сделать ее хорошо, находящий удовлетворение в ручном труде и радеющий о своих материалах и инструментах, выполняет свой труд художественно. Различие между таким работником и бестолковым халтурщиком в заводском цеху ничуть не меньше, чем в студии художника. Бывает так, что продукт не пробуждает эстетического чувства у его потребителей. Хотя виноват в этом зачастую не сам рабочий, но условия рынка, для которого этот продукт был изобретен. Были бы условия и возможности иными, тогда бы создавались вещи, привлекательные для глаза ничуть не меньше, чем те, что раньше создавались мастерами.
Представления, возводящие искусство на неприступный пьедестал, настолько распространены и в то же время неверны, хотя не сразу это и заметишь, что многие люди, стоит им только сказать, что их повседневные удовольствия обусловлены, по крайней мере частично, их эстетическим качеством, скорее разозлятся, чем обрадуются. Искусства, содержащие, с точки зрения обычного человека, более всего жизненной силы, – те именно, что сам он искусствами не считает, например: кинематограф, джаз, комиксы, а также газетные рассказы о любовных похождениях, убийствах и подвигах бандитов. Ведь когда то, что, как ему известно, является искусством, сослано в музей или галерею, необоримое стремление к опыту, несущему радость, находит отдушину в том, что ему предлагает повседневное окружение. Многие люди, оспаривающие музейную концепцию искусства, все же разделяют заблуждение, определяющее эту концепцию. Ведь общераспространенное представление возникает из такого отделения искусства от объектов и сцен повседневного опыта, развитием и обоснованием которого гордятся многие теоретики и критики. Но именно в те времена, когда избранные, действительно исключительные объекты остаются тесно связанными с плодами обычных профессий, признание первых может быть наиболее зрелым и точным. Когда же объекты, признаваемые образованной публикой в качестве произведений изящных искусств, массам представляются слишком далекими, а потому безжизненными и бескровными, эстетический голод будет искать удовлетворения в чем-то дешевом и вульгарном.
Факторы, которые привели к превознесению изящных искусств, поставив их на высокий пьедестал, возникли не в области искусства, к тому же их влияние не ограничено одними только искусствами. В понимании многих людей все «духовное» и «идеальное» окружено аурой, сочетающей в себе благоговение и ощущение нереальности, тогда как «материя» стала, наоборот, термином уничижительным, тем, за что следует испросить прощения, поскольку само ее присутствие требует объяснений. Во всем этом задействованы силы, вытолкнувшие и изящные искусства, и религию за пределы обычной или общественной жизни. Эти силы исторически стали причиной столь многих вывихов и расколов в современной жизни и мысли, что и искусство не может избежать их влияния. Нет нужды забираться в отдаленные уголки земли или возвращаться на тысячелетия назад, чтобы найти людей, для которых все, что усиливает чувство непосредственной жизни, само является предметом глубочайшего восхищения. Шрамы на теле, пышные перья, яркие одежды, украшения, блистающие золотом, серебром, изумрудами и яшмой, – вот что составляло содержание эстетических искусств, причем во всем этом не было классовой показухи, сопровождающей их современные аналоги. Домашняя утварь, меблировка юрты и дома, ковры, циновки, кувшины, горшки, луки и копья выделывались с таким радостным тщанием, что сегодня мы охотимся за ними и размещаем их в наших художественных музеях в качестве достойнейших экспонатов. Но в свое время и на своем месте такие вещи были помощниками в повседневной жизни. Они не возвышались и не задвигались в отдельную нишу, а, наоборот, служили демонстрации доблести, были символами группы и клановой общности, культовыми предметами или инструментами поста и пира, охоты и боя, всех тех ритмических кризисов, которые своей пунктуацией размечают поток жизни.
Танец и пантомима, как источники искусства театра, расцвели, когда были частью религиозных ритуалов и празднеств. Искусство музыки приумножалось, когда пальцы касались натянутой тетивы, когда люди били в туго натянутую кожу барабана или дули в тростинки. И даже в пещерах человеческие жилища украшались цветными изображениями, сохранявшими в себе живое чувство опыта взаимодействия с животными, столь тесно связанными в те времена с жизнью людей. Строения, где обитали боги, и орудия, упрощавшие взаимодействие с высшими силами, – все они вытесывались и выковывались в высшей степени изящно. Однако искусства драмы, музыки, живописи и архитектуры, представленные подобными примерами, не имели особого отношения к театрам, галереям и музеям. Они были частью жизни организованного сообщества, полной своего смысла.
Коллективная жизнь, проявлявшая себя в войне, поклонении богам, форуме, не знала разделения между тем, что характерно для таких мест и действий, и искусствами, наделявшими их красками, грацией и достоинством. Живопись и скульптура составляли органическое целое с архитектурой, как и с той социальной целью, которой служили здания. Музыка и песня были теснейшим образом связаны с ритуалами и церемониями, в которых воплощался смысл групповой жизни. Драма служила живой инсценировкой легенд и коллективной истории жизни. И даже в Афинах такие искусства не могли быть оторваны от непосредственного опыта, составлявшего их контекст, иначе бы они потеряли все свое значение. Атлетика, как и драма, прославляла и утверждала традиции рода и группы, наставляла людей, увековечивала подвиги и укрепляла гордость гражданина.
В подобных обстоятельствах неудивительно, что афиняне в процессе размышлений об искусстве сформировали представление о нем как о воспроизведении или подражании. Против этой концепции нашлось немало возражений. Однако популярность данной теории свидетельствует о тесной связи изящных искусств с повседневной жизнью; эта идея никому бы и в голову не пришла, не будь искусство связано с жизненными интересами. Ведь учение означало не то, что искусство – это буквальное копирование объектов, а то, что оно отражает эмоции и идеи, связанные с основными институтами общественной жизни. Платон ощущал эту связь настолько сильно, что задумался даже о необходимости подвергнуть цензуре поэтов, драматургов и музыкантов. Возможно, он несколько преувеличивал, когда говорил, что переход от дорического строя к лидийскому является верным предвестником вырождения гражданской жизни. Но ни один из его современников не сомневался в том, что музыка является неотъемлемой частью этоса и институтов сообщества. Идею «искусство ради искусства» никто бы просто не понял.
Следовательно, должны быть исторические причины, обусловившие развитие концепции изящных искусств, в которой им отводится отдельная ниша. Наши современные музеи и галереи, куда убраны предметы изящных искусств, иллюстрируют некоторые причины, которые привели к изоляции искусства, переставшего считаться принадлежностью храма, форума или других форм общественной жизни. Можно было бы написать весьма поучительную историю современного искусства, рассказав о формировании музеев и выставочных галерей как современных институтов. Я же могу указать лишь на несколько явных фактов. Большинство европейских музеев – это, помимо всего прочего, еще и мемориалы развития национализма и империализма. В каждой столице должен быть свой музей живописи, скульптуры и т. д., обязанный, с одной стороны, демонстрировать величие ее художественного прошлого, но с другой – являть свету добычу, собранную ее монархами, когда они завоевывали другие страны; например, трофеи, свезенные в страну Наполеоном, хранятся в Лувре. Музеи, таким образом, свидетельствуют о связи современного обособления искусства с национализмом и милитаризмом. Несомненно, эта связь иногда могла приносить пользу, например, в Японии, сохранившей, когда там началась вестернизация, значительную часть своих богатств за счет национализации храмов, в которых они хранились.
Рост капитализма оказал огромное влияние на развитие музея как единственного, по сути, дома для произведений искусства, а также на утверждение представления о том, что последние отделены от обычной жизни. Нувориши, ставшие важным побочным продуктом капиталистической системы, ощущали потребность окружать себя произведениями изящного искусства, являющимися в силу своей редкости еще и дорогостоящими. В целом типичный коллекционер – это еще и типичный капиталист. Для доказательства своего высокого статуса в сфере высокой культуры он собирает картины, статуи, художественные bijoux [драгоценности] так же, как акции и облигации, удостоверяющие его положение в экономическом мире.
Не только отдельные люди, но также сообщества и народы – все они удостоверяют свой хороший культурный вкус тем, что строят оперные театры, галереи и музеи. Последние показывают, что данное сообщество не полностью погружено в материальное богатство, поскольку желает тратить свои прибыли на покровительство искусству. Оно возводит эти здания и собирает вещи, в них хранимые, подобно тому как оно могло бы возвести собор. Все эти вещи отражают и утверждают высший культурный статус, тогда как их обособление от обычной жизни показывает, что они не являются частью изначальной стихийной культуры. Они аналог своего рода фарисейства, демонстрируемого в пику не собственно людям, а интересам и занятиям, на которые уходит большая часть времени и энергии общества.
Современная промышленность и торговля достигли международного масштаба. Содержимое галерей и музеев свидетельствует о развитии экономического космополитизма. Мобильность торговли и населения, обусловленная экономической системой, ослабила или даже уничтожила связь между произведениями искусства и genius loci, естественным выражением которой они некогда были. Когда произведения искусства утратили свою автохтонность, они приобрели новый статус, превратившись в образчики изящных искусств и перестав быть чем-то другим. Кроме того, произведения искусства сегодня производятся для продажи на рынке, как и любые другие товары. Меценатство, занятие для людей богатых и могущественных, порой действительно играло определенную роль в художественном творчестве. Возможно, у многих диких племен тоже были свои меценаты. Но сегодня даже эта крепкая социальная связь истончается под воздействием безличного мирового рынка. Объекты, в прошлом являвшиеся действенными и значимыми в силу своего положения в жизни общества, ныне функционируют независимо от условий своего происхождения. Из-за этого они также обособляются от обычного опыта и служат эмблемами вкуса, сертификатами той или иной культурности.
Благодаря переменам в промышленных условиях художника вынесло из основного потока активного жизненного интереса и прибило к берегу. Промышленность подверглась механизации, но художник не может работать механически, ради массового производства. Теперь он меньше, чем раньше, встроен в обычный поток общественного служения. Результатом стал специфический эстетический «индивидуализм». Художники считают, что им непременно нужно относиться к своему произведению как к обособленному средству «самовыражения». Чтобы не потворствовать экономическим силам и направлению, ими выбранному, художники нередко ощущают необходимость преувеличивать свою обособленность, доводя ее до эксцентричности. Соответственно, художественные продукты все больше и больше выглядят независимыми и эзотеричными.
Если сложить вместе действия всех этих сил, выяснится, что условия, порождающие разрыв, обычно присутствующий в современном обществе между производителем и потребителем, создают также настоящую пропасть между обычным опытом и эстетическим. В конечном счете мы, свидетельствуя о существовании этой пропасти, подписались, словно бы в них не было ничего необычного, под философиями искусства, которые относят его к тому региону, где ни одно другое существо жить не может, и вне всякой меры делают упор на исключительно созерцательный характер эстетического. Еще больше такое разделение усугубляется смешением ценностей. Привходящие моменты, такие как удовольствие от коллекционирования, экспозиции, владения и демонстрации, служат симуляции этических ценностей. Это сказывается и на критике. Очень часто рукоплещут эстетическому энтузиазму и величию трансцендентной красоты искусства, которыми прельщаются, не обращая внимания на способность к эстетическому восприятию в конкретной жизни.
Моя цель, однако, не в том, чтобы провести экономическую интерпретацию истории искусств, и уж тем более не в доказательстве того, что экономические условия имеют неизменное или прямое значение для восприятия и наслаждения отдельными произведениями искусства или даже их интерпретации. Моя задача – указать на то, что теории, которые обособляют искусство и его оценку, помещая их в отдельную, только им принадлежащую, сферу, отделенную от всех остальных разновидностей опыта, не обладают внутренним сродством со своим предметом, но возникают в силу внешних, подлежащих прояснению условий. Эти условия, включенные в институты и привычки, действуют столь эффективно потому, что работают на бессознательном уровне. Поэтому теоретик предполагает, что они встроены в саму природу вещей.
Тем не менее влияние этих условий не ограничивается теорией. Как я уже отметил, они оказывают глубокое воздействие на саму практику жизни, вытесняя эстетические восприятия, являющиеся необходимыми составляющими счастья, или низводя их до уровня преходящих приятных возбуждений, восполняющих его нехватку.
Даже читателям, с недоверием относящимся к тому, что было сказано, выводы из сделанных тезисов могут оказаться полезными, поскольку они позволяют определить природу проблемы, а именно восстановления преемства между эстетическим опытом и нормальными процессами жизни. Понимание искусства и его роли в цивилизации не продвинется вперед, если мы начнем с похвал искусству и сразу же займемся исключительно великими произведениями, в качестве таковых признанными. Понимание, требуемое теорией, будет достигнуто обходным путем, то есть возвращением к опыту обычного или типичного порядка вещей, позволяющего раскрыть эстетическое качество, присутствующее в подобном опыте. Теория может начинаться с признанных произведений искусства только тогда, когда эстетическое уже отнесено к отдельной рубрике или когда произведения искусства убраны в отдельную нишу, вместо того чтобы служить прославлением вещей обыденного опыта и таковым признаваться. Даже грубый опыт, если это и правда настоящий опыт, с большей вероятностью даст подсказку, проясняющую истинную природу эстетического опыта, чем объект, уже отделенный от любого иного модуса опыта. Следуя этой подсказке, мы можем выяснить, как развивается произведение искусства и как с его помощью подчеркивается то, что обладает характерной ценностью в вещах, приносящих повседневное удовольствие. Продукт искусства будет считаться тогда производным от такого удовольствия, создаваемым при выражении полного смысла обыденного опыта, – подобно тому как при специальной перегонке продукты каменного угля выделяют пигмент.
Сегодня есть много теорий искусства. Если и есть оправдание для еще одной философии эстетики, оно должно обнаруживаться в новом подходе. Можно составить немало комбинаций и перестановок из уже имеющихся теорий, если только у вас есть к этому склонность. Но, с моей точки зрения, проблема существующих теорий в том, что они начинают с заранее заданного категориального деления вещей или с концепции искусства, лишающей их связи с предметами конкретного опыта и наделяющей их «духовным» значением. Альтернативой такому одухотворению является, однако, не материалистический, то есть обывательский или пренебрежительный подход к произведениям изящных искусств, а концепция, раскрывающая то, как в таких произведениях идеализируются качества, встречаемые в обычном опыте. Если бы произведения искусства были помещены с обыденной точки зрения в непосредственный человеческий контекст, они бы обладали намного большей притягательностью, чем в том случае, когда всеобщее признание получают теории искусства, стремящиеся для каждого сверчка найти свой шесток.
Концепция изящных искусств, исходящая из их связи с явными качествами повседневного опыта, сможет указать на факторы и силы, способствующие нормальному развитию обычных видов человеческой деятельности и их превращению в предметы, обладающие художественной ценностью. Также она сможет указать условия, препятствующие нормальному развитию такой деятельности. Авторы, пишущие об эстетической теории, часто поднимают вопрос о том, может ли эстетическая философия помочь взращивать эстетическую оценку. Этот вопрос представляет собой ответвление общей теории критики, которая, как мне кажется, не справляется со своей задачей в полной мере, если не указывает, что именно следует искать и находить в конкретных эстетических объектах. Но, так или иначе, можно с уверенностью сказать, что философия искусства останется бесплодной, если только не заставит нас осознать функцию искусства по отношению к другим разновидностям опыта, не укажет, почему эта функция выполняется столь неподобающим образом, и не предложит условия полного исполнения указанной обязанности.
Сравнение возникновения произведений искусства из обычного опыта с очисткой сырья, превращаемого в ценные продукты, может показаться вульгарностью или даже попыткой свести эти произведения к товарам, произведенным с чисто коммерческими целями. Мысль здесь, однако, в том, что никакие экстатические восхваления готовых произведений не могут сами по себе способствовать пониманию или порождению подобных произведений. Цветами можно наслаждаться, ничего не зная о том, что они результат взаимодействия почвы, воздуха, влаги и семян. Но их нельзя понять, не принимая в расчет эти взаимодействия, и мы знаем, что теория занимается пониманием. Теория занята раскрытием природы производства произведений искусства и удовольствия от их восприятия. Почему повседневное создание вещей вырастает в истинно художественную форму созидания? Почему наша повседневная радость от различных сцен и ситуаций преобразуется в специфическое удовлетворение, сопровождающее опыт, имеющий явно выраженный эстетический характер? На все эти вопросы должна ответить теория. И ответы на них не найти, если мы не пожелаем отыскать зародыши и корни в предметах опыта, обычно не считающихся эстетическими. Когда же эти активные семена будут выявлены, мы сможем проследить их рост и превращение в высшие формы завершенного и изысканного искусства.
Обычно считается, что мы не можем управлять, разве что по случайности, ростом и цветением растений, какими бы приятными они ни были и какое бы удовольствие ни приносили, без понимания причинно-следственной связи этого процесса. Точно таким же общим местом должно стать и то, что эстетическое понимание (отличающееся от простого личного удовольствия) должно начинаться с земли, воздуха и света, то есть со всего того, что порождает вещи, заслуживающие эстетического восхищения. Все эти условия – это именно те факторы, что составляют полноту обычного опыта. Но чем откровеннее мы признаем этот факт, тем явственнее оказываемся перед проблемой, а не окончательным решением. Если художественное и эстетическое качество неявно присутствует в любом нормальном опыте, как объяснить то, что обычно оно не может стать явным? Почему искусство представляется массам чем-то чуждым и привнесенным в их опыт извне, а эстетическое – синонимом чего-то искусственного?
* * *
Мы не можем ответить на эти вопросы, как не можем и проследить развитие искусства из повседневного опыта, пока у нас нет четкого и логичного представления о том, что имеется в виду, когда мы говорим о «нормальном опыте». К счастью, путь к такому представлению открыт и хорошо размечен. Природа опыта определяется основными условиями жизни. Хотя человек отличается от птицы и зверя, он разделяет с ними основные жизненные функции, а потому так же должен приноравливаться, если желает сохранить жизнь. Поскольку человек обладает теми же жизненными потребностями, он унаследовал органы, позволяющие ему дышать, двигаться, видеть и слышать, да и сам мозг, координирующий его чувства и движения, от своих животных предков. Органы, позволяющие ему поддерживать существование, не его единоличная собственность – они достались ему благодаря борьбе и достижениям его животных предков, всей их долгой родословной.
К счастью, теория места эстетического в опыте не должна теряться в мельчайших деталях, если она исходит из опыта в его элементарной форме. Достаточно и общих замечаний. Первое важное соображение состоит в том, что жизнь протекает в определенной среде; и не только в среде, но и благодаря ей, во взаимодействии с ней. Ни одно существо не живет исключительно в своей шкуре; его подкожные органы – инструменты связи с тем, что находится за пределами его телесной оболочки, с тем, с чем оно, чтобы жить, должно сообразовываться – за счет приспособления и самозащиты, но также и путем завоевания. В любой момент времени живое существо открыто опасностям, возникающим в его окружении, но точно так же оно, чтобы удовлетворять свои потребности, должно опираться на вещи в своем окружении. Путь и судьба живого существа связаны с его взаимообменом со средой, причем связаны не внешним, а как нельзя более интимным образом.
Ворчание собаки, подкрадывающейся к своей пище, ее вой в мгновения потери или одиночества, виляние хвостом при виде вернувшегося друга-человека – все это выражения вхождения живого существа в естественную среду, включающую в себя как человека, так и одомашненное им животное. Всякая потребность, например тяга к свежему воздуху или голод, – это нехватка, обозначающая отсутствие, по крайней мере временное, обязательного приспособления к окружению. Но также она обозначает требование, вектор движения к среде, позволяющий восполнить нехватку и восстановить приспособление, создав равновесие, пусть и непостоянное. Жизнь сама состоит из фаз, когда организм сначала сбивается с темпа окружающих его вещей, но потом снова входит с ним в унисон благодаря его собственному усилию или какому-то счастливому случаю. Когда жизнь развивается, восстановление согласия никогда не бывает всего лишь возвратом к предшествующему состоянию, поскольку оно обогащается состоянием разрыва и сопротивления, успешно преодоленного жизнью. Если разрыв между организмом и средой оказывается слишком широким, тогда существо умирает. Если его деятельность не укрепляется временным отчуждением, оно всего лишь выживает. Жизнь развивается, когда временное рассогласование оказывается переходом к более общему равновесию энергий организма и энергий условий его жизни.
Эти общеизвестные идеи из биологии указывают на нечто большее, а именно на корни эстетического в опыте. Мир полон вещей, жизни безразличных или даже враждебных; да и сами процессы, поддерживающие жизнь, обычно приводят ее к рассогласованию с окружением. Однако если жизнь продолжается и если она, продолжаясь, расширяется, противящиеся и противоборствующие ей факторы преодолеваются – они превращаются в дифференцированные аспекты жизни более сильной и осмысленной. Чудо органического жизненного приспособления посредством расширения (противоположного сжатию и приспособлению пассивному) действительно случается. Таков зародыш баланса и гармонии, достижимой благодаря определенному ритму. Равновесие возникает не механически и не по инерции, а из напряжения, по его причине.
В природе, даже неорганической, есть не только поток и изменение. Форма возникает всякий раз, когда достигается устойчивое, пусть даже подвижное, равновесие. Изменения сцепляются друг с другом и друг друга поддерживают. Везде, где есть такое схождение, есть и устойчивость. Порядок не навязывается извне, он создается из отношений гармоничных взаимодействий разных энергий. Поскольку порядок активен (он не может быть статичным, ибо тогда он был бы чуждым происходящему), он развивается. В свое сбалансированное движение он начинает включать большее разнообразие изменений.
Нельзя не восхищаться порядком в мире, которому неизменно грозит беспорядок, – в мире, где живые существа могут сохранить жизнь, только если они пользуются порядком, окружающим их и воплощенном в них самих. В мире, подобном нашему, каждое живое существо, достигшее чувств, реагирует на порядок ощущением гармонии, возникающим у него всякий раз, когда оно находит упорядоченность, ему соответствующую.
Ведь только тогда, когда организм участвует в упорядоченных отношениях со своей средой, он может обеспечить устойчивость, столь существенную для жизни. Когда же такое участие складывается после фазы разрыва или конфликта, оно несет в себе зародыш свершения, сродного эстетическому.
Ритм утраты единства со средой и восстановления этого союза не только сохраняется в человеке, но и сознается благодаря ему; его условия – это материал, из которого он слагает свои цели. Эмоция – сознательный знак разрыва, реального или надвигающегося. Разногласие – повод для рефлексии. Желание восстановления союза превращает простую эмоцию в интерес к объектам как условиям осуществления гармонии. Благодаря такому осуществлению материал рефлексии воплощается в объектах как их значение. Поскольку художник особенно внимателен к фазе опыта, на которой достигается союз, он не отвергает моменты сопротивления и напряжения. Скорее, он взращивает их, но не ради них самих, а в силу их потенциала, доводя до живого сознания совокупный опыт. В противоположность человеку, чья цель является эстетической, ученый интересуется проблемами и ситуациями с выраженным напряжением между предметом наблюдения и предметом мысли. Конечно, ему тоже важно найти решение для этого напряжения. Но он на нем не останавливается, а переходит к другой проблеме, используя достигнутое решение в качестве всего лишь ступеньки, служащей опорой в новых исследованиях.
То есть различие между эстетическим и интеллектуальным – это различие в акценте, окрашивающем тот постоянный ритм, который размечает взаимодействие живого существа с его окружением. В конечном счете в опыте оба этих акцента складываются в один, в их общую форму. Странное представление о том, что художник не мыслит, а ученый только и делает, что мыслит, является результатом превращения различия в темпе и акцентуации в различие качественное. У мыслителя бывает свой эстетический момент, когда его идеи перестают быть просто идеями и становятся телесными смыслами объектов. У художника же есть свои проблемы, и он мыслит в самой своей работе. Однако его мысль с большей непосредственностью воплощена в объекте. В силу сравнительной отстраненности его цели ученый оперирует символами, словами и математическими знаками. Художник осуществляет свое мышление в качественных медиумах, являющихся инструментами его труда, и его категории настолько близки производимому им объекту, что буквально сливаются с ним.
Живому животному не нужно проецировать эмоции на объекты, переживаемые им в опыте. Природа бывала доброй и злой, равнодушной и мрачной, раздражающей и убаюкивающей задолго до того, как получила математическое описание или предстала агрегатом таких «вторичных» качеств, как цвета и формы. Даже такие слова, как «длинный» и «короткий», «твердый» и «пустой», все еще несут в себе моральные и эмоциональные коннотации, понятные всякому, не считая людей с особой интеллектуальной специализацией. Словарь готов просветить любого читателя, рассказав ему, что первоначально такие слова, как «сладкий» и «горький», не обозначали чувственные качества, но служили для различения благоприятных и враждебных вещей. Да и как могло быть иначе? Непосредственный опыт возникает из взаимодействия природы и человека друг с другом. В этом взаимодействии человеческая энергия может собираться, высвобождаться, застаиваться, терпеть поражение и одерживать победу. Таковы ритмические удары нехватки и осуществления, пульсации действия и воздержания от него.
Все взаимодействия, влияющие на устойчивость и порядок в водовороте изменений, представляют собой ритмы. Всегда есть отлив и прилив, систола и диастола – упорядоченное изменение. Оно осуществляется в определенных границах. Переход через положенные границы означает разрушение и смерть, которые, однако, способны стать основой для новых ритмов. Соразмерное прекращение изменений устанавливает порядок, обладающий не только темпоральным, но и пространственным паттерном: так, гребни песка образуются от накатывающих на них волн, напоминая их своей формой; таковы же перистые и грозовые облака. Контраст нехватки и полноты, борьбы и свершения, согласия после крайней неупорядоченности – вот что образует драму, в которой действие, чувство и смысл составляют единое целое. Результат – равновесие и уравновешивание. Они не статичны и не механистичны. Они выражают силу, оказывающуюся интенсивной, поскольку она измеряется преодолением сопротивления. Окружающие объекты могут и помогать, и препятствовать.
Есть два типа возможных миров, где эстетический опыт никогда бы не состоялся. В мире одного только потока изменения бы не накапливались – они не двигались бы к развязке. В нем не было бы никакой устойчивости и покоя. Но в той же мере верно и то, что в мире, полностью завершенном и законченном, не было бы таких черт, как приостановка и кризис, а потому он не создавал бы возможности для их разрешения. Там, где все завершено, нет и свершения. Мы с удовольствием взираем на нирвану и неизменное небесное блаженство потому лишь, что они проецируются на фон нашего современного мира, состоящего из потрясений и конфликтов. Поскольку мир, где мы живем, является сочетанием движения и кульминации, разрывов и воссоединений, опыт живого существа способен на эстетическое качество. Живое существо постоянно теряет равновесие со своим окружением и постоянно его восстанавливает. Момент перехода от возмущения к гармонии – момент жизни в ее предельной интенсивности. В завершенном мире сон и бодрствование не могли бы отличаться друг от друга. В предельно возмущенном мире с его условиями нельзя было бы и бороться. В мире, сделанном по образу нашего, моменты свершения размечают опыт интервалами, приносящими ритмическое наслаждение.
Внутренняя гармония достигается только тогда, когда тем или иным способом достигается согласие со средой. Когда оно достигается не на «объективном» основании, а на каком-то ином, оно является иллюзорным и в крайних случаях ведет к безумию. К счастью, в самых разных видах опыта согласие достигается многими способами, определяющимися в конечном счете избирательным интересом. Удовольствие может быть следствием случайного контакта или стимула, но в мире, полном боли, подобные удовольствия презирать не стоит. Однако счастье и наслаждение – это нечто иное. Они возникают благодаря свершению, достигающему глубин нашего бытия, то есть согласию всего нашего существа с условиями существования.
В процессе жизни достижение периода равновесия – это в то же время начало нового отношения со средой, несущего в себе потенцию нового согласия, достижимого, однако, лишь в борьбе. Время высшего достижения – еще и время начать заново. Любая попытка продлить наслаждение, сопровождающее момент свершения и гармонии, далее его срока определяет уклонение от мира. А потому им отмечается снижение жизненной силы и ее утрата. Однако в фазах возмущения и конфликта всегда присутствует глубоко затаенная память об изначальной гармонии, чувство которой преследует жизнь подобно ощущению прочной, держащей тебя скалы.
Большинство смертных осознают раскол, часто возникающий между их настоящей жизнью и их прошлым и будущим. В этом случае прошлое нависает над ними бременем. Оно вторгается в настоящее с чувством сожаления о неиспользованных возможностях и нежеланных последствиях. Оно давит своим грузом на настоящее, вместо того чтобы стать запасом ресурсов, позволяющих двигаться вперед. Однако живое существо принимает свое прошлое, оно может примириться даже и с его глупостями, используя их в качестве предостережений, обостряющих сегодняшнюю настороженность. Вместо того чтобы пытаться жить тем, что могло бы быть достигнуто в прошлом, оно использует прошлые успехи для придания формы настоящему. Каждый живой опыт обязан своим богатством тому, что Сантаяна удачно называет «приглушенным дрожанием»[1].
Для действительно живого существа будущее – не грозное предзнаменование, а обещание. Оно окружает настоящее подобно ореолу. Оно состоит из возможностей, ощущаемых как владение тем, что существует здесь и сейчас. В настоящей жизни все со всем пересекается и соединяется. Но слишком часто мы живем в тревожном ожидании того, что нам готовит будущее, пребывая в раздоре с самими собой. Даже когда мы не испытываем чрезмерной тревоги, мы не наслаждаемся настоящим, поскольку подчиняем его отсутствующему. В силу же повсеместности такого отказа от настоящего ради прошлого и будущего счастливые промежутки опыта, полного именно сейчас потому, что он впитывает в себя воспоминание о прошлом и предчувствие будущего, образуют эстетический идеал. Только когда прошлое перестает мучить, а ожидания будущего – смущать, существо полностью едино со своей средой, а потому и полностью живо. Искусство с особой силой прославляет те моменты, когда прошлое укрепляет настоящее, а будущее оказывается ускорением того, что есть сейчас.
Чтобы постичь истоки эстетического опыта, необходимо, таким образом, обратиться к животной жизни, стоящей ниже человеческой. Деятельность лисы, собаки или дрозда может предстать по меньшей мере напоминанием и символом того единства опыта, расщепляемого нами на множество частей, когда труд оказывается тяжелой ношей, а мысль отстраняет нас от мира. Живое животное – полностью в настоящем, все здесь, во всех своих действиях – в опасливом взгляде, тщательном обнюхивании, внезапно собранных к макушке ушах. Все чувства в равной мере настороже. Когда вы наблюдаете его, вы видите, как движение вливается в чувство, а чувство – в движение, составляя грацию животного, с которой человеку так трудно тягаться. То, что живое существо хранит от прошлого и чего оно ожидает от будущего, действует для его ориентации в настоящем. Собака не может быть педантичной или академичной, ведь эти качества возникают только тогда, когда прошлое в сознании отлучается от настоящего и представляется в качестве образца для подражания или хранилища полезных предметов. Прошлое, поглощенное настоящим, продолжается – оно само движется вперед.
В жизни дикаря много неразумности. Однако когда дикарь переживает высшие моменты своей жизни, он замечает в своем мире все, что только можно заметить, будучи пронизанным током энергии. Когда он наблюдает то, что вокруг него приходит в движение, он тоже волнуется. Его наблюдение – одновременно подготовка к действию и предвидение будущего. Когда он смотрит и слушает, когда гонится за добычей или украдкой отступает от врага, он всегда действует всем своим существом. Его чувства – часовые непосредственной мысли и форпосты действия, а не просто, как часто бывает у нас, каналы, собирающие материал для отложенной возможности.
Простое невежество – вот что приводит к предположению, будто связь искусства и эстетического восприятия с опытом означает понижение его значения и достоинства. Опыт в той мере, в какой он действительно является опытом, – это высшая жизненность. Он означает не замкнутость в своих личных чувствах и ощущениях, а активное и отзывчивое взаимодействие с миром; в своей высшей форме он означает полное взаимопроникновение субъекта и мира объектов и событий. Не означая ни в коей мере капитуляции перед капризом или беспорядком, он предоставляет нам единственное доказательство устойчивости, являющейся не застоем, а ритмом и развитием. Поскольку опыт – это самореализация организма в его борьбе и в его достижениях в мире вещей, то это и есть искусство в его зародышевой форме. Даже в своих начальных формах оно содержит в себе обещание того сладостного восприятия, каковым является эстетический опыт.
2
Живые существа и неосязаемые вещи[2]
ПОЧЕМУ попытка связать высшие и идеальные вещи опыта с первичными жизненными корнями столь часто считается предательством их природы и отрицанием самой их ценности? Почему возникает отвращение, когда высокие достижения изящных искусств связываются с обычной жизнью, общей для нас и всех живых существ? Почему жизнь считается целью низкого замысла или по крайней мере предметом грубого чувства, стремящимся низвергнуться со своих высот к похоти и жестокости? Исчерпывающий ответ на этот вопрос потребовал бы написать историю морали, в которой были бы выявлены условия, определившие презрение к телу, боязнь чувств, а также противопоставление плоти и духа.
Один из аспектов этой истории настолько важен для нашей проблемы, что его следует по крайней мере вкратце обозначить. Институциональная жизнь человечества характеризуется беспорядком. Он часто прикрывается тем, что принимает форму статичного разделения классов, причем оно принимается за саму сущность порядка, пока последний столь постоянен и общепринят, что не рождает никакого открытого конфликта. Жизнь делится на части, и ее разные институциональные отсеки относят к классам высокого и низкого. Их ценности разделяются на профанные и духовные, материальные и идеальные. Интересы соотносятся друг с другом всего лишь внешне и механически, в системе сдержек и противовесов. Поскольку у религии, морали, политики и бизнеса – у всех у них есть собственный отсек, покидать который им не дозволяется, у искусства тоже возникает свое собственное царство, принадлежащее только ему и никому другому. Размежевание занятий и интересов приводит к отделению модуса действия, обычно называемого «практикой», от понимания, воображения – от исполнения, осмысленной цели – от труда, эмоции – от мысли и действия. У них всех появляется свое отдельное место, и никто не должен покидать отведенные ему пределы. А потому те, кто пишут об анатомии опыта, предполагают, что такие деления составляют саму сущность человеческой природы.
В большей части нашего опыта, проживаемого в современных экономических и юридических институциональных условиях, такие деления весьма заметны. В жизни большинства людей лишь изредка возникает чувство, рождающееся из глубокого понимания внутренних смыслов, – и именно этим оно их смущает. Мы переживаем ощущения как механические стимулы или как раздражение, вызванное стимуляцией, но не обладаем чувством реальности, скрытой в них или за ними: почти всегда в нашем опыте разные чувства не объединяются друг с другом, чтобы рассказать общую, более обширную историю. Мы видим, не чувствуя; слышим, но только по рассказам других, через вторые руки, поскольку слышимое нами не подтверждается зрением. Мы касаемся, но лишь по касательной, поскольку прикосновение не сливается с чувственными качествами, способными проникнуть под поверхность. Мы используем чувства, чтобы пробудить страсть, но не для того, чтобы удовлетворить интерес к пониманию, не потому, что этот интерес не может присутствовать в применении чувства, но потому, что мы уступаем условиям жизни, ограничивающим чувство поверхностной возбужденностью. В первых рядах оказываются те, кто используют свой разум без участия тела и действуют через посредников, контролируя тела и труд других.
В таких условиях чувство и плоть приобрели дурную славу. Однако у моралиста более верное понимание внутренней связи чувства с остальным нашим бытием, чем у профессионального психолога или философа, хотя в своем понимании таких связей моралист и переворачивает факты и потенции нашей жизни, состоящей в отношении к нашей среде. Психологи и философы в последнее время занимались проблемой знания настолько целенаправленно, что стали рассматривать и «ощущения» в качестве всего лишь элемента знания. Моралист же знает, что чувство состоит в союзе с эмоцией, импульсом и влечением. А потому он разоблачает похоть взгляда, видя в ней капитуляцию духа перед плотью. Он отождествляет чувственное с плотским, а плотское с похотливым. Его моральная теория кособока, но он по крайней мере осознает то, что глаз – это не просто несовершенный телескоп, придуманный для интеллектуального восприятия материала, служащего познанию далеких предметов.
«Чувство» (sense) охватывает весьма широкий спектр содержания: сенсорное, сенсацию, чувствительность, разумное (sensible) и сентиментальное, но также и собственно чувственное. Оно включает в себя множество вещей, начиная с чисто физического и эмоционального воздействия на собственно чувство, то есть смысл вещей, данных в непосредственном опыте. Каждый из приведенных терминов указывает на определенную реальную фазу и аспект в жизни органического существа, если жизнь осуществляется благодаря органам чувств. Однако чувство как смысл, воплощенный в опыте столь прямо, что он непосредственно проясняет сам себя, – единственное значение, выражающее функцию органов чувств, когда они задействованы в полной мере. Чувства – органы непосредственной причастности живого существа к процессам окружающего его мира. В такой причастности чудеса и великолепие этого мира становятся для него действительными в качествах, переживаемых им в опыте. Этот материал нельзя противопоставлять действию, поскольку двигательный аппарат и собственно «воля» – средства сохранения и направления такой причастности. И в то же время он не может противопоставляться «интеллекту», поскольку разум – это средство, благодаря которому причастность становится плодотворной в самом чувстве, то есть средство извлечения и удержания смыслов и ценностей, впоследствии используемых во взаимодействии живого существа с его окружением.
Опыт – это результат, знак, вознаграждение за это взаимодействие организма и среды, представляющее собой, если оно осуществляется в полной мере, преображение взаимодействия в причастность и коммуникацию. Поскольку органы чувств вместе со связанным с ними двигательным аппаратом являются средствами такой причастности, любое пренебрежение ими, будь оно практическим или теоретическим, является одновременно причиной и следствием суженного и обедненного опыта жизни. Противоположности разума и тела, души и материи, духа и плоти – все они исходно проистекают из страха того, что может принести жизнь. Они суть приметы сжатия и отстранения. Следовательно, полное признание родственности органов, потребностей и основных импульсов человеческого существа и его предков-животных не предполагает непременного сведения человека к уровню зверя. Наоборот, оно позволяет набросать общий план человеческого опыта вместе с возвышающейся надстройкой того чудесного опыта, что характерен лишь для человека. То, что отличает человека как такового, позволяет ему опуститься ниже уровня зверя. Но также и подняться на новые, ранее недостижимые высоты. То единство чувства и импульса, восприятия, зрения и слуха, что воплощено в животной жизни, насыщая ее осознанными смыслами, извлеченными из коммуникации и целенаправленного выражения.
Человек проводит множество дифференциаций, весьма сложных и тонких. Сам этот факт определяет необходимость большего числа общих и строгих отношений между составляющими его бытия. Как бы ни были важны различия и отношения, ставшие тем самым возможными, дело на этом не заканчивается. Появляется еще больше возможностей для сопротивления и напряжения, новые проекты экспериментов и изобретательства, а потому и больше новизны в действии, больше широты и глубины в понимании, больше обостренных чувств. Когда сложность организма нарастает, ритмы борьбы и свершения в его отношении к своей среде приобретают разнообразие и длительность, внутри них появляется бесконечное множество подчиненных, более малых ритмов. Планы на жизнь расширяются и обогащаются. Свершение становится более впечатляющим и в то же время более нюансированным.
И тогда пространство – это уже не пустота, где можно бродить и где разбросаны вещи, с одной стороны, опасные, а с другой – удовлетворяющие влечение. Оно становится обширной, хотя и ограниченной сценой, на которой расставлены деяния человека и процессы с его участием. Время также перестает быть бесконечным единообразным потоком или последовательностью мгновений, каковым его считают некоторые философы. Оно оказывается организованной и организующей средой ритмического прилива и отлива, создаваемого ожидающим импульсом, возвратно-поступательным движением, сопротивлением и приостановкой с последующим осуществлением и свершением. Это порядок роста и созревания: как сказал Джеймс, на коньках мы научаемся кататься летом, хотя начинаем учиться зимой. Время как организация в самом изменении – это рост, означающий, что неравномерная последовательность изменений проходит через интервалы пауз и покоя, через завершения, становящиеся отправными точками новых процессов развития. Подобно почве разум удобряется, когда лежит под паром, пока на нем не пробьются новые цветы.
Когда вспышка молнии освещает темный ландшафт, мы на мгновение опознаем предметы. Однако такое опознание не просто точка во времени. Это сошедшаяся в одном фокусе кульминация различных процессов созревания, процессов медленных и длительных. Это проявление непрерывности упорядоченного темпорального опыта во внезапной, отделенной от всего остального развязке. В обособленном виде оно столь же бессмысленно, как и драма «Гамлет», если бы она была ограничена одной строкой или словом безо всякого контекста. Однако фраза «Дальше – тишина» (The rest is silence) приобретает бесконечно глубокий смысл, будучи развязкой драмы, разыгранной во времени. Таким же качеством может обладать мгновенное восприятие природной сцены. Форма, как она дается в изящных искусствах, – это искусство прояснения того, что участвует в организации пространства и времени, предначертанной во всяком развитии опыта жизни.
Моменты и места, несмотря на физическое ограничение и узость, заряжаются накоплением долго собирающейся энергии. Возвращение к сцене детства, произошедшей много лет назад, затопляет текущий момент потаенными воспоминаниями и надеждами. Встреча в чужой стране со случайным знакомым может доставить острое до дрожи удовольствие. Простое узнавание происходит тогда лишь, когда мы заняты чем-то отличным от узнанного предмета или человека. Узнаванием отмечается пауза или намерение использовать узнанное как средство для чего-то другого. Видеть, воспринимать, а не просто распознавать – это не то же самое, что определять присутствующее в категориях прошлого, с ним не связанного. Прошлое переносится в настоящее, дабы расширить и углубить содержание последнего. Этим иллюстрируется преобразование простой непрерывности внешнего времени в порядок жизни и организацию опыта. Опознание же вещи ограничивается кивком, позволяющим двигаться дальше. Или оно определяет преходящий момент в его обособленности, отмечает неподвижную точку в опыте, просто чем-то заполняющуюся. То, в какой мере процесс ежедневной или ежечасной жизни сводится к штамповке ситуаций, событий и объектов в качестве «таких» и «этаких» в простой их последовательности, отмечает прекращение жизни как сознательного опыта. Непрерывность, реализованная в индивидуальной четкой форме, – вот сущность такого опыта.
Искусство, таким образом, предначертано самими процессами жизни. Птица строит гнездо, а бобер – плотину, когда внутренние органические импульсы вступают во взаимодействие с внешними материалами, так что первые исполняются, а последние преобразуются в развязке, приносящей удовлетворение. Возможно, в подобных случаях мы не решимся применить слово «искусство», поскольку сомневаемся в наличии направляющего намерения. Однако всякое рассуждение, всякое сознательное намерение вырастает из вещей, раньше выполнявшихся органически, во взаимодействии естественных энергий. Если бы это было не так, искусство строилось бы на зыбучем песке или, хуже того, прямо в воздухе. Отличительный вклад человека – это осознание отношений, обнаруженных в природе. Благодаря сознанию он преобразует отношения причины и следствия, обнаруживаемые в природе, в отношения средства и результата. Или сознание, скажем так, само является началом для преобразований подобного рода. То, что было всего лишь ударом, становится приглашением; сопротивление становится тем, что можно использовать для изменения существующего устройства материи; безупречные условия становятся средствами для воплощения идеи. В таких действиях органический стимул становится носителем смыслов, а двигательные реакции меняются, превращаясь в инструменты выражения и коммуникации, это уже не просто средства перемещения и прямой реакции. В то же время органический субстрат сохраняется в качестве хотя и неустойчивого, но глубокого основания. Вне отношений причины и следствия, наличествующих в природе, замысел и изобретение были бы невозможны. Точно так же идея и цель остались бы без механизма их осуществления, если бы не органы, унаследованные от наших животных предков. Первозданные искусства природы и животной жизни – это и есть основной материал, общий набросок и модель для целенаправленных свершений человека; именно поэтому теологически настроенные умы приписали самой структуре природы сознательное намерение, ведь человек, чьи действия часто подобны обезьяньим, привык считать, что именно обезьяна ему подражает.
Существование искусства – конкретное доказательство того, что выше было сформулировано абстрактно. То есть это доказательство того, что человек использует материалы и энергии природы с намерением расширить свою собственную жизнь, причем в согласии со строением своего организма – мозга, органов чувств и мускулатуры. Искусство – живое и конкретное доказательство того, что человек способен сознательно, то есть на уровне смысла, восстановить единство чувства, потребности, импульса и действия, характерное для живого существа. Вмешательство сознания дает возможность регулирования, дополняет силу избирательности и допускает перераспределение. А потому оно способно бесконечно приумножать самые разные искусства. Однако его вмешательство со временем приводит также к идее искусства как идее осознанной, представляющей собой величайшее интеллектуальное достижение в истории человечества.
Многообразие и совершенство искусств в Греции заставило мыслителей сформулировать общую концепцию искусства и набросать идеал искусства организации самой человеческой деятельности, то есть искусства политики и морали, задуманного Сократом и Платоном. Идеи устроения, плана, порядка, законосообразности и цели возникли в отличие от и в то же время в связи с материалами, применяемыми для их осуществления. Концепция человека как существа, использующего искусство, сразу стала основанием и для отличия человека от всей остальной природы, и для определения его связей с ней. Когда же была сформулирована концепция искусства как отличительного качества человека, возникла уверенность в том, что, если только не будет нового вырождения человека, если он не падет ниже уровня дикости, возможность изобретения новых искусств вместе с применением старых будет сохраняться в качестве идеала и ориентира человечества. Наука и сама оказалась лишь главным искусством, способствующим порождению и применению других искусств, хотя этот факт из-за традиций, сложившихся до достаточного признания силы искусства, все еще в полной мере не признан[3].
Привычно и с некоторых точек зрения даже необходимо проводить различие между изящными искусствами и полезными, или техническими. Однако необходимо это лишь с точки зрения, являющейся для самого произведения искусства внешней. Привычное различие основано всего лишь на согласии с определенными социальными условиями, довлеющими сегодня. Я предполагаю, что фетиши негритянского скульптора считались в его племени в высшей степени полезными, даже больше, чем копья и одежда. Однако сегодня они считаются предметами изящных искусств и в XX веке послужили источником вдохновения для изобретений в искусствах, успевших стать общепризнанными. Но они образцы изящных искусств потому лишь, что некий безымянный художник в полной мере прожил и прочувствовал процесс производства. Удильщик может съесть свой улов, не потеряв эстетического удовольствия, испытанного им при ловле рыбы, когда он забрасывал удочку. Именно эта степень полноты проживания опыта созидания и восприятия – вот что составляет разницу между тем, что в искусстве является изящным и эстетическим, и тем, что таковым не является. Сделаны ли какие-то вещи, например, чаши, ковры, украшения или оружие, для практического применения – это, если говорить по существу, значения не имеет.
К сожалению, правда то, что многие, а может, и большинство производимых сегодня для повседневного применения товаров и предметов утвари не имеют подлинно эстетических качеств. Но это правда по причинам, чуждым самому отношению «красивого» и «полезного». Когда условия препятствуют акту производства стать опытом, в котором живет, наслаждаясь и в полной мере обладая своей жизнью, существо во всей своей целостности, продукту всегда будет недоставать эстетики. Независимо от того, насколько он полезен для конкретных и частных целей, продукт не будет полезен в высшей степени, то есть не будет прямо и свободно способствовать расширению и обогащению жизни. История различения и в конечном счете строгого противопоставления полезного и изящного – история промышленного развития, в котором почти все производство стало формой жизни, отложенной на потом, тогда как почти все потребление – внешним и навязанным удовлетворением плодами труда других людей.
* * *
Обычно концепция искусства, связывающая его с деятельностью живого существа в его среде, вызывает враждебность. Подобная враждебность к ассоциации изящных искусств с нормальными процессами жизни – как нельзя более красноречивый и даже трагический комментарий к процессу проживания обычной жизни. Только потому, что жизнь обычно настолько корява, убога, вяла и тяжела, сохраняется представление о том, что существует некий неизбывный антагонизм между процессами нормальной жизни и созданием произведений эстетического искусства и наслаждением ими. В конечном счете, даже если «духовное» и «материальное» разделены и противопоставлены друг другу, должны быть условия воплощения и осуществления идеала – вот что в конечном счете означает на фундаментальном уровне сам термин «материя». Сама же общепризнанность указанного противопоставления свидетельствует, следовательно, о распространенности сил, превращающих то, что могло бы быть средством осуществления свободных идей, в гнет, и заставляющих идеалы оставаться всего лишь устремлениями, замершими в безосновательном и неустойчивом парении.
И хотя искусство само – это лучшее доказательство осуществления, а потому и осуществимости единства материального идеального, этот тезис можно подкрепить и общими аргументами. Всегда, когда возможна непрерывность, груз доказательства противопоставления и дуализма ложится на тех, кто их утверждает. Природа – мать и обиталище человека, даже если порой она оказывается мачехой и неприветливым домом. Тот факт, что цивилизация и культура сохраняются – а иногда и делают шаг вперед, – свидетельствует о том, что человеческие надежды и устремления находят основание и поддержку в природе. И если развитие и рост индивида от зародыша до зрелости являются результатом взаимодействия организма с его окружением, точно так же и культура – плод не усилий людей в пустоте или в приложении к ним самим, а длительного и постепенно накапливающегося взаимодействия со средой. Глубина реакций, вызываемых произведениями искусства, доказывает их, этих произведений, родство действиям этого устойчивого опыта. Произведения и реакции, вызванные ими, сопричастны тем самым процессам жизни, что доводятся до неожиданного счастливого завершения.
Что касается погружения эстетики в природу, я могу привести пример, в той или иной мере известный многим людям, но этот примечателен тем, что о нем рассказал художник первой величины, Уильям Генри Хадсон. «Я чувствую, что не живу по-настоящему, когда не вижу растущей живой травы, не слышу голосов птиц и сельских звуков». И далее:
…когда я слышу от людей, что они не нашли мира и жизни, приятных и интересных достаточно, чтобы их можно было полюбить, или что они с равнодушием взирают на ее конец, я склонен думать, что они никогда по-настоящему и не жили, не видели широко открытыми глазами ни мира, о котором они столь низкого мнения, ни вещей этого мира – ни единой травинки.
Мистическая сторона эстетической захваченности, предельно обостряющей опыт и настраивающей его к восприятию того, что верующие называют экстатическим причастием, припоминается Хадсоном, когда он говорит о своем детстве. Он рассказывает о том, какое воздействие оказал на него вид акаций.
Веющая перистая листва в лунные ночи приобретала облик странной седины, а потому дерево это казалось живее других, словно бы оно сильнее осознавало меня и само мое присутствие… Это было похоже на ощущение человека, чувствующего, что его посетило сверхъестественное существо, когда бы он был решительно убежден в том, что оно, пусть невидимое и неслышимое, здесь, рядом с ним, пристально смотрит на него, угадывая любую мысль в его сознании.
Эмерсона часто считали суровым мыслителем. Но именно Эмерсон, уже в зрелом возрасте, высказался в духе, напоминающем приведенный отрывок из Хадсона:
…переходя в сумерках пустошь, засыпанную растекающимися сугробами, под затянутым тучами небом, я, не думая ровно ни о какой особой удаче, испытал истинное ликование. Я возрадовался до того, что сам испугался.
Я не вижу никакого иного способа объяснить множество случаев опыта такого рода (нечто подобное обнаруживается в каждой спонтанной эстетической реакции), кроме как посчитать, что они вызваны резонансом предрасположенностей, приобретенных в первичных отношениях живого существа с его окружением, а потому и не восстановимых в четком и обособленном виде в сознающем интеллекте. Опыт такого рода приводит нас к еще одному соображению, свидетельствующему о естественной непрерывности. Непосредственный чувственный опыт безграничен в своей способности поглощать смыслы и ценности, которые сами по себе (то есть в абстракции) назывались бы «идеальными» или «духовными». Анимистическая составляющая религиозного опыта, воплощенная в детских воспоминаниях Хадсона, – пример на уровне опыта. Тогда как поэтическое, в каком бы медиуме оно ни существовало, всегда остается близким родственником анимизма. Если же мы обратимся к искусству, во многих отношениях представляемому противоположностью поэзии, а именно к архитектуре, мы поймем, как идеи, первоначально созданные высшей технической мыслью, например математикой, способны воплощаться непосредственно в чувственной форме. Осязаемая поверхность вещей никогда не бывает просто поверхностью. Камень можно отличить от тонкой папиросной бумаги по одной только поверхности – настолько сопротивление касанию и твердость, выявляемые всей мускульной системой в целом, воплощены в зрении. И процесс этот не останавливается на воплощении других чувственных качеств, наделяющих поверхность смыслом. Нет ничего, что человек когда-либо достигал в высочайшем полете своей мысли или во что он проникал своим испытующим взором, что не могло бы стать сердцевиной или ядром чувства.
Одно и то же слово «символ» используется для обозначения выражений абстрактной мысли, например в математике, и таких вещей, как флаг и распятие, воплощающих в себе общественную ценность и смысл традиционной веры или теологического учения. Ладан, витражное стекло, звон невидимых колоколов, узорчатые одеяния – вот чем сопровождается приближение к тому, что считается божественным. Связь истока многих искусств с первобытными ритуалами становится все более очевидной с каждым продвижением антрополога в прошлое. Только люди, удалившиеся от своего раннего опыта настолько, что они потеряли его ощущение, могут сделать вывод, что ритуалы и церемонии были просто техническими приемами, применяемыми, чтобы вызвать дождь, родить ребенка, принести богатый урожай или одержать победу. Конечно, в них присутствовало и это магическое намерение, однако мы можем быть уверены в том, что такие ритуалы и церемонии проводились снова и снова, несмотря на все практические неудачи, потому именно, что были непосредственными опорами для опыта жизни. Мифы – это не просто интеллектуалистские попытки первобытного человека заняться наукой. Несомненно, беспокойство, вызываемое любым незнакомым фактом, сыграло свою роль. Но наслаждение от рассказа, постепенно развивающегося и приходящего к развязке, играло главную роль в распространении популярных мифологий как тогда, так и сегодня. Непосредственная чувственная стихия – причем эмоцию надо считать модусом чувства – обычно поглощает весь идейный материал, более того, если нет специальной дисциплины, подкрепленной физическим аппаратом, она подчиняет себе и переваривает все, что является всего лишь интеллектуальным.
Внедрение сверхъестественного в верования и простота обращения к сверхъестественному, столь характерная для человека, – это во многом следствие психологии, порождающей произведения искусства, а не попыток научного или философского объяснения. Оно усиливает эмоциональную дрожь и размечает определенной пунктуацией интерес, сопровождающий паузы в привычной рутине. Если бы власть сверхъестественного над человеческим мышлением была бы только или хотя бы преимущественно интеллектуальной, она бы осталась сравнительно слабой. Теологии и космогонии взяли верх над воображением потому именно, что все они сопровождались торжественными процессиями, ладаном, расшитыми одеяниями, музыкой, разноцветным огнями и, наконец, рассказами, будоражащими наше любопытство и погружающими нас в гипнотическое восхищение. То есть они пришли к человеку, прямо обратившись к чувству и чувственному воображению. В большинстве религий таинства отождествлялись с высочайшими областями искусства, а наиболее авторитетные верования были облачены в торжественные одеяния и процессии, которые прямо услаждают взгляд и слух, вызывая сильнейшие эмоции: удивление, восторг и благоговение. И сегодня смелые теории физиков и астрономов отвечают эстетической потребности в удовлетворении воображения, а не сухой и строгой нужде в неэмоциональном подтверждении рациональной схемы.
Генри Адамc показал, что теология в Средневековье являлась конструкцией, основанной на том же намерении, что создало соборы. В целом Средневековье, в западном мире считающееся вершиной христианской веры, выступает доказательством способности чувства поглощать как нельзя более высокие духовные идеи. Музыка, живопись, скульптура, архитектура, драма и рыцарский роман – все они стали слугами религии, так же как наука и ученость. Искусства практически не существовали вне церкви, а церковные ритуалы и церемонии проводились в условиях, позволявших им оказывать наибольшее воздействие на эмоции и воображение. Дело в том, что я не знаю, что может вызвать в зрителе и слушателе того или иного проявления искусств большее потрясение, чем убежденность в том, что сама их форма определяется как необходимое средство достижения вечной славы и блаженства.
В этой связи следует привести следующие слова Уолтера Патера:
Христианство Средневековья прокладывало себе путь за счет эстетической красоты, глубоко ощущавшейся авторами латинских гимнов, находившими сотни чувственных образов для одного морального или духовного чувства. Страсть, не способная найти себе выхода, поскольку он запечатан, порождает нервное напряжение, заставляющее чувственный мир представляться человеку в еще большем блеске и рельефности: все красное превращается в кровь, вода – в слезы. Отсюда дикая, судорожная чувственность, заметная во всей средневековой поэзии, в которой природные вещи стали играть роль странную и фантастическую. Средневековый ум глубоко прочувствовал природные вещи, но его чувство было не объективным, оно не было реальным выходом в тот мир, который существует без нас.
В своем автобиографическом эссе «Дитя в доме» он обобщает то, что подразумевается в этом отрывке:
В более поздние годы он набрел на направления философии, весьма заинтересовавшие его оценкой соотношения чувственного и идеального как элементов человеческого знания, их долей в нем; в своей интеллектуальной конструкции он стал приписывать весьма немногое абстрактному мышлению и многое – чувственному носителю или поводу. [Последний] стал обязательным сопровождением любого восприятия вещей, достаточно реального, чтобы иметь какой-либо вес или счет в доме его мысли… Он все больше терял способность заботиться или думать о душе, если только она не в реальном теле, или о мире, если только в нем нет воды и деревьев, где люди выглядят так-то и так-то и жмут друг другу руки.
Возвышение идеала, вынесенного за пределы непосредственного чувства, привело не только к тому, что он стал блеклым и бескровным, но и, словно бы в заговоре с чувственным умом, к обеднению и вырождению всех вещей непосредственного опыта.
В названии этой главы я позволил себе позаимствовать у Китса слово «неосязаемый» [etherial – эфирный] для обозначения смыслов и ценностей, которые многие философы и некоторые критики считают недоступными для чувства в силу их духовных, вечных и всеобщих качеств – чем дают еще один пример общераспространенного дуализма природы и духа. Позвольте мне процитировать его слова. Художник может «смотреть на солнце, на луну, на звезды, на землю со всем тем, что она содержит, как на материал для формовки еще более великого, то есть неосязаемого [etherial things], – для создания более великого, нежели созданное самим Творцом»[4]. Приводя эти слова Китса, я также подумал о том, что он отождествил установку художники и живого существа; причем не только неявно, в своей поэзии, но и в размышлении, выражающем эту идею совершенно открыто. В письме брату он писал:
Большинство людей прокладывают себе путь в жизни так же бессознательно, так же не спуская глаз с преследуемой ими цели, с той же животной одержимостью, как и ястреб. Ястреб ищет себе пару – человек тоже: поглядите, как оба пускаются на поиск и как оба добиваются успеха – способы совсем одинаковы. Оба нуждаются в гнезде – и оба одинаковым способом устраивают его себе, одинаковым способом добывая пропитание. Человек, это благородное создание, для развлечения покуривает трубочку, ястреб качается на крыльях под облаками – вот и вся разница в их досужем времяпрепровождении. В этом-то и заключается наслаждение жизнью для ума, склонного к размышлениям. Я прохожу по полям и ненароком подмечаю в пожухлой траве суслика или полевую мышь, выглядывающую из-за стебелька: у этого существа есть своя цель – и глаза его горят от предвкушения. Я прохожу по городским улицам и замечаю торопливо шагающего человека – куда он спешит? У этого существа тоже есть своя цель – и глаза его горят от предвкушения ‹…›.
И пусть сам я точно так же следую инстинкту, как и любое человеческое существо, но я еще молод, пишу наобум, впиваюсь до боли в глазах в непроглядную тьму, силясь различить в ней хоть малейшие проблески света, не ведая смысла чужих мнений и выводов. Неужели я в этом не свободен от греха? Разве не может быть так, что неким высшим существам доставляет удовольствие искусный поворот мысли, удавшийся – пускай и безотчетно – моему разуму, как забавляет меня самого проворство суслика или прыжок встревоженного оленя? Уличная драка не может не внушать отвращения, однако энергия, проявленная ее участниками, взывает к чувству прекрасного: в потасовке даже самый заурядный простолюдин показывает свою ловкость. Для высшего существа наши рассуждения могут выглядеть чем-то подобным: пусть даже ошибочные, они тем не менее прекрасны сами по себе. Именно в этом заключается сущность поэзии; если же это так, то философия прекраснее поэзии – по той же причине, по которой истина прекраснее парящего в небесах орла. То есть рассуждения, когда они принимают инстинктивную форму, подобную животным формам и движениям, сами являются поэзией, приобретая изящество и грацию[5].
В другом письме он говорит о Шекспире как о человеке огромной «Негативной Способности» – способности человека, который «предается сомнениям, неуверенности, догадкам, не гонясь нудным образом за фактами и не придерживаясь трезвой рассудительности»[6]. Он сравнивает в этом отношении Шекспира со своим современником Кольриджем, готовым упустить эстетическое прозрение, если оно было окружено неясностью, поскольку он не в состоянии его интеллектуально объяснить. По словам Китса, он не мог довольствоваться «неполнотой знания» [half-knowledge – полузнанием]. Я думаю, та же идея содержится в его письме к Бейли, где он говорит, что «до сих пор не в состоянии постигнуть, каким образом можно прийти к истине путем логических рассуждений… Неужели даже величайшим философам удавалось достичь цели, не отстранив от себя множества противоречий?»[7] – то есть он спрашивает о том, не должен ли рассуждающий доверять также и своим «интуициям», тому, что приходит к нему в его непосредственном чувственном и эмоциональном опыте, даже вопреки возражениям, подсказываемым ему размышлением. Далее он говорит, что «человек, наделенный даже не слишком богатым воображением, вознаграждается тем, что тайная работа фантазии то и дело озаряет его душу»[8] – и в этом замечании больше психологии продуктивной мысли, чем во множестве трактатов.
Несмотря на эллиптичность замечаний Китса, в них выделяются два момента. Первый – его убежденность в том, что у рассуждений, или «философии», тот же корень, что и у движений дикого животного, стремящегося к своей цели, что они могут быть спонтанными, «инстинктивными», а если они становятся инстинктивными, то, значит, и чувственными, непосредственными, поэтическими. Другой момент – его вера в то, что ни одно «рассуждение» как одно лишь рассуждение, исключающее воображение и чувство, не может достичь истины. Даже «величайшие философы» руководствуются своего рода животным предпочтением, направляющим их мышление к их выводам. Философ отбирает и отклоняет те или иные вещи в самом движении его воображения и чувств. «Разум» в своей высшей точке не может достичь полного постижения и полной уверенности. Он должен обратиться к воображению – к воплощенности идей в эмоционально нагруженном чувстве.
Было много споров о том, что Китс имел в виду в своих известных строках: «Красота есть истина, истинна красота – это все, /Что вы знаете на земле, и все, что вам нужно знать» («Beauty is truth, truth beauty – that is all /Ye know on earth, and all ye need to know»), и в близком по смыслу прозаическом замечании: «То, что воображению предстает как красота, должно быть истиной»[9]. По большей части спор вели люди, ничего не знающие о той традиции, к которой Китс принадлежал, и о характерном для этой традиции значении термина «истина». В ней «истина» никогда не означает правильности интеллектуальных утверждений о вещах, то есть истину в смысле, сегодня обусловленном влиянием науки. Она обозначает мудрость, коей живут люди, особенно знание о добре и зле. И у Китса она была особенно тесно связана с вопросом оправдания добра и доверия ему, несмотря на все зло и разрушения в окружающем нас мире. «Философия» – это попытка дать на этот вопрос рациональный ответ. Вера Китса в то, что даже философы не могут решить этот вопрос, отбросив прозрения воображения, получает независимое и положительное выражение в отождествлении у него «красоты» и «истины» – особой истины, позволяющей человеку решить угнетающую его проблему уничтожения и смерти (столь для Китса тяжелую), в той самой сфере, где смерть стремится утвердить свое превосходство. Человек живет в мире догадок, тайн, неопределенности. «Рассуждение» непременно его подведет – и именно этому издавна учили те, кто отстаивал необходимость божественного откровения. Китс не принял этого дополнения разума откровением и его замены им. Должно хватить и прозрения, даруемого воображением. «Это все, / Что вы знаете на земле, и все, что вам нужно знать». Ключевое слово – «на земле», то есть на сцене, где нудная погоня «за фактами и трезвой рассудительностью» лишь смущает и сбивает с толку, вместо того чтобы вывести нас к свету. И именно в мгновениях сильнейшего эстетического восприятия Китс находил свое величайшее утешение и свои глубочайшие убеждения. Это и было записано им в конце его «Оды к греческой вазе». В конечном счете есть лишь две философии. И одна из них принимает жизнь и опыт во всей их неопределенности, тайне, сомнении и неполном знании, обращая этот опыт на него самого, чтобы углубить и усилить его собственные качества в воображении и искусстве. Такова философия Шекспира и Китса.
3
Обладание опытом
ОПЫТ возникает постоянно, поскольку взаимодействием живого существа и условий среды определяется сам процесс жизни. В условиях сопротивления и конфликта аспекты и элементы субъекта и мира, участвующие в этом взаимодействии, окрашивают опыт эмоциями и идеями, так что возникает осознанное намерение. Однако часто полученный опыт остается неопределенным и всего лишь зачаточным. Вещи переживаются в опыте, но не так, чтобы они сложились в определенный опыт. Что-то отвлекает нас и рассеивает. То, что мы наблюдаем и мыслим, что желаем и получаем, расходится друг с другом. Мы кладем руки на плуг, но поворачиваем обратно; мы начинаем, а потом останавливаемся, но не потому, что опыт достиг своего завершения, ради которого он и был начат, но в силу внешних мешающих факторов или из-за внутреннего оцепенения.
В противоположность такому опыту мы действительно получаем определенный опыт, когда материал, переживаемый в нем, проходит путь до завершения. Тогда и только тогда он складывается в пределах общего потока опыта и приобретает отличие от какого-то другого опыта. Например, часть работы достигает удовлетворительного завершения; проблема находит свое решение; игра разыгрывается; ситуация (например, обед, шахматная партия, разговор, чтение книги или участие в политической кампании) заканчивается так, что ее завершение оказывается кульминацией, а не просто прекращением. Подобный опыт представляет собой целое, он несет в себе свое собственное индивидуализирующее качество, обладает самодостаточностью. Это и есть определенный опыт.
Философы, даже эмпирики, по больше части говорили об опыте в целом. Однако в обычной речи под опытом обычно подразумевается нечто единичное, что-то такое, у чего есть начало и конец. Ведь жизнь – это не единообразное шествие или поток. Она состоит из историй, каждая из которых обладает своим сюжетом, началом и движением, ведущим к развязке, своей ритмической поступью, наконец, своим неповторимым качеством, пронизывающим всю ее целиком. Лестничный пролет, каким бы механическим он ни был, функционирует за счет индивидуальных ступенек, а не монотонного продвижения, и точно так же наклонная плоскость отличается от других своим резким отклонением.
В этом живом смысле опыт определяется ситуациями и эпизодами, обычно называемыми нами «реальным опытом» – то есть вещами, о которых мы, вспоминая из, говорим: «Вот это был опыт». Он может быть чрезвычайно важным – такова ссора с близким ранее человеком или едва не случившаяся катастрофа. Или это может быть нечто сравнительно малозначительное – что, возможно, именно по причине этой своей незначительности еще лучше иллюстрирует, что такое опыт. Например, об обеде в Париже можно сказать, что «это был настоящий опыт». Он выделяется в качестве устойчивого напоминания о том, какой может быть еда. Или взять шторм, пережитый при пересечении Атлантики, – казалось, что в его ярости, испытанной в нашем опыте, выражено все то, чем вообще может быть шторм, что в нем заключено полное выражение, а потому он отличен от всего того, что было до и после.
В опыте такого вида каждая последующая часть свободно втекает, без разрывов или незаполненных пробелов, в то, что следует за ней. В это же время части не жертвуют собой. Река, если она отличается от пруда, течет. Однако речной поток наделяет определенностью и делает интересными ее следующие друг за другом участки в большей мере, чем однородные части пруда. В опыте поток всегда движется от чего-то к чему-то. Поскольку одна часть ведет к другой и одна несет то, что пришло прежде, каждая приобретает отличие, ее выделяющее. Сохраняющееся же целое становится многоразличным благодаря последовательным фазам, которые, по сути, акцентуация его различных окрасок.
В силу такого постоянного слияния не может быть зазоров, механических стыков, неподвижных центров, когда у нас действительно есть определенный опыт. В нем есть паузы, точки покоя, однако они размечают и определяют качество движения. Они резюмируют то, что произошло, и предупреждают распыление произошедшего и его праздное исчезновение. Непрерывное ускорение задыхается, мешая частям приобрести отличие. В произведении искусства различные акты, эпизоды и события сливаются друг с другом в единство, однако они не исчезают, не теряют при этом своего собственного характера – так же как в подлинной беседе постоянно идет обмен мыслями, которые сливаются друг с другом, однако каждый участник не только сохраняет свой характер, но и проявляет его даже в большей степени, чем обычно.
Опыт обладает единством, наделяющим его именем, а потому мы говорим тот обед, тот шторм, тот разрыв отношений. Наличие такого единства определяется единичным качеством, пронизывающим весь опыт, несмотря на различия составляющих его частей. Такое единство не является ни эмоциональным, ни практическим, ни интеллектуальным, поскольку все эти термины именуют различия, проводимыми в нем рефлексией. В речи об опыте мы должны применять эпитеты, его так или иначе интерпретирующие. Когда мы обдумаем опыт после того, как он состоялся, то, возможно, обнаружим, что какое-то одно качество господствовало в нем, и поэтому оно характеризует весь этот опыт в целом. Бывают такие захватывающие исследования и размышления, которые ученый или философ в своих воспоминаниях тоже может назвать «опытами», подчеркнув тем самым их качество. Они были целенаправленными проявлениями воли. Однако сам опыт не был суммой этих различных характеристик – последние как различительные черты в нем терялись. Ни один мыслитель не может заниматься своим делом, если только его не притягивает к себе совокупный опыт, ценный сам по себе и внутри себя, и если опыт сам по себе не служит ему наградой. Без такого опыта он просто никогда бы не знал, о чем на самом деле надо думать, и просто не смог бы отличить реальную мысль от надуманной. Мышление осуществляется связями идей, однако идеи образуют связь только потому, что они намного больше того, что называется идеями в аналитической философии. Это фазы развивающегося основного качества, отличающиеся друг от друга эмоционально и практически; они суть его подвижные вариации – не отдельные и независимые, как идеи и впечатления в теориях Локка и Юма, а тонкие градации всепроникающей и постепенно развивающейся тональности.
Об опыте мышления мы можем сказать, что достигли заключения или сделали вывод. Теоретическая формула этого процесса часто составляется так, что в ней скрывается сходство «вывода» с кульминационной фазой любого совокупного опыта, проходящего определенное развитие. Такие формулы, как может показаться, опираются на единичные суждения, то есть посылки, и суждение, представляющееся выводом, – в той именно форме, в которой приводятся на печатной странице. Отсюда впечатление, что сначала есть две независимые, уже готовые единицы, которые потом подвергаются определенной манипуляции, чтобы возникла третья. На самом деле в опыте мышления посылки проявляются только тогда, когда вывод сам становится очевидным. Этот опыт, подобно наблюдению усиливающегося, а потом постепенно стихающего шторма, – опыт непрерывного движения предметов (subject-matters). Подобно океану во время шторма, в нем тоже есть волны, накатывающие друг за другом; одни предположения разбиваются, сталкиваясь друг с другом, другие уносятся вперед, оседлав волну. И если вывод действительно достигается, это вывод движения предвосхищения и накопления, приходящего в конечном счете к завершению. «Вывод» – не что-то отдельное и независимое, это кульминация движения.
А потому определенный опыт мышления обладает своим собственным эстетическим качеством. Он отличается от опыта, признаваемого эстетическим, но только по своему материалу. Материал изящных искусств состоит из качеств. Материал опыта, обладающего интеллектуальным заключением, представляет собой знаки и символы, не имеющие собственного внутреннего качества, но они обозначают вещи, способные качественно переживаться в другом опыте. Это очень существенное различие. И оно является одной из причин, объясняющих, почему строго интеллектуальное искусство никогда не будет столь же популярным, что и музыка. Тем не менее сам опыт обладает эмоциональным качеством, приносящим удовольствие, когда ему присущи внутренняя целостность и завершенность, достигаемые в ходе упорядоченного и организованного движения. Эта художественная структура может стать предметом непосредственного ощущения. И в этой мере она оказывается эстетической. Но еще более важно не только то, что такое качество – это важный мотив для занятий интеллектуальными изысканиями и их честного проведения, но и то, что никакая интеллектуальная деятельность не может быть целостным событием (или определенным опытом), если она не замыкается таким качеством. Без него мышление остается незавершенным, лишенным вывода. Словом, эстетическое не может четко отличаться от интеллектуального опыта, поскольку последний, чтобы быть полным, должен нести на себе эстетическую печать.
То же утверждение относится и к цепочке действий, остающейся в основном практической, то есть состоящей из дел того или иного рода. Можно быть эффективным в своих действиях, но не осознавать их в опыте. Такая деятельность оказывается слишком автоматической, чтобы допустить ощущение того, зачем она нужна и что происходит. Она приходит к концу, но не к завершению или кульминации в сознании. Умелый навык преодолевает препятствия, однако они не питают собой опыт. Есть колеблющиеся, неуверенные люди, не способные прийти ни к чему определенному, – таковы сложные герои классической литературы. Между полюсами бесцельности и механической эффективности как раз и пролегают те цепочки действий, в которых сквозь последовательность дел проходит чувство растущего смысла, сохраняемого и собираемого к концу, переживаемого в качестве завершения процесса. В успешных политиках и военачальниках, ставших такими государственными деятелями, как Цезарь или Наполеон, есть что-то от устроителя публичных представлений. Само по себе это не искусство, однако это, я думаю, признак того, что интерес тут не только в самом результате (как было бы в случае простой эффективности), но и в результате как исходе процесса. То есть интерес представляет завершенность опыта. Опыт может оказаться вредным миру, а его завершение нежелательным. Однако у него всего равно есть эстетическое качество.
Отождествление греками хорошего поведения с таким поведением, что обладает грацией, гармонией и соразмерностью, то есть с kalon-agathon, – более очевидный пример специфически эстетического качества в моральном действии. Важный недостаток того, что считается моралью, заключается в ее бесчувственности. Вместо того чтобы приводить примеры беззаветности, она приобретает форму уступок требованиям долга, уступок частичных и вынужденных. Однако иллюстрации могут лишь затемнить тот факт, что любая практическая деятельность, если только она целостна и движется под воздействием своего собственного влечения к осуществлению, будет обладать эстетическим качеством.
Общую иллюстрацию можно привести, если мы представим камень, катящийся с холма и обладающий опытом. Такая деятельность определенно является достаточно «практической». Камень с чего-то начинает и движется – с постоянством, допускаемым обстоятельствами, – к месту или состоянию, где он будет покоиться, то есть к завершению. Добавим в нашем воображении к этим внешним фактам представление о том, что камень стремится к этому конечному результату в своем желании; что он проявляет интерес к вещам, встретившимся ему на пути, к условиям, ускоряющим или замедляющим его движение к конечной точке; что он действует и ощущает их соответственно тому, какую функцию он им приписывает – помощников или препятствий; и что достижение им окончательного состояния покоя соотносится со всем тем, что произошло раньше, представляясь кульминацией непрерывного движения. В таком случае у камня действительно будет опыт, причем обладающий эстетическим качеством.
Если мы вернемся от этого воображаемого случая к нашему собственному опыту, то обнаружим, что он скорее ближе к тому, что случается с обычным камнем, чем к тому, что удовлетворяет условиям вышеизложенной фантазии. Ведь по большей части в нашем опыте мы не озабочены связью одного события с тем, что произошло раньше, и с тем, что случится потом. У нас нет интереса, который бы руководил внимательным отвержением или отбором того, что будет организовано в виде развивающегося опыта. Вещи случаются, однако они не полностью включаются в опыт и не вполне исключаются – мы просто плывем по течению. Мы поддаемся внешнему давлению или избегаем его, идем на компромисс. Что-то начинается и заканчивается, но без истинного начинания и завершения. Одна вещь приходит на смену другой, однако не поглощает ее и не несет дальше. Опыт есть, но настолько вялый и рассудочный, что не составляет какого-то одного опыта. Нет нужды говорить, что такой опыт не является эстетическим.
Следовательно, неэстетическое ограничено двумя пределами. Один полюс – это произвольное следование одного за другим, которое не начинается и не заканчивается (то есть прекращается) в каком-то определенном месте. Другой полюс – остановка, сжатие, происходящее из-за того, что отдельные части связаны друг с другом лишь механически. Примеров двух этих типов опыта настолько много, что бессознательно они стали считаться нормой всякого опыта. Когда же впоследствии обнаруживается эстетическое, оно настолько резко отличается от уже созданной картины опыта, что просто невозможно совместить его специфические качества с этой картиной, а потому эстетическому отводится внешнее место и внешний статус. Описание преимущественно интеллектуального и практического опыта было дано для того, чтобы показать, что не существует такого отличия в самом обладании опытом; что, напротив, ни один опыт какого угодного рода не может представлять собой единства, если только он не обладает эстетическим качеством.
Врагами эстетического не являются ни практика, ни интеллект. Враги – это рутина, разбросанность того, что невозможно собрать, подчинение привычности в практике и интеллектуальном действии. С одной стороны, закостенелость, вынужденное подчинение, зажатость и, с другой – разбросанность, бессвязность и бесцельная расслабленность – вот отклонения, уводящие в противоположные направления от единства опыта. Некоторые из этих соображений, возможно, навели Аристотеля на мысль о «середине между крайностями» как истинном обозначении того, что отличает и добродетель, и эстетику. В формальном смысле слова он был прав. Однако «среднее» и «крайности» – термины сами по себе неясные, и их нельзя понимать в математическом понимании, им предпосланном, ведь они суть качества, принадлежащие опыту, движущемуся к собственной кульминации.
Я подчеркнул то, что каждый цельный опыт движется к развязке, концовке, поскольку он прекращается только тогда, когда действующие в нем энергии завершили свою собственную работу. Такое замыкание круга энергий представляет собой противоположность остановки, или stasis. Созревание и остановка – полярные противоположности. Борьба и конфликт могут сами по себе приносить удовольствие, хотя они и болезненны, когда переживаются в опыте как средство развития опыта и когда содействуют его продвижению, а не просто потому, что они есть. Как станет ясно позднее, в каждом опыте есть составляющая претерпевания и страдания в широком смысле слова. Иначе бы не было и вбирания того, что предшествовало. Ведь «вбирать» в любом живом опыте – значит не просто помещать ту или иную вещь на вершину сознания, где она дополняет то, что уже известно. Для вбирания требуется реконструировать то, что может оказаться болезненным. Какой будет эта неизбежная фаза претерпевания – приятной или болезненной, зависит от конкретных обстоятельств. Для общего эстетического качества это неважно, если не считать того, что немного найдется действительно сильных примеров эстетического опыта, полностью исчерпывающихся радостью. Причем их определенно нельзя назвать забавными – обрушиваясь на нас, они уже подразумевают страдание, не противоречащее, однако, полному восприятию, приносящему удовольствие, и на самом деле составляющее его часть.
Я говорил об эстетическом качестве, которое завершает опыт, сообщая ему полноту и единство, вследствие чего он испытывается как опыт эмоциональный. Это замечание может создать определенные сложности. Мы привыкли думать об эмоциях как о простых и компактных вещах, напоминающих именующие их слова. Радость, горе, страх, злость, любопытство – все они, считается, представляют собой своего рода единства, выходящие на сцену в готовом виде, то есть сущности, способные занимать большое время или малое, но их длительность, рост и развитие не имеют значения для их природы. На самом же деле эмоции, когда они значимы, – это качества сложного, движущегося и меняющегося, опыта. Я специально говорю: «…когда они значимы», поскольку в противном случае они просто выплески или вспышки недовольного ребенка. Все эмоции представляют собой качественные определения некоей драмы, и они сами меняются по мере ее развития. Говорят, что иногда люди влюбляются с первого взгляда. Однако их любовь возникает не в одно-единственное мгновение. Чем была бы любовь, если бы она сжималась в один момент, не оставляя места для ласки и заботы? Внутренняя природа эмоции проявляется в опыте зрителя сценической постановки или читателя романа. Такой опыт следует за развитием сюжета, а сюжет требует сцены, пространства, чтобы развиться, и времени, чтобы развернуться. Опыт эмоционален, но в нем нет отдельных вещей, называемых эмоциями.
Точно так же эмоции подсоединяются к событиям и объектам в их движении. Они не являются, если не считать патологических случаев, частными. И даже «безобъектная» эмоция требует чего-то помимо себя, к чему она может прикрепиться, а потому в отсутствие чего-то реального она может породить бредовое состояние. Эмоция определенно принадлежит субъекту. Однако она принадлежит лишь тому субъекту, что озабочен движением событий к определенному исходу, желанному или неприятному. Когда мы чего-то пугаемся, мы подпрыгиваем, а когда стыдимся, то краснеем. Однако испуг и пристыженная скромность не являются в данном случае эмоциональными состояниями. Сами по себе они лишь автоматические рефлексы. Чтобы стать эмоциями, они должны стать частью включающей их в себя устойчивой ситуации, требующей внимания к объектам и их исходам. Подпрыгивание от испуга становится эмоциональным страхом, когда обнаруживается или предугадывается опасный объект, которому надо дать отпор или убежать от него. Краска стыда становится эмоцией, когда человек в своей мысли связывает совершенное им действие с неблагосклонной реакцией на него других людей.
Мы собираем физические вещи из разных уголков земли и приводим их в движение, чтобы они подействовали друг на друга, за счет чего создается новый объект. Чудо разума состоит в том, что нечто подобное происходит и в опыте, но без физического перемещения или собирания. Эмоция – движущая и скрепляющая сила. Она отбирает то, что сходится в целое, и окрашивает отобранное своим цветом, тем самым наделяя качественным единством материалы, внешне кажущиеся разрозненными и непохожими. Таким образом она наделяет разные части опыта единством, реализующимся благодаря им. Когда единство действительно таково, как мы только что описали, опыт приобретает эстетическое качество, даже если сам по себе он не является собственно эстетическим опытом.
Вот встретились два человека: один – кандидат на определенное рабочее место, тогда как другой – наниматель, нуждающийся в работнике на этом месте. Собеседование может быть механическим, то есть состоять из условных вопросов и ответов, позволяющих решить проблему, но совершенно формально. Здесь нет опыта встречи двух людей, нет ничего, кроме повторения – в принятии или отвержении, – того, что случалось множество раз. Ситуация решается так, как если бы это было простое бухгалтерское дело. Однако может возникнуть и такое взаимодействие, в котором развивается новый опыт. Где нам тогда искать объяснение такого опыта? Точно не в бухгалтерских книгах и даже не в трактатах по экономике, социологии или психологии рабочего персонала, но в драматургии и литературе. Природа такого опыта и его смысл могут выражаться только искусством, поскольку единство опыта таково, что оно само может выражаться только определенным опытом. Опыт – это опыт материала, полного неопределенности и движущегося к своей кульминации через ряд связанных событий. Эмоциями кандидата на рабочее место первоначально могли быть надежда или отчаяния, а к концу разговора – воодушевление или разочарование. Такие эмоции характеризуют опыт как единство. Но по мере движения собеседования развиваются и вторичные эмоции, являющиеся вариациями первичных. Более того, каждая установка и жест, каждое высказывание и едва ли не каждое слово само может произвести не просто колебание в силе основной эмоции, но и перемену в тональности или окраске ее качества. Работодатель благодаря своим собственным эмоциональным реакциям видит характер кандидата. В своем воображении он ставит его на рабочее место, где тот должен будет работать, и судит, насколько он подходит для него, обращая внимания на то, как соотносятся друг с другом элементы представленной им сцены: стыкуются или, наоборот, несочетаемы. Присутствие и поведение претендента либо сходятся с его собственными установками и желаниями, либо конфликтуют с ними и расходятся. Подобные факторы, по своему качеству безусловно эстетические, суть силы, доводящие различные элементы собеседования до решающего исхода. Они вступают в разрешение каждой, какова бы ни была ее природа, ситуации, где присутствуют неопределенность и интрига.
* * *
В разных видах опыта есть общие паттерны, независимо от того, как они отличаются друг от друга в своем предмете. Должны быть выполнены определенные условия, иначе опыт не состоится. Общая схема этого паттерна определяется тем, что каждый опыт – результат взаимодействия живого существа и какого-то аспекта мира, в котором оно живет. Вот человек делает что-то, например поднимает камень. В результате он что-то претерпевает, переживает: вес, напряжение, текстуру поверхности поднятой вещи. Испытанные таким образом качества определяют дальнейшее действие. Камень слишком тяжелый или слишком ребристый, недостаточно прочный. Либо испытанные качества показывают, что он подходит для применения, намеченного для него. Этот процесс продолжается, пока не возникнет взаимного приспособления субъекта и объекта и пока этот конкретный опыт не придет к завершению. То, что относится к этому простому примеру, относится и к форме всякого опыта. Таким действующим существом может быть мыслитель в своем кабинете, и среда, с которой он взаимодействует, может состоять из идей, а не камней. Однако взаимодействие одного и другого составляет полный состоявшийся опыт, тогда как завершающая его развязка – это достижение ощущаемой гармонии.
Опыт обладает паттерном и структурой, поскольку это не просто чередование действия и претерпевания, он состоит из одного и другого в их отношении. Засунуть руку в обжигающий огонь – это не значит непременно получить опыт. Действие и его последствие должны объединяться в восприятии. Именно это отношение наделяет смыслом. Постичь его – задача всякого интеллекта. Объем и содержание отношений служат мерой значимого содержания того или иного опыта. Опыт ребенка может быть очень сильным, однако из-за отсутствия у него фона предшествующего опыта отношения между претерпеванием и действием едва ли им понимаются, так что его опыт не имеет существенной глубины или широты. Никто не может достичь такой зрелости, чтобы он мог воспринять все связи, включенные в опыт. У Чарльза Говарда Хинтона был роман под названием «Разучивающийся» (The Unlearner), повествующий о бесконечной длительности жизни после смерти, которая заключается в проживании всех событий, произошедших в короткий промежуток жизни на земле, и в непрерывном раскрытии всех отношений между этими событиями.
Опыт сужается всеми факторами, вмешивающимися в восприятие отношений между претерпеванием и действием. Вмешательство может возникнуть из-за избытка действия или избытка восприимчивости, то есть претерпевания. Сдвиг равновесия в ту или иную сторону затуманивает восприятие отношений, так что опыт остается частичным и искаженным, с недостаточным или ложным смыслом. Усердие, страсть к действию обрекает многих людей, особенно в той торопливой человеческой среде, в которой мы живем, на невероятно бедный и поверхностный опыт. Никакой опыт не может завершиться, поскольку с неимоверной скоростью тут же наступает что-то еще. То, что называется опытом, становится настолько рассеянным и разнородным, что вряд ли даже заслуживает такого именования. Сопротивление рассматривается в качестве препятствия, которое надо сровнять с землей, а не как приглашение к размышлению. Человек начинает искать, скорее даже бессознательно, чем в результате осознанного решения, ситуации, позволяющие ему сделать за кратчайшее время наибольшее число вещей.
Также опыту не дает созреть избыток восприимчивости. Ценится в таком случае простое претерпевание то одного, то другого, независимо от восприятия какого-либо смысла. Сваливание в одну кучу как можно большего числа впечатлений считается «жизнью», хотя, по сути, это лишь урывки и обрывки. В сознании сентименталиста или вечного мечтателя, возможно, проносится больше фантазий и впечатлений, чем у человека, живущего страстью к действию. Однако его опыт в равной мере искажен, поскольку ничто не может закрепиться в уме, когда нет равновесия между действием и претерпеванием. Чтобы вступить в контакт с реальными вещами мира, необходимо какое-то решающее действие – и только так впечатления могут соотнестись с фактами, что позволит проверить и организовать их ценность.
Поскольку восприятие отношений между тем, что сделано, и тем, что испытано, составляет работу ума, и поскольку художник в процессе своего труда руководствуется своим пониманием связи между уже сделанным и тем, что он должен сделать дальше, представление о том, что художник не мыслит столь же целенаправленно и проникновенно, как исследователь-ученый, просто нелепо. Художник должен сознательно переживать воздействие каждого своего мазка, иначе он просто не поймет, что делает и куда движется его работа. Кроме того, он должен видеть каждую связь между действием и претерпеванием, соотнося ее с создаваемым им целым. Воспринимать такие связи – и значит мыслить, и это одна из наиболее требовательных разновидностей мышления. Различие между картинами разных художников обусловлено не только разной чувствительностью к цвету как таковому и отличиями в ловкости исполнения, но и разницей в способности длить эту мысль. Что касается базового качества картин, в действительности различие больше зависит от качества интеллекта, обращенного на восприятие отношений, чем от чего-либо другого, хотя, конечно, интеллект нельзя отделять от непосредственной чувствительности; к тому же он связан, хотя и более внешним образом, с умением.
Любое представление, игнорирующее роль интеллекта в создании произведений искусства, основано на отождествлении мышления с применением материала особого рода, а именно вербальных знаков и слов. По-настоящему мыслить в категориях отношений качеств – столь же суровое требование к мышлению как таковому, что и мыслить в категориях символов, вербальных и математических. И в самом деле, поскольку словами легко манипулировать механически, производство истинного произведения искусства, вероятно, требует больше интеллекта, чем значительная часть так называемого мышления, практикуемого теми, кто величают себя интеллектуалами.
* * *
Я попытался в этих главах показать, что эстетическое – это не нечто вторгающееся в опыт извне, будь то в виде праздной роскоши или трансцендентного идеала, что оно на самом деле представляет собой прояснение и усиление черт, присущих всякому нормально завершенному опыту. Этот факт я считаю единственным надежным основанием для построения эстетической теории. Остается указать на некоторые следствия этого основополагающего факта.
В английском языке нет слова, недвусмысленно включающего в себя то, что обозначается двумя словами – «художественное» (artistic) и «эстетическое». Поскольку «художественное» означает прежде всего акт производства, а «эстетическое» – акт восприятия и наслаждения, отсутствие термина, указывающего на оба этих процесса вместе, – обстоятельство, безусловно, досадное. Порой это ведет к отделению одного от другого, то есть искусство начинает рассматриваться в качестве чего-то внешне навязанного эстетическому материалу, или, с другой стороны, к представлению о том, что, поскольку искусство – процесс творчества, его восприятие и наслаждение им не имеют никакого отношения к собственно творческому акту. Так или иначе, возникает определенная словесная неловкость, когда мы вынуждены в одних случаях использовать термин «эстетическое» для обозначения всего этого пространства как такового, а в других – ограничивать его лишь восприятием как одним из аспектов всей операции в целом. Я указываю на эти очевидные факты как на предварительные условия демонстрации того, как концепция сознательного опыта, понимаемого в качестве воспринятого отношения между действием и претерпеванием, позволяет нам понять связь между искусством как производством и восприятием и оценкой как удовольствием.
Искусство обозначает процесс делания или создания. Это относится как к изящным искусствам, так и к техническим. Искусство включает в себя заливку глины в форму, обтесывание мрамора, отливку бронзы, накладывание красок, строительство зданий, исполнение песен, игру на музыкальных инструментах, исполнение роли на сцене и ритмических движений в танце. Каждое искусство делает нечто с определенным физическим материалом, телом или чем-то вне тела, применяя какие-то инструменты или обходясь без оных, но с целью произвести нечто видимое, слышимое или ощутимое. Активная или «деятельная» фаза искусства настолько выделяется, что в словарях оно часто определяется как умелое действие, как способность, применяемая на практике. Так, Оксфордский словарь приводит в качестве иллюстрации цитату из Джона Стюарта Милля: «Искусство – это попытка достичь совершенства в исполнении», тогда как Мэтью Арнольд называл его «чистым и безупречным ремесленничеством».
Слово «эстетическое» означает, как мы уже отметили, опыт как опыт оценки, восприятия и удовольствия. То есть оно обозначает точку зрения потребителя, а не производителя. Это удовольствие, вкус. Как в приготовлении еды умелое действие – удел готовящего еду повара, а вкус – потребителя, и точно так же есть различие между садовником, выращивающим и окучивающим растения, и владельцем дома, наслаждающимся законченным продуктом.
Сами эти иллюстрации, однако, как и отношение в опыте между действием и претерпеванием, указывают на то, что различие эстетического и художественного нельзя доводить до их разделения. Совершенство в исполнении не может измеряться или определяться только самим исполнением, оно предполагает еще и тех, кто воспринимает созданный результат или получает от него удовольствие. Повар готовит еду для потребителя, и мера ценности приготовленного обнаруживается в потреблении. Вероятно, простого совершенства в исполнении, если судить о нем независимо от всего остального, способна достичь скорее машина, чем человеческое искусство. Само по себе оно сводится в основном к технике: есть великие художники, не добившиеся высшей степени технического совершенства (о чем свидетельствует творчество Сезанна), и в то же время есть великие пианисты, не достигшие эстетического величия. По тем же самым причинам Джон Сарджент не может считаться великим художником.
Чтобы ремесленничество стало в конечном смысле художественным, оно должно исполняться с «любовью», оно должно подлинно заботиться о предмете приложения мастерства. Тут можно привести пример скульптора, создающего бюсты, отличающиеся необычайной точностью. Если сфотографировать один из таких бюстов и человека, послужившего моделью, по фотографиям будет трудно сказать, где был сфотографирован человек, а где – скульптура. В плане виртуозности такие бюсты весьма примечательны. Однако можно усомниться в том, что их создатель обладал собственным опытом, которым хотел бы поделиться с теми, кто будет взирать на плоды его деятельности. Чтобы произведение было по-настоящему художественным, оно должно быть эстетическим, то есть быть помещено в рамку вдумчивого восприятия, приносящего удовольствие. Создателю, когда он что-то производит, нужно, разумеется, постоянно наблюдать. Однако если его восприятие по своей природе не эстетическое, значит, это бесцветное и холодное признание сделанного, используемое в качестве стимула для шага в процессе, по сути являющемся механическим.
Одним словом, искусство в самой своей форме объединяет то самое отношение действия и претерпевания, исходящей и приходящей энергии, которое составляет опыт как таковой. Продукт оказывается произведением эстетического искусства благодаря устранению всего того, что не способствует взаимной организации факторов действия и восприятия, а также отбору аспектов и черт, способствующих их взаимопроникновению. Человек обстругивает, вытесывает, поет, танцует, жестикулирует, заливает форму и рисует. Действие или созидание является художественным, когда воспринимаемый результат обладает такой природой, что его качества как качества именно воспринимаемые и есть то, что определяло вопрос его производства. Акт производства, руководствующийся намерением произвести нечто такое, что приносит удовольствие в непосредственном опыте восприятия, обладает качествами, отсутствующими в деятельности стихийной или неуправляемой. Художник в процессе работы воплощает в себе установку того, кто будет его произведение воспринимать.
Предположим, иллюстрации ради, что изящно выделанный предмет, текстура и пропорции которого приносят, когда мы его воспринимаем, несомненное удовольствие, считался произведением некоего первобытного народа. Но потом были найдены доказательства того, что это случайный плод природы. В качестве внешней вещи он ничуть не изменился. Однако он тут же перестает быть предметом искусства и становится всего лишь природным курьезом. Теперь его место – в музее естественной истории, а не искусств. И необычайно здесь то, что проводимое таким образом различие – это не просто результат интеллектуальной классификации. Различие проводится непосредственно самим оценивающим восприятием. Эстетический опыт – в этом ограниченном смысле – оказывается, таким образом, неразрывно связанным с опытом созидания.
Чувственное удовлетворение глаза и уха может быть эстетическим в том случае, если оно не возникает само по себе, а связано с той деятельностью, следствием которой является. Даже удовольствия нёба качественно различаются у гурмана и того, кому просто нравится его еда, когда он ее ест. И различие не только в силе чувства. Гурман сознает далеко не только вкус еды. В его случае во вкус вступают и прямо переживаются в опыте качества, зависящие от указания на источник еды и способ ее производства вместе с критериями ее совершенства. Как производство должно включать в себя качества продукта, то есть его восприятие, и регулироваться ими, так и, с другой стороны, зрение, слух и вкус становятся эстетическими, когда отношение к определенному виду деятельности определяет то, что воспринимается.
В любом эстетическом восприятии есть элемент страсти. Однако когда мы охвачены страстью, например гневом, страхом или ревностью в их крайней степени, опыт оказывается определенно неэстетическим. В этом случае не ощущается отношение к качествам деятельности, вызвавшей страсть. Соответственно, в материале опыта нет равновесия и пропорции. Ведь последние могут присутствовать только тогда, когда, как в поведении, отличающемся грацией и достоинством, акт контролируется обостренным чувством отношений, им поддерживаемых, то есть его сообразностью поводу и ситуации.
Процесс искусства на уровне производства органически соотносится с эстетическим восприятием – так же, как Господь Бог при создании мира взирал на свой труд и видел, что он хорош. Пока художник не удовлетворен в своем восприятии тем, что он делает, он продолжает придавать форму своему произведению, так или иначе его меняя. Созидание достигает конца, когда результат в опыте воспринимается как хороший результат, и этот опыт приходит не в силу только интеллектуального и внешнего суждения, но в прямом восприятии. Художник, если сравнивать его с другими людьми, больше одарен не только особенным практическим навыком, но также и необычайной чувствительностью к качествам вещей. Эта чувствительность также направляет его действия и его созидание.
Когда мы работаем с чем-то руками, мы касаемся и чувствуем, когда смотрим – видим, когда слушаем – слышим. Рука может двигать гравировальной иглой или кистью. Глаз взирает и сообщает о следствиях сделанного. В силу такой внутренней связи последующие действия проистекают из предшествующих, не являясь плодом каприза или рутины. В выраженном художественно-эстетическом опыте это отношение оказывается настолько тесным, что одновременно управляет и действием, и восприятием. Подобная жизненная взаимосвязь не может состояться, если бы в ней участвовали только рука и глаз. Когда они не действуют сообща как органы всего существа в целом, возникает лишь механическая последовательность чувства и движения, как в автоматической ходьбе. Когда же опыт эстетический, рука и глаз – это только инструменты, используемые в своем действии живым существом, движущимся и активным целиком. И потому выражение оказывается эмоциональным и управляемым целью.
В силу отношения между сделанным и претерпеваемым возникает непосредственное ощущение того, сходятся друг с другом воспринимаемые вещи или отталкиваются друг от друга, подкрепляют друг друга или друг другу мешают. Следствия созидательного акта, опознаваемые благодаря чувству, показывают то, развивает ли сделанное идею, требующую реализации, или, напротив, помечает отклонение и разрыв. Пока развитие опыта управляется ориентацией на эти непосредственно ощущаемые отношения порядка и свершения, такой опыт становится по своей природе преимущественно эстетическим. Тяга к действию становится тягой к созданию объекта, удовлетворяющего в его непосредственном восприятии. Гончар придает своей глине форму кувшина, удобного для хранения зерна, однако он ваяет его, ориентируясь на восприятия, отражающие последовательность актов созидания, потому кувшин приобретает грациозный, привлекательный вид. Та же ситуация при написании картины или отливке бюста. Кроме того, на каждой стадии действует предвосхищение того, что предстоит сделать. Это предвосхищение является связующим звеном между следующим действием и его результатом для чувства. Сделанное и то, что претерпевается, служат друг для друга инструментами, постоянно воздействующими друг на друга и постепенно производящими определенный результат.
Действие может быть энергичным, а претерпевание – острым и интенсивным. Но если они не соотносятся друг с другом и не определяют целое в восприятии, сделанная вещь не будет вполне эстетической. Например, созидание может быть демонстрацией технической виртуозности, а претерпевание – наплывом чувств или мечтанием. Если художник в процессе своего созидания не доводит до совершенства новое видение, он действует механически и просто воспроизводит какую-то старую модель, закрепленную в его сознании как уже готовый план. Творческое произведение искусства характеризуется невероятным объемом наблюдения и особого интеллекта, применяемого в восприятии качественных отношений. Отношения должны выделяться не только друг по отношению к другу, в паре, но и в связи с создаваемым целым; они выполняются как в воображении, так и в наблюдении. Порой возникают соблазнительные отвлечения, посторонние для данного произведения, – так уход в сторону навязывает себя в качестве способа обогатить содержание. Это моменты, когда понимание главной идеи слабеет, и тогда художник бессознательно переходит к тому, чтобы восполнить ее, пока его мысль не окрепнет. Действительная работа художника состоит в том, чтобы создавать опыт, который, оставаясь в восприятии связным, постоянно меняется в своем развитии.
Когда автор излагает на бумаге уже продуманные и четко выстроенные им идеи, действительная работа была проведена заранее. Но также на этапе завершения своего труда он может полагаться на развитие большей восприимчивости, вызванной самой деятельностью и ее чувственной оценкой. То есть сам по себе акт переписывания в эстетическом плане не имеет значения, если только он по-настоящему не входит в формирование опыта, движущегося к своей полноте. Даже композиция, удерживаемая в голове, а потому в физическом смысле являющаяся личной, представляется публичной в своем значимом содержании, поскольку она задумывается с оглядкой на исполнение в воспринимаемом, а потому и относящемся к общему миру продукте. Иначе это была бы блажь, простое мимолетное мечтание. Стремление выразить в живописи воспринимаемые качества ландшафта сливается с требованием карандаша или кисти. Без внешнего воплощения опыт остается неполным. В физиологическом и функциональном смысле органы чувства – это еще и двигательные органы, и они связаны (за счет распределения энергий в человеческом теле и не только анатомически) с другими двигательными органами. Не является языковой случайностью и то, что «строение», «постройка», «труд» – слова, обозначающие как процесс, так и завершенный продукт. Без смысла глагола соответствующее существительное оставалось бы пустым.
Писатель, композитор, скульптор или художник могут в процессе производства возвращаться к тому, что уже было сделано ранее. Когда сделанное не удовлетворяет на фазе опыта, состоящей в претерпевании или восприятии, они в какой-то мере могут начать с чистого листа. Не так-то просто вернуться к сделанному в архитектуре – и это, возможно, одна из причин наличия в мире множества уродливых зданий. Архитекторы вынуждены довести свою идею до конца, прежде чем переносить ее в завершенный объект восприятия. Невозможность одновременно создавать и идею, и ее объективное воплощение создает определенное препятствие. Тем не менее они тоже обязаны продумывать свои идеи в отношении со средой их воплощения и объектом конечного восприятия, иначе они будут работать механически и рутинно. Вероятно, эстетическое качество средневековых соборов в некоторой мере определяется тем, что их постройка в меньшей мере, чем сегодня, определялась заранее составленными планами и параметрами. Планы сами росли по мере роста здания. Но даже продукт, рождающийся, подобно Минерве, в готовом виде, если только он по-настоящему художествен, предполагает предшествующий период вызревания, когда в воображении представляется, как действия и восприятия взаимодействуют и меняют друг друга. Каждое произведение искусства следует плану или паттерну совокупного опыта, наделяя этот опыт все более сильным и концентрированным чувством.
В случае воспринимающего или оценивающего зрителя не так легко понять внутреннее единство действия и претерпевания, как в ситуации создателя. Мы склонны предполагать, что зритель просто принимает то, что уже дано в готовой форме, и не понимаем, что это внимание к данному само требует деятельности, сравнимой с действиями создателя. Восприимчивость не пассивна. Она тоже представляет собой процесс, состоящий из ряда ответных актов, складывающихся в своем постепенном накоплении в объективное завершение. Иначе мы имеем дело не с восприятием, а с распознанием. Разница между ними огромна. Распознание – это восприятие, остановленное до того, как у него был шанс на свободное развитие. В распознании действительно скрыто начало акта восприятия. Однако этому началу не дозволяется послужить развитию полного восприятия распознанной вещи. Оно останавливается в точке, где будет служить какой-то другой цели, как в том случае, когда мы узнаем человека на улице, чтобы поприветствовать его или его избежать, но не для того, чтобы увидеть в нем, что он такое.
В распознании мы прибегаем к некоторой заранее сформированной схеме, выступающей своего рода стереотипом. Какая-то деталь или порядок деталей служит подсказкой для простой идентификации. При распознании достаточно приложить к наличному объекту этот контур как шаблон. Иногда при общении с человеком нас поражают определенные черты, возможно, какие-то его физические качества, ранее нами не замеченные. Мы понимаем, что раньше никогда не знали этого человека, то есть мы не видели его в полном смысле этого слова. Теперь же мы начинаем изучать его и «внимать» ему. Восприятие в таком случае приходит на смену простому опознанию. Это акт своего рода реконструкции, пробуждающей и оживляющей сознание. Такой акт видения включает содействие двигательных элементов, даже если они остаются неявными и не получают открытого выражения, а также всех имеющихся идей, способных послужить завершению новой, только-только складывающейся картины. Распознание слишком легковесно, чтобы пробудить живое сознание. Между новым и старым недостаточно сопротивления, чтобы осознать полученный опыт. Даже собака, радостно лающая и виляющая хвостом при виде вернувшегося хозяина, в более полной мере жива в восприятии своего хозяина и друга, чем человек, довольствующийся простым распознанием.
Такое распознание удовлетворяется подходящим ярлыком, то есть «подходящий» ярлык – тот, что служит цели, внешней самому акту распознания, – так торговец опознает товары по образцу. Оно не требует никакого возмущения организма, никакого внутреннего потрясения. Тогда как акт восприятия действует волнами, проходящими по всему организму. Следовательно, в восприятии не может быть отдельно зрения или слуха, к которым бы присовокуплялась эмоция. Воспринимаемый объект или сцена полностью проникнуты эмоцией. Когда же пробужденная эмоция не пронизывает воспринимаемый или мыслимый материал, она либо зачаточная, либо патологическая.
Эстетическая, или претерпевающая, фаза опыта является фазой воспринимающей. Она требует отдачи. Однако самоотдача субъекта в полной мере возможна только в управляемой, достаточно интенсивной деятельности. Чаще всего, взаимодействуя с нашим окружением, мы от него уклоняемся – иногда из страха, хотя бы потому, что боимся растратить наш запас энергии, иногда в силу озабоченности другими вещами, как в ситуации распознания. Восприятие – акт исхождения энергии ради восприятия, но не ее удержания. Чтобы погрузиться в предмет, мы сначала должны в него войти. Когда же мы воспринимаем сцену лишь пассивно, она осаждает нас, но в силу отсутствия ответной деятельности мы не воспринимаем то, что на нас обрушилось. Чтобы внять, мы должны призвать свои силы и направить их на ответную реакцию.
Каждый знает, что для того, чтобы смотреть через микроскоп или телескоп, требуется обучение, как и для того, чтобы видеть ландшафт так, как его видит геолог. Представление о том, что эстетическое восприятие возможно только в редкие мгновения, – одна из причин отставания искусства в нашем обществе. Глаз и зрительный аппарат могут быть абсолютно целыми, перед глазом может находиться физический объект, например собор Парижской Богоматери или портрет Хендрикье Стоффелс кисти Рембрандта. На такие объекты могут смотреть, их могут даже узнавать, то есть правильно называть. Но из-за отсутствия непрерывного взаимодействия между организмом в его полноте и объектами они не воспринимаются, и уж точно не воспринимаются эстетически. Толпа зрителей, которых гонит через художественную галерею гид, привлекая их внимания то к одному шедевру, то к другому, ничего не воспринимает; разве что случайно у них может пробудиться интерес к картине, вызванный живо изображенным предметом.
Чтобы воспринимать, зритель должен создавать собственный опыт. И это создание должно включать отношения, сравнимые с пережитыми исходным создателем. Они не те же в буквальном смысле слова. Однако в зрителе, как и в художнике, должно состояться упорядочение элементов целого, тождественное по своей форме, но не в подробностях процессу организации, осознанно пережитому творцом произведения. Без акта воспроизведения объект не может восприниматься в качестве произведения искусства. Художник отбирал, упрощал, прояснял, сокращал и сгущал, сообразуясь со своим интересом. Зритель должен выполнить все эти операции, сообразуясь со своей точкой зрения и своим интересом. В обоих случаях должен состояться акт абстрагирования, то есть извлечения значимого. И в обоих возникает понимание (comprehension) в его буквальном смысле – то есть собирание физически рассеянных деталей и частностей в целое, переживаемое в опыте. Воспринимающим, как и художником, выполняется определенная работа. Не увидит и не услышит тот, кто слишком ленив, празден или скован условностями, чтобы эту работу выполнить. Его «оценка» будет смесью обрывочных знаний с желанием соответствовать нормам общепринятого восхищения и с неотчетливым, пусть и подлинным, эмоциональным возбуждением.
* * *
Представленные соображения предполагают одновременно общность и непохожесть, обусловленную разным акцентированием, определенного опыта в его полном смысле и собственно эстетического опыта. Первый обладает эстетическим качеством, иначе его материалы не сложились бы в единый, внутренне согласованный опыт. В живом опыте невозможно отделить практическое, эмоциональное и интеллектуальное друг от друга и определить качества одного, противоположные характеристикам других. Эмоциональная фаза связывает части в единое целое; «интеллектуальная» – просто именует то, что у опыта есть смысл; «практическая» указывает на то, что организм взаимодействует с окружающими его событиями и объектами. Даже скрупулезное философское или научное исследование либо амбициозное промышленное или политическое начинание обладает эстетическим качеством, когда разные его составляющие образуют целостный опыт. Ведь в таком случае разные его части связываются друг с другом, а не просто друг за другом следуют. Части в их переживаемой в опыте связи движутся к кульминации и развязке, а не просто к остановке во времени. Кроме того, эта кульминация не наступает лишь по завершении всего процесса. Она предвосхищается в любой из его моментов и раз за разом отчетливо предвкушается.
Тем не менее такие формы опыта являются преимущественно интеллектуальными или практическими, а не собственно эстетическими, что определяется их интересом и целью. В интеллектуальном опыте вывод обладает самостоятельной ценностью. Он может быть извлечен в качестве определенной формулы или «истины» и использоваться как нечто совершенно независимое в качестве фактора или ориентира в других исследованиях. В произведении искусства такого самодостаточного и единственного исхода не бывает. Конец, завершение значимы не сами по себе, но только как сведение всех частей воедино. Другого бытия у него просто нет. Драма или роман – это не их последняя строка, даже если указывается, что дальше герои жили долго и счастливо. В собственно эстетическом опыте качества, в других видах опыта подчиненные, становятся главенствующими; второстепенные – руководящими, и это именно те качества, благодаря которым опыт оказывается целостным и полным сам по себе, в своем собственном составе.
В каждом целостном опыте есть форма, поскольку есть и динамическая организация. Я называю организацию динамической, поскольку на ее завершение требуется время и поскольку она представляет собой рост. В ней есть начало, развитие и завершение. Материал поглощается и переваривается во взаимодействии с живой организацией результатов предшествующего опыта, составляющей разум создателя. Вызревание продолжается до тех пор, пока задуманное не получает выражения и не становится воспринимаемым в качестве части общего мира. Эстетический опыт может сконцентрироваться в одном моменте только в том смысле, что кульминация предшествующих длительных процессов способна достигаться в одном внезапном жесте, сметающем, подчиняющем себе и стирающем из памяти все остальное. То, что отличает опыт в качестве опыта эстетического, – это преобразование сопротивления и напряжения, возбуждения, искушающего, по сути, отклонением, в движение по направлению к полной и завершающей развязке.
Опыт подобен дыханию, в нем есть ритм принятия и отдачи. Их последовательность ритмически организуется интервалами и периодами, когда одна фаза прекращается, а другая только начинается и готовится. Уильям Джеймс удачно сравнил движение сознательного опыта с перелетами и остановками птицы. Перелеты и остановки тесно связаны друг с другом, это не множество бессвязных приземлений и взлетов. Каждая остановка в опыте – это претерпевание, во время которого впитываются и осваиваются следствия предшествующего действия, и если только последнее не было всего лишь капризом или простой рутиной, каждое претерпевание несет в себе извлеченный и сохраненный смысл. Как и при продвижении армии, все приобретения периодически должны закрепляться, причем всегда с оглядкой на то, что нужно сделать на следующем шаге. Если мы движемся слишком быстро, мы удаляемся от тыла (то есть от приобретенных смыслов), и тогда опыт распыляется, истончается и спутывается. Если же мы слишком долго топчемся на месте, после того как извлекли чистую прибыль, опыт гибнет от изнурения.
Итак, форма целого присутствует в каждом его члене. Завершение, кульминация – непрерывные функции, а не просто цели, привязанные к какому-то одному месту. Гравер, живописец или писатель находятся в процессе завершения на каждой стадии своего труда. В любой момент каждый из них может задержаться и резюмировать то, что произошло ранее, в качестве целого, с оглядкой на то целое, которому еще предстоит состояться. Иначе в его актах, следующих друг за другом, не было бы преемственности и уверенности. Цепочка действий в ритме опыта создает разнообразие и движение, которые спасают произведение от монотонности и бесполезных повторений. Претерпевания – соответствующие элементы ритма, они определяют единство и они же спасают произведение от бесцельности простого ряда возбуждений. Объект оказывается преимущественно, то есть выраженно эстетическим, доставляя удовольствие, характерное именно для эстетического восприятия, – когда факторы, определяющие все, что может быть названо определенным опытом, поднимаются выше порога восприятия и становятся сами по себе данными в явном виде.
4
Акт выражения
КАЖДЫЙ опыт, какого бы ничтожного или, наоборот, огромного значения он ни был, начинается с побуждения. Я говорю о «побуждении» (impulsion), а не «импульсе» (impulse). Импульс остается конкретным и частным, даже когда он инстинктивен, то есть это просто часть механизма, участвующего в более полном приспособлении к среде. Тогда как побуждение указывает на направленное вовне и вперед движение всего организма, для которого отдельные импульсы играют вспомогательную роль. Побуждение – это, к примеру, стремление живого существа к пище, отличающееся от реакции языка и губ, используемой в акте глотания; или разворот всего тела к свету, как в гелиотропизме растений, отличающийся от движения глаз, следующих за источником света.
Поскольку побуждение – движение организма в целом, оно является начальной стадией любого полного опыта. Наблюдение за детьми показывает наличие у них многих специализированных реакций. Однако сами по себе они не служат началом полному опыту. Они вступают в него только в том случае, если вплетаются в деятельность, увлекающую всего субъекта целиком. Невнимание к таким общим видам деятельности и исследование исключительно дифференциации и разделения труда, придающего им большую эффективность, – вот основной источник и причина всех остальных заблуждений в интерпретации опыта.
Побуждения суть начала полного опыта, поскольку они проистекают из потребности; из голода или требования, заявленного организмом в целом и удовлетворяемого только при создании определенных отношений (активных отношений, то есть взаимодействий) со средой. Эпидермис может считаться границей, где заканчивается организм и начинается среда, лишь в довольно поверхностном смысле. Есть вещи внутри тела, для него совершенно внешние, но также есть вещи вне его, принадлежащие ему де-юре, если не де-факто. То есть последними следует овладеть, если жизнь должна продолжаться. На более низком уровне такими материалами являются воздух и пища, на более высоком – инструменты, будь то перо писателя или наковальня кузнеца, утварь и мебель, собственность, друзья и институты – все те опоры и средства существования, определяющие саму возможность цивилизованной жизни. Потребность, проявляющаяся в настоятельных побуждениях, требующих удовлетворения тем, что может предоставить одна только среда, является динамическим признанием зависимости субъекта в целом от его окружения.
Однако судьба живого существа заключается в том, что оно не может добыть то, что ему причитается, не попав в мир, его собственностью не являющийся, в мир как целое, на который у него нет никаких наследственных прав. Всякий раз, когда органический импульс выходит за пределы тела, он оказывается в странном мире, в определенной мере ставя судьбу субъекта в зависимость от внешних обстоятельств. Он не может просто ухватить то, что хочет, и автоматически пренебречь всем, что ему безразлично или враждебно. Если и пока организм продолжает развиваться, он пользуется помощью – как бегун, подгоняемый попутным ветром. Однако побуждение в своем исходящем движении встречает также многие вещи, сбивающие его с толку и сопротивляющиеся ему. В процессе превращения этих препятствий и нейтральных условий в благоприятные факторы живое существо осознает намерение, неявно содержащееся в его побуждении. Субъект, и неважно, добился он успеха или потерпел поражение, не просто возвращает себя в предыдущее состояние. Слепой порыв превратился в цель, инстинктивные наклонности – в сложные начинания. Вот как установки субъекта оформляются определенным смыслом.
Среда, которая всегда и во всем благоприятствовала бы прямому исполнению наших побуждений, положила бы конец росту с той же верностью, что и враждебная среда, неизменно раздражающая и разрушающая. Побуждение, которое бы постоянно подталкивалось вперед, двигалось бы по своей траектории безо всякой мысли, без единой эмоции. Ведь ему не пришлось бы описывать себя в категориях встреченных вещей – они просто не стали бы значимыми для него объектами. Единственный имеющийся у него способ осознать собственную природу и свои цели – преодолевать препятствия и использовать разные средства; средства, изначально являющиеся только средствами и ничем больше, слишком связаны с побуждением, двигающимся по гладкому как масло пути, чтобы оно могло их осознать. Только при сопротивлении со стороны окружения субъект может себя осознать, в противном случае у него не было бы ни чувства, ни интереса, он не переживал бы ни страха, ни надежды, не был бы знаком ни с разочарованием, ни с воодушевлением. Простое противодействие, полностью сдерживающее движение, вызывает раздражение и гнев. Однако сопротивление, пробуждающее мысль, порождает любопытство и бережную заботу, а когда оно преодолевается и используется, оно выливается в воодушевление.
То, что лишь расхолаживает ребенка и человека, не обладающего зрелым опытом, соответствующим данной задаче, для интеллекта того, у кого есть опыт прошлых ситуаций, позволяющий в достаточной мере на него опереться, оказывается поводом составить план и превратить эмоцию в интерес. Побуждение, проистекающее из потребности, начинается с опыта, не знающего, куда он движется; сопротивление и сдерживание приводят к обращению прямонаправленного действия в рефлексию; обращается же она на отношение препятствующих обстоятельств к имеющемуся у субъекта рабочему капиталу, обоснованному предшествующим опытом. Поскольку вовлекаемые в этот процесс энергии подкрепляют исходное побуждение, субъект начинает относиться к цели и методу с большей осмотрительностью. Таков общий контур каждого опыта, наделенного смыслом.
То, что напряжение пробуждает энергию, а полное отсутствие противодействия не благоприятствует обычному развитию – факты довольно известные. В целом мы все признаем, что равновесие между благоприятствующими и тормозящими условиями и есть желательное состояние вещей, если только враждебные условия внутренне соотносятся с тем, чему они препятствуют, а не являются всего лишь произвольными и внешними. Однако речь идет не просто о количестве или большей величине энергии, но о качестве, о преобразовании энергии в осмысленное действие, осуществляющееся благодаря усвоению смыслов, скрывающихся в предыстории прошлого опыта. Связка нового и старого – не просто сочленение сил, но воссоздание, в котором актуальное побуждение приобретает форму и прочность, когда старый, «накопленный» материал действительно оживляется, приобретая новую жизнь и душу, поскольку он должен встретиться с новой ситуацией.
* * *
Именно эта двойная перемена – вот что превращает деятельность в акт выражения. Вещи в среде, которые в ином случае оставались бы просто гладкими каналами или слепыми препятствиями, становятся средствами, медиумами. В то же самое время вещи, сохраненные из прошлого, способные закоснеть в рутине или застыть в бездействии, начинают содействовать в новых начинаниях, облекаясь в новые смыслы. Таковы элементы, необходимые для определения выражения. Это определение постепенно приобретет силу, когда указанные черты получат более явный смысл в сравнении с альтернативными ситуациями. Не всякая направленная вовне деятельность является по своей природе выражением. Например, одну крайность составляет порыв страсти, ломающий барьеры и сметающий все то, что находится между человеком и тем, что он желал бы уничтожить. Это, безусловно, деятельность, но, с точки зрения самого действующего человека, это не выражение. Наблюдатель может сказать: «Какое прекрасное выражение гнева!» Однако гневающийся просто гневается, что существенно отличается от выражения гнева. И вновь какой-то наблюдатель мог бы сказать: «Как прекрасно этот человек выражает основную черту своего характера в своих делах и словах». Однако последнее, о чем думает такой человек, – как бы выразить свой характер. Он просто дает волю порыву страсти. Точно так же плач или улыбка ребенка могут быть выразительны для матери или няни, но для ребенка не являются актом выражения. Для наблюдателя это выражение, поскольку оно что-то говорит о состоянии ребенка. Однако ребенок занят чем-то непосредственно, и, с его точки зрения, это не более выражение, чем дыхание или чихание, то есть действия, выразительные лишь с точки зрения наблюдателя, следящего за состоянием ребенка.
Обобщение подобных случаев спасет нас от ошибки, проникшей, к сожалению, в эстетическую теорию, а именно от предположения, будто давать волю побуждению, врожденному или привычному, – это уже выражение. Такой акт выразителен не сам по себе, но только в рефлексивной интерпретации того или иного наблюдателя: так, няня может толковать чихание как признак начинающейся простуды. Что касается собственно этого акта, то он, если определяется исключительно импульсом, является всего лишь выплескиванием. Хотя не может быть выражения, если нет устремленности изнутри вовне, излияние должно проясняться и упорядочиваться включением в него ценностей прошлого опыта, и только после этого оно может стать актом выражения. Такие ценности внедряются только объектами среды, сопротивляющимися прямой разрядке эмоции или импульса. Эмоциональная разрядка – необходимое, но недостаточное условие выражения.
Не бывает выражения без возбуждения и смятения. Однако внутреннее возбуждение, тут же получающее разрядку в смехе или плаче, проходит со своим выплеском. Разрядить – значит избавиться, отбросить; выражать – значит оставаться с чем-то, длить развитие, прорабатывать завершение. Поток слез может принести облегчение, а припадок разрушительности – дать выход внутреннему гневу. Однако в том случае, когда объективные условия никак не принимаются в расчет, когда материалы не оформляются ради воплощения возбуждения, нет и выражения. То, что порой называют актом самовыражения, лучше назвать актом демонстрации самого себя, ибо такой акт обнажает характер – или отсутствие такового – перед другими. Сам по себе он остается всего лишь извержение.
Переход от акта, выразительного с точки зрения внешнего наблюдателя, к внутренне выразительному акту, легко проиллюстрировать простым примером. Сначала ребенок плачет точно так же, как поворачивает голову на свет; у него есть внутренний позыв, но нечего выражать. По мере взросления он узнает, что определенные акты вызывают разные следствия, например, он привлекает внимание плачем, тогда как улыбка вызывает другой ответ окружающих его людей. То есть он начинает осознавать смысл того, что делает. Поскольку он постигает смысл акта, первоначально совершавшегося исключительно под внутренним давлением, он приобретает способность к актам истинного выражения. Преобразование нечленораздельных звуков и лепета в язык – прекрасная иллюстрация того, как возникают акты выражения, а также разницы между ними и простыми актами разрядки.
В таких случаях как раз и обозначается связь выражения и искусства, хотя они и не могут служить в точном смысле ее примерами. Ребенок, узнавший о влиянии своего ранее спонтанного акта на окружающих его людей, теперь специально совершает акт, ранее остававшийся слепым. Он начинает управлять своей деятельностью и упорядочивать ее, ориентируясь на последствия. Последствия, претерпеваемые в результате определенного действия, усваиваются в качестве смысла последующих действий, поскольку начинает восприниматься отношение между действием и претерпеванием. Теперь ребенок может плакать специально, поскольку хочет привлечь внимания, чтобы его утешили. Он может начать раздавать свои улыбки как стимулы или знаки благосклонности. Это уже искусство в его зачаточном состоянии. Деятельность, являвшаяся «естественной» – спонтанной и непреднамеренной, – меняется, поскольку теперь она выполняется как средство для достижения сознательно преследуемого следствия. Подобное преобразование характеризует всякое деяние искусства. Результат такого преобразования может быть скорее искусным, чем эстетическим. Напускная улыбка или общепринятая приветственная мимика являются искусственными трюками. Однако по-настоящему грациозный акт приветствия содержит в себе превращение установки, некогда являвшейся слепым и «естественным» проявлением побуждения, в искусный акт, нечто, что выполняется с учетом его места и отношения в процессе близкого взаимодействия людей.
Различие между искусственным, искусным и художественным лежит на поверхности. В первом есть разрыв между тем, что делается открыто, и тем, что является целью. Внешне может проявляться приветливость, тогда как ее цель – это добиться благосклонности. Всякий раз, когда есть такой разрыв между действием и целью, появляется неискренность, хитрость, изображение акта, влекущего по своему существу совершенно другое следствие. Когда естественное и взращенное культурой смешиваются в единое целое, акты социального взаимодействия становятся произведениями искусства. Живительное побуждение истинной дружбы и совершенный акт тогда полностью совпадают друг друга без вмешательства какой-то далеко идущей цели. Неловкость может помешать точности выражения. Однако умелая подделка, какой бы ловкой она ни была, всего лишь использует форму выражения – она не обладает формой дружбы и не внимает ей. Сущность дружбы в таком случае просто не затрагивается.
В акте разрядки или простой демонстрации нет медиума. Инстинктивный плач или улыбка требует медиума не в большей мере, чем чихание или подмигивание. В своей реализации они нуждаются в определенном канале, однако средства высвобождения не используются как имманентные средства достижения определенной цели. Акт, выражающий приветствие, использует улыбку, протянутую руку и радость на лице как медиумы, но не сознательно, а поскольку они стали органическими средствами сообщения удовольствия от встречи с дорогим другом. Акты, первоначально являвшиеся спонтанными, преобразовались в средства, обогащающие человеческое общение и делающие его грациознее, – так же как художник превращает краску в средства выражения опыта его воображения. Танец и спорт – виды деятельности, в которых акты, некогда исполнявшиеся по отдельности и спонтанно, теперь собираются вместе и из сырого и грубого материала превращаются в произведения выразительного искусства. Только когда материал используется в качестве медиумов, только тогда возникает выражение и искусство. Табу дикарей, кажущиеся чужаку всего лишь запретами и ограничениями, навязанными извне тем, кто переживает их в своем опыте, возможно, представляются медиумами выражения социального положения, достоинства и чести. Все зависит от того, как используется материал, применяемый в качестве медиума.
Связь между медиумом и актом выражения является внутренней. Акт выражения всегда применяет тот или иной естественный материал, хотя он может быть естественным как в смысле привычности, так и в смысле первичности или врожденности. Он становится медиумом, когда применяется с учетом его места и роли, его отношений в общей ситуации – так же как отдельные звуки становятся музыкой, когда выстраиваются в мелодию. Одни и те же звуки могут звучать как радость, удивление или досада, выступая естественным выходом для определенных чувств. Но они становятся выражениями одной из таких эмоций, когда другие звуки оказываются медиумом, в котором слышен один из них.
Этимологически акт выражения – это выдавливание (expression), давление вперед. Сок выдавливается, когда виноград давят в винодельне; или, если использовать еще более прозаическое сравнение, сало и масло выделяются из некоторых жирных субстанций, когда они подвергаются давлению и нагреванию. Все, что выдавливается, может быть выдавлено только из исходного сырого или природного материала. Но точно так же можно сказать, что простое излияние или разрядка сырого материала выражением не является. Сок появляется в силу взаимодействия с чем-то внешним для него, с давильным прессом или ногами, отжимающими виноград. Семена и кожура отделяются и сохраняются. Они смешиваются с соком, только когда аппарат неисправен. Даже в предельно механических способах выражения присутствуют взаимодействие и последующее преобразование первичного материала, выступающего сырьем для произведения искусства, в соотношении с тем, что действительно выдавливается. Для выдавливания (выражения) сока требуется не только виноград, но и давильный пресс, а для выражения эмоции нужны, с одной стороны, среда и сопротивляющиеся объекты, а с другой – внутренняя эмоция и побуждение.
Говоря о поэзии, Сэмюэль Александр отметил, что «произведение художника возникает не из законченного опыта воображения, которому соответствует произведение искусства, а из страстного возбуждения предметом… Стихотворение поэта вырывается у него предметом, его возбуждающим». Этот текст мы можем сопроводить четырьмя комментариями. Первый из них может считаться подтверждением мысли, выдвинутой в предшествующих главах. Настоящее произведение искусства – это построение целостного опыта из взаимодействия органических и неорганических условий среды и энергий. Ближе к нашей теперешней теме второй комментарий: выражаемое вырывается у производителя под давлением, оказываемым объективными вещами на естественные импульсы и склонности, и потому выражение ни в коем случае не может быть прямым и непорочным проявлением последних. Отсюда третий комментарий. Акт выражения, составляющий произведение искусства, – это конструирование во времени, а не мгновенный выброс. И этот тезис не ограничивается тем лишь, что художнику, чтобы перенести придуманную им идею на полотно, нужно время, как и скульптору – чтобы обтесать глыбу мрамора. Он означает, что выражение субъекта в медиуме, составляющее собственно произведение искусства, само является продолжительным взаимодействием чего-то, исходящего из субъекта, с объективными условиями, то есть процессом, в котором обе стороны приобретают определенную форму и порядок, первоначально у них не имевшиеся. Даже Всемогущему понадобилось семь дней, чтобы создать небо и землю, и если бы рассказ об этом деянии был полон, мы бы знали и то, что только к концу этого срока он осознал, что именно намеревался сделать с сырьем противостоящего ему хаоса. Только бескровная субъективная метафизика могла превратить красноречивый миф Книги Бытия в представление о Творце, создающем мир без неоформленной материи, способной стать предметом его труда.
Последний комментарий состоит в том, что, когда возбуждение, связанное с предметом, углубляется, оно приводит в движение определенный запас установок и смыслов, извлеченных из предыдущего опыта. Когда они пробуждаются к деятельности, то становятся осознанными мыслями и эмоциями, эмоциональными образами. Воспламениться какой-то мыслью или сценой – значит вдохновиться. Воспламененное может либо сгореть дотла, либо должно отпечататься в материале, превращающем воспламененное из грубого металла в утонченный продукт. Многие люди несчастливы, многие мучаются внутри себя, поскольку не владеют искусством выразительного действия. То, что в более удачных условиях могло бы использоваться для превращения объективного материала в материал интенсивного и ясного опыта, тлеет внутри, создавая беспокойство и смятение, которое в конечном счете отмирает, возможно, после болезненного внутреннего срыва.
Материалы, претерпевающие возгорание в силу внутреннего контакта и взаимно оказываемого сопротивления, составляют вдохновение. На стороне субъекта элементы, взятые из первоначально опыта, пробуждаются и переходят в действие в свежих желаниях, побуждениях и образах. Они берутся из бессознательного, но не в холодном виде или формах, тождественных подробностям прошлого, и не в отрывках и обрывках, но расплавляясь в пламени внутреннего движения. Кажется, что они берутся вообще не из субъекта, поскольку на самом деле они приходят из субъекта, не известного его собственному сознанию. А потому вдохновение связывается с богом или музой, пусть и на основании мифа. Однако вдохновение – это только первый шаг. Само по себе в начале оно пока еще неотчетливо. Воспламененный внутренний материал должен найти объективное топливо, способное его питать. Благодаря взаимодействию топлива с уже горящим материалом возникает утонченный и оформленный продукт. Акт выражения – это не то, что просто добавляется к полностью завершенному вдохновению. Он представляет собой доведение до завершения вдохновения посредством объективного материала восприятия и образности[10].
Побуждение не может привести к выражению, если только от него не бросает в дрожь и смятение. Если нет сдавливания (com-pression), не может быть и выражения (ex-pression). Смятение помечает место, где внутренний импульс и контакт со средой сходятся друг с другом фактически или в идее, создавая брожение. Дикарский военный танец и танец сбора урожая не могут родиться изнутри, если нет ожидания наступления неприятеля или созревания урожая, требующего уборки. Для порождения необходимого возбуждения что-то должно быть поставлено на кон, должно быть что-то очень важное и в то же время неопределенное – подобное исходу сражения или ожидаемому урожаю. Верный исход не может нас эмоционально возбудить. А потому выражается не просто возбуждение, а «возбуждение-чем-то». Даже простое возбуждение, если не считать полной паники, будет использовать для действия определенные каналы, ранее проторенные деятельностью, взаимодействующей с объектами. Поэтому подобно движениям актера, автоматически исполняющего свою роль, оно изображает выражение. Даже смутное волнение ищет выхода в песне или пантомиме, пытаясь стать членораздельным.
Почти все ошибочные взгляды на природу акта выражения коренятся в представлении о том, что эмоция уже полна в самой себе и что только когда она изъявляется, она оказывает воздействие на тот или иной внешний материал. На самом деле эмоция относится к чему-то объективному, говорит о нем или исходит из него, будь то фактически или в идее. Эмоция включена в ситуацию с неопределенным исходом, затрагивающим жизненные интересы субъекта, движимого эмоцией. Ситуации могут угнетать, грозить, быть невыносимыми или означать триумф. Радость от победы, одержанной группой, с которой отождествляет себя человек, сама по себе не является внутренне полной, и точно также скорбь можно понять только как взаимопроникновение субъекта и объективных обстоятельств.
Последний факт особенно важен в связи с индивидуализацией произведений искусства. Представление о том, что выражение является прямым выбросом эмоции, в себе уже завершенной, логически означает, что индивидуализация является обманчивой и внешней. Ведь получается, что страх – это страх, воодушевление – это воодушевление, любовь – это любовь, и каждая такая эмоция является общей, внутри себя различаясь только степенями собственной силы. Если бы эта идея была верна, произведения искусства необходимым образом делились бы на определенные типы. Этот взгляд заразил собой критику, но на самом деле он не способствует пониманию конкретных произведений искусства. Нет такой вещи, разве что номинально, как собственно эмоция страха, ненависти, любви. Уникальность и неповторимость событий и ситуаций, переживаемых в опыте, пропитывает эмоцию, вызванную ими. Если бы задача речи состояла в воспроизведении того, что она означает, мы никогда не могли бы говорить о страхе, а только о «страхе-вызванном-этим-надвигающимся-автомобилем», учитывая все его качества, определяющие его место в пространстве и времени, или о «страхе-сделать-неправильный-вывод-при-определенных-обстоятельствах-из-таких-то-и-таких-то-данных». Тогда и целой жизни не хватило бы на то, чтобы воспроизвести в словах одну-единственную эмоцию. Но на самом деле у поэта и романиста огромное преимущество перед профессиональным психологом, если им нужно разобраться с эмоциями. Дело в том, что первые создают определенную ситуацию и дают ей возможность пробуждать эмоциональный отклик. Вместо того чтобы описывать эмоцию в интеллектуальных или символических категориях, художник делает то, что рождает эмоцию.
Общепризнано то, что искусство избирательно. Причина этой избирательности состоит в роли эмоции в акте выражения. Любое преобладающее настроение автоматически исключает все, что ему не соответствует. Эмоция в этом отношении действеннее любого строгого часового. Она вытягивает щупальца, пытаясь найти то, что ей родственно, то есть вещи, кормящие ее и доводящие до завершения. Только когда эмоция умирает или разбивается на разрозненные фрагменты, в сознание может проникнуть чуждый ей материал. Избирательность в материалах, проявляемая с беспримерной силой развивающейся эмоцией в ряде продолжающих друг друга актов, извлекает материю из множества пространственно и номинально разделенных объектов и сгущает абстрагированное в объекте, выступающем апофеозом ценностей, принадлежащих всем им. Такая функция создает «универсальность» произведения искусства.
Если рассмотреть причину, по которой некоторые произведения искусства нас оскорбляют, скорее всего выяснится, что в них нет лично прочувствованной эмоции, определяющей выбор и сборку представленных материалов. У нас создается впечатление, что художник, например автор романа, пытается управлять природой вызываемой эмоции своим сознательным намерением. Нас раздражает ощущение того, что он манипулирует материалами так, чтобы достичь эффекта, определенного им заранее. Разные грани произведения, многообразие, столь для него необходимое, – все это удерживается какой-то внешней силой. Движение частей и развязка не раскрывают никакой логической необходимости. Судьей оказывается автор, а не предмет.
При чтении романа, даже если он написан признанным мастером, уже на раннем этапе развития истории может возникнуть ощущение, что герой или героиня обречены, но не по причине, присутствующей в самой сути ситуаций или персонажа, а просто по желанию автора, превращающего персонажа в марионетку, способную излагать его излюбленные идеи. Возникающее в таком случае болезненное чувство неприятно не потому именно, что оно болезненно, но потому, что оно навязано нам чем-то извне по отношению к движению самого предмета, и мы это хорошо чувствуем. Произведение может быть намного более трагичным и все же оставлять у нас чувство завершенности, а не раздражения. Мы примиряемся с развязкой, поскольку чувствуем, что она неотделима от самого изображенного предмета. Изображаемый случай может быть трагическим, но мир, где происходят роковые события, не произвольный мир и не навязанный. Эмоция автора и эмоция, возникающая в нас, определяются сценами в этом мире, и обе они смешиваются с предметом. По сходным причинам нас отталкивает вторжение морального замысла в литературу, хотя эстетически мы можем принять любое количество морального содержания, если оно удерживается честной эмоцией, контролирующей материал. Раскаленное добела пламя жалости или возмущения способно найти питающий его материал и сплавить все найденное в живую целостность.
Именно потому, что эмоция крайне важна для акта выражения, создающего произведение искусства, в неточном исследовании легко представить способ ее действия неправильно и прийти к выводу, что значимым содержанием произведения искусства является как раз эмоция. Можно кричать от радости или даже плакать при встрече с давно не виденным другом. Но этот результат не является выразительным объектом – разве что для наблюдателя. Но если эмоция ведет к сбору материала, родственного настроению, вызванному такой встречей, результатом может стать стихотворение. В прямом выплеске объективная ситуация – это стимул или причина эмоции. В стихотворении объективный материал становится содержанием и материей эмоции, а не просто поводом для нее.
В развитии выразительного искусства эмоция действует подобно магниту, притягивающему к себе подходящий материал: подходящий потому, что он обладает данным в опыте эмоциональным сродством с уже пришедшим в движение состоянием ума. Отбор и организация материала являются следствием и в то же время проверкой качества испытываемой эмоции. Когда мы смотрим пьесу, созерцаем картину или читаем роман, мы, бывает, чувствуем, что отдельные части не сходятся друг с другом. Например, у создателя могло и не быть эмоционально окрашенного опыта или эмоция в начале могла чувствоваться, но не сохраниться впоследствии, а потому произведение определялось цепочкой не связанных друг с другом эмоций. В таком случае внимание рассеивалось и сбивалось, и результатом стала сборка нестыкующихся друг с другом частей. Чувствительный наблюдатель или читатель замечает стыковки и сшивки, пробелы, заполненные произвольно. Да, эмоция должна действовать. Но она действует, обеспечивая непрерывность движения, уникальность результата, сохраняющегося несмотря на вариации. Она выбирает материал и определяет его порядок и расстановку. Но она не является тем, что выражается. Без эмоции было бы простое ремесло, а не искусство; если даже эмоция имеется и она сильна, но проявляется прямолинейно, результат тоже не может считаться искусством.
Другие произведения искусства переполнены эмоцией. Согласно теории, утверждающей, что проявление эмоции является ее выражением, переполненности быть не может; чем более сильна эмоция, тем действеннее выражение. На деле же человек, переполненный эмоцией, не способен ее выразить. Это зерно истины действительно содержится в формуле Вордсворта: «Эмоция, припомненная в спокойствии». Когда человек во власти эмоции, им слишком многое претерпевается (если говорить в вышеизложенных категориях описания опыта), но слишком мало активного ответа, чтобы можно было достичь равновесного отношения. В этом случае развитие искусства не допускается слишком большим количеством «природы». Например, многие полотна Ван Гога отличаются интенсивностью, пробуждающей ответный отклик в душе. Однако в такой интенсивности присутствует взрывной характер, обусловленный отсутствием положительного контроля. В крайних случаях проявления эмоции она приводит к беспорядку, а не упорядочиванию материала. Недостаточная эмоция проявляется в продукте, наполненном холодом своей «правильности». Избыточная эмоция препятствует необходимой проработке и определению частей.
Определение mot juste, правильного штриха в нужном месте, изящества пропорции, точности тона, краски и оттенка, помогающее свести воедино целое, но не забывающее и об определении части, осуществляется эмоцией. Но не каждая эмоция может выполнить эту работу, только та, что оформляется материалом постигнутым и собранным. Эмоция оформляется и развивается, когда она косвенно расходуется в поиске материала и его упорядочении, а не когда она прямо растрачивается.
* * *
Произведения искусства часто представляются нам спонтанными и лирическими, словно бы они были бездумной песней птиц. Но, к счастью или несчастью, человек не птица. И его самые что ни на есть спонтанные вспышки, если только они выразительны, – это не выплески мгновенного внутреннего напряжения. Спонтанным в искусстве является полное погружение в новый предмет, чья новизна удерживает эмоцию и сохраняет ее. Закоснелость материи и навязчивость расчета – два врага спонтанности выражения. Размышление, даже длительное и упорное, действительно могло участвовать в порождении материала. Однако в выражении все равно обнаружится спонтанность, если этот материал был подхвачен актуальным живым опытом. Неизбежное самодвижение стихотворения или драмы совместимо с любым объемом предшествующего труда, если только результат последнего возникает в полном слиянии с новой и свежей эмоцией. Китс поэтически рассуждает о том, как достигается художественное выражение:
Между умом и тысячами его подсобных материалов возникают бесчисленные соединения и отталкивания, прежде чем ему удается приблизиться к восприятию красоты – трепетному и нежному, как рожки улитки[11].
Каждый из нас усваивает определенные ценности и смыслы, содержащиеся в прошлом опыте. Но это происходит у нас в разной мере и на разных уровнях нашей субъективности. Некоторые вещи погружаются в глубину, другие остаются на поверхности, где их легко отодвинуть в сторону. В прошлом поэты обычно говорили о музе памяти, им не принадлежащей, ведь она находится вне их актуальной субъективности. Эта манера речи представляется данью силе самого глубокого в сознании, а потому и наиболее далекого от него, – силе того, что на самом деле определяет актуальность субъекта, а также то, что ему нужно сказать. Неправда, что мы забываем или выбрасываем в бессознательное только чуждые или неприятные вещи. Скорее уж вещи, которые мы сделали частями самих себя и усвоили их настолько, что они составляют саму нашу личность, а не просто сохраняются в качестве отдельных событий, а потому перестают обладать отдельным сознательным бытием. Какой-то повод, в общем-то какой угодно, может разбередить личность, сформированную таким образом. Потом возникает потребность в выражении. Выражаются не прошлые события, оказавшие свое оформляющие влияние, но и не повод, существующий буквально. Выражается – в зависимости от степени спонтанности выражения – внутреннее единство качеств актуального бытия с ценностями, включенными в саму нашу личность прошлым опытом. Непосредственность и индивидуальность, черты, отмечающие конкретное бытие, берутся от актуального повода; смысл, состав, содержание – от того, что было встроено в субъект в прошлом.
Я не думаю, что танец и пение даже маленьких детей можно полностью объяснить невыученными и неоформленными реакциями на актуальные объективные поводы. Очевидно, в настоящем должно быть что-то такое, что вызывает у них чувство счастья. Но сам акт выразителен только в той мере, в какой в нем присутствует созвучие чего-то сохраненного из прошлого опыта, а потому и обобщенного, с актуальными условиями. В выражении детского счастья сочетание прошлых ценностей и актуальных событий осуществляется с особенной легкостью; детям не приходится преодолевать слишком много препятствий, залечивать слишком много ран, находить решения многим конфликтам. У более зрелых людей все прямо противоположно. Соответственно, полное созвучие достигается редко. Однако когда оно налицо, оно возникает на более глубоком уровне и с более полным смысловым содержанием. И тогда конечное выражение, пусть даже после долгого вызревания и предшествующих родовых схваток, может найти выход в спонтанности зарифмованной речи или ритмического движения счастливого детства.
В одном из писем своему брату Ван Гог пишет, что «чувства порой настолько сильны, что работаешь, не зная о том, и мазки приходят в том же порядке, что и слова в речи или письме». Подобная полнота эмоций и спонтанность высказывания возможны, однако, только для тех, кто погрузился в опыт объективных ситуаций; тех, кто был долго поглощен наблюдением связанных с ними материалов и чье воображение было долго занято восстановлением того, что они видят и слышат. В противном случае возникает состояние скорее горячности, при котором ощущение упорядоченного производства всего лишь субъективно или призрачно. Даже выброс вулкана предполагает длительный период предшествующего сжатия, а если извержение выбрасывает расплавленную лаву, а не просто отдельные камни и пепел, то это означает и преобразование исходного сырья. Спонтанность – это результат длительного периода деятельности, иначе она останется пустой и не будет актом выражения.
То, что Уильям Джеймс писал о религиозном опыте, можно было бы сказать и о предварительных условиях акта выражения:
Когда человек сознательно направляет свой ум и свою волю к достижению идеала, последний все же недостаточно ясно вырисовывается в его воображении. Силы, созревающие в человеке чисто органически и без участия его сознания, стремятся в это время к своим особым целям, и сознательные стремления человека идут врозь со своими подсознательными союзницами, работающими для дела его душевного возрождения. И переустройство души, к которому стремятся эти скрытые глубокие силы, совершенно непохожи на те цели, которые человек сознательно ставит себе. Волевые усилия в данном случае служат только помехой для деятельности подсознательных сил.
А потому «когда новый центр духовной энергии уже народился в нашей подсознательной жизни, он должен развиваться без сознательного участия в этом с нашей стороны»[12].
Было бы сложно найти или придумать лучшее описание природы спонтанного выражения. Давление предшествует излиянию сока из давильного пресса. Новые идеи приходят в сознание – невзначай, но с готовностью, – только когда была произведена предшествующая работа для создания дверей, в которые они могут постучаться. Подсознательное созревание предшествует творческому производству в каждой области человеческих начинаний. Прямое усилие «ума и воли» само по себе никогда не рождало ничего, кроме чисто механического; их роль необходима, но она состоит в том, чтобы дать волю союзникам, им не подчиняющимся. В разные времена мы размышляем над разными вещами. Мы стремимся достичь целей, которые, судя по тому, как они представлены в сознании, не зависят друг от друга, поскольку каждая соответствует своему собственному поводу; мы совершаем разные акты, каждый со своим особым результатом. Однако все они проистекают из одного и того же живого существа, а потому каким-то образом связаны, но под уровнем сознательного намерения. Они работают сообща, и в конечном счете нечто рождается едва ли не вопреки сознанию личности, и уж точно не благодаря ее целенаправленной воле. Когда терпение завершило свой совершенный труд, человек вступает в обладание отвечающей ему музой и начинает говорить и петь, словно бы под диктовку какого-то божества.
Люди, обычно не числящиеся художниками, а именно мыслители, в своих действиях вовсе не руководствуются сознательным умом и волей, как обычно о них думают. Их тоже влечет вперед нечеткая, предвосхищаемая лишь в своем смутном наброске цель, а потому они прокладывают свой путь наощупь, когда их тянет к себе единая аура, окутывающая их наблюдения и размышления. Только психология, разделившая вещи, на самом деле общие, предполагает, что ученые и философы мыслят, тогда как поэты и художники следуют своим чувствам. У обоих категорий, в той степени, в какой они сопоставимы, есть эмоциональное мышление, чувства, чье содержание состоит из ценных для них смыслов или идей. Как я уже сказал, единственное важное различие относится к типу материала, на который направлено эмоциональное воображение. У тех, кого называют художниками, предметом выступают качества вещей непосредственного опыта; тогда как интеллектуальные исследователи работают с такими качествами опосредованно, благодаря символам, замещающим качества, но сами по себе, в своем непосредственном присутствии, значения не имеющими. Конечное различие весьма велико на уровне техники мысли и эмоции. Однако в плане зависимости от эмоциональных идей или подсознательного вызревания различия нет. Мышление, осуществляемое непосредственно в цветах, тонах, образах, – в техническом плане операция, отличная от мышления в словах. Однако только суеверие заставляет считать, что, поскольку смысл картин и симфоний невозможно перевести в слова, а поэзию – в прозу, значит, мысль – епархия исключительной последней. Если бы все смыслы могли верно выражаться словами, искусства живописи и музыки не существовали бы. Есть ценности и смыслы, способные выражаться только качествами, видимыми и слышимыми непосредственно, и спрашивать, что они значат, если выразить их в словах, – означает отрицать их особое, присущее только им бытие.
Разные люди различаются относительной величиной участия сознательного ума и воли в актах выражения. Эдгар Аллан По оставил нам описание процесса выражения, как он протекает у тех, кто отличается более целенаправленным складом ума. Он рассказал о том, что происходило, когда он писал «Ворона»:
Большинство литераторов ‹…› прямо-таки содрогнутся при одной мысли позволить публике заглянуть за кулисы и увидеть, как сложно и грубо работает мысль, бредущая на ощупь; увидеть, как сам автор постигает свою цель только в последний момент; как вполне созревшие плоды фантазии с отчаянием отвергаются ввиду невозможности их воплотить; как кропотливо отбирают и отбрасывают; как мучительно делают вымарки и вставки, – одним словом, увидеть колеса и шестерни, механизмы для перемены декораций, стремянки и люки, петушьи перья, румяна и мушки, которые в девяноста девяти случаях из ста составляют реквизит литературного лицедея[13].
Нет нужды слишком серьезно относиться к численному соотношению, приведенному По. Однако смысл сказанного им состоит в живописном представлении довольно прозаического факта. Первичный, сырой материал опыта должен быть переработан, если от него требуется художественное выражение. Часто эта потребность больше именно в случаях вдохновения, чем в каких-то других. В этом процессе эмоция, вызванная исходным материалом, видоизменяется, когда привязывается к новому материалу. Этот факт дает нам подсказку, позволяющую понять природу эстетической эмоции.
Что касается физических материалов, участвующих в формировании произведения искусства, каждому известно, что они претерпевают определенные изменения. Мрамор следует обтесать; краски – положить на холст; слова – составить друг с другом. Но обычно не признается, что похожее преобразование происходит и во «внутренних» материалах, то есть образах, наблюдениях, воспоминаниях и эмоциях. Они также постепенно реформируются, то есть ими тоже надо как-то распорядиться. Такое видоизменение и является созданием истинно выразительного акта. Клокочущее и требующее выхода побуждение, первоначально остающееся простой возбужденностью, должно, если оно хочет получить красноречивое выражение, пройти столь же тщательную обработку, что и мрамор, краски, цвета и звуки. На самом деле это не две разные операции, одна из которых прилагается к внешнему материалу, а другая – к материи внутренней и психической.
Произведение является художественным в той мере, в какой две стороны такого преобразования выполняются в одной операции. Когда художник кладет краски на полотно или воображает, как они лягут, его идеи и чувства тоже упорядочиваются. Когда писатель сочиняет в своем словесном медиуме то, что хочет сказать, его идея приобретает ощутимую для него самого форму.
Скульптор задумывает статую не только в категориях ума, но и в категориях глины, мрамора или бронзы. Не имеет большого значения, как именно прорабатывает свою исходную эмоциональную идею музыкант, художник или архитектор – в слуховых и визуальных образах или в реальном медиуме, с которым он работает. Дело в том, что воображение – тоже объективный медиум, претерпевающий определенное развитие. Физические медиумы могут упорядочиваться как в воображении, так и в конкретном материале. Так или иначе, физический процесс развивает воображение, тогда как воображению дают ход образы, связанные с конкретным материалом. Только благодаря постепенной организации «внутреннего» и «внешнего» материала в их органической связи друг с другом можно произвести нечто такое, что не будет научным документом или иллюстрацией чего-то известного.
О неожиданности можно говорить только применительно к проявлению материала выше порога сознания, но не к процессу его вынашивания. Если бы мы могли возвести каждое такое проявление к его корням и проследить его историю, то нашли бы в начале сравнительно грубую и неопределенную эмоцию. Мы бы выяснили, что она приобрела определенную форму только после ее проработки в цепочке изменений, осуществленных в материале воображения. Большинству из нас, чтобы быть художниками, недостает не начальной эмоции и даже не технического навыка практического исполнения. Если бы выражение было лишь своего рода страстью к копированию или вытаскиванию кролика из шляпы, тогда художественное выражение было бы делом сравнительно простым. Однако зачатие отделено от рождения долгим периодом вынашивания. В этот период внутренний материал эмоции и идеи преобразуется в результате действия и воздействия на него со стороны объективного материала в той же степени, в какой последний претерпевает видоизменение, становясь медиумом выражения.
Именно это преобразование меняет характер исходной эмоции так, что ее качество становится по своей природе отличительно эстетическим. Если дать формальное определение, эмоция является эстетической, когда она связана с объектом, сформированным выразительным актом в том смысле, в котором последний был определен.
Вначале эмоция напрямую устремлена к своему объекту. Любовь желает обласкать предмет любви, а ненависть – его уничтожить. Но и ту, и другую эмоцию можно отклонить от ее прямой цели. Эмоция любви может начать искать материал, отличный от собственно возлюбленного, но при этом родственный и соответствующий ему благодаря эмоции, сближающей и сродняющей разные вещи. Таким другим материалом может быть что угодно, лишь бы оно питало собой эмоцию. Достаточно свериться с поэтами, и мы поймем, что любовь находит свое выражение в ревущих потоках, тихих прудах, в замирании природы перед грозой, в парящей птице, в далекой звезде или проблеске луны. По своему характеру этот материал не метафоричен, если понимать под метафорой результат того или иного акта сознательного сравнения. Намеренная метафора в поэзии – инструмент, к которому разум обращается лишь тогда, когда эмоция не может насытить материал. Словесное выражение может принимать форму метафоры, однако за словами стоит акт эмоционального отождествления, а не интеллектуального сравнения.
Во всех этих случаях тот или иной объект, эмоционально родственный прямому объекту эмоции, встает на место последнего. Он действует вместо самой ласки, опасливого приближения или попытки взять предмет любви натиском. Верно замечание Томаса Эрнеста Хьюма: «Красота – это топтание на месте, недвижная вибрация, напускной экстаз остановленного импульса, не способного достичь своей естественной цели»[14]. Если в этом высказывании и есть нечто неправильное, так это скрытый намек на то, что побуждение должно достичь своей «естественной цели». Если бы эмоция любви между полами не превозносилась благодаря ее отклонению в материал, эмоционально ей родственный, но практически неважный для ее непосредственного объекта и прямой цели, есть все причины предполагать, что она так и осталась бы на уровне животных. Импульс, остановленный в своем прямом движении к нормальной в физиологическом смысле цели, не останавливается в поэзии в каком-то абсолютном смысле. Он перенаправляется в непрямые каналы, где находит иной материал, отличный от того, что ему «естественно» надлежит, и когда он сливается с этим материалом, приобретает новый цвет и влечет новые следствия. Вот что происходит, когда тот или иной естественный импульс идеализируется или одухотворяется. Объятие любовников возвышается над животным уровнем тем именно фактом, что оно в своей реальности вбирает в себя в качестве самого своего смысла следствия этих отклонений на непрямые пути, каковыми и является воображение в действии.
Выражение – это прояснение смутной эмоции. Наши стремления познают сами себя, когда отражаются в зеркале искусства, то есть когда они преображаются. Тогда-то и возникает собственно эстетическая эмоция. Она не является формой чувства, вначале существующего независимо. Это эмоция, вызванная выразительным материалом, а поскольку она вызывается им и связана с ним, она состоит из естественных эмоций, подвергшихся преобразованию. Например, ее вызывают природные предметы, пейзажи. Однако вызывают они ее только потому, что, когда сами стали материей опыта, они тоже претерпели изменение, схожее с тем, что осуществляет художник или поэт, преображая непосредственно данную ему сцену в материю акта, выражающего ценность увиденного им.
Раздраженный человек хочет что-нибудь сделать. Он может подавить свое раздражение прямым актом воли. Самое большее, он может вытеснить его в какой-то подсознательный канал, где оно продолжит свою работу, уже более коварную и разрушительную. Он не может подавить его, как не может своим волеизъявлением отменить действие электричества. Однако он может обуздать и то и другое, применив их к новым целям, освобождающим силу естественного фактора от ее разрушительности. Раздраженному человеку, чтобы почувствовать облегчение, не обязательно выплескивать свое раздражение на соседей или членов семьи. Он может вспомнить, что хорошим средством является размеренная физическая деятельность. Тогда он принимается прибирать свою комнату, выравнивает покосившиеся картины, разбирает бумаги, вычищает ящики и вообще приводит вещи в порядок. Он использует свою эмоцию, переключая ее на косвенные каналы, подготовленные прежними его занятиями и интересами. Но поскольку в применении этих каналов есть нечто эмоционально родственное средствам, позволявшим его раздражению находить прямую разрядку, его эмоция упорядочивается, когда он приводит вещи в порядок.
Это преобразование составляет саму сущность перемены, происходящей в любом естественном или исходном эмоциональном побуждении, когда оно выбирает непрямую дорогу выражения вместо прямого пути разрядки. Раздражение можно прямой стрелой направить на его цель и произвести некоторую перемену во внешнем мире. Но достижение внешнего результата существенно отличается от упорядоченного применения объективных условий для объективного осуществления эмоции. Последнее только и является выражением, а эмоция, привязанная к конечному объекту или проникнутая им, является эстетической. Если человек из нашего примера приводит свою комнату в порядок в рамках просто обычной рутины, в его действиях нет ничего эстетического. Но если его исходная эмоция нетерпеливого раздражения была упорядочена и умиротворена тем, что он сделал, тогда прибранная комната отражает изменение, произошедшее в нем самом. Он чувствует, что не просто выполнил какую-то неприятную домашнюю обязанность, но завершил нечто в эмоциональном смысле. То есть его эмоция, подобным образом объективированная, является эстетической.
* * *
Итак, эстетическая эмоция – нечто особенное, но в то же время она не отрезана пропастью от других, естественных видов эмоционального опыта, вопреки утверждениям некоторых теоретиков. Читатель, знакомый с современной литературой по эстетике, знает, что она обычно ударяется то в одну крайность, то в другую. С одной стороны, в ней предполагается, что бывает, по крайней мере у некоторых одаренных людей, эмоция, являющаяся по своему существу эстетической, и что художественное творчество и художественная оценка – проявления такой эмоции. Подобная концепция является неизбежным логическим выражением всех установок, которые представляют искусство в качестве чего-то эзотерического, изгоняя изящные искусства в область, отделенную пропастью от повседневного опыта. С другой стороны, вполне оправданная по своему намерению реакция на этот взгляд ударяется в другую крайность, утверждая, что такой вещи, как собственно эстетическая эмоция, не существует вовсе. Эмоция любви, не выливающаяся в прямой акт ласки, но требующая наблюдения или образа парящей птицы, эмоция раздражения, которая не разрушает и не оскорбляет, но приводит вещи в порядок, не является номинально тождественной исходному естественному состоянию. Однако она состоит с ним в непосредственном родстве. Эмоция, в конечном счете высвобожденная Теннисоном при создании In Me-moriam, не совпадала с эмоцией горя, проявляющей себя в плаче и удрученности: первая представляет собой акт выражения, а вторая – разрядки. Однако преемство двух эмоций, тот факт, что эстетическая эмоция – это исходная эмоция, преображенная объективным материалом, которому она обязана своим развитием и завершением, вполне очевидно.
Сэмюэл Джонсон, известный своим по-обывательски непреклонным предпочтением воспроизведения знакомого, критиковал «Ликида» Мильтона:
Это нельзя считать излиянием настоящей страсти, поскольку страсть не бежит за далекими намеками и темными мнениями. Страсть не срывает ягоды мирта и плюща, не взывает к Аретузе и Минцию, не рассказывает о грубых сатирах и фавнах с раздвоенным копытом. Там, где есть время для вымысла, там немного горя.
Конечно, основополагающий принцип критики Джонсона не позволил бы возникнуть ни одному произведению искусства. Он, и это было бы совершенно логично, ограничил бы «выражение» горя слезами и вырыванием волос. Таким образом, хотя конкретный предмет стихотворения Мильтона не использовался бы сегодня в элегии, оно, как и любое другое произведение искусства, обязано работать с далеким в одном из его аспектов – в частности, далеким от непосредственного излияния эмоции и от привычного материала. Горе, созревшее настолько, что ему, чтобы найти облегчение, уже не нужны слезы и рыдания, обратится к тому, что Джонсон называет вымыслом, то есть к материалу воображения, пусть он и отличается от литературы, классического или древнего мифа. У всех первобытных народов рыдания вскоре приобретают церемониальную форму, «удаленную» от своего первоначального проявления.
Другими словами, искусство – это не природа, но природа, преображенная вступлением в новые отношения, когда она вызывает новую эмоциональную реакцию. Многие актеры смотрят на представляемую ими эмоцию со стороны. Этот факт известен как парадокс Дидро, поскольку он первым разработал эту тему. На самом деле это парадокс лишь с точки зрения, подразумеваемой в приведенной цитате Сэмюэла Джонсона. Современные исследования показали, что есть два типа актеров. Одни говорят, что лучше всего играют, когда эмоционально «теряют» себя в своей роли. Однако этот факт не является исключением из сформулированного нами принципа. Дело в том, что это в конечном счете все равно роль, «партия», то есть «часть», с которой актеры себя отождествляют. Поскольку это партия, она понимается и рассматривается как часть целого; если в актерстве есть искусство, роль подчиняется так, чтобы занять место части целого. А потому она характеризуется эстетической формой. Даже те, кто наиболее остро ощущают эмоции представляемого персонажа, не теряют осознания того, что они на сцене, где свою роль исполняют и другие актеры, что они стоят перед аудиторией, а потому должны сотрудничать с другими актерами ради создания определенного эффекта. Эти факты требуют и означают определенное видоизменение исходной эмоции. Изображение опьянения – распространенный прием комической сцены. Однако действительно пьяному человеку пришлось бы использовать искусство, чтобы скрыть свое состояние, если он не желает вызвать у аудитории отвращение или смех, существенно отличный от смеха, вызванного разыгрываемым опьянением. Различие двух типов актеров – это не различие между выражением эмоции, управляемой отношениями ситуации, в которую она вступает, и проявлением сырой эмоции. Это лишь различие в методах достижения желанного эффекта, связанное, несомненно, с личными темпераментами актеров.
Наконец, сказанное определяет место злосчастной проблемы отношения эстетики или изящных искусств к другим способам производства, также именуемым искусством, хотя и не решает ее. Существующее между ними различие на самом деле, как мы уже выяснили, не может быть устранено определением обоих в категориях техники или умения. Но также его нельзя возводить в непреодолимое препятствие, связывая создание изящных искусств с неким уникальным импульсом, обособленным от побуждений, действующих в формах выражения, обычно не относимых к категории изящных искусств. Тот или иной поступок может быть возвышенным, а манеры – грациозными. Если побуждение к той организации материала, которая представляет его в форме, достигающей прямого завершения в опыте, не существовало бы вне искусств живописи, поэзии, музыки и скульптуры, оно бы нигде не существовало, а тогда не было бы и изящных искусств.
Проблема наделения эстетическим качеством всех способов производства серьезна. Но эта человеческая проблема, требующая человеческого решения, а не проблема, решению не поддающаяся, поскольку она якобы определена непреодолимым разрывом в самой природе человека или вещей. В несовершенном обществе (но ни одно общество никогда не будет совершенным) изящные искусства в какой-то мере всегда будут способом скрыться от жизненных забот или их приукрасить. Однако в обществе, выстроенном лучше того, где живем мы, все способы производства сопровождались бы бесконечно большим счастьем, чем ныне. Мы живем в мире, где неимоверно много организованности, однако это внешняя организованность, а не та, что определяется упорядочением развивающегося опыта, увлекающего все живое существо в целом к завершающей развязке. Произведения искусства, не исключенные из обычной жизни и служащие источниками наслаждения для всего общества, являются признаками единой коллективной жизни. Однако они еще и чудесные помощники в создании подобной жизни. Преобразование материала опыта в акте выражения – это не отдельное событие, привязанное исключительно к художнику или зрителю, которому посчастливилось насладиться его произведением. В той мере, в какой искусство исполняет свой долг, оно должно быть еще и преобразованием опыта общества в целом, направленным на больший порядок и единство.
5
Выразительный объект
ВЫРАЖЕНИЕ, подобно строению, является одновременно и действием, и результатом. В предыдущей главе оно рассматривалось в качестве акта. Теперь мы займемся им как продуктом, то есть выразительным объектом, что-то нам сообщающим. Если два этих смысла разделяются, тогда объект рассматривается отдельно от операции, создавшей его, а потому и от индивидуальности видения, поскольку акт проистекает из индивидуального живого существа. Теории, понимающие «выражение» так, словно бы оно обозначало только объект, всегда стремятся как можно больше подчеркнуть то, что объект искусства по существу репрезентативен, то есть представляет другие, уже существующие, объекты. Они игнорируют индивидуальный вклад, определяющий новизну объекта. То есть они останавливаются на «универсальном» характере такого объекта и на его смысле, причем «смысл» – как мы увидим в дальнейшем, термин двусмысленный. С другой стороны, обособление акта выражения от выразительности, имеющейся у объекта, ведет к представлению о том, что выражение – процесс всего лишь разрядки личной эмоции, а эта концепция была подвергнута критике в предшествующей главе.
Сок, выдавливаемый в давильном прессе, является тем, что он есть – чем-то новым и особенным, в силу предшествующего акта. Он не просто представляет другие вещи. Однако он в чем-то родственен другим объектам, и он сделан так, чтобы привлекать не только людей, его создавших. Стихотворение и картина представляют материал, прошедший перегонный куб личного опыта. Их существованию ничто не предшествовало, как нет у них и универсального бытия. Однако их материал был позаимствован из публичного мира, а потому он обладает качествами, родственными материалу других видов опыта, хотя продукт у других людей порождает новые восприятия смыслов этого общего мира. К произведению искусства неприложимы противопоставления индивидуального и всеобщего, субъективного и объективного, свободы и порядка, о которых так любят размышлять философы. В выражении личный акт и объективный результат органически связаны друг с другом. Поэтому нам нет необходимости углубляться в метафизические вопросы. Мы можем подойти к проблеме прямо. Что имеется в виду под репрезентативностью искусства, если оно действительно должно быть в определенном смысле репрезентативно, поскольку оно выразительно? Бессмысленно говорить о произведении искусства вообще, что оно репрезентативно или не репрезентативно. Дело в том, что у самого этого слова есть много разных значений. Утверждение о репрезентативности может быть истинным в определенном отношении, но ложным в другом. Если под репрезентативностью понимать буквальное воспроизведение, тогда произведение искусства, конечно, не имеет подобной природы, поскольку такой взгляд игнорировал бы уникальность произведения, обусловленную личным медиумом, через который прошли сцены и события. Матисс сказал, что фотокамера стала для художников благословением, поскольку она освободила их от мнимой необходимости копировать объекты. Однако репрезентация может означать и то, что произведение искусства рассказывает тем, кто им наслаждается, о природе их собственного опыта мира, то есть представляет мир в новом переживаемом ими опыте.
Подобная двусмысленность связана и с вопросом о значении произведения искусства. Слова – символы, представляющие объекты и действия в том смысле, что они означают их, в этом плане у них действительно есть смысл. Дорожный указатель обладает смыслом, когда на нем написано, что до такого-то места столько-то миль, и есть указывающая направление стрелка. Однако смысл в двух этих случаях является чисто внешней отсылкой – он означает нечто, указывая на это нечто. Смысл не принадлежит слову или дорожному указателю как таковым в силу их исконного права. Они обладают смыслом так же, как алгебраическая формула или какой-то шифр. Но есть и другие смыслы, прямо представляющие себя в качестве собственного качества объектов, переживаемых в опыте. В этом случае нет нужды в коде или условиях интерпретации. Смысл столь же внутренне присущ непосредственному опыту, как смысл цветущего сада. Отрицание наличия смысла у произведения искусства имеет, таким образом, два совершенно разных значения. Оно может означать то, что произведение искусства не обладает смыслом, имеющимся у знаков и математических символов, – и это утверждение верно. Или оно может означать, что произведение искусства лишено смысла в том плане, что это бессмыслица. Произведение искусства определенно не имеет смысла, имеющегося у флагов, используемых при передаче сигналов с одного судна другому. Но оно обладает тем смыслом, который есть у тех же флагов, когда ими украшают палубу судна для танцев.
Поскольку никто, наверное, не стал бы утверждать, что произведения искусства совершенно и безусловно бессмысленны, может показаться, что обычно люди отрицают лишь внешний смысл, находящийся вне произведения искусства.
Но, к сожалению, не все так просто. Отрицание наличия смысла у искусства обычно покоится на предположении о том, что ценность или смысл, имеющийся у произведения искусства, настолько уникален, что он не сообщается и никак не связан с содержанием других видов опыта, отличных от эстетического. То есть это просто иной способ утверждения того, что я назвал эзотерической идеей изящных искусств. Тогда как концепция, подразумеваемая предложенной в предшествующих главах трактовкой эстетического опыта, состоит в том именно, что произведение искусства действительно обладает уникальным качеством, но последнее состоит в прояснении и сосредоточении смыслов, в рассеянном или ослабленном виде содержащихся в материале других видов опыта. К рассматриваемой проблеме можно подойти, установив различие между выражением и утверждением. Наука утверждает смыслы, искусство их выражает. Возможно, это замечание само по себе иллюстрирует различие выражения и утверждения лучше любого пояснительного комментария. Однако я отважусь на некоторую его расшифровку. Поможет пример дорожного указателя. Он направляет движение человека к определенному месту, например городу. Но он ни в коем случае не наделяет опытом этого города, пусть даже опосредованно. Он просто ставит некоторые условия, которые необходимо удовлетворить, чтобы получить этот опыт. Содержание этого примера можно обобщить. Утверждение ставит условия возможности опыта определенного объекта или ситуации. Следовательно, утверждение верно, то есть действенно в той мере, в какой эти заявленные им условия таковы, что могут использоваться как ориентиры для достижения кем-либо определенного опыта. И наоборот, утверждение является ложным и запутанным, то есть неверным, если оно ставит такие условия, что они, если использовать их как ориентиры, собьют с пути, а если и приведут к объекту, то только после долгого блуждания.
Наука означает способ утверждения, наиболее полезный в качестве именно ориентира. Возьмем старый стандартный пример, хотя наука, возможно, сегодня готова его несколько уточнить. Утверждение о том, что вода – это Н20, – это прежде всего утверждение об условиях возникновения воды. Но для того, кто его понимает, это также ориентир для производства чистой воды и проверки любой жидкости, которую можно принять за воду. И это утверждение лучше, чем утверждения обыденные или донаучные, поскольку, заявляя полные и точные условия существования воды, оно ставит их так, что дает ориентир для производства воды. Новизна и современный престиж научного утверждения (обусловленный в конечном счете его эффективностью в роли ориентира) таковы, что часто оно считается обладающим чем-то большим, нежели функция дорожного указателя, что оно раскрывает или выражает внутреннюю природу вещей. Если бы оно действительно было способно на это, то вступило бы в конкуренцию с искусством, и нам пришлось бы занять сторону одного или другого и решить, что именно – наука или искусство – раскрывает вещи в их более подлинном смысле.
Поэзия, столь отличная от прозы, эстетическое искусство, столь отличное от научного, и выражение, столь отличное от утверждения, не просто ведут к какому-то опыту. Эстетическое искусство создает такой опыт. Путешественник, следующий утверждению или ориентиру дорожного указателя, в итоге оказывается в городе, на который последний указывал. И тогда в его собственном опыте могут появиться некоторые из смыслов, имеющиеся и у города. Мы можем даже сказать, что город сам для него выразился – так же, как Тинтернское аббатство выразилось для Вордсворта в его стихотворении и благодаря ему. Действительно, город может выразить себя в празднестве с торжественной процессией и всеми остальными атрибутами, позволяющими действительно воспринять его историю и дух. Кроме того, если гость сам обладает опытом, позволяющим ему принять участие в празднестве, мы имеем дело с выразительным объектом. Настолько же отличным от утверждений географического справочника, каким бы полным и точным он ни был, насколько стихотворение Вордсворта отличается от рассказа о Тинтернском аббатстве какого-нибудь мемуариста. Стихотворение или картина работает не в координатах верного описательного утверждения, но в координатах самого опыта. Поэзия и проза, буквально воспроизводящие вещи фотография и живопись работают в разных медиумах и с разными целями. Проза излагается высказываниями. Логика поэзии действует поверх высказываний, даже если в строго грамматическом смысле она их тоже использует. Высказывания обладают намерением, тогда как искусство – непосредственное осуществление намерения.
В письмах Ван Гога брату немало наблюдений вещей, многие из которых он изобразил на своих картинах. Я приведу один из таких примеров:
У меня есть еще вид на Рону с железнодорожным мостом у Тринкеталя: небо и река цвета абсента, набережные – лилового тона, люди, опирающиеся на парапет, – черноватые, сам мост – ярко-синий, фон – синий с нотками ярко-зеленого веронезе и резкого оранжевого[15].
Это утверждение рассчитано так, чтобы подвести брата к подобному «виду». Но кто от одних лишь слов – «я ищу чего-то особенно надрывного и, следовательно, особенно надрывающего сердце» – мог бы сделать переход, совершаемый самим Ван Гогом, к особой выразительности, которой тот желает достичь в своей картине? Сами по себе эти слова не являются выражением, они только указывают на него. Выразительность, эстетический смысл – это сама картина. Однако различие между описанием сцены и тем, к чему художник стремился, способно напомнить нам о различии между утверждением и выражением.
