Читать онлайн Блуждающий бесплатно
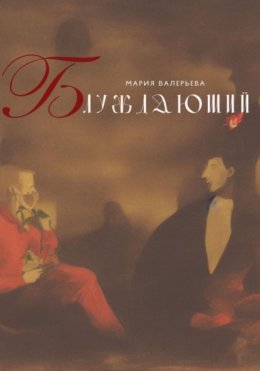
Посвящение
Всем ненайденным, потерянным, ищущим и блуждающим, которым еще не посчастливилось обрести свой уголок на бесконечном шаре мира.
Тем, кто очень этого желает.
И тем, кто готов помочь им в сложных поисках.
Первая запись
Десять лет назад я выиграл у смерти партию в шахматы, и трофейный король все еще лежит у меня в кармане. Но игра продолжается. И теперь я сам сделаю первый ход.
Старая лампа отбрасывает на записи свет, будто бы разжиженный жемчужной краской. За окном мрачная туманность ночной улицы, окропленная яркими брызгами машинных фар, слышится гул людских разговоров, топот ног по асфальтированной дороге и шелест водяных брызг, ударяющихся о стекло. Квартира погружена в безмолвный мрак, часы мирно тикают в гостиной, и медленный бег секундной стрелки эхом отбивается от стен, оклеенных обоями с шелкографией.
Как же все-таки полезно возвращаться в прошлое, думаю я. Прав он был: важно записывать все, что приключилось, снова и снова оказываться там, где тебя уже давно нет, чтобы ощутить реальность жизни. Удивляться, как когда-то будущее казалось далеким, несуществующим, а не схоронившимся за соседним поворотом.
Когда-то мне было восемнадцать, я не верил в волю случая, следовал чужим, а не собственным, советам. Жизнь казалась бесконечным летом.
Помню, меня назвали «блуждающим». Сказали, что бродить по путям, где никто не сможет указать мне верный, придется долго, может, всю жизнь.
Когда-то я и не подозревал, что мир, пленяющий осязаемостью и ароматами, появится, если отбросишь скептицизм и попробуешь представить. Нужно попытаться увидеть правду там, где никогда не искал, и найти силы идти, обходя чужие следы.
За моим окном – сотни тысяч блуждающих. Бродяги и потерянные души наводнили этот мир и ненайденные направляют их.
Мне, может, и повезло, а, может, и нет. Мое знание – благословение и наказание.
Но эти записи я посвящаю тебе, ведь именно ты стала причиной моего изменения. Привела за руку к судьбе и оставила у нее на растерзание. Ты следила за тем, как я копал яму за ямой и старательно выползал из каждой. И я благодарен.
Я вспоминаю, роюсь в записях, складываю картинки из обрывков фраз и мимолетных взглядов. Спустя столько лет все еще вижу прошлое фильмом в ретро-обработке, и голос твой слышится в голове, окруженный гулкими потрескиваниями.
Вспоминаю, надеясь, что хотя бы книжные страницы смогут добраться до тебя, ведь я, увы, уже не навещу тебя. Надеюсь, кто-то передаст мою исповедь. Что ты прочитаешь и все поймешь.
Я искренне надеюсь, что ты не одна.
Ведь благодаря тебе и я не один.
Знай, я все еще храню в сердце Диму, которого ты знала.
Пишу тебе очередной осенью, спустя годы после нашей встречи.
Дмитрий Жданов.
Глава I: Первая палка в колесо
Я знаю, что все было бы иначе, случись эта история неделей раньше или позже.
Если бы она появилась в двадцатых числах августа, я бы, может, уже уехал в соседний город и устроился бы на найденную родителями работу.
Если бы это произошло в июле, то я бы вряд ли застал ее – мы бы могли уехать к родственникам и пробыли бы там несколько дней. Все было бы иначе.
Но это случилось десятого августа.
В тот жаркий день асфальт у заправки дымился. Машины к нам не заезжали, редкие индивиды проносились мимо, спавшие дороги утопали в поднятой шинами пыли и чихали. Было одиннадцать или двенадцать часов, до конца рабочего дня оставалось еще несколько концертов по радио, пара-тройка перерывов на обед, перекур. Тихо играла единственная радиостанция, которую можно поймать в глуши и не бояться помех. Кажется, в те минуты крутили концерт стародавних времен, и певец, чьего имени я не знал, пел о неразделенной любви. Глеб, мой напарник, играл в стрелялку на телефоне и делал вид, что работал. Упаковки еды изнемогали от жары и ненадобности на полках, а масла и незамерзайки для машин и вовсе потеряли всякую надежду быть купленными.
Я сидел за одним из столов, забросив ноги на стоявший рядом стул, и переписывался с Костей. Мы обсуждали новинки кино и пытались не думать о приближавшемся сентябре.
Был самый обыкновенный день. Никому не нужный и ленивый, как и все августовские, тянувшийся вязкой карамелью по часам, которые еле-еле двигали минутную стрелку. Казалось, мир застыл, оставив нас сгорать под лучами солнца.
И поэтому меня так удивила машина, которая вдруг свернула с дороги и неспешно подкатилась к нашей заправке.
Сначала я подумал, что она мне привиделась или в наших краях откуда-то взялся мираж. Но я вспомнил, что находился не в пустыне, а посередине поля, с двух сторон огороженного деревнями, которым до гордого звания «поселка» оставалось совсем немного. Не нашим просторам рождать фантазии.
Я долго всматривался, но все-таки убедился, что увиденное реально. В брызгах жары, на фоне размазаного горизонта, стояло большое черное пятно. Я так разволновался своему открытию, что поспешил рассказать о машине напарнику. Быстро, чуть ли не на корточках, подлетел к стойке, воображая себя, наверное, героем фильма про шпионов. Заговорческим шепотом рассказал напарнику о машине.
– Пойди да спроси. Мне-то что? – Глеб даже не оторвался от партии в «Снайпера».
–Ну, мы же должны обслуживать, все такое, – промямлил я.
– Ну так иди! Отвали от меня уже! Сами подойдут.
Я пропустил слова Глеба мимо ушей: у него всегда были замашки командира.
Машина, черная, с тонированными стеклами, стояла слишком близко к входу, прямо напротив двери. Я испугался. Вспомнил все фильмы про бандитов и уже решил, что нас приехали грабить. Я представлял, как трое бандитов натягивали маски и заряжали оружие в салоне. Брать с нас, конечно, нечего, если им не нужны просроченные «сникерсы», перемороженное мороженое и вонючая незамерзайка синего цвета. Но я об этом как-то не подумал.
– Ну сходи, посмотри, кто там! – Я пихнул Глеба локтем, а сам спрятался за стойкой. Из машины выходить не спешили. Будто бы специально нагнетали обстановку.
– Долбанулся? – прошипел Глеб и потер бок.
– Ну сходи, пожалуйста!
– А че я сразу? Сам шо ли не можешь? – буркнул Глеб, почесывая щетинистый подбородок пальцем с обкусанными заусенцами.
– Ну ты ж старше! И выглядишь круче!
Глеб, на удивление, даже спорить не стал. Только зыркнул с превосходством, будто бы нехотя согласившись с неумелой лестью, запихнул телефон в карман шорт и неспеша направился к выходу. Я наблюдал за ним, затаив дыхание.
Он прошел мимо стеллажа с конфетами, обогнул холодильники и стойку с журналами и распахнул стеклянную дверь. Улица дышала жарой. Обстриженные волосы Глеба всколыхнулись от дуновения горячего ветра, пропахшего асфальтом и сеном. Мой напарник подошел к машине и костяшками пальцев постучал в окно. Скорее всего, он уже успел увидеть водителя. Жаль, что без очков я не мог похвастаться тем же. Окно медленно опускалось, а лицо Глеба следовало следом. Он наклонился, что-то сказал, учтиво кивнул и направился назад. Следом распахнулась дверь, из машины высунулась нога, а я уже юркнул под стойку. Отчего-то мне, юному воображале, было страшно. Хотя, что с меня взять: я был всего лишь подростком, соскучившимся по приключениям или вовсе их не знавшим. Или же я просто люблю оправдываться.
Сейчас я думаю, что, не спрячься тогда, может, и не записывал все произошедшее со мной в дневник, не научился хорошо собирать слова в предложения и вообще жизнь бы моя сложилась иначе.
Может быть, женился на Кате, моей бывшей девушке. Купили бы домик в соседней деревне или вообще бы уехали в далекую, но богатую станицу, где у Катьки жила тетка, и строили бы свой быт. А какие там виды! Солнце словно ночует на полях, совсем их не покидает, и тепло-тепло там, даже зимой.
Или через год я бы поступил в университет на направление, считавшееся более престижным и учился бы там, не думая о будущем. Кто вообще переживает о старости, когда так хочется впервые попробовать взрослую жизнь на вкус? Для этого университет и нужен: нарадоваться перед работой.
Мог бы купить земли и сделаться фермером, продавал бы овощи и мясо. Многие знакомые родителей так и делали и казались вполне довольными, даже на отдых летом умудрялись ездить.
А может я бы купил мотоцикл и унесся прочь, в неизвестность, где меня бы обязательно ждало что-то хорошее.
Во всех предположениях и мечтах было слишком много «бы», но я верил – в будущем меня точно ожидало что-то замечательное, обязательно вознаградившее меня за восемнадцать лет обыкновенности.
Идеальные варианты моей жизни, один другого краше возникали в голове, и на каждый из них я был согласен.
Я пытался не поддаваться откуда-то взявшемуся страху. Но шаги, почти беззвучные, приближались к стойке. Я слышал позвякивание металла. Задержал дыхание на несколько секунд, закрыл глаза. Что-то внутри меня, что-то всегда дремавшее, и лишь в тот день наконец пробудившееся, вопило о приближении особенного.
Шаги незнакомца и стук моего сердца в унисон отбивали чечетку. Я пытался вспомнить что-то дурацкое, рассмеяться и забыть о страхе.
Но ничего не помогло.
И все перевернулось с ног на голову в тот жаркий день, пропахший плавившимся асфальтом, десятого августа, когда я, прячась за стойкой, впервые услышал бесцветный голос, который до сих пор преследует меня во снах.
Глава II: Явление каменного изваяния
Понять, что же такого странного было в ее голосе, я смог только спустя время, но тогда главной странностью казалось само ее присутствие на заправке: дорога, на которой стояло наше цыплячьего цвета пристанище, в августе была почти пустой. До моря от нас километров двести, а до ближайшего приморского города – еще больше. Все машины, направлявшиеся туда, ехали по трассе, спрятавшейся за бесконечным полем сухой травы под скос. А на нашу дорогу попадали либо местные, которым просто-напросто нужно проехать в соседнюю деревню, либо те путешественники, которых навигатор повел обходным, более длинным, путем. С каждым годом их было все меньше.
Так что появление одинокой девушки на черной машине очень меня удивило. Но до главных странностей было далеко.
Когда она уехала в первый день, я осознал наконец, что девушка, может, проезжала мимо и захотела попить, а на ближайшие километров десять ни одной заправки не нашлось. Может, незнакомка приехала к родственникам или направлялась к морю. Да кто знает, куда она держала путь. Дело в том, что в появлении черной машины тем жарким утром, запах которого все еще горчит ароматом сухих трав тонкой пленкой на небе, не было ничего мистического.
Странности начались на второй день, когда машина опять подъехала к заправке и припарковалась у входа.
Я взглянул на часы и ужаснулся. Девушка приехала в то же время, даже передача на радио, кажется, не поменялась. Я быстро отошел к служебному помещению, юркнул за дверь.
– Я тут посижу, хорошо? Примешь заказ? – спросил я, высовываясь из-за двери.
Глеб хмыкнул:
– Ты ж вроде не ссыкло, а ведешь себя как ссыкло.
– Ну ты же любишь с девушками общаться. Я-то в этом плане тот еще лошара.
Глеб улыбнулся, пригладил волосы. Кивнул. Про свою девушку Галю он забывал, сидел на сайтах знакомств и флиртовал со всеми, кто ему отвечал.
– Смотри и учись, – сказал Глеб, когда на улице хлопнули дверью.
А я не смотрел – спрятался в подсобке и гремел коробками, чтобы создать слышимость деятельности, пока незнакомка не отошла от нашей стойки как можно дальше. И только потом вышел.
На второй день нашей «встречи» она заказала капучино и стакан «Спрайта» в свою посуду, уселась за столик в углу и пила. Она сидела к нам спиной и усердно что-то искала на телефоне. Я глядел на нее издалека, даже надел очки, но толком рассмотреть не смог. Увидел только, что блондинка. Она оставалась, пока часы не пробили час дня, и тогда встала, забрала свои стаканчики и распахнула двери, даже не попрощавшись с нами. Уехала в ту же сторону, откуда и появилась.
Я списывал незнакомки на все, что только мог придумать. И даже во втором появлении ее не было ничего мистического.
Но она приехала и потом.
На третий день черная машина показалась уже призраком. В назначенный час, стоило ей показаться вдали, я ушел в туалет и мыл руки, а когда вышел, у стойки девушки уже не было.
Она заказала по-прежнему и приносила с собой посуду. Мы не отказывали. Кто мы, спрашивается, такие, чтобы отказывать девушке на такой машине, и наливали в ее стаканы. Плюс у этого один: не нужно разрывать упаковку с одноразовой посудой. После незнакомка садилась за столик в самом дальнем углу, где страшных желтых стен не видно из-за больших окон, и ждала заказ. Уже третий день приносил его Глеб, не стеснявшийся своей заинтересованности, но девушку Глебовы сладкие речи, кажется, не впечатляли.
– Завтра возьму номерок. – Гаденько улыбнулся он, когда черная машина скрылась в туче пыли на проселочной дороге.
– А чего сегодня не взял? – спросил я и потянулся к телефону.
Он замялся.
– Телефон на стойке оставил.
«Отшила, значит», – подумал я, но вслух не проговорился.
Костик, в тот день особенно активный в сети, в шутку предложил посыпать порог перед заправкой солью. Я только улыбнулся. А Глеб до вечера остался задумчивый. И, как оказалось, не зря.
На четвертый день он обнаглел настолько, что решил составить незнакомке компанию. Налив себе халявного кофе с порошковым молоком Глеб подошел к ее столику. Девушка же, не чувствовавшая никакой опасности, что-то искала в телефоне и, пока мой напарник не уселся напротив, даже не обращала на происходящее вокруг никакого внимания. Я делал вид, что мыл решетку для хот-догов, усердно протирал ее желтой тряпочкой, а сам наблюдал за горе-любовником.
Наверное, тогда Глеб был похож на общипанного павлина, который из кожи вон лез, чтобы хоть как-то удивить незнакомку. Но в то время, признаюсь честно, им даже немного восхищался, мол, вот какой смелый парень.
До меня доносились его возгласы и топорные восхищения, какие-то скомканные рассказы о вечеринках. Видимо, хотел пригласить на свидание. Может, в кино. Не важно, что у него нет машины: у незнакомки есть. Ей-то и не составит труда подбросить.
Я нацепил очки и пригляделся, но рассмотреть ни лица, ни голоса разобрать не мог – она сидела ко мне спиной молчала. Но понял, наверное, слушала. А потом случилось странное. Она что-то ему сказала, подманив пальцем и наклонившись почти к его уху. Глеб кивнул и полез в карман за телефоном. Глеб, вроде, что-то записал, спросил у девушки, а она кивнула в ответ. На этом их разговор продолжился. Они о чем-то беседовали, но тихо, я мало что слышал. Потом и вовсе перестал пытаться и решил попереписываться с Костиком.
Минут через пятнадцать незнакомка встала, забрала свою посуду, достаточно громко и длинно поблагодарила Глеба за приятную компанию и ушла, вновь скрывшись на машине в пыли дороги.
Одно я понял точно – голос у нее был неприятный.
– Чего она хотела? – спросил я Глеба, когда он подошел к стойке, смурной и взъерошенный как воробей после дождя.
– Не твое дело, – бросил мой напарник.
– Ну, а о чем говорили?
– О чем надо, – буркнул Глеб, плюхнулся на мягкий стул и набрал номер Гали. До вечера он не перекинулся со мной ни словом.
Все самое интересное началось на пятый день, когда незнакомка, самостоятельно забрав свои напитки, не отправилась за свой столик в одиночестве или с Глебом, а поманила меня за собой.
Я сначала даже опешил. В ее зазывающем движении кисти было столько пренебрежения, столько безразличия, будто бы я был дворовой собакой, а не человеком.
– Это вы мне? – пискнул я.
Она кивнула, не обернувшись, да так быстро и отстраненно, что этого можно и не заметить, и лебедем уплыла по глади воды к столу, села и ждала.
– Давай уже, иди! – прошипел Глеб и подпихнул меня.
Несколько метров до углового стола показались стометровкой, и я задыхался.
«Дима, это всего лишь девушка. Вспомни о своем очаровании», – подумал было я, но вспоминать особенно не о чем.
Когда я уселся напротив и положил руки на стол, – наконец-то смог рассмотреть незнакомку.
Портрет, написанный по памяти, до сих пор лежит у меня в столе.
Худая, даже костлявая, с выпирающими над воротом белой футболки, ключицами, тонкими, исчерченными полосами синих вен как тетрадка в линейку, руками. Цепочки на тонкой шее. Лицо, формой напоминающее треугольник. Тонкие и симметричные губы, накрашенные темно-красной помадой. Большеватый нос, россыпь родинок на шее, ввалившиеся щеки, широкие линии бровей, светлые волосы по плечи. На каждом ухе несколько серебряных сережек-колец и одно в носу. Единственная блестящая живость образа. Вся она заключена в кольца с головы до рук, а, может, и до самых пальчиков ног. Ее лицо показалось мне красивым, но каким-то отталкивающим. Слишком правильным.
Ее глаза пугающие, темно-зеленые, цвета мутной болотной жижи. Казалось, оступись – и тебя засосет в горячие недра тусклых вод и зальет легкие соленым густым раствором сонных трав. Но самым удивительным и ужасающим было их выражение. Они стеклянные, искусственные. Лишенные эмоций, ни радости, ни ненависти – только холод и немая тоска. Они словно смотрели не на тебя, а куда-то сквозь тебя, копались в мозгах пальцами без всякого стеснения. А когда незнакомка, оторвавшись от телефона, посмотрела на меня со всей внимательностью, я чуть дар речи не потерял. Мне показалось, что я увидел взгляд трупа, уже изъеденного червями, настолько безжизненным он был.
– Дима, верно? – бесцветно спросила девушка и отложила дорогущий телефон, блестевший золотистой крышкой, в сторону.
Я невольно засмотрелся на него. Ни у кого в моем окружении не было такой безделушки.
– Откуда… – очень удивился я и закончил бы свой вопрос, если бы незнакомка не прервала поток моих восклицаний небрежным жестом, отозвавшимся звоном браслетов на тонком запястье.
– Твой напарник сказал.
– А, ну да. Дима. А тебя как зовут?
– Тоня, – нехотя ответила она, не двигаясь и сверля меня безжизненным взглядом болотных глаз.
– Как Антонина? – хотел было пошутить я.
– Анатолий. – В голосе ее не проскользнуло ни капли иронии.
Осознав, что мои шутки это каменное изваяние не веселили, я решил спросить напрямую:
– Ты что-то хотела, Тонь?
Она едва заметно поморщилась от моего обращения, поправила массивные серебряные кольца на костлявых пальцах и задумалась. Я почему-то взглянул на свои ладони и покраснел: они были в остатках засохшего масла.
– Напарник твой поведал, у тебя много знакомых. Я хотела спросить, нет ли среди них людей, которые собирались бы в Москву на этой неделе?
– А зачем тебе? – Я убрал руки под стол и обтер о шорты.
– Я направляюсь туда. Вернее, собираюсь. Дорога дальняя, и попутчик бы не помешал. Я думала, ты знаешь кого-то, кто мог бы составить мне компанию, – после напряженного молчания ответила она, не сводя с меня внимательного взгляда.
– А почему я?
– Напарник твой сказал, что ты окончил школу. Может, кто-то из твоих знакомых поступил в Москву и собирается уехать.
В тот самый момент над головой моей будто лампочка зажглась. Но додумать не дали – пугающие глаза смотрели на меня и требовали ответа.
– А тебе не боязно ехать с незнакомцем?
– Не боязно.
– А чего одна тогда не хочешь?
Лицо Тони все еще казалось глиняной маской.
– Ты меня не слушаешь.
– Ну, тогда повтори.
Она помолчала совсем немного, словно прикидывала, достоин ли я был ее объяснений.
– Ехать день, может быть, даже два. Я не могу долго вести ночью. Мне нужен кто-то, кто мог бы будить меня в пути и помочь, если вдруг что-то случится. Но у меня есть условия.
– Да я не сомневаюсь, – ляпнул я.
– Замечательно. – Она скривилась. – Платим за бензин пополам. Если остановимся в мотеле, каждый оплачивает свой номер в мотеле. Все прочие покупки оплачиваются индивидуально. Если до воскресенья найдется тот, кто согласится поехать со мной, сообщи. Буду безмерно благодарна.
Я не успел и слова вставить. Она вскочила с места, забрала свою чашку и стакан, запихнула телефон в карман коротких шорт, из которых длинными палками вытягивались ноги, и собралась уходить, гремя подвесками, круглыми браслетами и кольцами. Но лампочка над моей головой вновь зажглась, да так ярко, что я чуть не ослеп. Мысли скрутились в клубок.
– Подожди!
Она остановилась у двери, когда уже коснулась протертой ручки. Не оборачиваясь, спросила:
– Что еще хотел?
Я подошел поближе, чтобы навостривший уши Глеб не услышал моих слов, и спросил:
– А попутчик твой должен уметь машину водить? Ну, права там иметь…
Тоня еле слышно хмыкнула, повернулась и посмотрела на меня так, что я сделался красным от стыда.
– Нет, до этого мне нет никакого дела, – ответила она с ледяной усмешкой на темных тонких губах. – Я никого не пущу за руль.
Я, чуть затупив, кивнул и остался на месте. Наверное, нужно было попрощаться, поблагодарить за посещение и за приятное знакомство, которое и приятным-то нельзя назвать. Может, даже дверь придержать. Но я стоял и глядел ей в след. А она, даже не взглянув на меня, завела машину, выехала на дорогу и скрылась в той же стороне, откуда каждый день и приезжала.
Я еще немного постоял у входа. Послушал тихое покашливание холодильника с мороженым, для вида проверил ценники на чипсы и вернулся к стойке.
Стоило мне подойти, Глеб, оторвавшийся от переписки, спросил:
– Ну че она хотела?
– Не твое дело.
– А о чем говорили?
– Ни о чем.
Глеб рассмеялся. Мне же было не до смеха.
До самого вечера мир погрузился в туман. По привычке я работал, ничего не делая, переписывался, не вчитываясь в сообщения, отвечал на звонки мамы, не вслушиваясь в ее слова. Мысли вспенились в голове и не давали никакого шанса на успокоение.
Я все думал и думал, но ничего путного из этих размышлений никак не мог выудить. Сейчас даже не могу вспомнить, как доехал до дома. Не помню, как смог отбиться от маминой кормежки, от приставаний сестры и сообщений Костика, как улегся на кровать. Помню только, что голова разваливалась от мыслей.
У меня был день на то, чтобы расспросить знакомых. Совершить доброе дело, помочь незнакомке найти попутчика. Даже хорошего попутчика. И у меня были варианты, честно. Но я не написал о просьбе Тони даже своему лучшему другу.
А все из-за того, что лампочка над моей головой так и не хотела потухать.
Глава III: Меры песочных весов
Я проснулся рано, а, может, и не спал вовсе. Настал единственный выходной перед заключительной рабочей неделей на заправке, который нужно было провести с пользой. Но я, как обычно, не имел на него никаких планов. Но в то утро все изменилось.
Я долго валялся в кровати. За окном неспешно рассеивался туман, за которым зелень выглядела киселем, а соседский петух верещал так, будто будил кого-то в Соединенных Штатах. Отец храпел за стенкой, а мама уже что-то кашеварила на кухне и слушала передачу по «Радио России» на желтом приемнике. По запаху, который без труда пробивался через белую деревянную дверь, я понял, что она пекла блинчики.
Я лежал, вертел в пальцах телефон и думал, стоило ли писать Косте. Мы, вроде как, хотели сходить на речку.
Я потянулся, с трудом, чтобы не скрипеть матрасом, поднялся на локтях и уселся поудобнее. Со стен на меня смотрели глаза с постеров, оставленных еще старшим братом Лешей, который за три года до моего выпуска уехал во Владивосток к своей девушке. Снимать разноцветное уродство мама запретила. Оказывается, под плакатами пряталась огромная дыра в обоях, и только поэтому брату когда-то разрешили обклеить всю стену рожами рэперов нулевых и всяких рок-групп, больше половины которых я не знал. Раньше его кровать стояла у окна. Теперь же от нее остались только царапины на полу.
Я все думал, пытался догадаться, откуда она приехала. Все-таки за свою жизнь насмотрелся достаточно детективных сериалов по «НТВ», чтобы иметь в сыскном деле хоть какое-то понимание. Даже мысленно соединял улики на специальной доске выдуманными красными нитками.
Почему она приехала к нам? До трассы рукой подать – минут десять и ты уже несешься по новой дороге, еще не растерявшей аромат свежего асфальта, и останавливаешься в куда более приличного вида заведениях. Там тебе и мойка, и кафе, и пылесос, и все достижения современного общества. Так зачем было приезжать к нам?
Может, местная. Но ведь не похожа! Даже если она и переехала совсем недавно, то все равно должна была измениться. Если бы она пробыла под южным солнцем хотя бы неделю, то покрылась бы загаром, пусть и кривым, опалившим только руки по локоть. А вот кожа Тони была бледной, почти белой, словно зубная паста. В ней, казалось, нет ничего здешнего. Я бы не удивился, если бы увидел Тоню на обложках журналов или в рекламе шампуня для волос, какие постоянно крутили по телевизору.
Я так долго размышлял, придумал так много причин ее появления, возможных и совершенно фантастических, что не заметил даже, как прошло много времени и в дверь постучали.
– Димуль, иди завтракать! – раздался мамин голос, а живот мой, стоило носу уловить запах блинчиков, протяжно заурчал.
– Иду! – крикнул я.
– Поскорее! Я знаю, что ты давно проснулся.
За окном уже светло, через белую ажурную шторку пробивались лучи солнца. На кухне что-то оживленно обсуждали, а я бродил по комнате и собирал одежду. Со стула стянул футболку, из-под стола достал штаны, пригладил кудрявившиеся волосы и решил, что выглядел не так уж плохо для человека, впервые начавшего думать о чем-то более масштабном, чем о прогулке, после сдачи экзаменов.
Я оделся, прошел мимо комнаты Аленки, отодвинул деревянную шторку. Небольшая кухня пропиталась ароматом сладкого теста. Казалось, его можно было даже разглядеть на фоне голубых обоев, таким плотным он был. Холодильник, увешанный нашими детскими рисунками и магнитами, привезенными из путешествий, тихо гудел.
– Всем доброе утро.
Папа щелкал каналы пультом, завернутым в пакет. Лицо его заросло щетиной, а глаза будто бы еще не проснулись. Мама оставалась такой же цветущей. Она совсем недавно покрасилась и купила новый домашний костюм.
– Как спалось? – спросила она, а от ее голоса живот заурчал еще сильнее – таким мягким и сливочным он был.
– Хорошо, только еще спать хочется, – ответил я и сел за стол.
Аленка, сидевшая на соседней табуретке, ударила меня ногой по коленке вдруг восликнула:
– А Димка у нас соня! А Димка у нас соня!
Я мог только улыбнуться.
Когда мама наконец-то расставила еду на столе, а папа остановился на «Умниках и умницах», мы начали завтракать. И, конечно, моя задумчивость, вдруг сменившая прежнюю безалаберность и беззаботность, не осталась без внимания:
– Ты опять смурной. Что-то случилось? – спросил папа, накалывая круглый блин на вилку и окуная его в банку сметаны.
– Да, Димуль, ты какой-то грустный. Что-то случилось? – спросила мама.
А мне стало не по себе.
– Ты только скажи, мы все решим, – сказали они, кажется, в унисон.
– Да так, думаю все о работе. Нужно же решать, куда двигаться дальше.
Я заел задумчивость блином. Живот довольно ухнул. Мама готовила восхитительно – сладкое тесто так и таяло во рту, а сметана оставляла на языке приятную кислинку.
– Ну, придумаешь что-то, – сказала мама и подложила Аленке еще пару блинчиков. – А если что, договоримся с Денисычем. У него в магазине всегда есть работа.
Я невольно поежился, когда вспомнил Денисыча: щуплый, черный от загара и вечно раздраженный дед, который терпеть меня не мог после того, как мы с Костиком однажды случайно сломали его забор.
– Да здесь нет особо работы, – пробурчал я.
– Тогда в городе. Спрошу у Томы, что у нее с аптекой.
– Твоя Тома даже с собой разобраться не может, а ты хочешь ей Димку нашего поручить, – сказал папа.
– Ну а что ты хотел? Развод – дело сложное! У нее все-таки двое детей.
– Тогда и Димку не впутывай в ее Санта-Барбару.
– А куда ты предлагаешь его впутать? Ты-то его к вам на завод не смог пристроить!
– Потому что на нефть без умений и диплома не возьмут. А полы подметать можно и на заправке, – ответил папа и громко стукнул зубчиками вилки о тарелку.
Мама подняла подбородок и демонстративно шлепнула на тарелку громадную ложку сметаны. Я вжался в спинку стула. Мама сметану не ела.
– Тебя самого ведь туда устроили, – сказала она.
– Двадцать пять лет назад, Вер. И не инженером, а так, подсобным.
– Ну поговори там!
– Да как я поговорю?! – воскликнул папа, но, как только понял, что повысил голос, замолчал и снова перенастроил громкость. И меня спросил уже тише: – Ты хочешь на инженера учиться?
– Да как-то…
– Вот тебе и ответ, – сказал он маме. – Языком чесать можно сколько угодно. Только без «корочки» он на нормальной работе не нужен. Я и техникум, и институт окончил. И ждал, работал. Ничего просто так не бывает. Работать надо!
Мама, кажется, успокоилась. После рождения Аленки она уволилась, и разговоры о работе вгоняли ее в тоску.
Минут пять мы сидели в тишине. Вяземский с экрана уже прощался, блинов на тарелке осталось несколько и их по всеобщему немому соглашению оставили Аленке. Теплый ветер влетал в кухню, распахивая легкие занавески, и мягкими прикосновениями прикасался к моему лицу.
Интересно, а в Москве такой же ветер?
– Я хотел попробовать где-то еще, – вдруг сказал я.
– Где? В городе? – спросил папа, не отрываясь от прощелкивания программ по телевизору.
– Типа того.
Папа хмыкнул, а мама наклонилась ко мне через стол и спросила:
– А ты почему так решил?
– Да так, я просто подумал…
– Это ты хорошо подумал! Мы тебе комнату найдем.
Я задумался. Конечно, мама имела в виду переезд в ближайший большой город. Меня бы и на работу устроили, и деньгами бы помогли. Это был куш, сорвать который, в принципе, на первых порах очень даже заманчиво. Для многих, но почему-то не для меня. Мне и в институт пока не хотелось, и в армию не призывали из-за проблем со здоровьем. Хотелось чего-то другого, но не знал, чего именно.
– А поступать не надумал? – спросила мама.
– Он уже все сроки просрочил, – пробурчал папа и остановился на «спортивном».
– Нет, мам. Мы же… ну, договорились, – осторожно напомнил я.
Договориться было непросто, почти месяц я уговаривал не отправлять меня в универ, потому что специальность выбрать так и не смог, а поступать абы-куда не хотел. Созвал семейный совет, расписал целый лист доводов «за» и зачитал их, стоя перед телевизором в зале. Обдумывали почти месяц, а потом неделю читали лекции, что надо бы найти работу.
– Договорились, – вздохнула мама и опять села прямо.
– Нужно с чего-то начать, – поддержал меня папа и поправил очки на носу. – Не хочешь учиться, так иди работать. Может, там ума наберешься.
Я подцепил еще блин, долго-долго жевал и думал, отчаянно думал и никак не мог собраться с мыслями. Папа молча смотрел телевизор, мама переписывалась с подругами в телефоне, а Аленка пыталась накормить плюшевого зайца блинами и уже измазала ему всю морду.
– А если я уеду в другой город. Совсем в другой. Ну, не в соседний. Отпустите?
Папа повернулся ко мне, поправил очки, свалившиеся на кончик носа, и спросил:
– И куда ж ты собрался?
– Да так, никуда. – Я схватил узорчатую салфетку и протер морду Аленкиному плюшевому зайцу. – А чем вы будете сегодня заниматься?
– Переводчик тем, – строго хохотнул папа. – Куда собрался-то?
– Да я еще не решил. Просто в город побольше.
– Краснодар неплохой. А ты-то готов ты к городу большому? Там работать больше надо, жизнь дороже.
Я мысленно поправил: в Москву. Но ответил честно:
– Я сегодня еще подумаю.
– Ну думай, стратег, думай. – И опять замолчал.
– А вы-то куда?
– В город съездить надо, Аленке к осени куртку и штаны прикупить, – ответила наконец мама и сбросила со сковородки еще стопку блинчиков.
– А, ну, поезжайте.
– Ты бы с Костиком погулял, погода-то хорошая.
Я кивал скорее механически, чем вдумчиво. Съел еще пару блинов и почувствовал, как тесто уже медленно подбирается к горлу и лезет обратно, и все-таки встал из-за стола. За утренними собираниями, бездельем и бесцельным шатанием по дому в растянутой футболке и шортах, прошел ни один час, а когда солнце спряталось за пушистые ватные облака и воздух перестал быть обжигающим, я услышал зов мамы с кухни:
– Дим, купи хлеба, когда гулять пойдешь!
Никогда не понимал, как мамы умудрялись предугадывать действия детей. Я хотел прошвырнуться хоть куда-то, лишь бы отвлечься от назойливых мыслей.
На улице парило, но не так чтобы от земли шел дым, – терпимо. Я легко переносил жару: все-таки почти всю свою восемнадцатилетнюю жизнь довелось прожить на юге, а здесь летом редко холоднее двадцати пяти. Но дневное пекло все еще надоедало.
Я выкатил на проселочную дорогу велосипед, засунул телефон и деньги в карман шорт и покатился по улице, оставляя наш одноэтажный дом из яркого красного кирпича позади. Я пролетал дома и огороды. С каждым встречавшимся по пути человеком здоровался механическим кивком головы, чтобы знакомые, которые составляли все население деревни, не посчитали меня невоспитанным.
На улице людей немного: все-таки жарко. Тетя Марина сидела на лавочке перед домом и перебирала яблоки в пластмассовых ящиках. Дядя Женя обделывал колодец на участке и громко ругался, когда у него что-то не получалось. Дети тети Оли носились по полянке и стреляли друг в друга из водяных пистолетов, а визги их было слышно и за деревней.
Я улыбался. Я знаю их, а они – меня. Все-таки приятно быть частью чего-то.
Наша деревня закончилась с присыпанной щебенкой дорогой, которая упиралась в поле повернутых к солнцу подсолнухов. Одна дорога вела к трассе, вторая – в соседнюю деревню. Жара уже не ощущалась, а ветер гладил волосы прохладными пальцами. Я уже и забыл о маминой хлебной просьбе. Скорее всего, ей просто хотелось вытащить меня на улицу: хлеба-то у нас навалом.
По проселочной дороге поехал к пруду. Ноги упорно крутили педали. Может, думал я, хотя бы они найдут приключения на пятую точку, весь год протиравшую стул за школьной партой, но так и натершей себе никаких мало-мальских успехов.
Ветер пах сухой травой и цветами. Он был горячий словно намоченное в кипятке полотенце, приятно покрывавшее лицо теплыми прикосновениями.
Я смог остановиться только у склонившейся к пруду печальной ивы, в ветви которой соседские девочки вплели какие-то записочки. Привалил велосипед к дереву и улегся на траву.
Я всегда любил вот так валяться, и даже не безделье радовало, а спокойствие. Облака лениво проплывали по голубому небу, а с полей добирался аромат свежескошенной травы. По другую сторону пруда бродили пятнистые коровы и сонно мычали.
Я глядел на все вокруг, узнавая каждое шевеление травинки. Все вокруг – мое, собственное, отмеченное сотнями взглядов.
Кажется, мне написал Костя, а я что-то ответил. Но мысли занимали только размышления о Тоне.
В глубине души и понимал: если объяснить родителям сложившуюся ситуацию, они отпустят меня в Москву. Они у меня легкие на подъем, брата с полпинка отпустили на другой конец России к девчонке, которой он и не видел вживую. Тем более, у моей деловой мамы в Москве жил брат, которого я видел всего один раз в жизни. Но это неважно. Куда важнее, что устроить ребенка в столицу нашей необъятной престижнее, чем отправить чадо в соседний город, где карьерного роста как у огурцов в жаркое лето. «Москва – город возможностей», – весь одиннадцатый класс твердила мама, пусть и не уточняла, каких именно. В Москве хорошо. Вот только вряд ли родители бы отпустили меня в такой дальний путь на машине, да еще и с незнакомой девушкой.
«Ложь во благо – не ложь, а благо», – по-умному говорил когда-то мой брат. Оставалось правильно солгать.
Я знал, что не глупец – за плечами осталась школа, оконченная с золотой медалью, хорошие результаты экзаменов и ум, пусть и несравнимый с выпускниками столичных гимназий, но вполне себе сносный, если верить учителям. Ни взлетов, ни падений: я учился спокойно и без труда. Медаль лежала в коробке с мамиными украшениями, в ящике стола пылилась целая стопка похвальных листов и грамот. Но ни одно из полученных достижений мне, как бы ни вешали мне на уши лапшу учителя, не пригодилось. В ближайшем университете не оказалось бюджетных мест на нравившиеся маме и папе специальности. Тратить родительские деньги не хотелось еще больше.
Весь июль я провел в надежде, что мысли о будущем все-таки появятся, но был уже август, а ни единой так и не посетило. За одиннадцать школьных лет я будто бы разучился загадывать, а последний год отобрал желание планировать.
Помню, в одиннадцатом классе, помимо подготовки к экзаменам и протирания штанов на уроках, у меня появилось своеобразное развлечение – ходить по классам и спрашивать знакомых об их планах. Чаще всего слышал что-то только отдаленно напоминавшее слова – скорее мычание. Мало кто загадывал. В основном надеялись сдать экзамены и уехать хоть куда-то и поступить на любую специальность, лишь бы через четыре года привезти родителям диплом. А потом – получить благословение и, обойдя всех знакомых, выбить-таки место, где и платили бы хорошо и не выгнали бы за разгильдяйство. И сидеть на нем до пенсии.
А меня подобная картина совершенно не устраивала.
Хотелось чего-то особенного, восхитительного. После годов трудов я мечтал отдохнуть и насладиться жизнью, а не попадать под гнет очередного человека, на которого теперь пришлось бы работать.
И все бы хорошо, если бы время не ссыпалось так быстро и лето бы не закатывалось за горизонт прежде, чем я бы успел им насладиться. Если бы школа так быстро не пролетела и не оставила перед неизвестностью. Я боялся осени, коленки тряслись, когда мысли о страшном и неизвестном будущем настигали.
Но я чувствовал, что был рожден для чего-то великого! Для невероятных свершений! Я мог перевернуть весь мир, лишь бы шанс появился.
– Тебе муравьи в штаны не заползут? – послышался смешок над моей головой.
Клубок мыслей рассыпался на веревки. Я поднялся на локтях и повернулся. Передо мной стоял Костик, лохматый, загоревший и беззаботный. Велосипед он бросил рядом с моим.
И в то мгновение я даже забыл, как сам пригласил его на пруд.
Костя уселся рядом, вытащил из кармана сигарету и закурил.
– Как дома? – спросил я.
Костя мечтательно выдыхал дым в небо.
– Да мать уже замучила. Вчера целый день бегала по дому с рубашками. Бог ты мой, пятнышко на белом, что ж делать! – писклявым голосом спародировал он, а я не смог не рассмеяться. – Вот тебе смешно, а я выслушиваю это уже две недели. И зачем я тогда пустил ее на сайт универа…
– Ну, ты же сам захотел пойти в медицину.
– Да я не ожидал, что согласится! Думал, ну, скажет, что на врача я не гожусь, что туповат, и поищет еще что-то. А тут – на те! Нет, ну, врачом быть не плохо, конечно. Денег много платят. Но как-то… не знаю. Учиться долго. Как-то уже не весело, – сказал Костик и, сделав еще одну затяжку, замолчал.
Ждал.
– Так ты же и не хотел быть врачом.
– Не хотел. Ну а что такого? Это же престижно. Поучусь, будешь ко мне лечиться ездить.
– Будут к тебе ходить всякие бабули, просить таблетки выписать. Представь, приходит и такая: Константин Иваныч, помогите, у меня что-то в боку колет! – Засмеялся я.
А вот Костик как-то задумчиво взглянул на меня и сказал:
– Не хочу я один уезжать, лучше бы вместе. Ходили бы на вечеринки, знакомились бы с девушками.
– А учеба?
– Да какая учеба? Универ не для учебы создан, а для веселья! – вдохновенно воскликнул Костя, а потом уже тише добавил: – Да какая уже разница, ты же тут останешься…
– А, может, и не останусь.
Я продолжал смотреть на небеса цвета химической глазури и вертеть в пальцах стебелек лесного мятлика. А Костик не сводил глаз с меня.
– Ты не говорил, что уедешь, – сказал он.
– Не говорил.
Костя усмехнулся, затянулся и выпустил из своих легких, уже, наверное, начинавших покрываться табачным налетом, дым. Мы смотрели вдаль, туда, где коровы лениво жевали траву, будто бы в этом спокойном пейзаже был скрыт смысл нашей жизни.
– И куда уезжаешь? – спросил он, затянувшись вновь.
– В Москву.
Костя посмеялся, посмотрел на меня озорными мальчишечьими глазами и спросил, не переставая по-доброму хихикать:
– А если серьезно?
– А я серьезно.
– Да ни за что поверю! Чтоб ты – в Москву? Ты шутишь.
– Да не шучу я! – воскликнул я так громко, что Костик чуть сигарету из рук не выронил от неожиданности.
– Да тихо ты! – Он усмехнулся. – И с чего это? Ты и так далеко.
– Захотел и поеду.
– Так ты никогда не хотел.
– Ты тоже не хотел быть врачом.
– Так там согласились оплатить учебу. Что не захотеть-то?
Аргумент был железный.
– А что такого? Я умный, как раз для Москвы. Да и вообще – захотел и поеду. Я уже взрослый!
– Не верю. – Он улыбнулся. – Ты не настолько еще самостоятельный, чтобы принимать такие решения.
– Кто бы говорил! Ты вообще младше меня на месяц!
– Так за меня и решили. – Пожал плечами Костик, а я понял, что мне не отвертеться от правды. Друг этот раунд словесных баталий выиграл.
– А за меня ничего не решили… К сожалению.
– Так радуйся! Свобода, все такое.
Не сказать, чтобы я не хотел свободы. Просто хоть с мало-мальскими гарантиями.
– Ну а если честно? Почему уезжаешь-то?
Я знал: он не поймет.
– Дома просто делать нечего, а куда уезжать – уже как-то и неважно. – Выпалил было я, но быстро себя успокоил и продолжил уже спокойнее. – Работать ведь надо, если не учиться. А в Москве платят больше.
– Это-то да, шанс хоть куда. Только кому ты там нужен?
– А ты в Рязани своей кому?
Костик долго молчал. Слишком долго – это для него несвойственно.
– Так с чего ты так резко захотел туда? Не хотел же.
– Не знаю. Захотел и все. Все думаю и думаю о Москве. Туда мне надо. Не знаю, почему. Просто кажется так.
«Да просто нужно же хоть раз в жизни принять самостоятельное решение», – объяснялся я себе. И не думал совсем, какое важное решение выбрал как первое самостоятельное.
Костик покрутил сигарету в руках и спросил уже серьезно, по-взрослому:
– А тебя отпустят в Москву? Это ж как государство в государстве, там все по-другому! Еще и далеко.
Я хотел было ответить, что у родителей есть Аленка, которой в следующем году в школу. Там будет не до меня. Лешка как смотался, так и не появлялся почти. Живет в своем Владивостоке и в ус не дует. Что там эти новогодние праздники, когда он приезжает. Считай, что и нет брата. Родителям не привыкать детей отпускать.
И сказал:
– Да отпустят. Приживусь. В Москве все-таки лучше, чем здесь.
Костик было задумался, но успокоился и кивнул.
– Я в Рязани буду, там вроде часа два. Приезжай. Буду звать на вечеринки, скину пару ссылок на красивых девчонок.
– Звучит заманчиво, – хмыкнул я. – Надеюсь, смогу выбираться.
– Да что там тебе выбираться. Ты ж не учишься, сам себе хозяин.
Мы молчали совсем немного. Костя вообще не любил тишину и всегда нарушал ее первый.
– А с кем едешь-то? Или сам, на поезде? – спросил он, а я отвернулся.
Как-то не хотелось говорить ему, что путь предстояло разделить с очень странной дамой. Я сам-то в ней уверен не был, куда там до объяснений.
– Да так, спутника нашел. Только родителям не говори! А то они еще моим проболтаются.
– Могила, – хмыкнул Костик. – А что за спутник? В «плацкарте» вместе поедете?
– Угу. Типа того.
Мы еще немного посидели. Легкий августовский ветер ласкал мягкими касаниями, хотя на тот момент в голову не могло прийти такое красивое сравнение. Мне было просто хорошо и спокойно.
– Хватит киснуть. Давай-ка, покажи, кто тут король дорог. – Широко улыбнулся Костик и, подпихнув меня локтем, заставил подняться с травы.
– Обогнать тебя еще раз?
– Да! Как тогда, после выпускного! Или слабо? – Хитро сощурился Костик.
– Это тебе слабо!
– Тогда до трассы и обратно! Кто проиграет – угощает на первой вечеринке!
Мы залезли на велосипеды и пустились в путь. До вечера я был прежним Димой – веселился, носился по раздолбанным дорогам, обгонял и отставал от Костика, прикрикивал на сновавших туда-сюда кур и подставлял лицо горячему ветру.
«Завтра» и «будущее» будто бы исчезли, не существовало проблем и страха. Остался лишь сладкий аромат свободы, хрустевший на зубах горечью полыни. И был только этот день: бесконечные поля сухих трав и ярких подсолнечников и солнце, оранжевое настолько, что казалось апельсином, прибитым к сахарному небу.
Мне так хотелось затеряться в этом дне навсегда, забыть о взрослых проблемах и размышлениях. Чтобы все было так: только ветер, солнце, велосипеды и счастье, которое невозможно обхватить руками.
Но всему когда-то приходит конец. И пусть в тот день я смог забыть о будущем хотя бы на несколько часов, реальность всегда находит время появиться. Часто – в самый ненужный момент.
А у Костика в тот день я все-таки выиграл.
Глава IV: Дождь с ароматом прощания
– Чего? В Москву? – воскликнул Глеб.
В тот день я пришел на заправку, чтобы написать записку об увольнении. Этого было достаточно: официально меня никто не устраивал, просто папин друг оказался сговорчивый. Работать не надо было, но уйти не попрощавшись с Глебом казалось мне плохой идеей. Все-таки из нас вышел неплохой тандем: я всячески покрывал Глеба, а он не портил мне жизнь.
– Да, родители согласились. Там дядя мой живет, обещал даже в квартиру пустить на первое время, – говорил я, открывая ящик за ящиком в поисках бумаги.
Глеб встал рядом, поставил руки в боки и заглянул мне через плечо.
– Это что ж наплел?
– Я сказал им правду, что хочу попытаться добиться чего-то в жизни. Я же не дурачок какой-то, у меня есть перспективы.
Глеб хохотнул, но сдержанно. Я пихнул его плечом и отошел в сторону.
– Перспективы? Ну да, ты ж у нас типа медалист.
– Смейся сколько угодно. Только вот потом посмотрим, кто смеяться последним будет.
Прошлый вечер стал самым серьезным испытанием в жизни. Сначала я долго придумывал речь, с которой должен был выступить перед родителями. Угробил весь день, перелопатил все сайты, где раздавали советы, зазубрил написанное и не выдавил потом почти ничего из подготовленного.
Сказать, что родители удивились, – ничего не сказать. Они были в шоке. Если бы кто-то сказал им, что их сын, Димка Жданов, который всю жизнь держался за мамину юбку и папину штанину, соберется в одинокое плавание по океану жизни, да еще и выберет для этого Москву, никогда бы не поверили. Но об этом сообщил я. Не верить нет причин.
И все же приняли они мое выступление куда спокойнее, чем могли любые другие родители. Мама сначала сопротивлялась, выговаривала отказ за отказом, слезно восклицала, что не отпустит, а потом, вспомнила, каким рисовала мое будущее в мечтах, и согласилась.
Отец воскликнул, что даже горд мной. Что наконец-то я «стал мужиком», сделал хоть какой-то умный выбор и сделал шаг к московским зарплатам и перспективам. Приятно было слушать его, не совру, но и страшно: как теперь не оправдать таких «мужичьих» ожиданий, явно отличавшихся от всех, что были прежде?
За такое понимание и принятие нужно поблагодарить (что я, в принципе, и сделал), но на душе почему-то было неспокойно. Наверное, я надеялся, что родители запретят, уверят, что и у нас жить неплохо, и вновь укроют крылышком заботы. Что обеспечат еще годами спокойствия. А тут – свобода, вот, Дима, забирай. А я почему-то снова запутался. И пока мама звонила брату и договаривалась о квартире, папа сидел за ноутбуком и спрашивал, купить ли билет на поезд до Москвы и на автобус до ближайшего вокзала, чтобы дать мне впервые побыть «взрослым и самостоятельным мужчиной», я сидел и думал, правильно ли поступаю.
И даже на следующий день не был до конца уверен.
– Я не вру. Они в самом деле не были против.
Самое удивительное: и мысли не возникало, что Тоня не захочет со мной ехать. Будто бы я настолько хороший спутник, что быть расстроенным предстоящим путешествием со мной мог только глупец. А Тоня казалась умной.
Я поставил точку в записке, отложил в сторону и принялся ждать Тоню. Хотел вновь посмотреть в ее болотные глаза и попробовать, утону ли. Прикидывал, что скажу, и видел, как изменится Тонино лицо. Не представлял даже печального, только счастливое.
Но Тоня так и не явилась.
Я просидел на заправке до шести вечера, листал журналы, шарился по полкам, а ее все не было. Часам к четырем позвонил Костику, но он сказал, что приедет позже – они всей семьей проверяли документы, которые нужно взять с собой. И я, устало вздохнув, завалился в кресло, забросил ноги на стол и принялся играть в «ферму» на телефоне. Глеб сидел рядом и болтал с какой-то девушкой, скорее всего, очередной пассией.
На улице мрачно для августа: с утра небо затянули тучи, поля скрылись за темно-серой дымкой, ветер принес запах мокрого асфальта. Дождя все еще не было, но отдаленно слышался гром, осыпавший землю ударами. Взрывы молний виднелись на горизонте, но не спешили нарушать нашего спокойствия. Ветер гладил сухие поля по колоскам и шевелил желтые головки подсолнухов.
Часы, казалось, замедлились, а радио барахлило из-за сильного ветра. Приходилось слушать тишину. Тони не было даже на темном горизонте. Будто бы она уже улетела на тучах к Москве и бросила меня. Хотя, конечно, ничего и не обещала.
Когда заветная цифра шесть укололась о стрелку, я решил-таки уйти, встал и протянул руку Глебу.
– Спасибо за все.
– С чего это ты?
– Ну, так как-то по-человечески. Ты ж хороший напарник, с тобой весело было работать.
– Ну, это, ты не держи зла на меня за июньское, ладно? Я не хотел тебя в воду кидать на вечеринке, просто лишку хватил. Ты тоже кричал зря…
– Ладно, ладно, прощаю! – протараторил я.
– Ну, и тебе тогда спасибо, что прикрывал, – хмыкнул Глеб и пожал мою руку своей лапищей.
Я ушел бы с чистой совестью, но дверь распахнулась, и в помещение, за день пропахшее бутербродами и Глебовым пивом, влетел аромат мокрого асфальта. Я почувствовал еще что-то, но не успел распробовать этот странный запах на кончике языка – повернулся и увидел ее. И потерял дар речи.
В серости уличной грусти она казалась прекраснее.
– Добрый вечер присутствующим, – произнесла Тоня, а голос ее был какой-то хриплый, будто она всю ночь пила ледяную газировку. – Вижу, я вовремя.
– Приветик, душка. – Улыбнулся Глеб и сделал шаг вперед, даже грудь выпятил.
Она даже не взглянула в его сторону. Безмолвный взгляд мертвых глаз был прикован ко мне. С каждым ее шагом я мог разглядеть могильный холод в них все лучше.
– Помнится, я просила узнать, не найдется ли среди твоих знакомых попутчиков для меня. Так что же? – спросила она, подойдя совсем близко. И когда между нами осталось чуть меньше метра, а холод ее глаз будто бы схватил меня за горло, я учуял еще один аромат. Сладкий, такой знакомый, домашний. Кажется, клубники, крыжовника, может, даже малины.
– У тебя ягодные духи? Пахнет чем-то знакомым, – как-то особенно легко спросил я, словно это открытие должно было поразить Тоню.
Тишина, повисшая меж нами, сначала показалась мне приятной, но с каждым мгновением все больше давила, и я быстро понял, какую глупость сморозил.
Тоня лишь хмыкнула, изящными пальцами в серебряных кольцах нащупала на шее одну из цепочек и вытащила из-под рубашки аромакулон в форме черной птицы. Изящный, как и вся Тоня.
– Это ароматическое масло, а не духи. И я задала вопрос, – сухо сказала она и засунула кулон под одежду.
Глеб, стоявший за стойкой, привалившись к стене, гадко хмыкнул.
– Я… Ну, как сказать…
– Словами и побыстрее. Этого будет достаточно.
– Ну, я поспрашивал, и я как бы не нашел никого, и…
– Ты можешь не мямлить? – процедила Тоня.
– Да блин, я поеду! Мне тоже в Москву, я тут подумал, чего искать тогда, если и я есть, а ты ведь меня знаешь. Так что я, если можно, – ответил я. Потом еще и смачно выругался, но про себя: перед девушками ругаться матом было некультурно, если они сами не делали того же.
Тоня как-то странно хмыкнула, безмолвно достала из кармана шорт, вдруг обнаружившихся под рубашкой, телефон, и что-то быстро на нем набрала. Потом впихнула его мне в руки (благо, я не уронил его), и сказала:
– Вбей свой номер и имя, полностью.
– Ты не против? – удивился я.
– Мне все равно. Я готова терпеть любого согласного на мои условия, – ответила Тоня. – Я жду.
– Так ты же знаешь мое имя. Зачем писать?
– Ты задаешь слишком много вопросов, Дмитрий.
– Ну, мы же все-таки попутчики. Надо что-то знать друг о друге. Или… или не надо?
Тоня, чуть склонив голову на бок, ответила:
– Ты ведь правильно сформулировал. Я ищу попутчика, второе лицо, лишние руки и ноги, а не приятеля или друга. Неужели, я высказываюсь неясно?
Глеб даже присвистнул, а я не знал, что и сказать. Вроде как, и не претендовал на свободу или сердце Тони, но отчего-то слушать ее было неприятно.
– Но ведь мы даже не знакомы толком! Нужно же пообщаться, решить какие-то организационные вопросы! – наконец-то выдавил я. – Это же просто гарантии, что мы друг друга не бросим. Ехать-то далеко.
– С чего ты взял, что я не даю гарантий? – сразу же ответила она, изогнув широкую, темную, но аккуратную бровь. На лбу ее не появилось ни единой морщинки.
– Я, ну… Ты же не говорила ничего! Я только твое имя знаю. Как я поеду с незнакомкой?
– Я о тебе тоже ничего не знаю, но меня же не смущает неизвестность. И, как видишь, я не устраиваю истерик.
Я снова призадумался. А ведь действительно, она и не спросила обо мне ничего. И не хотела, судя по холодному безразличию, которым был пропитан голос.
– Ну, а ты спроси, и я отвечу, – предложил я и быстро набрал свой номер. Подписался как «Дима с заправки».
– У меня нет желания анкетировать тебя. Будет нужно – все спрошу. А пока могу лишь уверить – гарантии выполнения нашей сделки я тебе выдам в письменном виде. К моему сожалению, не могу только поставить печать. Но, думаю, перебьешься. Готов ехать сегодня?
Меня как облили. То ли холодность Тони так подействовала, то ли я просто был на нервах, но выпалил со всей злостью, которую только мог наскрести:
– Нет, сегодня я ехать не могу, потому что ты даже не сказала, когда уезжаешь! А я не умею читать мысли!
– Сейчас говорю.
Глеб беззвучно хохотал, облокотившись о стойку, и непонятно было, то ли его тошнило, то ли пучило.
Тоня убрала телефон в карман шорт и поправила рубашку, чуть съехавшую с костистых плеч.
– И ты тоже свой телефон хоть дай. – Я достал свой телефон и сунул Тоне в руки. – И тоже подпишись. Я же недалекий, мало ли, забуду еще, кто меня на заправке подобрал.
Она еле заметно улыбнулась. Нет, это была не та улыбка, какую привыкли видеть на людях. Тонина улыбка была скорее похожа на скривившиеся от мышечной колики губы, оставшимися такими лишь на мгновение, но на тот момент это показалось мне чудом расчудесным. Она быстро вбила номер, подписалась и сохранила. Отдала мне телефон. На экране было написано «Незнакомка с заправки».
– Ты даже имя свое не написала?
– Так легче меня вспомнишь, вдруг тебя контузит, – ответила Тоня без всякой усмешки. – Так ты намерен ехать сегодня или мне ждать до завтра?
Я замялся. План-то уже был готов – не зря исписал половину блокнота. Но вот он был достаточно специфическим. Нормальный человек бы вряд ли пошел на такое. Благо, Тоня нормальной не выглядела.
– Ну, я должен буду доехать до вокзала.
– До вокзала? – Она приподняла бровь.
– Да, тут такое дело… Просто мне родители на автобус билет уже купили, не возвращать же. И они проводят до остановки. Лучше бы, если ты перехватишь меня на вокзале. А там уже все чисто будет, без проблем.
С реакцией у Тони, как я понял, было туго. Она как-то очень долго пялилась в одну точку, а потом посмотрела на меня стеклянными глазами и спросила ровным как линейка голосом:
– Ты не сказал родителям, что уезжаешь в Москву вместе с незнакомцем, и уверил их в том, что сядешь на поезд. Умно. Что же, я тебя недооценивала. Будь по-твоему. Сбрось мне адрес и время.
Чувствовался какой-то подвох, но больше я ничего не услышал.
– Хорошо. Тогда до завтра? – с надеждой спросил я.
– Куда же я теперь денусь, – вздохнула Тоня и направилась прочь. И не успела она дверь открыть, чтобы выйти на улицу, уже затянутую серым мраком, в помещение на всех порах влетел Костя и чуть не сбил девушку с ног.
– Ой, прости! Я не хотел! – воскликнул он, подумав, наверное, что шибанул Тоню дверью, но даже ее не коснулся.
– Не хрустальная, – невозмутимо сказала девушка и прошла мимо, даже не взглянув в нашу сторону, чтобы попрощаться.
Мы трое провожали взглядами черную машину, которая резво развернулась на мокром асфальте и укатила в привычном направлении, оставив на асфальте черные полосы.
– Это кто? – чуть погодя, спросил Костик.
– Попутчица нашего медалиста. Знакомы пару дней, – ответил Глеб и усмехнулся.
– Чего?! Это ты про вот этого незнакомца мне не сказал?
Я поддакнул, счастливо улыбаясь, а друг посмотрел на меня и присвистнул. Наверное, вид у меня был дурацкий.
Глеб, стоявший поодаль, зевнул и сказал:
– Я уже даже рад, что не стал связываться. Пусть она и симпатичная, а поехавшая.
– Не то слово… – согласился Костик
Я так и стоял, довольный.
– Вот ты как, значит. Мне сказал, что просто в купе с кем-то поедешь в Москву! А тут такая дамочка.
– А они на машине поедут, – добавил Глеб.
– На машине?!
– Ага, на вот этой. Ловелас собирается носить энергетики с дисками.
– Ты что, раб какой-то?
– Это он от большой любви.
– Ой, да заткнись! – не выдержал я.
– Ну, теперь я вижу, почему ты наврал, Димка. Еще друг, называется, – бросил вдруг Костик и развернулся, словно хотел было уже уйти.
– Я просто не знал, как сказать!
– Да и сказал бы, как есть! Еду в Москву на машине с дикобразом, которого видел пару раз.
– Зато с красивым дикобразом, – вставил пять копеек Глеб.
– Все равно с дикобразом!
– Уже ничего не исправить! Завтра мы уедем. Разберусь. И вообще, мне пора. Еще вещи нужно собрать до конца.
Костик взглянул на часы – они показывали половину седьмого.
– Ты даже не будешь слушать советов лучшего друга? – спросил он.
– А здесь разве есть смысл слушать советы? Будем выкручиваться из проблем по мере их поступления, – уверил я, кажется, и его, и себя.
Костя пялился на меня, а в нависшей вдруг тишине, не нарушавшейся даже бухтением Глеба, тиканье часов казалось игрой на барабанах.
– Нет, ну что за идиотизм? Да делал бы, что хотел. Зачем мне врать-то? Я что, не пойму?
– Да не знал я, как сказать!
– Не знал он…
Мы постояли еще немного, дожидались, пока температура наших споров спадет и дышать станет легче.
– Ну, не обижаешься? – спросил я первый.
– Не обижаюсь. Даже немного завидую.
– Завидуешь?
– Еще бы! Ты посмотри, в какое приключение ввязываешься! – Улыбнулся Костик по-детски. – Это я трястись с родоками буду в машине, а ты с незнакомой девушкой поедешь! А представь, если ты ее еще и влюбишь в себя! Вот прикол-то будет.
– Да я…
Глеб засмеялся снова, а я покраснел до самых ушей.
– Нет, Дим, я бы тоже рванул. Не с этой только, конечно, а с другой какой-нибудь. С Ленкой из одиннадцатого «Б», например… – мечтательно протянул Костик.
Я молчал.
Костик еще долго придавался мечтам о всех девушках, казавшихся ему особенно привлекательными, и, если бы он снова обо мне не вспомнил, наверное, начал бы уже предполагать, чтобы делал, когда они бы оставались наедине.
Но он вспомнил. И вновь обратился ко мне уже спокойный, позабывший обо всех наших разногласиях.
– Помочь тебе? – сказал Костик и вытащил из кармана две сигареты. – Будешь?
Я, конечно же, отказался. Та первая и последняя сигарета, которую выкурил в шестнадцать, до сих пор, казалось, пузырилась на языке неприятной горькой пленкой.
Я обернулся и сказал Глебу:
– Если ты кому-то разболтаешь…
– Да нафиг ты мне упал.
– Поклянись! Поклянись, что никому не расскажешь!
– Господи… во проблема-то. – Он протянул мне руку. – Клянусь, что не скажу никому, куда ты свалил и с кем. Мне все равно на тебя.
– Хорошо. – Я пожал его руку. – Спасибо тебе. Прости, если что не так.
Глеб смотрел на меня сверху вниз, в глазах его блестело что-то прежде мне не встречавшееся. Сжал руку чуть крепче и – резко отпустил. Хотел что-то сказать, но промолчал.
Мы вышли на улицу, сели на велосипеды. Небо было черным, а вдали так и громыхало.
– Что-то странно он проводил нас.
– Да ладно тебе. Может, ему все-таки завидно. Тоже, наверное, после армии хотел рвануть, а не вышло, – сказал Костик. Он вытащил из кармана зажигалку, закурил. – Но ты не надейся, что просто так уедешь в закат. Я тебе писать буду и эту Медузу Горгону из-под земли достану!
Я улыбнулся, достал из кармана телефон и записал Тоню как «Каменную статую». Это имя подходило ей как нельзя лучше.
Дома мы с Костиком оставили моих родителей разбираться в вещах, в которых оба смутно что-то понимали, ушли из гостиной, оклеенной обоями в цветочек и заставленную комодами с сервизами, из которых никто никогда не пил. У себя в комнате я достал две спортивные сумки, с которыми когда-то ходил на легкую атлетику, и начал упаковывать одежду, уже сложенную в аккуратные стопки.
Костик по-хозяйски залез на подоконник, открыл окно, за которым уже мелко накрапывал дождик, зажег сигарету и закурил. Он забросил ногу на краешек моего стола, а сам откинулся спиной на стену. Молчал долго, все время, пока я укладывал вещи в сумки, а потом спросил:
– С чего ты вообще захотел ехать с ней? Она ж не в твоем вкусе.
Я замялся. Тяжело сказать, почему и кто же был «в моем вкусе».
– Да решил и все.
– Так не бывает. Какая-то причина должна быть.
– А если причины нет?
– Тогда это безумство какое-то.
Я хмыкнул. Отчего-то это определение мне даже понравилось.
– Решился и все. Это возможность уехать, устроиться как-то. Хоть посмотрю, как в Москве живется. Я там в последний раз лет в пятнадцать был, когда наш самолет перенаправили в Домодедово. Так себе, в пробке-то стоять.
– Да помню. Ты в классе потом все уши прожужжал о турецких отелях и московских пробках!
Костик выпустил клубочек дыма на черную улицу. Вдали раздавались раскаты грома. Окно тихо поскрипывало.
Я бросал в сумку рубашки, куртки, джинсы, белье и удивлялся тому, сколько же вещей, оказывается, нужно для жизни.
– Ты ж собирался вернуться в декабре, а копошишься так, будто на всю жизнь уезжаешь, – сказал Костик и выбросил сигарету в лужу под окном. – Ты вообще вернешься?
– Вернусь конечно, куда я денусь.
Я сказал это слишком неуверенно. Костик слез с подоконника, уселся напротив и уставился на меня.
– Ты чего?
– Да так. Ищу в твоем лице вранье. – Улыбнулся он и, вытянув бесконечную руку, достал из-под моего стола рюкзак.
– А что тебе в Москве не нравится?
– Да не в Москве тут дело. В чем-то другом. – Костик помог мне застегнуть рюкзак, который совершенно не хотел закрываться. – И не в Тоне твоей. Я бы даже в апокалипсис в ее машину не залез. Если бы за мной толпа зомби бежала – все равно бы не поехал. Тут что-то другое.
Я замялся. Знал правду, прекрасно понимал, почему хотел уехать. Но так не хотелось признаваться, так что я высказал другу только часть правды:
– Просто все уезжают. Ты – в Рязань, Толик – уже давно в Питере. Останусь – мама будет на мозги капать с универом. Это она в августе такая спокойная, а будет осень, – все, пиши пропало. Будет мне мозг ложечкой выедать, пока я куда-нибудь не поступлю. Да и работа на стройке мне не нравится. Ну что такое стройка? Ну какие кирпичи… Я же умный, чую, способен на большее. Как-то… хочется чего-то классного, понимаешь?
Костик долго-долго смотрел на меня. Его светлые волосы шевелил ветер, врывавшийся через окно, хлопавшее ставнями. Дождь не хотел прекращаться, размазывал по дорогам грязевую кашу.
– Да уж, дело дрянь… – Вздохнул друг.
– Взрослая жизнь. Чего уж тут. – Я улыбнулся и похлопал друга по плечу, словно его надо успокаивать, а не меня.
– Ага, взрослая… Слишком она сложная, эта твоя взрослая жизнь. И чего ты не захотел со мной? Учились бы, веселились!
Я бы ответил ему. Сказал бы, что не хотел обременять родителей тратами и лишними переживаниями. Что не потянул бы медицинский. А учиться где-то одному, без друзей и знакомых, совсем не хотелось. Но – промолчал.
Глава V: Первые договоренности
Автобус катился по дороге, оставлял позади залитые водой поля, в которых плавали оторванные вчерашним дождем колоски и головки подсолнухов. Синеву неба не скрывали облака. Солнце было цвета добротного сливочного масла, собранного в огромный шар. Ветер легко пробегал по колоскам и уносился дальше свободным и лишенным забот странником. Деревни уже проснулись и зашуршали стогами мокрого сена, замычали невыспавшимися коровами и заклокотали лениво работавшими тракторами.
И все бы прекрасно, не беспокой меня размышления.
Я сильнее заткнул наушники в уши и отвернулся от окна. В темном салоне пазика помимо меня было еще несколько человек: старушка, разгадывавшая судоку, спустив очки на кончик носа, рядом с которой стояли клетчатые сумки с банками солений, тихо стукавшихся друг о друга на каждой неровности дороги, и супружеская пара, которая что-то громко обсуждала, тыкая пальцами в журнальчик мебели для сада.
Я не заметил, как погрузился в полудрему. Поля подсолнухов закончились и маленькие двухэтажные домики окружали наш пазик со всех сторон. А я существовал где-то между небом и землей. И только мысли мои не утихали.
Я провел ночь, пялясь в потолок, думал и думал, и мысли собирались в клубок черных как уголь ниток. Что ждет впереди? Куда я движусь? Зачем?
Самым главным вопросом было даже не «зачем», а «почему».
Почему я сорвался с места, выпал из родного гнезда так резко? Ради чего-то существенного или просто для того, чтобы выпасть и в свободном падении посмотреть, что же встретиться на пути?
Не сказать, чтобы я ехал в пустоту. В Москве ждал мамин брат, которого я видел всего пару раз в детстве. Я знал только его имя и то, что человек он нелюдимый и не очень приятный. И полным-полно ненужной информации о его жизни, женщинах, имевших несчастье с ним провести годы и прочее. Знать этого совершенно не хотелось, я и не пытался запомнить. Маме брат не очень нравился, но куда важнее, что жил дядя в просторной двушке неподалеку от метро и что поселить у себя он согласился почти бесплатно.
Я не мог прийти к соглашению с самим собой, но понимал только одно – не будь моя жизнь такой скучной, не сорвался бы в неизвестность.
Хотелось загадки, приключений, свободы от всех и от себя, от себя прошлого. Прорваться сквозь прутья родительского гнезда, висящего высоко-высоко, и парить, пока попутный ветер будет держать на волнах свободы. Воротить ошибки, исправляться и снова ошибаться. Учиться жить по-настоящему. А потом – шлепнуться о землю обыденности и реальности, но уже с чувством выполненного долга.
Я никогда не считал себя авантюристом, и черт меня знает, почему вдруг так быстро решился. Конечно, я тоже был подростком. Очень хотелось мне познакомиться с госпожой «Свободой». Ощутить ее на вкус, потрогать подушечками пальцев. Да даже запаха было бы достаточно. И пусть моя свобода длилась бы пару дней. Пусть я был бы окружен четырьмя стенами незнакомой черной машины. Но ветер развевал бы мои волосы иначе, и поля вокруг колыхались бы особенно.
– Приехали! – раздалось над головой, и я даже вздрогнул. Наушник, в котором все еще на средней громкости играла веселая песенка, вывалился из уха.
Я посмотрел вверх. Рядом с сиденьем стоял водитель пазика и сурово смотрел на меня, засунув руки в карманы шорт.
– Вставай, парень. Мне дальше ехать по расписанию, в поезде спать будешь, – сказал он и демонстративно развернулся, но не отошел, а только смотрел куда-то вперед. Ждал, когда же я уйду.
Задерживать никто никого не собирался. Я поднялся с нагретого сиденья, обшитого клетчатой тряпочкой, взял тяжелые сумки и набросил на плечо рюкзак. В спину мне упиралась подошва зимнего сапога с меховой жаркой стелькой. Я прошел мимо водителя, который даже не потрудился подвинуться, и вывалился на улицу.
Вокзал, выкрашенный в серый цвет, дымился. Солнце словно пыталось расплавить городок и превратить его в сплошное пятно одного, сливочно– оранжевого с примесью серого, оттенка. А ведь было раннее утро, я даже не завтракал.
Я пытался найти тень, но ее не было. Без толку бродил меж машин, огибал сгустки людей, но никого знакомого не увидел. Вдруг в кармане зазвонил телефон. Я взгромоздил сумки у колонны, уселся на парапет, подогнув под себя ногу, прислонился спиной к прохладному камню. Чуть насладился легкими покалываниями невидимых иголок и, не посмотрев даже на номер, ответил.
– Димочка! Ты приехал? – раздался по ту сторону голос мамы.
– Да, уже на вокзале, – ответил я и уже пытался найти в мире серости черную точку. Но вокруг были только автобусы и маршрутки, которые либо выплевывали пассажиров, либо всасывали.
– Сядешь в поезд – отзвонись. И папе позвони. Мы же волнуемся! – щебетала мама, будто бы и не было утренних проводов, растянувшихся настолько, что я чуть не опоздал на автобус.
– Обязательно позвоню, мам. Я пойду, пока, – протараторил я. Мама могла из пятисекундной просьбы сделать трехчасовой разговор ни о чем. Некогда.
– Да, да, Димуль. Мы тебя очень любим! Ой, вот Аленка хочет тебе что-то сказать! – воскликнула мама прежде, чем я успел возразить. Телефон отдали сестре.
– Дима! Я скучаю! – Аленка почти выкрикнула, пришлось даже отвести телефон подальше от уха.
– Да, мартышка, я тоже скучаю.
– А ты приедешь на Новый год?
– Приеду, конечно приеду.
– Точно-точно?
– Точно- точно. Куда ж я денусь.
– А на мой День рождения?
– И на него тоже приеду. Мне пора, Аленк! Потом поболтаем.
После разговора с домом я позвонил папе, как и обещал. И вновь услышал те важные советы, какие обычно дает отец сыну, прежде чем отпустить. Не курить. Не пить, а если и пить, то всегда в компании и только хорошее, не разбавленное пойло. Не якшаться с кем попало. Не прыгать в омут супружеской жизни до знакомства с тещей. И множество других наиполезнейших советов, от которых не вышло скрыться ни дома, ни в пути до остановки, ни на вокзале. И, как мне казалось, потом тоже не выйдет – папа обязательно обязал бы маму передать те советы моему дяде.
Я написал Костику, что добрался без происшествий. В ответ он прислал фотографию носков на фоне телевизора с подписью «Балдею, пока другие ищут статуи». Как-то не очень смешно.
Я бы погрелся в лучах солнца, если бы не пекло так, будто я был яичницей на сковороде, накрытой крышкой. Даже дышать сложно. Нашел в контактах номер, на экране загорелась фотография какой-то статуи, которую Костик вчера нашел для контакта Тони. Идея мне понравилась: и без подписи ясно, кому звонишь.
Тоня ответила только с третьего раза и то – после секунд двадцати висения на линии.
– Да, Дима, слушаю, – сразу же сказала она. Ни тебе «привет», ни тебе «как дела».
– Привет, Тонь. Я тут приехал и жду тебя у главного входа. Ты где?
– Я у «прессы». Подходи, – бросила она и отключилась. Я даже опешил. У какой такой прессы?
Вокруг нет киосков с газетами – их еще год назад приказали убрать. И на картах в телефоне тоже не значилось ничего. Мимо меня, навьюченного баулами осла, проходили студенты и пожилые люди, туристы, будто бы перепутавшие станцию, и люди в костюмах, которые выглядели совсем не к месту. Я совершил круг почета вокруг вокзала, но так и не увидел, где бы могли приторговывать газетами.
Я снова позвонил Тоне, но она даже не удосужилась взять трубку. Я набрал снова, и звонок сбросили. Дрожавшими пальцами я собирался позвонить снова, но не успел. В ответ уже прилетело короткое сообщение:
«Стой, где стоишь».
Стало совсем жарко. Вот они, приключения. Загадки. То, чего так хотелось, а я уже разозлился. А как же большая жизнь? А как же Москва? Там точно не будет проще.
Я уселся на лавочку, поставил рядом сумки, обнял рюкзак со всеми документами, деньгами и важностями и ждал. Хотелось пить. Я долго сидел, боясь пошевелиться, терпел тяжесть комков жары на плечах, потому что знал – если встану с нагревшейся лавки, то уже вряд ли сяду.
Стоило мне оторвать прилипшие к лавке ноги и потянуться за сумкой, сзади послышалось:
– И долго я ждать тебя должна?
Я повернулся и увидел Тоню. Выглядела она так, словно собралась на рок-фестиваль, вся в черном и цепях.
«И не жарко ей?»
– Что непонятного в моем объяснении? – спросила Тоня.
– А где твоя машина? – Я оглянулся. – Ты ее где-то спрятала?
– За углом. – Она указала куда-то пальцем и пошла в ту сторону.
– А что не здесь? – Я ввалил тяжеленные сумки на локти и поплелся следом.
– На солнце машина греется. А я не хочу свариться в ней заживо.
Она шла так быстро, что я еле поспевал. Конечно, проносилось в голове, ей хотя бы баулы не надо тащить. А мама ведь снарядила в настоящее кругосветное путешествие, можно было бы одеть целую экспедицию в мои шмотки, только бы ботинок на всех, к сожалению, не хватило бы.
Мы обошли вокзал, свернули в какой-то переулок серых пятиэтажек и очутились практически в подворотне. В тени, за старой будкой «пресса», стояла черная машина Тони.
– Вот, «пресса», – нравоучительным тоном произнесла девушка и открыла багажник.
Машина, как мне показалось, даже не была заперта.
Когда я уложил вещи и убрал все важности в напоясную сумку, сел на соседнее сидение. Пристегнулся. Осмотрелся. Салон был кожаный и пах лимонной газировкой. Что-то меня, впрочем, смущало. Блестящая чистота, аромат кожи и лимона, сверкающие кнопочки на магнитоле, ни единой пылинки на стеклах. Что-то не так.
Тоня увлеченно что-то печатала на телефоне, противно стукая ногтями по экрану.
– Ну что, поедем?
– Да, но прежде задокументируем нашу поездку, – сказала Тоня, не взглянув на меня. И продолжила печатать.
– Ты о чем?
– Я предоставлю гарантии в письменном виде.
– Какие такие гарантии?
– Документ, ты же этого хотел? Получишь, – ответила она и, бросив телефон мне на колени, резко дернула ручник и принялась выезжать из западни, устроенной забором и киоском.
– Да зачем?! Тонь, я же пошутил!
– А я – нет.
Тоня на ходу пристегнулась, и, мастерски лавируя между мусорками и ржавыми палатками, сваленными в маленькую аллею из старья, выехала на дорогу и направилась в город. Спорить бесполезно.
Мы ехали в тишине: Тоня не моргая смотрела на дорогу, словно веки ее прилепили скотчем ко лбу, и о чем-то думала. Я решил не нарушать идиллию: боязнь надоесть ей еще до выезда заклеила мне рот.
Тоня вдруг вдавила педаль в пол, и машина прибавила в скорости. Я взглянул на спидометр – стрелка дергалась между восьмьюдесятью и девяноста. Нестись по узким улочкам запрещено, но Тоня об этом не думала. Она не боялась ни полицейских, которые дремали в своих машинах и не очень-то хотели просыпаться, ни прохожих, которые будто бы попрятались по углам и не выходили на свет. Весь город, казалось, вымер.
Мы остановились так же неожиданно, как и стартовали. Тонина машина дрифтово развернулась, противно проскрипев и просвистев на всю округу шумом шин, оставила черные полосы на сером асфальте и легко припарковалась на противоположной стороне улицы, нарушив все мыслимые и немыслимые правила дорожного движения. Я больно ударился локтем – хорошо, что только им.
– Приехали. Жди здесь, – неожиданно спокойно сказала Тоня, когда пыль вокруг машины осела на дорогу.
А я ответил не сразу.
– Ты смерти моей хочешь? Зачем так резко поворачивать?
Тоня хлопнула своей дверью, обошла машину и открыла мою.
– Дай мой телефон.
Протянул. Руки подрагивали.
Тоня пробежалась холодным и оценивающим взглядом по моему побледневшему от испуга лицу.
«Да что с ней такое?» – подумал я. А вдруг она и мысли могла читать?
– Урок первый. В моей машине всегда пристегивайся. Не хочу потом менять стекло и оттирать кровь и рвоту, – бесцветно произнесла Тоня. – Никуда не уходи. Сейчас вернусь.
Я даже не знал, что сказать. Сидел дурачьем и смотрел, как моя попутчица растворялась в мазках жары. Когда она скрылась за дверью магазина, я наконец-то смог выдохнуть. Но выдох получился настолько рваный и испуганный, что заставил лишь снова вздрогнуть.
– Да это уже ни в какие ворота не лезет! А если она и в самом деле чокнутая? А если она захочет врезаться в дерево? А если планирует совершить массовое самоубийство? Сектантка какая-то… Господи, да зачем я согласился на это?!
Я бубнил и бубнил, а сам будто бы приклеился к сиденью и даже пошевелиться не мог, не то что взять вещи и убежать. И это только десять минут прошло! Что ж дальше будет?
Сумки в багажнике. Может, сбежать? Не выйдет – Тоня забрала ключи. Я оглянулся, посмотрел на задние сидения, но за Тониным не обнаружил ничего. Вещей не было, как и чемодана, прилепленного к крыше машины.
Тут- то я и подумал: а где же одежда, ее сумки? В багажнике же тоже ничего не было. Или было? Может, я не заметил? Да нет, не мог не заметить. А, может, вещи за моим сидением?
Я перевесился назад и начал елозить рукой по сиденью. Почти даже развернулся, а все никак не мог ничего нащупать.
Как вдруг раздалось недовольное:
– Что ты делаешь?
Я шлепнулся обратно. Тоня появилась ниоткуда, открыла дверь и смотрела на меня как на дурачка, всего взмыленного и перепуганного. В руках у нее были листы бумаги и пачка ручек.
– Такой бледный, словно призрака увидел, – заметила она, приподняв бровь, и села на свое место.
– Зачем тебе листы? – Я сглотнул кислый ком. – Мне же не завещание нужно писать?
Она хмыкнула.
– Ты же хотел письменные гарантии. Составим договор.
Очень скоро мы каким-то магическим образом выехали из города, который серой стеной обступал со всех сторон, и, обогнув пару-тройку зданий, попали на трассу.
Я пытался выискать в лице Тони что-то, но ничего не увидел. Тоня была ровной и безразличной.
Город уже остался позади, а вдали вновь появились такие знакомые поля, желтые от жары луга и редкие топи.
– Ты вроде и сама справляешься, зачем я тебе? – осторожно, даже с какой-то надеждой спросил я.
Стыдно пятиться. А вот если бы она отказалась сама – это хорошо. Это моему самолюбию бы не повредило.
Но Тоня не оправдала моих надежд.
– Может и справляюсь. Но одной ехать скучно, – ответила она.
– Я не комик, чтобы тебя развлекать.
– Это ты так думаешь, – вздохнула она без всякого сожаления и вновь скривила губы. – Урок второй: не надо спорить, если не хочешь расстроиться.
Я поежился. И на кой черт мне сдались эти ее уроки? Лучше бы научилась у меня чувству юмора!
– Тонь, а где твои вещи?
– За твоим сидением. Ты не дотянулся.
Я обернулся насколько мог и краем глаза увидел-таки сумку, лежавшую позади моего сидения. Не очень большую, насколько мог разглядеть.
– У тебя одна сумка?
– Довольствуюсь малым.
Я ничего уже не ответил. Сполз, уткнулся коленями в бардачок и безучастно пялился в окно на бесконечное поле подсолнухов, смешавшееся вскоре в сплошное желтое пятно, растекшееся до самого горизонта, все время, пока из транса меня не выдернул звук пришедшего на телефон сообщения.
Отвечал всем развернуто, но сухо. Сказал, что устал и хочу отдохнуть. А чувствовал себя последним на свете идиотом.
– Может, ты хоть фамилию скажешь свою? – спросил я потом. Так, лишь бы разбавить тишину. А сам даже не повернулся.
– Цветкова, – чуть подумав, ответила она.
– Это ты сейчас придумала? – пошутил было я.
А Тоня бросила на меня мутный оценивающий взгляд и сказала:
– Тогда Рубинова.
Я не смотрел на Тоню до самой остановки.
Мы вышли на одной из заправок, что находилась практически напротив моей деревни – дома размытым пятном виднелись за бесконечным полем. Тоня приказала выходить, взяла два листа бумаги, две ручки и телефон.
Я шел следом, всматривался в родной пейзаж вдали и не сообразил даже, почему же именно так мы остановились. А теперь-то понимаю, как это умно. Как ненавязчиво меня заставили выбрать.
Эта заправка совершенно не была похожа на нашу: намного больше столиков, чище и светлее. Тоня купила пятилитровку воды и поставила ее рядом с собой на диванчик. Я сидел напротив и ждал.
Тоня порылась в телефоне, кивнула в сторону листков:
– Бери лист и ручку, записывай.
– Ладно, капитан. Диктуйте…
Тоня, кажется, даже улыбнулась. Но так по-своему, что это вполне мог быть и спазм зубной боли.
– Я, имя, фамилия и отчество, обязуюсь сопровождать свою спутницу, Антонину Румянцеву, до пункта назначения, в скобках: Москва, а потом – покинуть ее транспортное средство и идти на все четыре стороны. В пути я обещаю не приносить ей хлопот, помогать, если есть такая нужда, и помалкивать, если водитель не в настроении говорить. А также слушать Антонину Румянцеву во всем. Подпись и дата.
«Что ты делаешь? Господи, да зачем? Почему бы просто не наплевать на все и поехать домой? Вон он, за полем. Час ходьбы и ты дома!» – думал я и записывал все, что Тоня диктовала.
– Теперь Румянцева? – спросил я, дописав и отдав бумажку Тоне. – Может, ты и не Тоня? И не Румянцева?
– Диктуй. – Отмахнулась Тоня и взяла лист и мою же ручку.
– Даже ты пишешь? – удивился я.
– Любой контракт двусторонний.
– А условия я сам должен выдумать?
– Ты же хотел гарантии. Выдумывай, если это не будет перечить моральным устоям.
Я замялся, думал дольше положенного. Тоня с нескрываемой скукой на меня смотрела и щелкала ручкой. Жутко действовала на нервы.
– Я, твое имя и прочее, можно опять с другой фамилией. – Я услышал, как Тоня хмыкнула, но написала прежнюю. – Так вот. Я, имя и прочее, обязуюсь довезти Жданова Дмитрия Романовича до Москвы в целости и сохранности всех частей тела в сумме, а не по отдельности. По дороге обещаю разговаривать с ним, говорить правду, хотя бы иногда улыбаться и хорошо себя вести. И еще подпиши разок: не подвергать жизнь Дмитрия Жданова опасности. Подпись и дата.
Тоня послушно записывала, а я не мог не любоваться ее почерком. Таким ровным и красивым, каким даже учительницы начальных классов не писали. Поставила подпись, больше похожую на кляксу, и отдала листок со словами:
– Оригинально, ничего не скажешь.
Я свернул договор в аккуратный квадратик и убрал в сумку. На загоревшихся щеках, предав мою смелость, выступили красные пятна.
Дышать в помещении тяжело. Слишком жарко, слишком пахло едой, слишком громко играла музыка. Я извинился, взял воду и унес ее в машину. На заднем сидении на самом деле стояла черная спортивная сумка.
«Довольствуется она малым… То же мне минималистка!» – хмыкнул я и, не закрывая двери, уселся на край сидения и дышал так рвано и жадно, словно боялся не надышаться родным теплым цветочным ветром.
– Отдыхаешь? – спросила появившаяся через какое-то время Тоня. Она достала из бардачка книгу и убрала листок в ее середину.
– Дышу.
– Надышишься в дороге. Поехали.
Я в немом повиновении захлопнул за дверь и пристегнулся, отрезал последний путь отступления. С непониманием и болью в сердце смотрел на то, как медленно удалялась моя родная деревня, пока машина разгонялась на трассе, и удивлялся тому, как быстро случилось это расставание. Всего-то несколько минут, а дома уже нет. Он уже где-то далеко, словно в прошлой жизни, хотя всего в нескольких километрах. Так близко, что недосягаемо.
– Поздравляю, – вдруг сказала Тоня, когда мы уже минут десять неслись в сторону бесконечности.
– С чем?
– Ты первый не сбежал после приветствия. Обычно люди уходят после встречи на вокзале.
– А были и другие? – сначала безразлично поинтересовался я, а потом, как только понял, что спросил, словно отмер и сказал уже громче: – Так, подожди. Другие? Ты еще кого-то возила?
– Не возила. Никто не согласился со мной ехать.
– Так значит, я первый потерпевший буду? – не пытаясь шутить, спросил я.
А Тоня вдруг улыбнулась. Почти так же, как улыбались и все люди на Земле.
– Первый испытуемый.
Глава VI: Кофе и неприятные встречи
Мы ехали без остановок почти три часа, а как будто и не сдвинулись с места. По обе стороны все так и тянулись бесконечные поля овса и ржи, а вдали темнели крышами домики и дачи, окруженные огородами.
Статичная и неизменная красота родного края. Таким я его и запомнил.
Тоня молчала, не моргая смотрела в даль. Она держалась за руль одной рукой, увешанной серебряными браслетами, а второй поддерживала голову, запустив тонкие пальцы в волосы.
Мама звонила несколько раз, но я отписывался: все хорошо, перезвоню перед сном. Знал, лучше бы ответить. Но я был взбаламученный и не хотел, чтобы это вдруг услышали. Пусть в письменных воспоминаниях об этом дне для всех я буду смелым и взрослым. А с настоящими как-нибудь разберусь.
Как же я разозлился, когда увидел, что снова до меня добивалась мама. В пятый раз за полчаса. После того, как мы уже переписывались и все обговорили.
– Да блин, сколько можно? – Я сбросил.
Вдруг Тоня, до этого хранившая вид мраморной глыбы, спросила каким-то очень странным, почти заботливым, тоном:
– Ответь, зачем сбрасывать?
Я злобно на нее зыркнул.
«Тебе-то какое дело?» – подумал я.
– Не могу палиться. Я же типа в поезде. А никаких «чучух» не слышно.
– Насколько я помню, в поезде не очень слышится этот твой «чучух». Внутри достаточно тихо, – ответила Тоня после долгого молчания.
– А ты так часто ездила на поездах?
– А я, по-твоему, не могу ехать на поезде?
Она все еще смотрела вперед. Сосредоточенная, погруженная в мысли, будто и не человек вовсе. Мне казалось, что Тоня, чей профиль красиво обрисовывался солнечными лучами, ставшими за полдня уже какими-то совсем сливочными и мягкими, никогда бы не заговорила со мной просто так. Это не для нее, нет. Тоня могла разговаривать только с тишиной.
Я невольно ей залюбовался.
– Если честно, я тебя в плацкарте даже представить не могу.
Тоня холодно улыбнулась, постучала пальцами по рулю, словно наигрывая какую-то незнакомую мне мелодию и спокойно поинтересовалась:
– И почему ты так решил?
Я снова разнервничался.
– Просто ты не похожа на человека, который стал бы прыгать между вытянутыми ногами, чтоб донести чашку кипятка и не разлить его по дороге.
Первым ответом была тишина. Голос моей спутницы, не замаскированный под человеческую речь. А потом Тоня рассмеялась. Что же это был за смех! Голос ее разбивался, дрожал горным камнепадом. Что-то неприятное, будто бы отчужденное и давным-давно замерзшее было в этом смехе, словно Тоня была роботом и смеялась механически. Смех ради смеха. Ради того, чтобы заполнить пропуск, в котором смех и должен быть.
– Возможно, ты и прав.
И не успел я ничего добавить, как она включила магнитолу и из колонок полилась песня на английском языке. Красивая, но непонятная. Я тоже музыку на английском любил, но никогда не смотрел даже ее перевода. Понимал только отдельные слова. А так, просто слушал и все, не вдаваясь в уточнения.
За окном пробегали машины, а мы летели мимо них, обливали пыльными брызгами. Стекла нагрелись настолько, что одно только прикосновение к ним обжигало.
Тоня слушала внимательно. Стучала пальцами по рулю, чуть кивала головой в такт. Наверное, если я бы сумел посмотреть ей в глаза, увидел бы, как в них крутиться воображаемое музыкальное видео.
Я вслушивался, пытался разобрать слова, но понял только парочку.
«Найти что ли перевод», – подумал я и включил «Shazam».
Тоня увидела. Взглянула на меня так презренно, словно я был раздавленным на дороге жуком.
– Это же классика уже. Неужели не знаешь этой песни?
Я погасил экран еще до того, как иконка поиска исчезла.
– Она о возвращении домой. – Сказала Тоня, а потом, словно нехотя, добавила: – К матери. О любви к матери, о прощении и о возвращении домой.
У меня внутри все вскипело от восторга. Она ответила! Ответила, хотя я, в общем-то, ее и не спрашивал.
– Ты говоришь по-английски? А помимо английского что-то знаешь?
– Что-то?
Колеса скользнули по темно-серому асфальту и завизжали, покрутились еще быстрее.
– Ну, чем интересуешься. Какие языки там знаешь, чем еще занимаешься, – пискнул я и вцепился в натянутый ремень безопасности, который натянул и, судя по всему, не зря. Меня прямо-таки вжало в кресло.
– Языков я знаю несколько.
Тоня свернула на «встречку», обогнала фуру, и резко перестроилась в нашу линию, чуть не врезавшись в другую машину. Но сделала это так мастерски и уверено, будто бы была настоящей гонщицей.
– Много какие понимаю, но говорю не на всех, – добавила она и переключила песню. Все тот же непонятный мужской голос, уже быстрее и зажигательнее, будто бы что-то выкрикивал, а не пел.
– Прикольно, – только и мог сказать я.
– А ты что знаешь? – в тон моему вопросу вдруг спросила Тоня.
– Ну… Я учил английский в школе…
– Учил?
– Учил.
– А выучил?
– Ну как сказать…
– Как есть.
– Ну так. Немного…
– Немного? Как можно выучить немного?
– Ну… Что-то понимаю, а что-то нет.
– Значит не выучил.
– Ну почему сразу не выучил?
– Потому что ты – совершенно заурядный и достаточно бестолковый парень, для которого любые, даже самые незначительные, усилия кажутся титаническими. Судя по твоим восхищениям, еще и ленивый. Поэтому ты и ничего не знаешь. И не нужно быть ясновидцем, чтобы это понять, – холодно изрекла она и вжала педаль газа почти в пол.
Навигатор с антирадаром вновь пискнул, предупреждая о чудовищном превышении скорости. Но Тоня не слышала его. Она, кажется, вообще не желала слушать никого на свете, кроме себя и надрывавшегося в колонках мужчины.
Я бы, наверное, должен был что-то ответить, но даже тихого писка протеста не вырвалось. Да кто она такая, чтобы обвинять меня в чем-то? Разве ж она меня знает?
Тоня решила зачем-то перестроиться в крайний ряд.
– Мы сейчас остановимся.
Я промолчал.
– На заправку, – добавила она.
– А зачем?
Тоня, которой, видимо, вконец наскучило со мной разговаривать, молча ткнула пальцем в панель часов. Черные прерывистые цифры на голубовато-сером фоне показывали три часа дня.
– И? – не понял я, а вот мой живот, напротив, протяжно заурчал.
– Ты сам ответил на свой вопрос, – сухо сказала Тоня.
Вдали показалась эмблема заправки. Мы обогнали еще пару машин и завернули на парковку, отчертив на дороге полукруг. Тоня припарковалась на пустом пятачке за заправкой, выключила машину и вышла, даже не позвав меня. Я схватил сумку с деньгами и вылетел за ней. Не хотелось голодать в одиночестве.
В кафе помимо нас двоих отдыхали еще трое мужчин, вкушавших гречку за столами у окон, а больше никого не было.
Со мной случилось что-то странное. Словно стоило мне пересечь границу жаркой улицы и угодить в прохладное помещение, а приятному аромату цивилизации, соблазнительному блеску упаковок с любимыми шоколадками и предчувствию отдыха окружить меня, как самолюбие тоже утихло. Мне вновь захотелось поговорить. И поговорить, желательно, с Тоней.
– Ну а как ты учила языки? Расскажи, раз уж такая умная. Что мне сделать, чтобы тоже их выучить?
– А не многовато ли вопросов для одного изречения?
Она сказала это так громко, что на голос ее обернулся один из дальнобойщиков. Что-то внутри меня екнуло, то ли нехорошее предчувствие тронуло, то ли снова самолюбие проснулось.
– Ну, я же просто хочу узнать тебя получше! – прошептал я, с опаской оглядываясь на мужчин.
Они нас давно заметили и смотрели на Тоню.
– А тебе это так нужно? Жить без этой информации не сможешь?
Тоня подошла к стенду с чипсами и взяла самую большую пачку каких-то рифленых и дорогущих, от каких у меня обычно была изжога, а потом ушла к стенду с энергетиками. Я собачкой следовал за ней, даже не обращая внимания на полки с такими желанными шоколадками. Отходить от Тони казалось необходимостью, а для кого больше, нее или меня, не знал.
– Ну, я просто хочу узнать тебя получше, что в этом плохого?
Тоня вздохнула. Опустила руку, которая уже почти достала холодную банку с язычком пламени, стоявшую на последней полке. Я только тогда заметил, что она была очень высокой, даже выше меня. А я, кстати, был не таким уж и клопом.
– В этом не было бы ничего плохого, если бы в этом был хоть какой-то смысл.
– А почему ты думаешь, что нет какого-то там смысла? Мы же можем просто общаться, пока едем. Хотя бы как знакомые. Это ведь два или три дня. Зачем ехать в тишине?
– Но ведь ты едешь не один. Я не запрещаю тебе общаться. Звони друзьям, семье, девушке, смотря кто у тебя есть, – ответила она и взяла с верхней полки энергетик.
– Так ты же рядом сидишь. Может, нам пообщаться друг с другом?
– Может быть, я не хочу с тобой общаться. Ты не способен на аналогии?
В тот момент, такой горький и обидный, я смотрел на Тоню и не мог отвернуться. В раздражении, на грани ярости она была прекрасна.
– Ладно, прости. Не буду приставать. Пойду, куплю чего-нибудь, а ты тут гуляй, наслаждайся. Не буду мешать.
Я направился к стойке с нормальной едой, где меня уже ждала работница здешнего общепита, а Тоня пошла к кассе, даже не взглянув на меня. Она оплатила чипсы и энергетик, взяла еще две красные пачки сигарет, и снова скрылась в рядах.
Я с грустью следил за ее перемещениями и понимал, что, наверное, не выйдет у нас никакого диалога.
Я расплатился, забрал еду и ушел в самый дальний угол. Помнил, что Тоня всегда выбирала именно это место. Девушка все еще стояла у кассы и что-то покупала. А я не начинал есть.
Я уже задумался о чем-то отвлеченном, как вдруг заметил странное шевеление сбоку. То были дальнобойщики, от которых, конечно, нельзя было ожидать ничего хорошего.
Амбалы сидели от меня достаточно далеко, но к кассе находились куда ближе. И один из них, лица которого я почти не мог рассмотреть как бы ни старался, нагло повернулся к Тоне и что-то говорил своим друзьям, кивая в ее сторону. Но расслышать, что именно, я не мог из-за музыки.
Я достал телефон и написал маме, что сидел и ел. То же продублировал и папе. А Костику написал, что мы остановились на заправке, а разговор с Тоней не клеился. Друг ответил быстро – прислал мне ссылку на видео какого-то мастера «пикапа». Шутка не удалась, легче не стало.
– Хорошее место, светло и тихо, – вдруг раздалось рядом, и я поспешил отложить телефон.
Тоня уселась напротив и разложила покупки на столе: две жвачки, две пачки сигарет, зажигалку, пакет чипсов, энергетик, шоколадный батончик и кофе в металлической банке.
– У тебя не будет несварения или кариеса после этого? – кисло пошутил я, уж и не надеясь на ответ.
Но Тоня почти тепло хмыкнула, с тихим хрустом открыла шоколадку, откусила кусочек и ответила:
– Вряд ли на искусственных зубах может появиться кариес.
Я опустил ложку в тарелку с супом и с удивлением на нее посмотрел.
– У тебя что, все зубы искусственные?
– Мой старый знакомый говорил, что истинная красота заключается в безупречной искусственности.
– Как-то странно звучит. С чего это он так решил?
– Он редко ошибался. – Тоня с противным пшиком открыла банку кофе и сделала первый глоток и прошипела: – Что же за дерьмо этот кофе из банки…
– А тогда зачем ты его купила?
– Другого нет.
– А в автомате разве нет?
– Там бо′льшее дерьмо. Лучше довольствоваться меньшим…
Мы молча ели. Тоня, меланхолично рассматривая пейзаж за окном, пила кофе, а я отправлял в рот ложку за ложкой и поглядывал на мужчин, сидевших неподалеку и все еще посматривавших в нашу сторону.
– Не пялься на них, а то подумают, что ты в них заинтересован, – сказала Тоня.
– Я просто слежу.
– А выглядишь для них заинтересованным.
– Я в них точно не заинтересован!
– А они в тебе точно могут быть. Дороги дальние, одинокие…
Я так резко отвернулся, что, наверное, только счастливая случайность уберегла мою шею от рокового хруста.
Под конец обеда я даже успокоился. Все, казалось, в порядке. Я ел, Тоня жевала батончик, а машины по трассе летели по своим делам. Солнце все также разводило краски в небе, а что не сдерживали перистые облака, каплями стекало вниз, превращая все вокруг в огромную картину, дальний план которой ленивый художник совсем не желал прорисовывать. Красиво, душно и жарко, но ничего необычного.
И вдруг мужчины поднялись со своих мест. Тучные, в белых майках, кто-то даже лысый, кто-то в черных рисунках на руках. Неприятные и жуткие глыбы, которые о чем-то переговаривались и уже бессовестно смотрели в нашу сторону.
«Интересно, почему раньше все дальнобойщики, которые мне встречались, были нормальные, а эти какие-то мерзкие?» – подумалось мне.
– Они на нас опять таращатся, Тонь, – шепнул я.
– Пусть смотрят. Пока особи не подходят – опасности не представляют, – Пожала она плечами и, закончив с кофе, с громким пшиком открыла уже энергетик. Она говорила это таким тоном, словно вела передачу «В мире животных» и рассказывала о выводке орангутангов.
А амбалы и в самом деле продолжали смотреть. Один из них, видимо, самый матерый дальнобойщик подпихнул другого толстенной рукой, похожей формой и цветом на ржавую канализационную трубу.
И он вдруг, не услышав моих безмолвных молитв, направился к нам. Я обхватил рукой стакан сока, а вторую сжал в кулак и спрятал.
В такие моменты я почему-то чувствовал себя клопом.
Дальнобойщик почти подлетел: ноги, накаченные и загорелые, быстро донесли тело до нашего столика. Когда он оказался рядом, я сразу почувствовал запах ядреного дезодоранта, не перекрывшего вонь впитавшегося за время долгой поездки пота.
– Здравствуйте. Не хотите познакомиться? – протяжно произнес дальнобойщик.
Он был как высокий поджаренный поросенок. Одна рука загорела до цвета горького шоколада, а вторая осталась белой. На майке темнело пятнышко, размазанное сухой салфеткой и покрытое катышками. Лысину прикрывала серая, совсем новая, кепка.
– Не хотим, – ответила Тоня холодно, еще более обжигающе, чем отвечала мне. И даже не посмотрела на мужчину.
– Почему вы ездите в одиночестве? На дорогах много всяких мразей, – не унимался дальнобойщик и уже по-хозяйски поставил руку, покрытую мозолями, на наш столик.
– И вы, разумеется, не один из них, – сказала Тоня.
Он усмехнулся. Я сжал стакан сильнее.
– Я такие же сигареты курю, – сказал мужчина, оглядев наш столик. – Могу угостить. У меня лежат. Я, кстати, Игорь.
– Благодарю, но я в вас не нуждаюсь, – отрезала Тоня и посмотрела на дальнобойщика горевшими от спокойного негодования глазами. – У меня есть сигареты и я не одна. Оставьте нас.
– Ух, какая ты говорливая, – хохотнул он. А потом посмотрел на меня так, что я даже голову вжал в плечи. – Это вот с этим обсоском путешествуешь? Да на него прикрикнешь, так он в соплю превратится.
– Вы не очень похожи на мага, – огрызнулась Тоня и отхлебнула энергетик, а дальнобойщик вдруг положил свою мозолистую ладонь совсем рядом с ее, маленькой и бледной.
– Вы девушка одинокая. По вам видно, вот и такая злая. Я тут хорошее местечко знаю неподалеку, повеселишься, расслабишься. Хоть рожа поприятнее будет, – сказал он совершенно бесстыдно, словно в его словах не было ничего оскорбительного.
Тоня ничего не ответила. Я впервые увидел в ее глазах растерянность.
И тут я закипел. Смелость, что была мне ровесницей, но прожила от силы год из восемнадцати, пробудилась. И я прохрипел:
– Отстаньте от девушки. Видите же, что ей неприятна ваша морда.
Дальнобойщик окинул меня придирчивым взглядом и утробно хмыкнул. По спине пробежали мурашки, но я настолько был сосредоточен на мысли о Тоне, что не подал даже вида, что испугался.
– Это ты мне говоришь?! Да ты от первого удара отлетишь к соседней стене, твоей подружке придется тебя отскабливать!
– А попробуйте. Или можете только языком чесать? – выплюнул я, не подумав.
Он засмеялся гортанно и громко. Если бы взгляд мой не был прикован к рукам Тони, которые крутили пачку сигарет в тонких пальцах, то я заметил бы, наверное, как стекла тряслись. Дальнобойщики, стоявшие поодаль и наблюдавшие за этим представлением, тоже рассмеялись. Молчали только кассиры, боявшиеся вмешаться, и Тоня, вдруг утонувшая в собственных мыслях.
– Да если я замахнусь…
– А чем… чем удивить можете, кроме кулаков? Неужели, кроме силы ничего нет? – самоуверенно перебил я и чуть было не шлепнул себя же по лицу за такие слова. Но они вырвались, не успел мозг даже подумать. Видимо, жил во мне все-таки какой-то рыцарь. Пусть совсем крошечный и трусливый.
Тоня посмотрела на меня так, как, я думал, смотреть не умела. Буквально пару секунд она будто бы пыталась найти во мне что-то, растягивая это ничтожное время в бесконечность. Изучала с какой-то надеждой и будто в них даже блеснуло что-то теплое, похожее на одобрение. Хотя, наверное, показалось.
Она глотнула еще энергетика и, прежде чем Игорь успел что-либо сказать, поднялась с места и громко, почти на всю заправку, сказала:
– Пошли, Дим. В этом вольере с приматами нам делать нечего.
Я вскочил спустя мгновение, когда онемевшие от смелости и страха ноги смогли отмереть. Взял ее вещи, даже пустую банку из-под кофе, прижал их к груди и поспешил за Тоней. Игорь обалдел настолько, что даже не пошел за нами. А мы, чуть только покинули кафе, почти бегом добрались до машины, запрыгнули в салон и, будто бы согласовываясь на уровне мысли, заблокировали двери.
Тоня сидела молча. Руки ее подрагивали почти незаметно. Губы что-то безмолвно шептали. А потом, когда она наконец-то завела машину и выехала на трассу, на пару секунд повернулась ко мне и сказала, так тепло, что я чуть не обжегся:
– Спасибо, Дим. Правда, спасибо.
– Да ладно тебе! Я ж ничего не сделал.
– Нет, ты сделал многое. Даже не представляешь, как девушке бывает страшно в такие моменты. Время полной беспомощности. Что ни скажи, а они не воспримут. Только посмеются над жалкой попыткой. Спасибо, что дал им отпор. Меня они не послушали.
– Да же даже не подрался!
– В этом и дело. Ты оказался умнее этих горилл. Слова могут ранить куда больнее сильного удара. Жаль только, что не все люди это понимают… Ты поступил как по-настоящему смелый парень, – сказала она и улыбнулась. И на мгновение мне показалось, что улыбка ее была настоящей.
«А, может, она все-таки человек? Не самый обычный, но все же. Может, все еще будет нормально?» – подумал я вдруг. И успокоился, пусть и ненадолго.
Глава VII: Болтовня и таблетки
А потом что-то случилось. Определенно что-то случилось, а я, балда, пропустил, что именно.
Стоило нам проехать несколько километров желто-зеленых и высохших на солнце полей, Тоня вдруг сделала музыку тише. Голос очередной иностранной певицы почти пропал, и грустная медленная песня растворилась в шуме проезжавших мимо машин. Я даже оторвался от разглядывания фотографий чемоданов Костика, который тот мне прислал «оценить масштаб сборов»: разворачивалось что-то интереснее передвигавшихся к сумкам куч одежд на полу.
Тоня, почувствовав, что мой внимательный взгляд сосредоточился на ней, сказала, тихо перед этим прокашлявшись:
– Ты там что-то спросил…
Брови мои, кажется, встретились и образовали кривой навес для глаз.
– Что? – опешил я, даже не поняв, к чему это она.
– Что-то про языки, да? Ты же это спросил? – повторила она. – Я училась в специализированной гимназии, приходилось каждый день решать однообразные упражнения, от которых очень хотелось побыстрее очистить желудок и мысли. Потом училась также в университете. Так и выучила – зубрежкой. А потом разъезжала там, сям, общалась. Вот и рецепт успеха.
«Хм, университет, значит. Студентка? Нет, говорит же, что училась. Значит, выпустилась. Но она не выглядит на двадцать с хвостиком, максимум – восемнадцать. В чем здесь подвох? Что за вундеркинд?» – думал я.
Если бы Тоня была одной из тех, кто к двенадцати годам заканчивают университеты, я бы точно знал ее лицо – моя мама всегда смотрела репортажи про одаренных детей и отчаянно печалилась, что я, ее сын, совсем не такой особенный, как те дети, способные в пять лет говорить на десяти языках, в десять окончить школу, а в пятнадцать уже сколотить состояние. Как бы неприятно ни было, приходилось слушать и смотреть новости с мамой. И пусть память на лица у меня не феноменальная, но Тонино я бы точно запомнил.
– Смысл, говоришь, в зубрежке? – переспросил я.
– В переедании зубрежкой, в тошнотворной зубрежке. Смысл в состоянии, когда надоедает зубрить. Находишь кучу замечательных способов учиться.
– И какой же способ лучший?
Она сдержанно оскалилась.
– В неудержимом желании поскорее исчезнуть из этой дыры.
– Из какой дыры?
– Из какой? А ты никогда не оглядывался?
Я посмотрел в окно словно в первый раз. Невидимый туман, окружавший дорогу, начал сгущаться. Поля с каждым мгновением исчезали, срастались с потонувшем в закатной мгле горизонтом.
«И правда… Мрачно у нас как-то», – подумалось мне.
Я вздрогнул от собственных же мыслей, мне так несвойственных. Никогда ведь так не считал. Да и тогда – вряд ли.
– А ты что, универ уже закончила? – перевел я тему.
– Как видишь, – как-то кисло ответила она и замолчала. И будто бы на этом уже хотела закончить. Не тут-то было.
Я посмотрел на нее внимательно и, не заметив прежней злости, решил задать ей несколько вопросов.
– Никогда бы не подумал. Ты слишком молодо выглядишь.
– А если бы выпустилась, была бы близка к пенсии? – хмыкнула она почти даже весело. – Двадцать два это, по-твоему, старость?
– Да не старость, но… Ты не выглядишь на двадцать два, честно.
– На сколько же выгляжу?
– Лет на восемнадцать. Как я после экзаменов, только получше… – усмехнулся я, вспоминая свой авитаминоз, обнаружившийся после выпускного. А потом так развеселился, так обрадовался победе над неразговорчивостью Тони, что воскликнул вдохновленно: – Да ладно тебе! Мне кажется, ты шутишь. Антонина Румянцева не может быть выпускницей универа!
Улыбка с лица Тони исчезла, не успев заостриться.
– Никогда не зови меня полным именем.
– Почему? Я же просто…
– Я говорила тебе, чтобы ты называл меня Тоней! Я не хочу слышать своего полного имени даже в шутку, даже в серьезном разговоре. Его нет! Прошу уважать мою просьбу. Не думаю, что это тебя как-то особенно затруднит, – выплюнула она и отвернулась.
Я почувствовал себя каким-то жалким зверенышем, которого сначала ласково подозвали, погладили, а потом отпихнули ногой за ненадобностью.
«Зачем так злиться? Нельзя что ли сказать спокойно, как это делают все нормальные люди?» – думал я.
«Может, она просто находилась в изоляции где-то в Тибете и забыла, какого это – общаться с обыкновенными людьми?» – ответил внутренний голос.
– Тебя на самом деле Антониной зовут? – брякнул я.
– По-твоему, я не похожа на среднестатистическую Антонину?
– Ну, тебе бы другое имя больше подошло. Какая-нибудь Елена, Екатерина, Вероника, Анастасия или Александра. Вот, Александра. Это было прям подходящее для тебя имечко. Возвышенное такое, важное.
Тоня переменилась. От прежней натянутой доброжелательности ничего не осталось. Лицо осунулось, скулы вновь выступили ледяными айсбергами, а губы вытянулись в ровную линию.
Любой другой бы перестал пытаться. Любой, может, кто-то поумнее, но не юный Дима Жданов, который в то время не умел не только думать прежде, чем говорить, но иногда и вовсе забывал подумать.
– А сколько тебе лет вообще? – Я снова впутался в беседу.
– На сколько выгляжу, – опять ответила она, одарив меня пустым и ничего не выражавшим взглядом, а затем – вновь отвернулась к солнцу, от которого в небе осталась только щепотка золотистого песка.
Я решил сообщить Тоне о плодах размышлений, снова не сообразив, что мысли эти ей могут быть не интересны.
– Тонь, но ведь ты в машине не одна. Я ведь могу спросить у тебя что-то. Что такого?
– Потому что я не обязана тебе ничего рассказывать.
– Да я ведь просто хочу узнать, кто ты!
Тоня сжала руль в своих длинных пальцах так, что все вены у нее проступили и будто бы оплели кожу побегами.
– Да потому что все вечно только и опрашивают меня, будто бы я преступник на допросе! Вопросы, вопросы, хреновы вопросы! Я никому ничего не должна! Мир не вертится вокруг тебя, он вообще не вертится вокруг нас, пойми уже! Он жестокий, одинокий и конечный!
Тоня и вжала ногой педаль газа. Машина взвизгнула и понеслась на обгон очередной фуры, оставляя позади облако дорожной пыли.
– А еще ты обязана доставить меня в Москву! Меня, а не шлепок мяса! – воскликнул я и вцепился в сумку.
Она не слышала. Она больше ничего не слышала.
Тоня стала частью машины, летевшей вперед, к свободе. И в то самое мгновение превратилась в символ независимости, желаемый, но такой пугающей независимости, к которой я тянулся, но которой боялся. Тоня сжимала руль до побелевших костяшек пальцев, Тонины волосы развевались от огненного ветра, врывавшегося в открытое окно, Тоня смотрела только вперед, туда, где чернела уже невидимая ночь, словно гнала не в Москву, а прямиком в Ад.
Мне казалось, что я сплю. Что все вокруг – проекция уставшего сознания. Сон наяву. Видения. Что я просто насмотрелся «Форсажа» перед сном и вот, теперь мучаюсь в очередном кошмаре.
Но сколько бы я ни моргал, сколько бы ни пытался ущипнуть себя без боли, ничего не исчезало. Мы все также неслись, обгоняя ни в чем неповинных людей, подрезали их и, казалось, оставляли за машиной полосы огня на асфальте. Мы словно превратились в свободу. В ветер. В нечто. Но тут-то мне стало страшно.
Полет казался смертью. Я дрожал, мне было холодно, ветрено, зубы стучали, глаза сохли, а сердце отбивало, кажется, как в последний раз. Машины сигналили, кричали водители, щелкали камеры наблюдения, а мы летели по трассе словно уже были призраками, словно нам не грозила гибель. Картинка за окном превратилась в кашу. Мы неслись не к жизни, а прямиком к смерти, она была со всех сторон. Любое неаккуратное движение – и мы встретимся.
Я сжал сумку так сильно, что пальцы хрустнули. И вспомнил.
Пока Тоня обгоняла фуру за фурой, только и успевая уворачиваться от несущихся по встречке машин, истерично ей сигналивших, я шерстил по сумке, пытаясь найти нужную бумаженцию. Я отпихивал и кошелек, и телефон со скатанными в шарик наушниками, и просто какой-то мусор, который не выложил перед отъездом, и наконец-то нашел его. Нашу письменную договоренность.
– Тонь! Вот, ты же сама обещала! – воскликнул я, сделав такой глубокий и испуганный вдох на повороте, что чуть не задохнулся. – Смотри, я прочитаю. «Обязуюсь довезти Жданова Дмитрия Романовича до Москвы в целости и сохранности всех частей тела в сумме, а не по отдельности. По дороге обещаю разговаривать с ним, говорить правду, хотя бы иногда улыбаться и хорошо себя вести». – Я поперхнулся словами и закашлялся. – Говорить правду, Тоня! И довести меня живым! Ты пообещала! Ты подписалась! Неужели для тебя договоры ничего не значат?!
Эти слова на Тоню подействовали как-то уж очень странно. Она в одно мгновение покраснела, щеки ее покрылись пятнами словно от аллергии, губы сдулись в тонкую темно-красную дугу, а широкие и почти черные брови будто бы не сговариваясь постарались встретиться на середине лица. Тоня как бык на испанском родео злобно выдохнула через нос горячий воздух и резко, чуть не подрезав ехавший рядом автомобиль, дернула руль вправо и съехала на обочину, подняв облако пыли. Я, благо был пристегнут, даже не ударился.
Машина остановилась, а вокруг все еще кружилась темно-желтая пыль и стружка от свежескошенной и уже высохшей травы. Мимо проносились другие люди на автомобилях и длинных фурах, а Тоня сидела, вцепившись в руль и глубоко и хрипло дыша.
Мне было даже страшно смотреть на нее и только одна мысль крутилась в голове: «Какой же ты дебил, Дима! Идиот! Придурок!»
В машине будто бы резко стало холодно, но меня бросила в жар. Тоня бестолково, без намека на раздумья, пялилась на панель с километражем, голова ее чуть подрагивала, на коже выступили пупырышки-мурашки.
– Тонь, с тобой все хорошо? – тихо спросил я, боясь даже голос повысить.
Она не ответила, даже не дернулась. Не знаю, сколько просидел в оцепенении, пока аккуратно не дотронулся до ее локтя. Она не пошевелилась. Даже не обратила внимания.
– Не нужно выводить меня из себя. Иногда это чревато ужасающими последствиями, – Голос ее был тихий-тихий. – И я прекрасно знаю, что такое договор и как он важен. Не нужно напоминать мне. Кому угодно, но не мне.
В любой другой ситуации я бы в шутку посоветовал выпить «Глицин», но Тоне мне, на удивление, хватило ума подобного не высказывать.
– Все хорошо. Я не буду тебя злить. Ты не любишь говорить о себе? – как заправский врач спросил я, все еще второй рукой держась за ремень безопасности, будто бы тот мог меня спасти.
– Тебе так важно знать ответ? – фыркнула Тоня, но в голосе не было какой-то искрящейся злобы, как это случалось до этого. Скорее обыкновенная усталость.
– Ну, чтобы знать, о чем с тобой говорить, а о чем говорить не надо, – ответил я, пожав плечами. Все еще держал Тонин локоть, слово она могла сорваться с места и убежать на проезжую часть. Хотя убежать с большей вероятностью мог я.
– Просто не люблю, когда кто-то допытывается, когда я не хочу говорить, – выдавила Тоня. Глаза ее расширились, а тело вновь пробила дрожь. Шепотом она сказала: – Дим, залезь назад, пожалуйста, и достань мои таблетки. Они в коробке за твоим сидением.
Вот тут-то стало совсем не смешно.
Я выпрыгнул из машины, оступившись и чуть не свалившись в лужу, не успевшую высохнуть с ночи, и залез на заднее сиденье. За моим местом и в самом деле стояла накрытая черной курткой коробка, которую я не сумел нащупать утром. Под накидкой чего только не было. Сверху лежала аккуратно сложенная одежда и одна непрозрачная застегнутая сумка. Под пакетами с темными футболками, кофтами и штанами лежали книги. Их было столько, что казалось, будто Тоня ограбила целый магазин или чью-то библиотеку. Чего там только не было: и толстые книги, и маленькие, похожие на брошюрки, и средние в бумажной обложке. И это только на первый взгляд – копаться я не решился. Да и времени не было. Тонино дыхание становилось совсем хриплым и страшным.
– Таблетки сбоку, опусти руку в левый угол, где альманах стоит.
– Где что?
– Здоровая такая книжка, большая… Сбоку, – прошипела она.
Я аккуратно опустил руку в каждый из углов, наткнулся на толстенную книгу и вытащил пакетик на застежке с напиханными в него таблеткам.
– Дай их мне, пожалуйста.
Я же всучил ей все, даже не прочитав ни одного названия.
Тоня открыла пакет, вытащила оттуда маленькую баночку с таблетками и, не глядя, достала две разные. Забросила их в рот и запила энергетиком. После этого привалилась спиной к сиденью и закрыла глаза. Дыхание ее вскоре стало спокойным.
– Ты быстро сообразил, – выдохнула Тоня. – Спасибо, – выдохнула Тоня.
– У сестры астма, привык. Может, тебе врача вызвать?
– Если у тебя получится вызвать скорую помощь в поле – я залезу на крышу машины и буду аплодировать. Но, мой тебе совет, не стоит смешить своими просьбами работников, – ответила она, а я выдохнул с облегчением. Раз Тоня могла язвить, значит все было не так и плохо.
Не знаю, сколько мы молчали. Я долго не мог успокоиться, поглядывал на Тоню, которая тяжело дышала, срываясь то на хрип, то на сиплый выдох. А когда она задремала, смог, наконец, немного расслабиться. Сидел по-турецки, смотрел на убранное поле и думал.
Все, что из слов Тони я понял, так это ее примерный возраст, – больше двадцати. А остальное так и оставалось загадкой. И все бы ничего, но реакция Тони меня смутила.
Я допускал, что она могла сбежать от прошлой жизни. Ну, мало ли. Замуж неудачно вышла или кредитов набрала, а сейчас носится по дорогам необъятной страны и подбирает школьников себе в попутчики. Куда давались остальные попутчики, что делили машину с Тоней до меня, – неясно. И даже не хотелось знать, что именно случилось с ними.
За размышлениями я даже не заметил, как Тоня проснулась, привела кресло в прежнее положение и пристегнулась.
– Ладно, поехали, нечего сидеть без дела, – сказала она и, не успел я даже ноги опустить, как машина газанула и понеслась вперед на высокой скорости, но уже не совершая опасных маневров.
– Тонь, я же сзади, – сказал я через пару минут, убедившись, что хотя бы руки моей спутницы перестали трястись.
– Нам недолго ехать. Как доберемся до ближайшей стоянки – остановимся и немного отдохнем. Не люблю останавливаться на дороге просто так, слишком велика вероятность попасть в аварию. А я обещала тебе Москву, – ответила она спокойно и даже без издевки.
Мы вновь ехали в тишине. Музыка выключена, а телефон валялся где-то на переднем сиденье, куда лезть было никакого желания. Я уселся поудобнее, поджал ноги, стараясь не пачкать ногами коробку, и рассматривал пейзаж за окном. Он так и не изменился – все те же бесконечные поля с разбросанными по ним деревушкам, вдали – качающиеся туда-сюда машины по выкачиванию нефти.
Вдруг Тоня сказала:
– Если тебе скучно, можешь посмотреть мои книги.
– Да мне не скучно, я…
– Я спиной чувствую твою скуку, и она, скажу честно, слегка раздражает. Займись чем-то, – прервала она меня и посмотрела в зеркало заднего вида. – Только достань там записную книжку в темно-зеленой обложке и отдай мне. Ее я смотреть не разрешаю.
Я спорить не стал и принялся рыться в стопках книг, которые по высоте даже превышали само место для сиденья, но никак не мог найти именно ту записную книжку. Я доставал книгу за книгой и вскоре все пространство вокруг меня было заполнено талмудами разных мастей. Но ни единого намека на записную книгу.
– А где она?
– Она за твоим сиденьем. Посмотри перед собой, – сказала Тоня. Голос ее все еще был каким-то уж слишком спокойным и даже грустным.
Я разгреб груду книг, лежавших даже на коленях и балансировавших на них как канатоходцы, и посмотрел на спинку моего сиденья. Там, из кожаного черного кармашка выглядывал кончик темно-зеленой записной книжки. На ощупь мягкая, но с твердой обложкой, по которой кто-то словно карябал ручкой без чернил. Я провел ладонью по невидимым посланиям, хотел было уже приоткрыть глянуть хотя бы первую страничку, но передумал.
– Вот, держи. – Я протянул записную книжку.
Тоня выхватила блокнот из моих рук, покрутила, осмотрела со всех сторон, будто бы стараясь уличить меня в обмане, а потом – бросила в бардачок.
– Ты любишь читать?
Я замешкался, с чего-то открыл книгу белого цвета и, увидев на первой странице «Война и мир, том первый», сразу же захлопнул ее.
– Да так, не очень как-то.
– Понятно.
– А ты, наверное, любишь читать. Ты такая умная, – сказал я, а спутница хмыкнула и вновь одарила темно-зеленым мутным взглядом через зеркало заднего вида.
– Не стоит поддаваться всеобщим заблуждениям.
– Каким заблуждениям?
– О книгах. Они не сделают тебя умным.
– А зачем ты тогда возишь их с собой?
– Это часть моей библиотеки.
– А где остальная? У тебя дома?
– Ага, дома… Как же…
Тоня провела пальцем по обтянутому кожей рулю и тяжело вздохнула. Она не сводила взгляда с дороги, одевавшейся в светло-оранжевые лучи света. Даже на меня через зеркало заднего вида не взглянула ни разу.
– Я их сожгла.
– Зачем?!
Нет, Тоня не выглядела как человек, способный сжечь книги. Даже в самый отчаянный момент. Иначе зачем ей нужна целая коробка книг, аккуратно сложенных в стопки? Чем эти книги были лучше других? Они же тоже из бумаги и чернил сделаны.
– Да так, не хочу об этом. Были веские причины так поступить.
– Веские причины? С книгами?
– Книги могут навредить куда больше, чем можно себе представить.
Я долго не мог придумать подходящего вопроса.
– А эти безопасные?
Тоня хмыкнула. Пожала плечами и ничего не ответила.
– Книги могут приоткрыть завесу некоторых тайн, научить красиво писать или говорить высокопарными выражениями, особенно, если читать очень много древней классики. Могут помочь развить кругозор. Может, и помогут лучше разобраться в науке, если будешь читать труды или учебники. Но книги не сделают тебя умным. А если читать много и постоянно, то наоборот покажут тебе, насколько ты глупый.
– Все равно не понимаю, – вздохнул я и повертел в руках «Мастера и Маргариту» в темно-красной обложке. Помнилось мне, что я даже фильм не смог осилить, не то что книгу.
Тоня вновь хмыкнула, поправила волосы и ответила монотонно-спокойным голосом.
– Дело все в том, что мы заблуждаемся. Думаем, что откроем какую-то истину в книгах. Некоторые все ищут, ищут, думают, что находят, а оказывается, что все это – обман. Нет ничего нового, неизведанного в книгах. Все там вторично. Все уже было. Поступки, мысли, судьбы. Ничто не оригинально. И наша жизнь – копирка чьей-то. Прожитое уже сотни раз. Ты читаешь и видишь собственные ошибки и заблуждения. Читаешь о том, как можно было бы избежать ошибок, и вдруг понимаешь, что у тебя нет шансов их исправить. Это в книгах легко – перелистнул страницу назад и словно ничего не было. Все идет заново сколько угодно раз. А в жизни все не так, страницы перелистывать никто не будет. В жизни все случается быстро и навсегда. Если кто-то исчезает, уходит прочь, умирает – это неисправимо. И вернуться к нему на страницах не выйдет, даже если соскучишься. Если происходит ссора, расставание – ничего от прежнего не остается. Прошлое не вернется. И когда ты понимаешь это, когда проживаешь много раз, тогда становится горько…
– Может, ты принимала все близко к сердцу? Книги же… Ну, это книги. Не жизнь.
Она вдруг замолчала, о чем-то задумалась.
– Все ведь очень просто, Дима. Ты либо понимаешь и веришь, либо заблуждаешься. Для нас реальность – это секунда, ничтожная секунда, которые утекают друг за другом в бешеном течении и никогда не замедляют хода. А для книг реальность – вечность…
– Наверное, в этом и есть их крутость. Вечность – это же прикольно.
– Это так кажется. – Хмыкнула Тоня. – А если кто-то скажет обратное, поверь, он врет. Вечность не бывает приятной.
Я читать никогда не любил. Всегда интересовался телевизором или гулянками, а книгу в руки брал редко, когда заставляли. Дома читал только папа, у него была даже небольшая библиотека литературы по работе и фантастике, но притрагивался он к книгам нечасто. Зато любил ругать меня за то, что я останусь неучем, если не буду интересоваться текстами, написанными когда-то умными людьми.
– А эту ты тоже читала?
Она посмотрела через зеркало заднего вида, но не на обложку, а на меня. Ей хватило секунды, чтобы ответить.
– Я читала все, что есть в этой коробке.
– И как тебе?
– Даже не помню, о чем она. – Пожала плечами Тоня и, зажав сигарету между пальцами, быстро что-то набрала на навигаторе.
Я еще немного покопался в книгах и не нашел там почти ни единой знакомой, кроме тех, что были в школьном списке. Потом аккуратно сложил их, по стопкам, и решил-таки повторить вопрос, так меня интересовавший.
– Тонь, ну так сколько тебе лет? Если ты даже универ закончила.
Она выдохнула облачко дыма в окно, убрала выбившуюся прядь за ухо и холодно посмотрела на меня через зеркало.
– А на сколько выгляжу?
– Ну, так сразу и не скажешь…
– А ты попробуй.
Я знал, что сказать, но все равно переживал. Прокашлялся, мысли собрал в кучку и сказал, обдумав все, что наскреб за время нашего знакомства:
– Лицо у тебя подростка лет семнадцати-восемнадцати, но подростка, знаешь, ухоженного, не прыщавого или сальнокожего. У тебя даже морщин нет. И ты такая свежая, когда не злишься…
– Спасибо на этом, а дальше головы? – спросила Тоня, все еще смотря на меня, будто бы дорога могла контролировать себя сама.
Я сглотнул комок, застрявший в горле, и искренне понадеялся, что третий Тонин глаз за дорогой все-таки следил.
– Ну, тело девушки лет так двадцати двух или двадцати пяти. Ну, точно не подростка. Старше чуть-чуть. Может, года двадцать три, – сказал я, не решившись делать пояснений.
– Неплохо. А еще что?
– А взгляд… взгляд такой, возрастной.
И она рассмеялась. Рассмеялась так, что я даже испугался. Смеху ее было лет пятнадцать, но скрытой грусти в нем спряталось на все семьдесят. Он звучал разрушавшимся айсбергом, ссыпавшим глыбы льда в океан. Громко, страшно, но так гипнотически, что хотелось слушать его вечно.
Тоня прекратила смеяться так же резко, как и начала. И в машине вновь повисла пугающая тишина.
– Хорошая попытка, но ты не угадал ни разу, – сказала она и отвела от меня взгляд, вновь вернувшись к созерцанию дороги и курению. – Мне двадцать девять.
– Сколько?!
Она повторила.
Сыщик в моей голове на пару минут даже перестал копать себе могилу, настолько опешил.
Я и не предполагал такого поворота, до последнего надеялся, что ошибусь в подсчетах. Хотел, чтобы ей было хотя бы двадцать два, чтобы овраг между нами не разрывался до настоящей пропасти. Но все напрасно – нас разделяли одиннадцать лет, в восемнадцать кажущиеся целой жизнью. И все мои надежды понять Тоню в тот момент испарились. Даже моему брату меньше. Даже моей учительнице географии было двадцать пять. В мгновение Тоня отдалилась до самого солнца, закатившегося за горизонт.
– Тебя что-то смущает? – спросила она.
Первым ответил навигатор: сообщил, что до какой-то гостиницы осталось пять километров. Там, наверное, и все остальное.
– Да нет. Ты просто не похожа на такую взрослую… – промямлил я. – Скорее на мою ровесницу. Ну, может, чуть старше…
– Считай, что это магия, – издевательски бросила она и улыбнулась.
Мне улыбка ее совсем не понравилась. Я смотрел на нее уже по-другому и вообще переставал понимать.
– Ты не думай, я не думаю, что ты старая или еще что, я просто…
– Просто удивился?
– Я просто думал, что ты немного ближе к восемнадцати.
Она хмыкнула. Кажется, не обиделась.
– Понимаю. В восемнадцать часто все, что после двадцати, кажется старостью. Но это не так, поверь.
Я согласился, а про себя уже думал совсем о другом.
Почему Тоня ехала одна? Почему вдруг Тоня решила, что гонять по дороге с выпускником школы – хорошая затея? Разве на моем месте не должен сидеть кто-то другой? Где ее семья, любимые?
Тоня поправила зеркало так, чтобы не встречаться со мной взглядом, и сказала:
– Что замолчал? Прикидываешь что-то?
– Да я… Я просто думаю.
– Наверное, думаешь, почему я одна.
Я не удивился ее проницательности. Может, мои мысли отпечатывались на лице.
Тоня хмыкнула, как-то очень грустно улыбнулась, заправила прядь за ухо и сказала, а в голосе ее не было никаких эмоций:
– Я не замужем, ни детей, ни семьи, ни собаки… У меня были родители, но мы не общаемся. Не знаю, где они. Ты прав, я одна, поэтому и искала попутчика.
– Прости, я не хотел… – прошептал я.
– Все нормально. Это не настолько большая проблема, чтобы так извиняться, – Пожала плечами Тоня.
– Мне, теперь, лучше не закидывать тебя вопросами, да? – поинтересовался я. Тоня-то была Антониной, может, еще и с отечеством. А я общался с ней как с одноклассницей. Неудобно получалось.
– Да, желательно также падать мне в ноги при каждой встрече, обращаться только по имени отчеству и, желательно, отдавать честь каждый час. Расписание дам позже.
Я испуганно взглянул на Тоню, которая шерстила по кармашку в двери в поисках чего-то важного.
– Туго у тебя с чувством юмора, – вдруг сказала Тоня. – Может, расскажешь о семье? Чужие истории я люблю слушать больше, чем рассказывать свою.
И я, конечно, рассказало маме и папе, которые очень нас любили и всегда пытались сделать нашу жизнь лучше. О поездках на море и ремонте на веранде, о скандалах и перемириях. О том, как Лешка в шестнадцать сломал руку, и я кормил его с ложки почти месяц, пока он сам не приноровился. Рассказывал про Аленкины утренники в детском саду, на которые помогал ей учить стишки. Как мама приходила ко мне перед сном и рассказывала интересные истории, которые услышала от знакомых и по телевизору. Как папа пытался научить меня колоть дрова, чинить машину и перекладывать крышу, а я, дурак, так ничему толком и не научился, и даже о том, как мы провожали Лешку во Владивосток, как всю дорогу до вокзала папа читал ему нотацию, а мама сверялась со списком номеров полезных людей, которые выдавала брату перед отъездом, и проверяла билеты на поезд и самолет, словно могла взять другие.
А потом, спустя какое-то время, через несколько рассказанных историй, она вдруг прошептала:
– Спасибо. – Странно улыбнулась и, замолчав, ушла в себя.
Что такого произошло, что Тоня решила меня отблагодарить? Странная она все-таки. Очень странная, непонятная, нечеловеческая. И от этого – интересная.
Во время остановки я отошел от машины подальше, набрал родителям. Мы немного поболтали, пока «поезд стоял на станции», а потом написал Косте, уверил его в своей сохранности и задремал.
Глава VIII: Молчание ягнят
Я стоял у рукомойника в придорожной забегаловке, в которую мы заехали за чем-то для машины, и усердно думал. Зашел надеть другую кофту, а вместо этого обдумывал жизнь и переживал. Я всегда знал, что обратиться к другу мог по любому поводу, будь то контрольная по алгебре или выдуманный повод прогулять уроки. Скука и сомнения – это вообще его специальность, и будто позабыл, что Костик обычно спал до полудня или вообще вставал к обеду. Он еще большая соня, чем я, но при этом мог еще и гулять до полуночи со своими друзьями, когда мне дозволялось только спать. Дозвониться до него в без предупреждения было волшебной случайностью. Но тут он ответил.
«Ну конечно, он же уезжает, наверное,» – догадался я.
Костик, казалось, совсем не волновался. Был бы взволнован, не ответил бы так быстро, не говорил бы так насмешливо о том, как суетились дома его родители в поиске документов, а отписался бы, мол, некогда.
Он был охотник поговорить и в тот день. И стоило мне ответить на его звонок, сразу же услышал несерьезное:
– Ну что там с твоей психованной? – Костик прихлебывал чай и разговаривал одновременно.
Конечно, знай я больше, вернее, знай я хоть что-то дельное, – рассказал бы. Как на духу бы все выложил, не задумываясь даже, что разговоры наши с Тоней предназначались исключительно для двоих, и Костя Зайцев в эту пару не входил. Но, к моему же счастью, известно о спутнице было ничтожно мало.
Костик воспринял мои рассказы в шутку. Отсмеялся, сказал, что в собственной задумчивости был виноват сам и пожелал поскорее понравиться неразговорчивой спутнице.
«Конечно, ему-то легко говорить», – подумал я. Но стоило представить себя на месте Костика, как передумал. У меня все-таки интереснее.
Оторваться от разговора помог мне только настойчивый стук в дверь, который я даже не сразу услышал. А когда звук повторился во второй или даже третий раз, громкий и уже напоминавший шумную работу дятла, вздохнул, попрощался с Костей и поплелся к двери.
В коридоре стояла Тоня
– Я думала, ты уже все, – с привычной холодностью сказала она. – Давай. Нужно ехать.
– Уже? Я же только пришел. Может, поедим?
Она, прежде уже направившаяся к выходу, остановилась, посмотрела на меня с прищуром и хмыкнула пренебрежительно.
– Кажется, ты немного перепутал турецкий «все включено» с российским «плати и проваливай».
– Нет, ну перекусить-то…
– Некоторые медики утверждают, что человек может обходиться без еды месяц, а иногда даже больше. Ты парень не из хилых, так что до Москвы я могу и не останавливаться, – произнесла Тоня и пожала плечами.
Я почувствовал, как холодок покусал кожу на спине. Что-то почти не сомневался в том, что Тоня вполне могла устроить мне голодную изоляцию, если бы очень захотела. Вела-то она. И моя жизнь, по большему счету, зависела от Тониного настроения.
– Нет, ну медики, может, и утверждают, но ты же не медик.
Тоня криво улыбнулась.
– Шучу я. Остановимся, поешь, но чуть позже.
Тонина машина стояла далеко, в тени невысокого деревца, прикрывавшего только передние сиденья. Тоня сидела на моем месте, открыв дверь и полностью высунувшись на улицу, и курила.
Стоило мне увидеть ее, как в голове проявилась очередная колючая мысль – Тоня ведь даже курила как-то по-особенному. Как-то не по-человечески. Волшебно. Мне показалось, что она не просто извергала прогорклый серый дым изо рта, не просто намеренно приводила свои белоснежные ровные зубы в состояние желтых околышей. Тоня курила изящно, каждое ее движение было вымерено до мелочей, каждый вздох, каждое прикосновение к фильтру, каждая затяжка. Она курила так, будто для нее это не вредная привычка, а завершающий штрих образа, аристократично подносила толстую сигарету к накрашенным темной помадой губам, с наслаждением затягивалась и выдыхала тонкую струйку светло-серого дыма, который сразу же рассеивался в горячем воздухе. Я невольно засмотрелся. Она вновь была восхитительной загадкой. Хотя и не переставала ей быть ни на минуту.
Она не человек, думал я, и это притягивало. Странность, киношная атмосфера, гротескная игра актеров, которые актерами не являлись.
«Наверное, это и чувствуют алкоголики. Однажды насытившись охмелением, уже не можешь остановиться», – подумал я уже потом, когда все прожитое обратилось в воспоминания.
– Готов? – спросила Тоня, когда наконец-то обратила на меня внимание.
Я ответил не сразу. Все мое внимание было приковано к ее губам.
– Да, только вещи уберу, – завороженный, прошептал я.
Она безразлично кивнула и сделала очередную затяжку. Даже глаза закрыла от удовольствия. Я увидел, как дрожали ее веки, словно из последних сил державшие на себе длинные ресницы. И быстро отвернулся, когда осознал, насколько бессовестно пялился.
«Да господи, ведешь себя как маньяк! Ну как так можно?» – подумал я, подошел к багажнику и хотел открыть его, как и вчера Тоня, нажав на кнопку. Но багажник не поддавался, сколько бы я ни старался и тыкал кнопку.
– Сломаешь сейчас! – рявкнула Тоня, когда увидела мои жалкие попытки.
– А как его открыть тогда?
– Снизу поддень. Могло что-то заклинить.
Я поставил сумку на асфальт, сел на корточки и посмотрел, не попало ли чего под дверь багажника. Ничего не нашел, но заметил кое-что очень странное, на что бы не обратил внимания в другом случае.
«Какой-то у нее странный номер», – подумал я. Он не просто состоял из одинаковых цифр, «блатной», как бы сказали, но еще и белоснежный, с неповрежденной пленкой и еще совсем свежей, будто бы только отпечатанной, краской, чистый. И как она могла ездить неделю и даже не запылить его? Неужели протирала?
– Ну что ты там застрял? – крикнула Тоня.
– Да вроде ничего не застряло и не заклинило.
Я встал быстрее, чем успел запомнить название салона, который был написан внизу. Наверное, можно было посмотреть, что это за место, но зачем? И почему я вообще задумался об этом?
– Бросай вещи на заднее сидение и поехали, а то здесь оставлю!
– Да иду, иду я… – сдался я и занял свое место.
В салоне жутко накурено, и даже открытое окно не спасало. Невидимый дым все еще витал в воздухе. Но я бы даже не заметил, если бы Тоня, выруливая со стоянки на трассу, не спросила меня:
– Надеюсь, у тебя нет аллергии на дым?
– Нет, у меня друг курит. Только другие, которые подешевле, – ответил я, стараясь как можно лучше скрыть, насколько приятно было дышать терпким ароматом сигарет. Он был куда более въедливым и сильным, чем частенько исходивший от Костика. Но этот запах, запах дорогого табака, смешивающийся с ароматом выжженных на солнце полей, почему-то, мне нравился. Было в нем что-то «Тонино», странное, гадкое, словно родное, дышавшее свободой и оттого притягательное.
– И почему о ценах на сигареты некурящие знают даже больше нас, – фыркнула Тоня и, не выпуская сигарету из изящных пальцев, потянулась за утренним энергетиком. Таков был ее ритуал. Один из многих.
Стоило нам отъехать, как мне позвонила мама. Как будто она чувствовала, когда меня не стоило беспокоить, и набирала в тот самый момент. Я хотел уже сбросить, но Тоня, у которой зрение, видимо, было лучше моего, выдохнув облако дыма в раскрытое окно, сказала, чтобы я не смел этого делать.
– Они и без того волнуются. Не нужно терзать людей, которые тебя любят.
– Тебе не все равно?
– Я вижу, что тебе не все равно.
После того как Тоня, с успехом сыгравшая соучастие, выбросила сигарету на дорогу и закрыла окно, все-таки ответил.
Конечно, я любил маму всем юношеским сердцем, не знавшим еще никакой любви, кроме родительской. Но вот разговаривать с ней по телефону – нет, извольте.
Мама, как и многие ее подружки, совершенно не умела говорить по существу, постоянно барахталась в темах для бесед и тянула время. Я эти телефонные разговоры терпеть не мог, в дороге и по мобильнику – тем более. Но тогда не отвертеться было: все-таки родители волновались.
Я ответил. Мама сразу же забросала меня вопросами, словно снарядами из пушки, а я даже не успел разгрести первую порцию и придумать ответы, как посыпалась новая. Иной раз казалось, что перед мамой ставили секундомер и заставляли прочитать текст в несколько листов на время, хотя, конечно же, никакого измерителя времени перед ней не стояло.
Она начала просить прислать ей фотографию из поезда. Я быстро ответил, что стыдно фотографировать на глазах у других, что, мол, посчитают странным и несамостоятельным. К счастью, мама не настаивала. Но попросила все-таки сфотографироваться, если будет шанс побыть наедине в плацкарте. Что-то мне подсказывало, что такого шанса не будет. Но я пообещал прислать ей фотографию с остановки, если она не случится ночью. И, вроде как, выиграл в поединке лжи. А на душе было все-таки паршиво.
Мама, кажется, успокоилась. Рассказала о какой-то передаче, которую успела посмотреть, о подруге, у которой дочка решила выйти замуж, о соседке, которая утром как-то странно косилась на наш огород, и еще о многом другом. У мамы была невероятная способность – быстро выдумывать темы для разговора, даже не пытаясь сделать вдох или дать мне ответить.
И я слушал, честное слово. Пытался выпутать из маминых слов хоть что-то, что могло бы как-то развеселить меня, не надеясь услышать ничего дельного, но слышал только шум. Я испугался собственной лжи до чертиков, закопался во вранье так, что не представлял, как теперь выпутаться. И надеялся только на то, что обман никак не вскроется, а в интернете найдется подходящая фотография из поезда.
Отец же, который на пару минут отобрал телефон у мамы, как всегда был краток и разговаривал, словно сверяясь с планом. Он спросил о моем самочувствии и поставил первую галочку в списке. Напомнил не забивать голову всякой глупостью и всегда помнить о его советах – вторую и третью. В довесок пригрозил, что, если вдруг буду вести себя плохо у дяди, то мои московские каникулы быстро закончатся. Поставил заключительную галочку и отдал телефон обратно.
За это я уважал папу – за разговоры по делу. Но иногда жалел, что никогда он не говорил иначе.
– Ну хоть вообще не отвечай! Так заболтают… – вздохнул я, когда экран телефона наконец-то потух.
– Поучиться бы у твоей мамы затыкать тебе рот…
– Это зачем?
– За последние часы ты произнес слов больше, чем я за последний месяц. А сейчас такой кроткий был, загляденье.
Самолюбие взорвалось от негодования. Чтобы меня кто-то когда-то называл болтуном? Нет, это из разряда фантастики. По отзывам знакомых и друзей я был парнем исключительно приятным.
– Это ты просто неразговорчивая тетеря, – буркнул я и отвернулся. А Тоня хмыкнула, включила музыку и прибавила газу.
В этот раз стрелка спидометра колебалась на ста двадцати. Мы ехали по полупустой дороге: фуры будто бы уже испарились и больше не мешали простым смертным, да и других машин было немного. И природа вокруг казалась мне статичной, протянувшейся золотистыми полями до бесконечности. Смотреть определенно не на что. Я включил игру и принялся собирать урожаи на несуществующих фермах.
Изредка поглядывал на Тоню, следил. Не признавался себе, что любовался.
Тоня курила, часто переключала песни, недовольно морщась и что-то бубня себе под нос, когда музыка ей откровенно не нравилась. Но в остальном Тоня так и оставалась мраморной загадкой, притягательной и недоступной.
– Нам нужно прибавить шагу, как-то мы медленно едем, – сказала Тоня.
– Медленно? Вроде ведь нормально. Мы много километров проехали, наверное.
– Мало. Надо больше.
– Ну, мы не на самолете все-таки. Едем, как едем.
– Я спешу! И так из-за ночлежки времени много потеряла. Часы, минуты. Все это пропало, все пропало…
– Ну, ты позвони, предупреди. Путь-то неблизкий, мало ли…
Она зыркнула на меня так, что продолжать расхотелось.
– Я не могу предупредить, понимаешь? Я просто должна спешить.
– Ну так мы и спешим. Если бы пустила за руль…
– Исключено. Сама доеду. Просто нужно спешить. Время, Дима, время. Оно не возвращается.
– Ну, да. Не возвращается.
– Ты не понимаешь…
Тоня выстукивала ногтями неизвестную мне мелодию.
– Ну, это же ты нас везешь. Хоть двести гони, твое ж право, – сказал я.
– Ты сказал, чтобы я довезла тебя целым и невредимым. А я договорам не перечу, – хмыкнула Тоня и сделала глоток кофе, купленного на заправке. Лицо ее почти не скривилось, разве что совсем чуть-чуть.
– Если тебе так не нравится кофе на заправках, зачем пьешь?
– У меня нет возможности возить с собой кофемашину.
– Дома у тебя, наверное, получше будет.
– Дома… Дома… Да, наверное. – Кисло улыбнулась Тоня. И вдруг встала она свернула на заправку и сказала. – Я пока кое-что проверю. Пойди, поешь.
Есть в одиночестве некомфортно – не привык , на меня это действо нагоняло какую-то невообразимую тоску. Оладьи были отвратительные, сметана – горькая. Мысли становились все более угнетающими, и я решил поскорее убраться из кафе на заправке.
За полчаса улицу разогрело, и все вокруг тонуло в дурмане. Казалось, что на выходе из кафе мне на плечи набросили огромное одеяло, которое придавливало своим жаром к земле, останавливало. Я с трудом смог разглядеть Тоню в каплях духоты, висевших в воздухе. Она сидела на месте водителя, также высунувшись на улицу через открытую дверь, и что-то писала в той самой записной книжке, которую строго-настрого запретила открывать.
– Стой, где стоишь, – отсекла Тоня, даже не взглянув на меня, и только подняла блокнот повыше.
А я даже подойти к ней не успел.
– Почему?
– Допишу и сядешь.
– Да я не буду смотреть.
– Не смей подходить! – воскликнула она так отчаянно, что я даже испугался.
«Боже, лучше бы я там остался».
– Какие мы скрытные, – фыркнул я. – А что ты пишешь?
– Проживешь без этой информации, – бросила она холодно и продолжила строчить. Перевернула страницу.
– Да ты прям президентская шпионка.
Она зыркнула на меня так злобно и холодно, что холодный пот прописал мокрую дорожку вдоль моей спины.
Я отвернулся, чтобы не создавать Тоне дискомфорта, который она и так прекрасно находила во всем вокруг, созерцал пейзаж.
Мы вырвались из бесконечных степей и медленно въезжали в царство лесов и топей. Вдали уже виднелись зеленые пятна деревьев, а дорога, стремившаяся к горизонту, расплывавшемся в разогревшемся воздухе, чернела недавно замененным асфальтом. Нос щекотал аромат свободы, а волосы раздувал ароматный ветерок, пусть и не несший в себе ничего, кроме пыли.
Я закрыл глаза и представил, как хорошо бы прокатиться в такую погоду на велосипеде.
– Залезай, поехали, – прервала меня Тоня.
Я даже не сразу понял, что мечтаниями пришел конец. Пора снова ехать. Я обернулся и увидел, что она уже куда-то дела свою записную книжку и во всю ждала меня, в нетерпении стуча ногтями по рулю.
– Ты всегда такой медлительный? – спросила она, когда я нехотя залез в машину.
– Я не медлительный.
– А что так долго стоял?
– Любовался.
Она как-то странно хмыкнула.
– Что?
– Да ты не очень похож на человека, способного наслаждаться видами природы.
Не знаю, что случилось. Обычно на конфликты старался не нарываться, а тогда в меня словно бес вселился. Как настоящий исследователь, долго рассматривал Тоню, искал хотя бы один повод, к которому можно было бы прикопаться.
– А как ты не загораешь, если постоянно под солнцем находишься? – спросил я, поглядывая то на свою загорелую руку, то на ее, белоснежную, не тронутую даже родинками или ранками.
– Отвергаю солнце, – сказала Тоня, вновь приняв вид мраморной глыбы, которая не могла ни улыбнуться, ни повернуться, ни оторваться от созерцания дороги.
– Ты вампирша что ли? – засмеялся я, а Тоня только покачала головой.
– Просто когда-то очень сильно захотела быть аристократически-бледной.
Все пути к спору были обрублены. Я даже не смог сдержать вздох разочарования, когда понял это. Что даже самый простецкий спор не смог провернуть.
Решил себя развлечь. С Тоней заводить разговор бесполезно, играть в телефон – скучно. Тогда я почему-то решил поискать Тоню в соцсетях. Не сказать, чтобы навыки поиска неизвестных людей у меня были развиты хоть немного. Иногда я не мог найти даже друзей, которые давали о себе сколько угодно информации, от аватарки до групп, в которых сидели. О Тоне же я знал ничтожно мало – имя и одна из трех фамилий, которые вполне могли оказаться ненастоящими. Искал ее и Румянцевой, и Рубиновой, и Цветковой, и Тоней, и в шутку даже Анатолием, но ничего так и не нашел. Ни единой фотографии, хоть как-то бы напоминавшей мою спутницу, ни единой странички, ни единого поста. Ее будто бы не существовало. Тони не было даже в списках всяких частных предпринимателей. Тоня не выкладывала плейлисты и не комментировала фотографии. Тони не было на сайтах отзывов и на сайтах знакомств. Ни единого упоминания о Тоне не было даже на документах.
«Такого быть не может!» – вертелось в голове, и я прекрасно понимал, что так оно и было.
Тони не существовало. Во всяком случае, той Тони, которая мне так представилась.
Я был уверен в выводе, потому что в наше время у человека просто не могло не быть страницы хотя бы в одной из соцсетей. Все создавали профили для работы, для предпринимательства да и просто для того, чтобы попереписываться со старыми друзьями или родственниками.
А Тони не было.
Были взрослые Антонины, были Анатолии, которым не исполнилось даже десяти, но моей Тони среди них не упоминалось.
И я вновь начал задумываться. А правду ли она говорила мне все это время?
Мне стало не по себе.
Конечно, я жаждал загадки, мечтал о приключениях, об истории, по которой можно было бы снять фильм. И судьба, обрадовавшись, мне все с радостью преподнесла в лице Тони. Но загадка была такая мутная и непонятная, что это уже переходила в стадию страшилки.
– Твоя активная мозговая деятельность мешает мне вести машину, – процедила вдруг Тоня, когда я в шестой раз подряд принялся стучать пальцами по экрану, искать очередную Антонину с другими фильтрами.
– А что ты мне прикажешь делать?
– Возьми из бардачка книгу и почитай, если заняться нечем. Иначе пойдешь за машиной пешком, – прошипела Тоня и ткнула пальцем в бардачок, будто бы я не знал, где искать.
– Ты же говорила, что книги не помогут мне стать умнее.
– В твоем случае чтение лишним не будет, – высекла Тоня и включила музыку.
Я покраснел, нащупал смысл ее слов кончиком языка, на котором появился горький привкус обиды. Примирился. Совсем не хотелось думать. Вздохнул и убрал телефон в карман,.
– Противная ты, Тоня, – вздохнул я устало, а Тоня ничего не сказала и вновь закурила. Взгляд ее был куда красноречивее слов.
Я не хотел читать, совсем не хотел. Книжка из бардачка была толстая, потрепанная и совершенно непривлекательная. И будь у меня хоть какие-то возможности развлечься, я бы не притронулся к ней. Но делать нечего. И лучше попытаться читать, чем снова и снова погружаться в мысли.
Сначала страницы шли тяжело. Слова сливались в огромную кашу без смысла и постоянства, а мозг будто бы разучился воспринимать написанное на белом листе бумаги и отказывался понимать. И каждый раз, когда мне становилось невмоготу читать, когда я хотел уже закрыть книгу, смотрел на Тоню и понимал – чтобы наладить с ней контакт, нужно продолжать. Может, если я попытаюсь сделать что-то «в ее духе», если приму ее вызов, Тоня станет благосклоннее.
«Волхв» значилось на обложке книги, что Тоня держала под рукой. «Волхв» – колдун. Может, Тоня тоже волшебница? В чем же тогда ее сила?
Тоня не обращала на меня внимания, взгляд ее был прикован к залитой солнцем трассе и сигарете. И я вновь возвращался к греческому острову, его пляжам и загадкам.
Не знаю, что на меня подействовало гипнотически. То ли музыка ввела в транс, то ли запах Тониных сигарет вскружил голову, то ли желание угодить девушке заставило извилины закрутиться по-новому. Но отчего-то в ушах застучало, к вискам начала приливать кровь, а глаза будто бы впервые открылись. И я зачитал уже по-другому.
Страница летела за страницей, слово за словом, весь мир сузился до черно-белого листа, который достаточно быстро сменялся на другой. Я читал не все, очень выборочно, бегая взглядом по страничкам, не запоминая и не понимая, и боялся не успеть, захлебнуться в повествовании и не выплыть. И мне было настолько странно чувствовать приятное жжение в голове, словно этого я ждал всю свою жизнь.
Я читал и раньше, но мало и только по летним спискам. До девятого класса с книгами мы дружили чуть больше, с десятого – совсем мало. Я смог прочитать только Чехова и Куприна, и то только из-за того, что их рассказы были не такими уж и большими. Но тогда я держал в руках толстенную книгу, чувствовал вес знаний, слов и высокопарных выражений и чувствовал опьянение. Словно в том дымном дурмане, сливавшемся с запахом полей в аромат свободы, Тоня вернула что-то, что прежде у меня отобрали.
Я зачитался настолько, что не заметил даже, как мы остановились. И оторвался от книги только когда Тоня обратилась ко мне. Она холодно улыбалась.
– Что?
– Ужин, – произнесла она и указала черным ногтем на часы. И в самом деле, они вечер.
Я опешил. Куда делось время?
– Это как же я так зачитался…
– У тебя все же есть способность к чтению, это похвально. У многих людей она напрочь отсутствует.
– И что?
– У тебя еще не все потеряно, – ответила Тоня и, дождавшись, пока я заложу книгу чеком, заберу сумку и выйду на улицу, закрыла машину.
– Но ты же говорила, что книги не сделают меня умнее.
– Я и не отрицаю, – ответила Тоня, в этот раз почему-то оставшаяся со мной.
Я постоял минуту, погрелся. И почему мне стало холодно? Так, будто я продрог от колючего морского бриза.
– Пошли. Жарко, – сказала Тоня и кивнула в сторону заправки.
Я ничего не ответил. Мысли были заняты чем-то, о чем я еще не мог думать.
Внутри Тоня себе не изменила и отправилась к холодильнику с энергетиками. Рука ее, увешанная будто бы еще большим количеством браслетов, снова тянулась к верхней полке. Я подошел к ней. Что-то ни есть, ни пить мне не хотелось. Хотелось только одного – поговорить.
– Слушай, Тонь, а зачем же ты тогда призываешь меня читать?
– Потому что тебе полезно. Ты можешь быть неплохим, если горизонты твои будут пошире.
– Неплохим?
Она покопалась на верхней полке, вытащила из глубины холодный энергетик и только потом проговорила:
– Развитым, умным, как хочешь называй. Многим можешь потом понравиться.
Я не совсем понял последней ее фразы, но решил не переспрашивать. Уж больно долго она формулировала прежде чем сказать, будто бы я должен кому-то понравиться.
– Книги помогают человеку исчезнуть, измениться, стать другим, – вдруг добавила она, но понятнее мне не стало.
– Чего?
Тоня хмыкнула, взяла и второй энергетик, еще больше и страшнее предыдущего, и прижала их к груди. Шея ее была скрыта за слегка распушившимися от ветра волосами, но я видел, как она нервно сглатывала слюну.
– В книгах можно затеряться от проблем, иногда и от самой жизни. Знаешь, что есть люди, на полном серьезе живущие так, будто сошли со страниц романов?
– Никогда таких не встречал.
– А я знаю таких. И поверь, иногда полезно уйти в выдуманную историю. Отречься от жизни реальной. Главное палку не перегибать.
– Такое разве возможно?
Она как-то грустно улыбнулась.
– Возможно. Есть люди очень талантливые. И их воображение такое живое, что выдумка их засасывает. Они исчезают и живут в книгах. Такое бывает, я сама видела. Сначала жизнь меркнет перед выдуманной, вскоре совсем исчезает. – Тоня о чем-то задумалась, словно потеряв ход мысли, а потом отмерла, посмотрела на меня так, что я даже сделал шаг назад, сказала: – Тебе не стоит переживать. Ты обыкновенный. Ничего такого с тобой не будет. Просто говорить красиво научишься. Книжки иногда полезные. Иногда.
И ушла к кассе, не успев даже услышать мой вопрос.
Я остался стоять в окружении полок, обступаемый жужжанием холодильников. Оказалось, что пока Тоня говорила, не слышно было ничего, кроме ее голоса. Ни тихой музыки, ни разговоров других посетителей, ни моих мыслей. Все умолкло. И когда я понял это, мне отчего-то стало не по себе.
Телефон мой разразился тихим писком – написал Костик. Прислал фото чемоданов, которые собрала ему мама, и сообщил, что они уже ехали. Я отвлекся от еды, принялся отвечать другу, как Тоня вдруг раздраженно фыркнула и сказала, будто бы специально вобрав в эту фразу всю свою холодность и отстраненность:
– Не самое подходящее время для болтовни. Я только тебя и жду.
– Да я только на сообщение ответить!
– Нам нужно ехать. Я спешу.
– Разве какая-то минутка решит судьбу?
– Судьбу может решить даже мгновение. И у меня нет ни одного в запасе.
Глава IX: Ночные откровения
Тоня докурила. Выброшенный в окно окурок красной звездочкой скрылся в черноте трассы. Воздух, залетавший в салон, пах влажным сеном и сырой землей. Чернильное небо было исчерчено звездной картой, в бесконечных полях почти не перекрываемое фонарным светом и оттого очень хорошо различимое. Машины двумя стройными потоками сливались на дороге, лениво друг друга обгоняли и будто бы неспешно впадали в дрему.
Тоня снова потрясла головой. Весь вечер она боролась с желанием покемарить, но ни сигареты, ни энергетики, ни холод, остудивший поля и закупорившийся в машине, не помогали взбодриться. Я укутался в теплую кофту, застегнулся на все пуговицы и даже попытался засунуть нос под воротник, и все равно не мог согреться. Тоню же морозные языки холода, кажется, так и не коснулись.
Я читал книгу, "Волхва"Джона Фаулза, которую нашел у Тони в сумке, иногда прерываясь на очередной мамин звонок или Костино сообщение. Друг напоминал мне вдруг взорвавшуюся плотину – я никогда не слышал от него такого обилия слов: мы не так-то часто болтали по телефону, обычно вживую, в школе или после нее. А вот в тот раз Костику хотелось узнать обо всем. Но я не отвечал так полно, как мог бы, едва ли мог перестать размышлять о Тониной судьбе хотя бы на мгновение и стать спокойным, как прежде.
Безуспешным поискам не было конца и края. Мир словно смеялся надо мной, и смех его был неприятен. Не было нигде Тони. Может, я и не был знатоком поисков, но за часы, что провел в сети, должен был бы хотя бы случайно наткнуться на что-то нужное хотя бы по стечению обстоятельств. Но ничего не нашлось. И я настолько устал, что не смог бороться с желанием следить за Тоней, и задремал.
Ясно видится мне сон той ночи, один из немногочисленных снов, что я запомнил за свою жизнь.
Мне представилось, словно проснулся на ночью на пустыре. Вокруг лежали горы щебенки, а я, освещенный тусклым светом фонаря, валялся в пыли и вслушивался в тишину. Нужно подняться, стряхнуть с себя пыль, от которой уже хрустела одежда. Я оперся на кусок бетонной глыбы, привстал. Смотрю, а в темноте напротив, метрах в десяти, стоит человек. Ни лица его не вижу, ни одежды не разгляжу никак, только силуэт, а вот он меня ясно видит. Подходить не хочет, не двигается, а такое ощущение, будто бы он куда ближе стоит, чем кажется. Спрашиваю его о чем-то, а он только головой качает. А чувствую, что не просто так стоит, на меня пялится. Интересно ему почему-то. И стояли мы, как два дурака в ночи, друг на друга смотрели и ни слова не говорили, ни шага друг к другу не сделали. А мне почему-то с каждой минутой все тревожнее становилось.
Не знаю, чем бы кончился сон, не разбуди меня очередной звонок мамы. В тот раз я был почти рад разговорам ни о чем. Что угодно, лишь бы не такие сны: долгие гляделки с порождением воображения под присмотром Морфея я бы не выдержал.
И во время разговора ни о чем очередная наводящая на сомнительные размышления мысль, наверное, навеянная непонятным сном, зазудела в голове.
За все время пути Тоня ведь ни разу ни с кем не разговаривала.
Безусловно, я видел, как она что-то набирала на телефоне, но были загадочные заметки, сборище мыслей. От звонка Тонин телефон так ни разу и не проснулся.
Я не мог допустить, что ее совсем никто не знал. Хотя бы какие-то университетские друзья, бывший парень или знакомые, которым вдруг захотелось пообщаться. Людям ведь хочется скоротать время, узнать обо всем, себя показать. А до Тони даже операторы связи не допытывалась. Телефон ее был мертв и оживал лишь в тот момент, когда нужно было вбить что-то в навигаторе или вновь написать целую поэму в заметках. Я мог допустить, что абсолютно все номера на телефоне Тони были заблокированы. Что она не выходила на связь специально. Что она зачем-то купила новую сим-карту. Но почему в мыслях не проскользнуло даже намека на случайность? Как она могла так изолироваться от общества? Разве это возможно сделать в современном мире, когда любой магазин забрасывает тебя сообщениями о скидках каждый день?
Как это связано с тем, что ни одного упоминания Тони я так и не нашел?
Все, что она говорила до этого, показалось ложью, и все абсурдные надуманные объяснения, которые я соорудил в голове, показались правдивыми. Какой смысл скрываться, если утаивать нечего? Почему я так и не увидел ее документов, почему она ничего не проверила за все время? Значило ли это, что Тоня знала, что ничего непредвиденного не произойдет? Нас ведь даже гаишники не останавливали.
Я уже успел проклясть день, когда допустил мысль о поездке с незнакомкой. Ведь могло случиться все что угодно. И о чем я только думал?
Я перебирал все возможные объяснения, придумывал их на ходу, все больше путаясь. Преступница ли Тоня, прячущаяся от полиции? Сбежавшая ли из дома девочка-подросток, притворяющаяся взрослой? Сумасшедшая ли дама, решившая провести остаток жизни в пути? Призрак ли дорог? Маньяк ли, похищающий подростков? А, может, она и есть то самое непредвиденное, которого я так боялся?
Я ничего не понимал. Чувствовал, что какое-то объяснение летало рядом, но настолько огромное или маленькое, что никак не мог его увидеть.
Все было впереди.
В то время как я пытался не думать об очевидном, Тоню, которая вела вот уже много часов без перерыва, начало клонить ко сну. Это даже мне сразу стало понятно. Поначалу она просто включила музыку. Затем – сделала ее немного громче. Через какое-то время – еще громче. И так до тех пор, пока уши мои не стали сворачиваться в трубочку.
– Тонь, ты засыпаешь! – прокричал я и потряс Тоню за локоть.
– Нет, я бодра как никогда. – Покачала она головой, и я был даже немного рад, что в темноте не мог разглядеть усталости в ее глазах.
– Тебе нельзя засыпать за рулем. Может остановиться, вздремнуть?
– Нам некогда спать. Время утекает, – ответила она, а я еле расслышал за воплями какого-то иностранного певца.
Я отвернулся к окну и наблюдал за миром, за еле заметными кустиками и деревьями небесами, утыканными звездами словно каплями замазки. Все было в дырках: небо, стекло тоже уляпано разбившимися об него насекомыми. И ехали мы словно ходячее кладбище невинных душ.
Но ехать с Тоней мне нравилось просто из-за того, что мы ехали. Раньше-то я никогда не путешествовал на автомобиле так далеко: мои родители предпочитали поездки на поезде, хотя мне всегда хотелось чего-то другого. И даже не самолета, не парома, а именно автомобиля.
Было что-то необыкновенное в поездках на машине. Мир, медленно меняющийся на твоих глазах, остановки в поле и на обочине ради чашки чая или кофе из термоса, вечера на заправках рядом с резвящимися на площадках детьми и собаками, гуляющих под присмотром хозяев. Пробки, в которых болтаются самые душевные разговоры, ночи в дешевых и не очень мотелях, горячий воздух, ласкающий щеки, шум колес, раздающийся отовсюду. Наблюдение за тем, как солнце медленно садится за горизонт, а дорога, бесконечная и пахнущая летним спокойствием, все бежит и бежит дальше, как бы напоминая о том, что ничто никогда не кончается.
Я долго мечтал о своей первой дальней поездке. И вот, домечтался.
– Тонь, – начал я и убавил звук на магнитоле, а спутница моя даже не пошевелилась и не моргнула, – а давай сыграем.
– Я не очень игривая по натуре, если ты не успел заметить.
Я вытащил из сумки свернутый четыре раза листик, включил лампочку над головой и с важным видом зачитал ту часть договора, где мы обязались друг другу не врать. Побежденная спутница так звук и не прибавила.
– А я и не вру, – спокойно возразила Тоня.
– Да я и не сомневаюсь.
– В чем тогда проблема?
– Давай так. Сыграем в такую игру. Я задаю тебе вопрос, и ты на него честно, Тонь, честно отвечаешь. Не увиливая и не пытаясь скрыть от меня что-то. А потом – ты задаешь вопрос мне.
– И в чем смысл?
– Как в чем? Узнать друг друга получше.
– А в чем смысл? Сам сказал, я тебя старше. Тебе не кажется, что вопросы будут, мягко сказать, нерелевантными?
– Ну, так тебе было интересно слушать мой рассказ о семье.
– Не было. Просто я боялась заснуть, а под твой треп хотя бы в сон не клонит.
Я очень постарался не обидеться.
– Мы же можем узнать друг друга получше.
Мне стало жарко. Казалось, дьяволенок вылез из моего уха и уселся на кофту, чтобы было удобнее шептать, что делать.
– Мы уже говорили об этом, и, насколько я помню, мысль моя была выражена достаточно ясно. Я не хочу тебя узнавать. Мне это неинтересно.
– Но ты засыпаешь, Тонь. А так хоть не уснешь.
– С твоей постоянной болтовней разве уснешь? – хмыкнула она.
Вдруг Тоня крутанула руль, и машина быстро свернула вправо. Под колесами захрустели сухие травы и взрывались пылью ломкие камушки. Тоня остановилась, включила аварийку. На заволоченной густой тьмой дороге мы казались единственным оплотом цивилизации, а те, кто проезжал мимо нас, – обезумевшими светлячками.
– Зачем мы встали?
– Воздухом подышать хочется, – сказала Тоня и вышла на улицу.
Я покидать машину боялся – в четырех стенах всегда как-то спокойнее. Мне всего-то нужно было высунуться из окна, чтобы все видеть.
Тоня уселась на капот, подложила ногу под себя и закурила. Фитилек сигареты зажегся, заискрился словно маленькая взрывающаяся на фоне видневшихся впереди фонарей, а звезды, висевшие над нами, померкли. Огонек осветил бледное лицо Тони мягким апельсиновым цветом.
Тоня думала. И только в моменты, когда она страдала от собственного ума и размышлений, им порожденным, когда лоб ее прорезала почти незаметная морщинка, Тоня казалась живой. Ее кожа переставала быть мертвецки-бледной, глаза разгорались кострами неведомых мне празднеств, и даже сережки в ушах и носу казались веселее, чем просто кусками белого металла.
Я любовался ей, не в силах ничего сказать. Тоня была прекрасна в своей загадочности и отчужденности. Ее очень хотелось превратить в раскрытую книгу, в одну из тех известных всем историй, которые лежали в коробке.
– Красивая ночь, – сказал я.
– Да, очень даже неплохая, – чуть погодя согласилась Тоня.
– Неплохая? Я думал, ты придумаешь сравнение политературнее.
– Не для такой ночи высокопарные речи толкать, – фыркнула она и сделала затяжку.
– А ты видела лучше?
– Видела. В мертвых полях и далеких деревнях куда красивее, чем в серых от копоти человеческих муравейниках. В пустоши все прекраснее. Везде, где людей мало. В городах звезд не видно, все мертвое и сгнившее под тяжестью человеческих пустых дел, – величественно произнесла моя спутница, а я вновь восхитился ее словам. Такие они были красивые и ладные. Я так говорить не умел.
Тоня курила и смотреть в даль. Поле тихо шумело сухими стебельками ржи, а машины, летевшие на огромных скоростях прямо за нашими спинами, будто бы испарились, забрав с собой отвратительный гул.
Было в той ночи что-то по-настоящему магическое.
– Ты больше любишь ночь или день? – спросил я.
Ветер донес горьковатый запах дыма, будто бы он и был мне ответом.
– Ночь, – ответила Тоня нескоро.
– А почему?
– Потому что в ней можно спрятаться, – ответила она и, затушив докуренную сигарету носком кроссовка, направилась в машину.
Мы, чуть не зарывшись в сухую траву, выехали на дорогу и вновь пустились в путь, а Тоня отхлебнула энергетик.
– Вот видишь, ничего страшного в ответах на вопросы нет, – сказал я, когда мы въехали на освещенную часть дороги, которая лимонными фонарями разрезала ночную тьму и прятала звезды от людских глаз. – Теперь ты тоже можешь задать мне вопрос.
– Мне нечего у тебя спрашивать, – ответила она и тряхнула головой.
– Но ты засыпаешь. Тебе нужно говорить, чтобы не заснуть. Мне папа так советовал…
– Папа ему советовал… Мог просто сказать, что снова хочешь устроить допрос.
– Ну, я же предлагаю обмен вопросами. Ты – мне. Я – тебе. Все честно. И поговорим, и ты не уснешь. Все же логично.
Тоня хмыкнула вновь, хотела было что-то сказать, но даже рта не открыла. Молча продолжала вести машину, не отрывая взгляда от дороги. Я ждал. Честное слово. Но спустя минут пять молчания Тони я отвернулся к окну. Дохлый номер. Видимо, и в самом деле наплевать.
Но, как оказалось, я был не совсем прав.
– У тебя есть друзья? – вдруг спросила Тоня, когда вновь открыла окно, чтобы закурить.
– Конечно. А у кого же их нет?
– И как вы познакомились?
– Так нечестно. Теперь спрашиваю я.
Тоня ничего не сказала, но видно было, как моя настойчивость ей не понравилась.
– А у тебя есть друзья? Ну, или были там… Когда-то, – решил-таки спросить я.
– Тебе это так важно знать? – пробурчала она.
– Ну, если спросил… Не просто же так спрашиваю.
Непоколебимость моя ввела Тоню в заблуждение. Она будто бы даже немного растерялась.
– Сейчас нет. Когда-то был. Мне казалось, что был, – протянула она, словно слова вырвались, а потом опомнилась, сморщилась и бросила: – Не хочу о нем. Давай о другом.
– Дальше спрашиваешь ты, – аккуратно напомнил я.
– Как вы с другом познакомились? – все еще в отвращении к себе, спросила Тоня.
– Приятно, что тебе это интересно, – в шутку сказал я, надеясь, что Тоня улыбнется.
– Ты же просил вопрос. Вот, пожалуйста. Отвечай. Мне неинтересно. Но ты же хочешь рассказать именно об этом. Рассказывай. Или ты не хочешь играть?
Я принял это за оскорбление – невозможно же отказаться от игры, в которую сам играть и предложил. Это ведь некрасиво и неприлично. И ответил:
– Мы учились вместе с первого класса. Подарили букеты директору на первое сентября, сели за одну парту, на второй день разбили горшок цветочный, получили по выговору и как-то сдружились. Потом все годы вместе просидели, вместе на физкультуре бегали, из школы ходили. До сих пор дружим. Хотя, у нас и не так много общего.
– И это вся история? – удивилась Тоня и одарила меня злым взглядом.
– Ну, это же просто дружба.
– И все так просто? Просто сели, просто разбили, просто сдружились? Никаких даже испытаний? Никаких трудностей?
– А как же должно быть? Это ж дружба.
Она не ответила, но задала новый вопрос:
– И что же такого в твоем друге, что вы до сих пор не рассорились?
– Он очень… Он всегда готов к веселью. Иногда Костик вытаскивает меня на улицу, когда я очень не хочу этого, а потом понимаю, что прогулка-то мне и была нужна. Нам вместе весело, Костик умудряется развеселить и меня, и себя. Он понимает, никогда не обвиняет и всегда поддерживает. И в школе поможет и отмазку какую-то придумать, он вообще умный очень. На врача будет учиться. Мы друг за друга горой, всегда поможем. Так и дружим.
Я вдруг почувствовал острую нужду задать ей тот самый вопрос, задавать который мне запретили. Но отчего-то понял: если не сейчас, то никогда.
– Тонь, а какой он, твой друг? Почему он такой плохой?
Мой вопрос почему-то поставил ее в тупик, а не разозлил. Тоня грустно хмыкнула, отхлебнула энергетик. Она даже не выпустила его из рук, продолжила держать банку тремя пальцами, а двумя – вести. Как настоящий гонщик.
– У меня… Последними у меня было двое друзей. Один был большим, чем просто другом. Хотя, и другого тоже язык другом не повернулся бы назвать.
– Это была особая дружба какая-то?
– Ага, особая, – хмыкнула она и потонула в задумчивости. – Мы очень близко дружили. Так, наверное, и не дружит никто, как мы дружили. Душами дружили, не меньше.
Я прямо-таки видел, каких трудов ей стоило открыть рот.
– А почему вы поссорились?
– На то были причины.
– Какие?
– Не многовато ли вопросов для одного болтуна?
Я поднял руки в примирительном жесте и дал ей возможность задать свой вопрос. Но вместо этого Тоня, словно превратившаяся в кого-то другого, очень тихо ответила:
– Если вкратце, то мы напарниками были. Вместе работали, вместе отдыхали, вместе… Да многое вместе. Ничего мы не скрывали друг от друга. Но когда-то они слишком многого от меня захотели. Того, что я уже не могла им дать. Я бросила их и уехала. И больше обо мне ничего не слышали.
– И не пытались услышать?
Она, чуть подумав, ответила кивком.
– Знаешь, это, наверное, и не друзья. Друг многого требовать не будет и точно не бросит. Вот Костик от меня ничего не требует, он мне и друг, – сказал я, поразмыслив. – А как их звали, друзей твоих?
– Не скажу.
– А новых друзей ты не пыталась найти? Все-таки без друзей туго…
– Они… Они бы мне не позволили.
– Не позволили бы? Это как?
Тоня, видно, и сама пожалела, что завела эту тему. Но огрызаться или юлить почему-то не решилась.
– Один из двух друзей моих… – вздохнула Тоня и дрожащей рукой заправила выбившуюся из хвоста прядь за ухо. – Очень он следил за тем, с кем я общалась. Советы давал, говорил, как себя вести, с кем общаться стоит, с кем нет. Я слушала его, верила, а потом перестала. Не знаю, почему перестала. Все хорошо было, когда я его слушала. А тут просто ушла. И потом все покатилось к чертям…
– Что случилось потом? – Я вздрогнул.
– Что да что, то же мне, заладил… Ничего. Как видишь, в Москву я еду в гордом одиночестве. Пораскинь мозгами.
Я сделал вид, что не расслышал.
– А как его зовут?
Она как-то кисло улыбнулась.
– Ты таких не встречал.
– Он иностранец?
– Иностранец? Как же. А хотя черт его знает… Он скорее человек мира. Везде и всюду чувствует себя как дома. Он тебе и человек всеобщего возраста, и всеобщих убеждений, и всеобщей любви. Он для всех, но и ни для кого. Он везде есть, но его нигде нет. Позовешь – придет, но может и не прийти, а все равно все узнает, что звал. Им восхищаются, ему повинуются. Он может стать лучшим другом, но легко превратится в злейшего врага. Он и во мне есть, и в тебе такой человек есть. Мы все как он, а он – как мы. Он как зеркало, в которое смотришься и себя в его чертах находишь. В нем все наши мечты, все желания наши воплотились. Он – само отражение мечты. Вот, какой он был… – вдохновленно проговорила Тоня.
Она долго смотрела вперед, не моргая, и о чем-то думала. Прикидывала, говорить ли дальше. Но человеческое, что-то истерическое, желающее внимания, впервые в ней пересилило, и она прошептала:
– Не представляешь, как мы много раз пытались разойтись, исчезнуть из жизней друг друга, но все равно встречались в самых необъяснимых местах, словно не можем расстаться, будто бы нас что-то притягивает друг к другу… Я так долго убегала от прошлого, а оно снова и снова мне являлось. И я не удивлюсь, если он окажется в Москве, когда мы туда доберемся. – Последнюю фразу она словно боялась произнести и скорее ее выдохнула, чем сказала. Я еле расслышал.
Тоню было не узнать. Она казалась задумчивой, расстроенной, перепуганной, но и, к моему удивлению, воодушевленной.
– А почему ты со вторым не хочешь видеться? Со вторым другом? – прошептал я.
Тонино лицо, освещенное фонарями, будто бы посерело, скрылось в пелене грусти и задумчивости.
– А этот другой, совсем другой. Он не человек мира, не человек вовсе. Он другое. Смотришь на него и не понимаешь, что он. Его жизнь – не та жизнь, которую должен проживать человек. Его жизнь – сплошные картины, написанные под его строгим контролем, пейзажи, где каждый сантиметр им расчерчен, тексты, реплики, которые он тщательно выверяет. Он говорит с тобой, ты ему отвечаешь, думаешь, что у вас диалог. А оказывается, что это он сам с собой говорит, ведь ему не надо спрашивать тебя, чтобы узнать, что ты думаешь. Он все видит, все знает. Он прекрасно научился играть в человека, но все в нем фальшиво. Он пытается казаться искренним, умеет впечатлить, даже влюбить в себя, но никогда, никогда ему не нужно верить на слово… Но он куда сильнее, чем может показаться. Сложно ему противиться.
– Сильнее? Он качок? – Голос мой дрогнул.
Тоня хохотнула.
– Он? Он скорее фарфоровая статуэтка. Столкнешь случайно – и разлетится на кусочки. Только вот у обычной статуэтки кусочки вновь не собираются. А этот гад из пепла восстанет.
Я сидел ни живой ни мертвый, не понимал, так ли много в ее словах правды.
«Это так сейчас о друзьях рассказывают? Если это ложь, то из чего она родилась? У всего же есть причины. Бог ты мой, да что же у нее в голове…»
– И правда, гады какие-то, – прошептал я.
Тоня посильнее обхватила руль уже двумя руками. Затянулась и, закашлявшись, выпустила облако дыма в окно. Я чуть подался вперед, словно чтобы усесться поудобнее. А сам взглянул на нее. И возликовал. Глаза ее улыбались.
– А можно еще вопрос? – спросил я.
– Не устал еще вопросы насущные выдумывать?
Тоня с наслаждением затянулась и выдохнула целый туман, которым можно было накрыть поле, дыма в мою сторону. Я закашлялся, чувствуя, как маленькие частички горького табака цеплялись за мое горло и, казалось, даже грудь изнутри царапали.
– А говорил, что нормально переносишь дым, – сказала она и отвернулась.
– Ну, просто мне в лицо еще никто не дымил, – фыркнул я.
Тоня сделала последнюю затяжку, выпустила на озаренную лимонно-оранжевым светом фонарей дорогу серый дым и выкинула сигарету, которую выкурила всего-то на половину.
– Ну. Что спросить опять хотел?
Я набрал в грудь побольше воздуха и закашлялся снова.
«За поездку и сам в курильщика превращусь», – подумалось мне.
– А почему ты всех тех, кто до меня был, отвергла?
Она посмотрела на меня, вздернула бровь и безмолвно потребовала объясниться.
– Ну, я про то, что ты же со мной поехала. Ты сказала, что я не первый. Почему я-то подошел, а те нет? – сбивчиво проговорил я.
Тоня улыбнулась почти по-человечески, но что-то внутреннее вновь удержало уголки ее губ от большого прыжка и остановило где-то на середине, превратив, наверное, достаточно милую улыбку в какой-то кислый оскал.
– А ты, как оказалось, больше всех мне подходишь. Вот и все.
Тут-то я уже не мог терпеть. Опустил окно до упора, высунулся на улицу и дышал. Дышал и все никак не мог надышаться. И все не понимал, отчего так грудь сдавило: то ли от табака ее, то ли от ответа, такого самодовольного и жуткого.
– А расскажи-ка теперь ты мне что-то. А то все я да я, – с каким-то удивительным наслаждением приказала Тоня.
Я посмотрел на нее и задохнулся. Никогда такой Тоню больше не видел, как в то мгновение.
Она сияла. Глаза не следили уже за дорогой, а не отрывали взгляда от меня. Это был хищный взгляд, взгляд хищной птицы, а не измученной мыши, какой мне прежде Тоня казалась. Губы ее скривились в пренеприятную улыбку.
Отказаться, конечно, нельзя. И дураку понятно.
– И что… – Я снова задохнулся, когда рука ее, костлявая, похожая на птичье ободранное крыло, поправила всклокоченные ветром волосы. – Что ты услышать хочешь?
– А хоть о своих романах расскажи. Люди ведь любят слушать о чужих похождениях, не так ли?
Я смог рот открыть только, когда Тоня отвернулась. И на душе сразу легче стало, как увидел, что она вновь стала прежней.
«Переволновалась, наверное», – подумал я в успокоение. И решил все-таки рассказывать.
Мою бывшую девушку звали Катей, и поссорились мы из-за какого-то сущего пустяка и расстались, не успев сойтись по-человечески.
В отличие от всех моих друзей, которые о бывших девушках высказывались враждебно, у меня воспоминания о Кате не вызывали никакого отвращения – она была очень классной девчонкой. Низенькой, с щечками-яблочками и очень даже симпатичной, хотя красавицей ее назвать нельзя. Она вся усыпана веснушками, а на курносом носу, на самом кончике, есть родинка. Волосы у нее черные-черные, словно она окунула их в чернильницу, а губы всегда липкие и пахнут клубничным блеском. Катька вечно хохотала и шутила, а юмор ее не понимал никто. Мне же, семнадцатилетнему парню, в любви ничего не смыслящему, она казалась очень даже смешной и милой. Иногда Катя могла говорить такие умные вещи, что я только мог вздохнуть от удивления. А началось все просто: пока другие от Катьки нос воротили, я решил попытать удачу и пригласил ее в кино. И как-то все само собой получилось.
Мы учились в параллельных классах, встречались после школы. Я провожал до дома, тащил ее портфель. Идти недалеко, но были и обходные пути, подольше. И мы ходили только по ним, прячась от горячих солнечных лучей. Потом она оставляла вещи дома и выходила на улицу, иногда даже успевала переодеться в что-то более подходящее, по ее словам, для прогулок. А я даже не обращал внимания на ее одежду. И никогда не понимал, зачем наряжаться. Мы гуляли до вечера, пока на деревню не ложилось покрывало сумерек. Держались за руки, сидели на лавочке. Она клала голову мне на плечо, а я вдыхал клубничный аромат ее волос. Иногда мы ездили в город, гуляли в парке, катались на аттракционах и ели попкорн, кормили уток в пруду. Наслаждались общением до темноты, а вечером, когда уже расходились по домам, – списывались и желали друг другу спокойной ночи. Мы помогали друг другу по учебе, она писала мне сочинения, я всегда решал ее контрольные по алгебре. И вообще нам было хорошо, пусть и недолго.
– И почему вы тогда расстались, если вам было так хорошо вместе? – спросила успокоившаяся и прежняя Тоня, зевая. Она относительно внимательно меня слушала, хотя по ней вообще было сложно сказать, что на самом деле творилось в голове.
Я пожал плечами.
Кажется, на выпускном я сказал или сделал что-то не то. Может, как-то слишком пристально посмотрел на Катькину подружку. Может, случайно пролил на нее шампанское и не извинился. Может, когда-то не ответил на ее сообщение.
Наверное, мы поступили как дети, только что выпустившиеся из детского сада и решившие, что все в этой жизни им уже известно. Нужно было встретиться, поговорить, расстаться по-человечески, а не через смс-ку. Это очевидно. Но все очевидное, к сожалению, начинаешь понимать только когда уже поздно.
А, может, мы просто выросли. Катя хотела учиться, мечтала поступить в университет и стать учительницей, старалась получше сдать экзамены. Она уехала в Воронеж, а я плыл по течению, из которого так и не выбрался.
И до тех пор, пролетав на стокилометровой скорости по пыльным дорогам в сторону столицы, не мог даже предположить, к чему вообще стремился.
– Я-то ведь и сейчас совсем не знаю, чего хочу, – сказал я Тоне.
– Ты обычный человек, все нормально.
– У всех людей есть какие-то цели, стремления. Вон, кто-то в универ поступил, кто-то работать пошел, кто-то даже семью заводить собрался. А я? У меня вообще никаких мыслей нет. Один ветер.
– Они все врут, Дим. Нет у них никаких целей. – Тоня зевнула вновь, прикрыв рот ладонью. – Они просто продолжают дело своих родителей – делают хоть что-то, чтобы в глазах окружающих не быть прожигателями жизни. Это любимый план всех на свете. А на деле они – такие же потерянные люди.
– А я?
– А ты эту потерянность вовремя осознал. У тебя еще есть шанс стать счастливым.
– Это ты просто так говоришь, чтобы я замолчал, да?
Тоня хмыкнула почти весело.
– Ты слишком плохого мнения обо мне, Дима Жданов. А я ведь еще не разучилась говорить правду.
– Правда?
– Ты не веришь мне?
– Да как тебя проверить-то…
Тоня почти улыбнулась и ничего не ответила.
Сбоку загорелся указатель большой заправки. Тоня вдавила педаль газа и быстро завернула к стоянке, на которой стояла дюжина машин. Почти все люди в них спали, лишь некоторые пили кофе в ресторанчике. Мы остановились за углом, Тоня отстегнулась.
– И как же мне стать счастливым? Скажи, почти тридцатилетняя женщина, как мне найти смысл жизни?
Тоня взяла в руку телефон, запахнула кожанку, которая скрыла ее лебединую шею за черным воротником. За распахнутой дверью дышала ночью улица и стрекотали поля.
Тоня же задумалась, кисло улыбнулась и как-то удрученно сказала:
– Если ты все сделаешь правильно, он сам тебя найдет.
Она вышла в объятия ночной прохлады, чтобы купить энергетик, скрылась в апельсиновой полутьме заправки, а я остался один. Мне представился прекрасный шанс поискать Тонины документы, паспорт, ту записную книжку.
Но я не пошевелился.
Глава Х: Роковое разногласие
Я проснулся той же ночью. Не помню, как меня так разморило.
Тоня как и прежде вела машину. Лицо почему-то казалось серым, словно уляпанным дорожной пылью. Хотелось провести пальцем по щеке, проверить, испачкается ли, но я не решился. Тоня казалась уставшей. Если уж откровенно, она всегда казалась таковой, но тогда, почему-то особенно. Внешне та же: в черных круглых солнцезащитных очках, футболке, волосы стянуты в хвост. Все в порядке. Только вот ее руки почему-то дрожали.
– Ты не спала? – спросил я и поспешил прикрыть зевок рукой.
– Вздремнула, может, около двадцати минут. Я не хочу спать, – ответила она, а голос ее меня отчего-то очень сильно напряг.
Я хотел было что-то у нее переспросить, чтобы убедиться в том, что не ошибся. Но не придумал вопроса.
Тоня курила. На светло-коричневом фильтре остался след темно-красной помады. Тоня затягивалась, обдавала мышьяком, аммиаком и никотином легкие, и освобождала облако дыма, который быстро уносила горячий воздух на улицу. Тоня кашляла, прикрывала рот бледной рукой, дрожавшей так, словно к каждому из пальцев подвели по шнуру с электричеством, и продолжала вновь.
– У тебя руки дрожат.
– И?
– Может, нам остановиться?
– Плевать. Плевать на остановки. Мне все равно.
Я убедился в своих опасениях – голос Тони изменился. Я спал, может, час, но голос ее был уже другой. Он был уже не просто монотонным и тихим. Теперь слова останавливались на середине горла, вырывались из отравленных никотином легких. Хриплый кашель окроплял губы невидимыми багровыми каплями, но я будто бы видел их на пыльной коже. Она въелась в Тоню, эта пыль, покрыла и кожу, и волосы ее, и даже ресницы.
Что-то в Тоне необратимо изменилось, а я, спавший всю ночь без задних ног, все не мог понять, что же именно.
– Тонь, давай остановимся. – сказал я вслух, а про себя добавил: – Пожалуйста, мне очень страшно, остановись!
– Я уже сказала, что не остановлюсь. Не нужно мне спать.
– Но тебе же тяжело вести всегда одной, – сказал я, аккуратно дотронувшись до Тониного локтя рукой – он оказался ледяным.
– Я могу не спать четыре дня, – серо ответила Тоня, сбросив пепел на серую дорогу механическим постукиванием бледного пальца по сигарете.
– Проверяла что ли?
– И не такое проверяла.
– Но нужно отдыхать!
– Нужно, но некогда, – бросила Тоня, затянулась вновь и закашлялась.
– Некогда… Зато врезаться в кого-то всегда время есть! А ты же уставшая, Тонь, все что угодно может произойти.
– Ты ворчишь как дама на пенсии, которой место в автобусе не уступили. Хватит бухтеть. Я спешу.
– Да куда ты так спешишь? Все тот же день!
Она зажала сигарету белоснежными и ровными зубами и постучала пальцем по экрану. Я проследил за ее движением.
На часах был уже следующий день.
– Господи, как я умудрился проспать целый день?!
«Да как я мог столько проспать? Да быть такого не может. Мой максимум – часов восемь, как так?! Что со мной случилось? И почему мы до сих пор едем? Должны уже по времени подъезжать к Москве!»
Тоня сняла очки, взглянула в правое боковое зеркало заднего вида. Глаза Тони покраснели, даже болотной гнили, так затягивавшей в свои сети, не разглядеть за варевом крови. И в самом деле совсем не спала.
– Почему ты не разбудила?
– Зачем будить?
– Это для нашего общего блага. Ты меня для этого и звала!
– Я звала, я и отозвала. Не забывайся, я здесь все-таки важнее тебя.
– Отозвала? Это… это как?
– Тебе полезно поспать. Должен поблагодарить.
Тоня достала из двери маленькую баночку. Я, даже имевший не очень хорошее зрение, смог разобрать буквы на упаковке. Вот только верить глазам совсем не хотелось.
– Что это? – спросил я с малой надеждой, что зрение все-таки обмануло.
Тоня на мгновение перевела на меня взгляд, оставив черный асфальт и холмы без присмотра.
– Снотворное. Не очень сильное и опасное, но вполне себе вырубающее человека часов на восемь. Я капнула тебе немного больше, чем нужно. Работает всегда отлично. Ты так сладко спал, что утром, когда начал просыпаться, пришлось дать еще немного, – будничным тоном сказала Тоня, будто бы зачитывала состав продукта на упаковке.
Несколько секунд я боялся дышать. Сердце заколотилось в ритме бегущего на скачках скакуна, а руки дрогнули словно подражая Тониным.
«Меня насильно напоили снотворным? Меня пытались усыпить? Может, совсем навсегда? Может, до Москвы? Да как так?» – мельтешили в голове мысли, а я боялся хвататься хотя бы за одну.
Я ведь мог не проснуться.
– Тоня, как тебе такое вообще в голову могло прийти?!
– Я пила его. После него чувствуешь себя заново рожденным.
– Да ты – это не я! А если бы у меня была аллергия на эту дрянь? Или ты бы не рассчитала дозу, и я бы помер?!
– Не ошиблась бы. Я все всегда держу под контролем, – бесцветно сказала Тоня, а на ее опустошенном и высушенном безразличием лице не отразилось ни единой эмоции.
В то мгновение я был готов вцепиться в нее и разорвать. Плевать, что машина бы потеряла управление. Плевать, что путешествие могло бы завершиться. Плевать, что еще за день до этого я мечтал влюбить в себя Тоню. В то мгновение я ненавидел и ее, и себя. За то, что позволил этому свершиться.
– Тебе похлопать? Или пасть в ноги? Скажи, Тонь, тебе нормально?!
– Абсолютно. Так приятно не слышать твоего нытья, даже не представляешь, – сообщила она.
Я открыл рот, будто бы карп, выброшенный на берег, и закрыл его. Мысли пульсировали в голове, глаза щипало от слез обиды, а я кричал без слов. Все нутро верещало. А я не мог проговорить ни слова. Меня словно по голове ударили, прекратили все попытки набиравшей разгон истерики. Запретили. А я не предпринял новой попытки.
Тоня отвернулась, заправила выбившуюся прядь за ухо, ударив ногтем по сережке-колечку. Ее лицо, отрешенную красоту которого засвечивало солнце, вновь было обращено к дороге, ставшей мне за мгновение ненавистной.
– Остановись… – прошептал я.
Она не отреагировала.
– Останови машину.
Никакой реакции. Но я понял, что она услышала.
– Останови эту чертову машину! – закричал я. – Иначе я…
– Иначе что? Закричишь, вцепишься мне в шею? Ударишь? Что ты можешь сделать? Не забывай, что твоя жизнь сейчас – моя собственность. Я составляю правила. И одно из них – не мешать мне, – проговорила Тоня и выбросила недокуренную сигарету на дорогу.
– Останови машину.
– Остановлю. Но отберу у тебя все вещи, в том числе и деньги, и документы. И иди на все четыре стороны. Устраивает?
Спокойствие ее убило во мне всякую уверенность.
– Неужели ты совсем не понимаешь? – еле слышно прошептал я.
– Ошибаешься, я все понимаю. Ты много болтал, а меня разговоры раздражают. Я же – раздражаю тебя. Мы друг друга не выносим. По мне так все абсолютно справедливо. Ты не мешаешь мне, а я не мешаю тебе, – сказала она и бросила свои очки мне на колени, словно я был каким-то подстаканником, а не человеком.
– Ты так решила?
– Должен был кто-то решить. Ты не способен на серьезные решения. Это всего лишь капли, никто не собирался тебя убивать.
– Тонь, я очень плохо реагирую на лекарства, – сглотнув ком обиды, прошептал я и послушно убрал ее очки в бардачок. – Я даже пустырник не пью, потому что мне от него дурно. Знаешь, какая у меня история болезней? А если бы я не проснулся? Если бы умер в твоей машине? Что бы ты тогда сказала?
Тоня молчала, безучастно отдавая все свое внимание, которое могло поместиться на кончике пальца, дороге. Солнце сияло ярким фонарем на голубом небе и слепило глаза. Я зажмурился. Глаза защипали.
– Может, ты хоть что-то скажешь?
Она вновь не обратила на меня внимания. Даже мимолетным бесчеловечным взглядом не одарила. Молчала, грудь, покоившаяся под свободной футболкой, будто бы и не вздымалась.
Тоня была абсолютно спокойна. Как мертвец спокойна.
– Да скажи ты хоть что-нибудь! Ты, чертова бездушная… – воскликнул было я, но замолчал на полуслове.
Тоня крутанула руль вправо, чуть не врезавшись в машину, которая стояла на обочине и остывала. Я не успел даже ничего крикнуть – так все быстро произошло. Тоня проехала по щебенке несколько десятков метров, не обратив внимания на раздраженные крики водителей и противные сигналы, издаваемые недовольными машинами, и остановилась, резко нажав на педаль тормоза.
Она не могла отпустить руль. Побледнела.
Я боялся дышать.
Тоня дрожала. Быстро-быстро, если не присмотришься – не заметишь. То ли расплачется, то ли ударит, и неизвестно, что хуже. Взгляд бегал из стороны в сторону, словно что-то выискивая, а дыхание ее было таким рваным и хриплым, будто бы все выкуренные сигареты подействовали именно в это мгновение, обдав легкие ядом.
– Бездушная значит, – выдохнула она и облизнула темные губы, скривившиеся на секунду в безумную острую улыбку.
Фонари потухли. Весь свет исходил из Тониных глаз. Темных, жутких, из которых словно светил мне сам Ад.
– Тонь, я не это хотел сказать!
Тоня, как-то особенно рвано выдохнув, молниеносно схватила меня за локоть, сжала его так, что я еле сумел сдержать вскрик. Кажется, если прислушался, услышал бы хруст.
Не знаю, что случилось бы, не выпусти она локоть. Если бы в глазах ее что-то не потухло, если бы странный блеск их не исчез. Но когда взгляд стал прежним, безразличным и пустым, а не хищным, она выпустила меня так быстро, что я даже засомневался в том, что такие резкие движения человеку вообще подвластны.
Я смотрел на нее, но лицо Тони опять ничего не выражало.
– Не стоит оправдываться, жалко выглядит, – хрипло сказала Тоня, а руку, которую прежде так и держала на руле, опустила. Она повисла тряпкой.
– Тонь, да я чушь сморозил! – воскликнул я, боясь даже представить, на что способна Тоня в гневе.
– Ничего ты не сморозил. Первые слова всегда самые честные, – безразлично сказала она и повернулась ко мне, вновь облив меня холодной болотной водой мертвых глаз, припорошенных гнилой тиной, едва проглядывавшейся за кровью, и сказала, а голос ее прямо-таки сбивал с ног ледяным порывом спокойствия: – Ты совершенно прав. Я не должна была опаивать тебя снотворным. Хотел остановить машину? Пожалуйста, мы стоим. Предлагаю тебе выбор: сейчас я отдаю деньги, которые ты давал на бензин, а ты вполне можешь сейчас же забрать свои вещи и выйти из машины. Автостопом доберешься до Москвы, а там – устроишься как-нибудь. Судьба поможет. Предложение действительно пять минут. Другого шанса покинуть эту машину у тебя не будет. Думай.
И она отвернулась, будто бы предоставив мне возможность побыть с собой наедине, но на самом деле Тони в тот миг стало еще больше.
В такой важный, судьбоносный момент, когда решалось абсолютно все, в голове моей тикали часы.
Я покрылся мокрой пленкой страха. Думал, судорожно цепляясь за каждый довод пальцами и выпуская их, не в силах поймать.
И кто меня за язык дернул? Кто пробудил во мне орущего, негодующего Диму? Я ведь не такой, совсем не такой. Я никогда голос не повышал. Зачем нужно было кричать на Тоню? Чувство самосохранения пробудилось? Но отчего-то оно не проснулось в тот день, когда я решил поехать с ней в Москву. Меня не испугала даже ее загадочность, напротив, я из-за этого и поехал. Эти странности и понравились. Понравились настолько, что от Тониного взгляда по телу разбегались мурашки нетерпения, а глаза не могли оторваться от созерцания пугающей загробной красоты. А я сейчас испугался какого-то снотворного? Да, пусть оно и могло мне навредить. Но чего я ожидал? Человеческого?
Странный человек совершает странные поступки. Ничего ведь необычного.
Или дело было даже не в снотворном. Я, наверное, в тот момент только понял, что с Тоней что-то не так. Что-то в ее взгляде что-то не так. Что-то двигало Тоней. Что-то, что понять невозможно, но что являло себя миру постоянно, не боясь даже разоблачения, настолько хорошо пряталось. Да, она странная. Но странности тоже бывают объяснимы.
Я открыл было рот, но промолчал. Воздух застрял в легких, обжег внутренности, а я испугался. Опять, еще сильнее.
Цифры на табло менялись, неумолимо утекали данные мне пять минут обдумываний, а я все еще не мог понять, что же делать. Почему-то был уверен в том, что Тоня бы сдержала свое обещание и не дала бы мне ни одной лишней секунды на раздумье. Да и делать ли что-то? Какая разница, если мы уже почти добрались до Москвы? Какая вообще разница что-то менять, если пути назад уже нет? Я один посреди неизвестной мне трассы, меж городами, в которых никогда не был. Что я такое? Пылинка на дороге, которую не составило бы никаких усилий смахнуть. Можно было бы, конечно, попытаться. Попытаться остановить машину, попытаться не ошибиться с попутчиком, попытаться не стать жертвой обстоятельств. Но какова вероятность, что будет лучше? Какова вероятность, что мне вообще суждено доехать до Москвы? Может, и не суждено вовсе. И судьбу нечего обманывать, как говорилось во многих фильмах, – свое она все равно получит.
Я смотрел на секунды, и провожал их, не в силах договориться даже с самим собой. В кармане вибрировал телефон, а я молчал. Я даже пошевелиться не мог от страха.
В груди разгорелся пожар. На лбу выступил пот.
Время истекло.
Тоня, словно в ее голове были встроены часы, повернулась и посмотрела на меня, словно ожидая, что выскочу в последнее мгновение. Но я прилип к креслу, ни единая мышца моего тела не могла пошевелиться.
– Понятно, – заключила Тоня.
Машина зарычала, взбила пыльную дорогу из щебенки и грязи и выехала на асфальт, отрезав мне все пути отступления.
Не знаю, что случилось в тот момент. Но отчего-то я почувствовал и облегчение, и отвращение. За меня вновь решили, как решали всегда.
– Знаешь, Дим, а ведь смерть одного человека в мировом масштабе ничего не значит. Подумай об этом на досуге, – сказала Тоня как бы между прочим и закурила.
На какой-то заправке Тоня вышла из машины и ушла в кафе, наверное, вновь закупиться энергетиками и шоколадками. Я остался один – ключи тоже были со мной.
Я мог бы уехать – права, на самом деле, у меня имелись, просто Тоне до этого не было никакого дела: мог оставить сумасбродную девушку на заправке, забрав с собой ее документы и вещи, которые вполне бы мог отыскать, останься я в одиночестве на подольше. Мог бы отомстить за угрозы, за все, что она сделала и сказала.
Но не мог. Потянулся к ключу и уронил руку на Тонино сидение, еще теплое. В горле запершило, глаза защипало. Я потер лицо ладонями до красноты.
«Какой же ты идиот! Гребаный слабак! Да сделай ты хоть что-то!» – думал я. Но понимал, что ничего не сделаю.
Я даже не мог отомстить. Не мог хотя бы припугнуть, отъехать за угол, чтобы Тоня побеспокоилась. Не мог даже дотронуться до ее вещей. Я был в ее власти даже, когда Тони рядом не было.
Глава XI: Воспоминания, случай и выбор
Память частенько меня подводила – я забывал выученное наизусть стихотворение сразу после того, как его рассказывал, с трудом мог вспомнить, что ел на завтрак, и совершенно не знал имен своих учителей в школе, обращаясь ко всем только на «вы» и «извините, вы». И с годами, даже после пропивания нескольких курсов таблеток, которые покупала мама, а потом уже и я сам, ситуация не улучшилась – голова все также подводила, стирала воспоминания и превращала их в серую труху.
Но некоторые моменты вгрызлись в память настолько глубоко, что прокручиваются в подсознании без разрешения, заполоняя все пространство в голове необычайно яркими образами, четкими и сочными звуками и даже запахами, ощущающимися будто сиюминутно.
Неудивительно, что все произошедшее в тот год я не забыл. Напротив, я помню все так хорошо, что кажется иногда даже, что до того года и жизни-то у меня не существовало – так, обрывки какие-то, сложенные в кучу и перемешанные.
Тот конец лета, окончание его на долгие годы, зима, проведенная в поисках, и весна, изменившая все, до которой тогда было еще далеко. Вот, что составило новую жизнь. И все, кажется, что было до нее, – всего лишь жалкое вступление.
Но в голове моей, окутанной пеплом прожитых лет, все еще теплятся и другие воспоминания.
Я помню, как пошел в школу. День жаркий, ароматный. Вокруг наряженные дети, учителя, играет музыка, родители счастливы. На мне новенький костюм, в котором я заживо варился, а в ладони впивались шипы красных как переспелая вишня роз. Школа вообще мне достаточно хорошо запомнилась – даже спустя годы я вполне могу сказать, что сидел на всех предметах с Костиком, а на алгебру ко мне на перевоспитание подсаживали Иру Уткину, которая в этой науке ничего не понимала. Помню первый год в Москве, возвращения и отъезды. Помню все разговоры. Помню работу, первые успехи и недовольство собой. И все помню, все слишком хорошо помню. Особенно то, что хорошо бы забыть.
В случай я не верил. В голове не укладывалось, как какая-то встреча или небрежно оброненное слово могло перевернуть жизнь человека настолько, что все в его существовании изменилось бы. В моем окружении такого не случалось – мы все друг друга знали, виделись с пеленок и жили по объективным и понятным правилам. Школа, колледж или университет, иногда – работа. Свадьба, дети, хозяйство. Отдых на море летом, зимой – наряженная старыми игрушками елка и поедание оливье под речь президента. Все было понятно.
Да и что уж говорить, не мечтал я как-то. Не то чтобы у меня не было никаких желаний – я хотел найти хорошую работу, получать приличные деньги, жить припеваючи с женой и детьми и, может быть, даже завести собаку или кота. Но все это почему-то не считалось мечтами.
Мы молчали, если не брать в расчет тот спор, возникший из-за снотворного. Тоня постоянно курила и пила энергетик за энергетиком, не боясь, наверное, что это вполне могло бы разъесть ей желудок, а я читал на заднем сидении. Читал, конечно, – это громко сказал. Скорее бегал взглядом по строкам, с каждой страницей все больше внимания уделяя пейзажу за окном.
На заправке, пока Тоня заправляла машину дизелем, я, забрав свою сумку, снова очень удобно устроился сзади, разулся и даже постарался прилечь, но рост мой не позволил этого сделать.
– Не испачкай дверь своими грязными ботинками, – пригрозила Тоня, которая для очередной незаконченной нотации даже повернулась ко мне и зло посмотрела. – Иначе будешь языком отчищать.
– Ладно. Я аккуратно, – пожал плечами я и с вызовом посмотрел на Тоню, которая, вопреки моим ожиданиям, не улыбнулась и не сказала ничего в одобрение, а просто отвернулась и завела машину.
Автомобиль рыкнул и стремительно покатился в чащу непроходимых лесов, нагонявших на меня какую-то вселенскую тоску. В моих краях таких деревьев не было, было как-то совсем по-чужому и неуютно.
Я достал телефон, написал Костику, а он в ответ прислал мне фотографию бассейна и надувного круга – оказывается, его родители решили остановиться в каком-то отеле по дороге, где был аквапарк, и провести время с сыном, который вот-вот должен был отчалить во взрослую жизнь. Сердце как-то неприятно кольнуло. И даже не из-за того, что Костик не сказал мне об аквапарке заранее – может, его семья и в самом деле спонтанно туда заехала. У них это был частым явлением. Дело было в другом – меня родители даже до вокзала довести не смогли: папа сказал, что пора бы становиться самостоятельным, а мама с Аленкой не решилась без машины. И не то чтобы я был на них очень зол – парень, да еще и совершеннолетний, должен полагаться на собственные силы, но так все-таки хотелось, чтобы обо мне тоже заботились как о Костике. Хотя бы иногда.
Я устроился поудобнее, подложил под голову кофту и обнял себя руками, чтобы не замерзнуть, и задремал.
Казалось, прошло от силы минут пять: я даже не успел выспаться. Но грохот в багажнике разбудил лучше всякого будильника. Я разлепил глаза и увидел, что мы уже стояли где-то, а машину нашу обступали исполинские сосны, державшие усеянные звездами небеса своими макушками.
– Черт бы их побрал. И что делать? – раздавалось бухтение Тони, которая, по всей видимости, что-то искала в багажнике. Где, если память мне не изменяла, лежали только мои вещи.
Наверное, из-за этого я так резко и обернулся.
– Что случилось? – сонно спросил я, все еще пытаясь отбиться от настойчивых лап Морфея, тянувшего меня в свои объятия. – Что такая раздраженная?
– Что-что. Да то! – прорычала Тоня и зыркнула на меня свирепо. – Пока ты храпел, я чуть в лоб не влетела фуре! Хорошо, что успела с встречки съехать!
У меня душа ушла в пятки.
– Ты… Ты могла нас угробить? – с трудом выговорил я.
– Могла, но не угробила же… – фыркнула Тоня, которая все еще что-то перебирала в багажнике. – Я заснула.
– Ты что?!
– Заснула. Такое бывает, когда не спишь несколько дней подряд, знаешь ли.
Она говорила об этой ситуации так, будто стряслось что-то совершенно обыденное, вроде как само собой разумеющееся.
– Это ты так проверяла свои способности, да?! – вскричал я. – Четыре дня не спать, да?
– Замолчи, Дим.
– Замолчи?! Да мы могли помереть и вообще больше не поговорить!
– Звучит как что-то приятное.
Я взбесился. Вышел из машины, встал рядом с Тоней и продолжил:
– Я же говорил тебе поспать! А ты?! Ой, да человек может не спать столько-то дней! И что?!
– Замолчи, Дим, и без тебя тошно, – отмахнулась Тоня и залезла в какой-то боковой карман, даже не взглянув в сторону моих сумок.
– И вот что ты сейчас делаешь?
– Ищу твой ум.
– Очень смешно! Самое время для шуток!
– Прекрати орать, – процедила Тоня.
– Да? Конечно, главное же тебя не сердить! – не унимался я и поплелся за Тоней, которая направилась к одному из столиков для пикника.
Остановились мы у какого-то не очень презентабельного мотеля, выкрашенного грязно-серой краской с красными проплешинами. Название «Дивное место» никак к этой дыре не подходило, пусть и горело над входом, словно сияние это должно было убедить.
– Я рада, что ты это понял, – отрезала Тоня и шикнула на меня, достала из кармана телефон и стала что-то вбивать в новигатор.
– Тебе поспать нужно. Вот, в мотеле. Несколько часов судьбу не решат! – настаивал я в который раз, чувствуя себя человеком, который решил подискутировать с бетонной стеной.
– Ты так уверен в своих словах, что меня это даже забавляет, – хмыкнула Тоня и продолжала что-то выискивать на карте, водя по ней пальцем.
– А что такого? Это ты очевидного не видишь! Если не поспишь, вообще никто никуда не доедет!
Я умолчал о своем водительском удостоверении. Да Тоня бы и не пустила меня за руль – она даже смотреть в сторону своего сиденья запрещала, куда уж там до управления.
– Я спешу. Ты не понимаешь слов?
Я выхватил телефон из ее рук.
– Отдай.
– Не отдам, пока не согласишься переночевать тут ночь, – отрезал я.
– До Москвы совсем немного. Незачем останавливаться!
– Мы могли остановиться там, на дороге, под фурой. И вообще бы не доехали.
Тоня, кажется, молча со мной согласилась. Во всяком случае, она не закричала в ответ и не уколола очередной насмешкой или словцом. Только уронила голову на так вовремя подставленную руку и потянулась за телефоном.
Я послушно отдал.
– Еще раз выкинешь что-то такое, руку оторву, понял? – процедила она устало.
Я побоялся отвечать. Мне-то тоже нужно было в Москву. Поезда идут по расписанию, а я свое уже просрочил. Как объяснить это родителям? Авария? Какая-то семья потерялась и мы ее искали?
На стоянке помимо нас было много машин, даже одна фура, каким-то странным образом затесавшаяся в полчище тех, кто просто возвращался с отдыха. Темный лес, обступивший мотель с трех сторон, черным забором заслонял горизонт, а сбоку шумела дорога, на которой светлячками пролетали те, кому отдыхать было еще рано. В тусклом свете фонарей Тоня показалась мне совсем беззащитной: на лице появились темные круги от недосыпа, губы будто бы сдулись и превратились в совсем тонкую ниточку, а глаза, прежде и без того не отличавшиеся живостью, потухли окончательно.
– Тонь, ты же устала, – сказал я и слегка дотронулся до ее руки. Ладонь была такой холодной, что чуть не обожгла.
– Устала, – тихо согласилась Тоня и еле заметно кивнула.
– И тебе нужно отдохнуть, – продолжал я.
– Отдохнуть, – вторила Тоня все тише, будто бы засыпала уже даже сидя за столом на промозглом августовском ветру.
– Тогда нам нужно остановиться в этом прекрасном мотеле и покемарить несколько часов.
Тоня рассмеялась. Тихо так, что, не прислушавшись, я бы и не расслышал ее за шумом леса и трассы, которая гулом перекрывала звуки. Губы Тони скривились в неприятную улыбку, обнажив белые зубы, а смех ее стал каким-то особенно странным, похожим на кашель ребенка-курильщика.
– Здесь всего один свободный номер для новобрачных. А мне как-то не очень хочется спать с тобой в одной постели, пусть кофта с котами у тебя и очаровательная, – сказала она.
Я даже не знал, как правильнее отреагировать: обидеться или смутиться? Она ничего не говорила про мою новую кофту. Но все-таки предложил.
– Ну, можно поехать дальше. Может, где-то еще есть мотель.
– До ближайшего ехать около получаса. Я просто засну по дороге, – сказала Тоня и вздохнула.
– Ну вот, а собралась ехать до Москвы.
– Хватит ерничать. С чувством юмора у тебя плохо, – поморщилась Тоня.
Я решил не отвечать ей в тон.
– Ну, давай ты поспишь, а я там, ну, телевизор могу посмотреть или помоюсь. Я же уже выспался. Кстати, благодаря тебе. – Тоня почти весело хмыкнула. – Если тебя шум воды не будет отвлекать, давай остановимся здесь и все. Не надо никуда ехать.
Тоня что-то буркнула себе под нос, а я не расслышал. Зато заметил, как на мгновение в ее глазах будто бы пробудилась жизнь. Словно какой-то маленький светлячок забрался их мутную зелень и подсветил тину, окропив ее мягким свечением.
– Ты правда не хочешь спать? – спросила она даже с какой-то надеждой.
– Честно. Я ведь, как ты говорила, сотрясал своим храпом твою машину. Не буду же я и постояльцев «Дивного места» тревожить.
Тоня будто бы успокоилась. Ее плечи, прежде напряженные, опустились, уголки губ изогнулись в незаметную улыбку.
– Давай свой паспорт, я пойду забронирую номер. Вещи мои возьми, они в коробке за твоим сиденьем.
– Я знаю, иди, – сказал я, достал документы и деньги из напоясной сумки, отдал.
Тоня направилась в фойе, а я, забрав ключи, к машине. В багажнике нарыл свои вещи и очки, которые так хотел достать уже давно, и принялся искать вещи моей спутницы. Я, как и обещал, взял ее сумку, которая почему-то стала тяжелее, и чуть не вскрикнул от неожиданности.
Прямо под сумкой, накрытая курткой, лежала Тонина записная книжка. Та самая, которую она так старательно прятала.
Я задрожал, на лбу выступила испарина, а руки будто бы сами потянулись к записной книжке. Пальцы аккуратно дотронулись до обложки, приятной на ощупь, и приоткрыли. В свете фонарика я увидел записи, которые занимали целую страницу, прочитал всего пару слов и в страхе захлопнул книгу. Это был дневник. Личный дневник, какой вел мой брат, когда учился в школе. Тот самый дневник, какой Лешка прятал под матрасом и за который мама долго на него ругалась. И Тоня, видимо, так и не избавилась от этой привычки даже в двадцать девять. Только прятала секреты не дома под матрасом, а в машине.
– Нет, тебе нельзя ее читать! Это личное! – шикнул я, но руки все равно не могли выпустить записную книжку. Все гладили, ощущали приятный холодок под пальцами и хотели большего.
Я помнил, что обещал себе полистать блокнот, если такая возможность предоставится. Я хотел узнать, разгадать, отомстить или помочь. А вдруг узнает?
Но отчего-то мне казалось, что я просто обязан прочитать. Будто бы что-то извне беззвучно нашептало мне это, словно заставило переступить через себя, через честность, прежде мне присущую, и обмануть.
Я пытался противиться, но не выходило. Клал книжку назад, и тут же она снова оказывалась в руках как приклеенная. Может, то был обман разморенного пересыпом ума, но что-то явно нечисто с этим дневником. Слишком уж он настаивал на том, чтобы я вмешался в его одиночество.
Руки завернули записную книжку в футболку и запихнули на самое дно моей сумки, будто бы пряча ее от моих же глаз.
«Пусть полежит. Ее же необязательно читать, так ведь? Полежит там ночь, а на утро верну на место. И дело с концом», – подумалось мне.
Я осмотрелся. Тони нигде не было видно. Вокруг машин тоже никого. Пусто. Идеальное преступление.
Отвратительно ощущать себя предателем, но я чувствовал, что иначе поступить не мог. Будто бы какая-то внеземная сила заставляла выйти из машины с этой добычей, прижать сумку к груди и поклясться защищать добычу до последнего вздоха, если понадобится.
«Конечно, я не прикоснусь к ней. Просто постерегу ночь. И все. Никакого чтения».
Тяжелой поступью я шел к мотелю, горевшему в тусклом свете фонарей настоящим Оком Саурона. Сосны шумели и стучали ветвями, отбивая похоронный марш. В фойе, если так можно было назвать стойку регистрации и два замшелых дивана, Тоня дремала сидя.
– Тонь, – прошептал я, с трудом пропихивая голос через комок, застрявший в горле, потряс за плечо.
Она проснулась, посмотрела на меня сонными глазами и кивнула. Молча встала и поманила меня рукой. Я поплелся следом и чувствовал, как с каждым шагом все больше врастал в пол.
Мы шли молча, Тоня держала в руке сумочку с нашими документами. Я нес остальные вещи, и тяжесть невесомой записной книжки вдавливала в грязненький кавролин.
Номер оказался достаточно просторным, но полупустым: кровать, шкаф и тумбочка с телевизором, сбоку от которой стояло старое кресло и торшер. У входа была и дверь в ванную.
Тоня сразу же отобрала свою сумку и ушла переодеваться. Я уселся в кресло, положил свою сумку на колени, а записная книжка упиралась мне в бедро острым краем словно острием кинжала. Дышать становилось страшно – вдруг по сбивчивому дыханию Тоня бы поняла, что я собирался сделать? Вдруг она бы по глазам увидела? А вдруг уже поняла? И что же будет?
«Ты же не будешь читать. Ты просто подержишь в руках».
– Ты точно не хочешь спать? – вырвала меня из размышлений Тоня, появившаяся из ванной в пижаме.
Я с трудом мог разобрать выражение ее лица в полумраке, но сразу заметил – на нем больше не выделялись темные губы. Она была похожа на призрака.
– Точно, – уверил я и улыбнулся. Вышло криво, но Тоня, кажется, не обратила внимания.
Она проплыла к кровати, вытащила из сумки баночку, налила в стакан воды и накапала что-то из баночки. Залпом выпила и поморщилась.
– Чтобы лучше спать, – пояснила она и уже через пару секунд зевнула.
Это было мое снотворное. Прежний обидчик вдруг стал другом.
Сон свалил ее быстро, и пяти минут не прошло. Тоня не сопела и не храпела, а только тяжело дышала, словно легким было сложно выдавливать из себя воздух.
Я долго просидел в кресле, ноги успели почти онеметь. И сидел бы так дальше, если бы не краешек записной книжки, все продолжавшей упираться мне в бедро.
Мне кто-то беззвучно шептал, уговаривал:
«Действуй, раз решился. Отступать поздно. Давай же! Закончи начатое!»
Я боролся с желанием так долго, как только мог. Щупал книжку через сумку, разгребал вещи и смотрел на обложку, приоткрывал и захлопывал сразу же, боялся даже слово прочитать. Посматривал на Тоню, вслушивался в ее дыхание, размеренное и тихое, и все казалось, что вот-вот оно изменится. Что Тоня проснется, что заметит меня, и тогда… Я даже боялся представить, что могло бы случиться.
Нет, так определенно не могло продолжаться.
Я подошел к Тоне на цыпочках, наклонился к ее лицу. Горячее дыхание манило. Лицо, такое бледное, освещенное полосами чуть проглядывавшего из-за штор лунного света, заставляло смотреть на себя, не отрываясь. И я все стоял, пытаясь успокоиться, и разглядывал, запоминал, словно понимал, что иного случая не представится. Она не проснется, повторял я, не проснется. Повторял и любовался ею, прекрасно понимая, что даже если бы Тоня вдруг распахнула глаза и уставилась на меня в ярости, я бы все равно не отошел ни на шаг. Лицо ее было чистым, очень юным. Волосы во мраке казались живыми лианами, которые кольцами заворачивались на белой наволочке подушки, цеплялись друг за друга и боролись, спутываясь в шар. Бледные губы смутили меня. Странно искривились, словно только они и чувствовали всю мерзость, творившуюся в моих мыслях. Лицо же оставалось мраморным. Во мраке комнаты мне показалось, что выглядела Тоня лет на десять моложе, чем была на самом деле. Я стоял долго, разглядел ее так хорошо, что выучил каждую точечку на фарфоровой коже, каждую морщинку в уголках глаз, которых прежде не замечал. Она казалась такой беззащитной, что я сразу же почувствовал себя отвратительно. Как я мог залезть к ней в душу? Прочитать что-то сокровенное? Пусть даже и с благими намерениями.
Но дневник звал. Кричал, просился, заполнял пустую комнату беззвучным шепотом, который забирался в меня, который с ума сводил.
Мне казалось, что я слышал этот шепот наяву, а не в голове. Что голос, странный и мне прежде никогда не встречавшийся, настаивал на том, чтобы я изменил самому себе. Тому Диме, который никогда бы не влез в чужую жизнь. И новый Дима, тот, кто судорожно ощупывал записную книжку, кто оглядывался и вслушивался в каждый шорох, уже придумал себе сотню оправданий предательства.
Я пытался. Умывался холодной водой, ходил по коридору, пытался избавиться от наваждения. Но ничего не помогло. Порочный шепот доставал меня всюду. Я слышал его из-за каждой двери, из каждого угла коридора, в песне капель из крана, в хриплом покашливании вытяжки. И только рядом с дневником было тихо.
«Ты просто слишком долго спал, Димка. Просто долго спал», – уверял меня голос, принадлежавший, кажется, даже не мне, а кому-то другому. Тому же, кто и шептал мне в коридоре. И настолько стал приятен этот голос, что все сказанное им я принял за необходимость.
И когда мне вновь напомнили о дневнике, я все-таки покорился. Уселся в кресло, отгородившись сумкой, нацепил очки и, прислушиваясь к размеренному дыханию Тони, открыл запретную книгу.
Вторая запись
Признаюсь, сложно писать о воспоминаниях юношества, и даже не память тому виной, нет. Просто как представить, что когда-то я был так беззаботен и так это не ценил? Я был до глупости честен, мечтал, не умея мечтать, и жил, не понимая, как все-таки нужно жить. Многое во мне было плохо, но в одном нельзя отказать – все-таки юный Дима так старался стать лучше, так стремился наконец вскрыть ноющую болячку желани понять мир, что не отдать должное за старания просто нельзя.
Но нахваливать его я, конечно, не намерен…
Полезно все-таки вести дневник, по крупицам раскладывать переживания, чтобы потом, когда созреешь, позабудешь о том, каким был прежде, вспомнить извилистый и сумрачный путь. В этом, мне кажется, и есть сила. Сила прожить, но не забыть, а увидеть и переосмыслить даже самое дурацкое и неправильное.
Но я что-то увлекся.
Дима Жданов, как и многие молодые люди, вступал в то время в стадию отторжения счастья в пользу чего-то, что называется «приключениями», а обретал проблемы взрослых. Хотелось смысла, какой-то цели, а счастье виделось далеко. Потому я так легко обменял спокойствие на Москву. Воображал ли я, как все могло измениться?
Обо всем позже.
Что случилось в миг, когда я впервые открыл дневник Тони?
Почувствовал ли страх осознания, что вот-вот наступит миг невозврата? Чего хотелось больше: спрятать дневник или спрятаться от дневника?
А был ли я счастлив?Казался ли себе охотником за сокровищами, откопавшим в песке сундук со всем, о чем и мечтать не мог?
Кажется, в те минуты последние призрачные мысли о добре и зле погибали в бессмысленной битве, а я был где-то между блаженством и агонией.
Хотелось разгадать загадку, прикоснуться к той мудрости, что хранил дневник. Я был почему-то уверен, что Тоня обладала знаниями обо всем на свете. Словно это возможно – разгадать тайны жизни человеческой и остаться счастливым.
Может, она и в самом деле открыла мне ключ к сундуку с мудростями. Не будь в моей жизни Тони, вряд ли бы сейчас писал эти строки.
Тоня была первой звездой на небе, недосягаемой, но именно потому желанной. И ее свет, ее неожиданное появление открыло путь ко всем остальным звездам, еще живым и уже взорвавшимся.
Я не знал о камерном представлении, устроенном для единственного зрителя. Странная пародия на остров Мориса Кончиса, сыгранная в машине, где пейзажем был не прекрасный греческий остров, а бесконечная трасса. Жаль, что невозможно было заглянуть за кулисы.
Я хотел быть героем, не важно для себя или для других, и не догадывался, что обнаженное желание быстро замерзает и становится немощным. Не знал, чем мог помочь, но мечтал о поступке. Не понимал, что желания мало. Для подвига важнее невозможность поступить иначе.
Часы отбивают очередной час, за запотевшим окном лиловая дымка накрывает Москву, в двери магазинов стучится туман, на улицах появляются машины. Утро.
Время все еще не подвластно человеку.
Годы вели меня к финишу, на котором стою и думаю, разорвать ли заветную ленту. Столько раз меня уверяли, что жизнь – это бесконечный бег, в котором никогда не бывает последней черты. Бег привел меня к вам, и встреча наша оказалась судьбоносной. И сейчас ощущаю себя стоящим на краю обрыва, но на промозглых ветрах впервые не холодно.
Глава XII: Обрывки правды и страх
Первые страницы девственно-бежевые, пахнущие краской типографии, мягкие. Я провел подушечками пальцев по бумаге, и не почувствовал зашифрованных царапинами посланий. Почти успокоился. Зря.
После пустых листов шли запачканные, словно эти страницы служили исключительно для расписывания ручек. Под океанами чернил, казалось, виднелись слова, но прочитать их было невозможно. Тоня мастерски расправилась с воспоминаниями.
Я листал тихо, переворачивал страницу на выдохе. Надеялся, что дыхание скроет позор, что шелест скроется от уш не только Тониных, а и всех тех невидимок, которые на меня глядели из темных углов, куда не доходил тусклый свет торшера.
Но вот, оно. Пришлось пробраться сквозь множество страниц чернил и пустоты, чтобы отыскать сокровища. Записи. Где-то на середине дневник, распахнувшись на манер огромной пасти, явил-таки свою душу.
Каждая страница уписана мелким и убористым почерком. Кляксы на полях, каракули, рисунки.
Сначала я подумал, что ошибся. Ожидал, что тот ровный и красивый почерк, которым Тоня составляла договор на заправке, и был постоянным, но так ведь редко бывает. Для души мы всегда пишем иначе, и Тоня писала мелко, остро и криво.
Когда я встретился с мыслью о необратимости предательства, вдохнул так громко, что чуть не пискнул. Взглянул на Тоню – та спала, отвернувшись к стене, а силуэт ее в полумраке словно светился. Дышала хрипло, прижимала к груди одеяло тонкой рукой.
«Ей снится кошмар», – подумал я, не осознавая, что главный Тонин кошмар творился всего в паре метров от кровати.
Сосны за окном, кажется, дрались. Стройные стволы качались, сражаясь с ветром, поднявшимся неожиданно, и одерживали поражение. И даже сквозь стекло было слышно, как шумели леса вокруг. Кажется, природа выла.
Я опять раскрыл дневник, тихо полистал. Нервозность одолевала, я постоянно оглядывался на Тоню, все еще спящую, но словно готовую проснуться в любой момент. Успокаивал, но без толку, будто бы и не было снотворного.
«Это не мираж, это не сон». – Мой голос гулял по пустоте головы и хлопал ставнями.
Полистав несколько страниц, я решил все-таки прочитать хотя бы что-то. В конце концов взгляд остановился на одной из них:
«И почему он так уверял меня, что писать полезно? Ничего полезного нет в этих перечислениях, только лишние улики. Кому вообще какое дело до моих мыслей? Можешь, спросишь у него? Хотя, конечно, это мои заботы. У тебя достаточно и собственных.
Но он же настаивал. Все уши прожужжал, что писать, кем бы ты ни был – важно. А что важного? Кому вообще нужны мои мысли? Этого не сказал. Он никогда не говорит о смыслах. В его жизни смысла вообще нет, а он твердит, что мы должны… нет, даже обязаны найти свой. А, может, мне не важны его смыслы? Может, хотелось просто жить. Сейчас уже бесполезно раздумывать.
Знаю, это просто колебания воздуха. Все вы умнее. Люди сами создают собственную правду, и все же в вашей никогда не будет меня».
Я задумался, кому же могли быть адресованы эти строки. Тоня знала, что кто-то прочитает записи? А, может, и писала кому-то?
Я полистал дальше, искал указатель на год, но так ничего и не нашел. Тоня нигде не подписывалась, ее имя ни разу не промелькнуло, внизу каждой страницы была лишь подпись, кривая и большая как автограф. Даже тех, где читать особенно нечего.
Я думал, что найду в дневнике перепись мыслей, а увидел списки дел.
Тоня, по всей видимости, часто переезжала. Новость не удивила. Ну кому в здравом уме и памяти придет в голову, что Тоня, та Тоня, в болотах чьих глазах затерялась, кажется, пыль всех дорог мира, может жить как-то иначе?
Я видел списки вещей, названия отелей и чьи-то имена с номерами телефонов. Руки чесались позвонить хотя бы по одному, но останавливался. А вдруг те, чьи номера значатся под именами, не ответят? Что это будет значит?
А вдруг…
«Вдруг кто-то из них был на моем месте… Нет, не думай об этом, ты, чертов невротик».
Я залистал назад, к первым записям, и удивился. Они были другие, будто написанные не Тоней. Казалось, она представлялась себе. Или, может, представлялась тем, кому предназначался дневник.
Она жила в небольшом городе на несколько тысяч жителей где-то на пересечении федеральных магистралей, а пейзаж его – пятиэтажки, слепленные «из серых частей конструктора», как писала Тоня, и замазанные «голубиным пометом», не менялся до самой окраины: там начинался частный сектор. Заканчивался город кладбищем, с которым нельзя не повстречаться: все дороги вели мимо. В городе Тониной юности автобусы никогда не ездили по расписанию, на остановках собирались десятки знакомых людей и обсуждали житейские вопросы, а после школы подростки покупали еду в ларьке и шли на заброшки, играть там в карты до темна. Там страшно выходить вечером, не взяв с собой хотя бы ключей, которые можно засунуть между пальцев, а по неосвещенным улицам ходить не стоило после четырех. Писала Тоня, что главнее всего обходить пивные ларьки и сцену в парке-сквере, где частенько собирались компании из школы и танцевали. Солнце в городке заходило над главным и единственным торговым центром.
Я бывал в Тониных городках. В них пахнет пирожками с капустой, щебенкой, засохшей землей на базарной картошке, мокрыми полами в подъездах, автобусными остановками и смиренной надеждой. В некоторых и спустя двадцать лет мало изменилось.
Были в дневнике на первых страницах и заметки о школе, кино, кафе, какой-то подруге, с которой Тоня виделась в школе и обсуждала все подряд. Записи маленькие, написанные, впрочем, достаточно крупным почерком. Зарисовки выпускного платья, с легким кружевом на рукавах, нарисованных крупной штриховкой.
Я остановился на записи о выпускном. Не прочитал ни строчки, а вспоминал и мой, веселый и шумный, который начался вечером в здании сельского клуба, а закончился теплой ночью на берегу речки. Некоторые сбегали домой, переодевались и возвращались, а другие прыгали в воду, освещенную лунным светом, успевая только скидывать костюмы и платья. Вода теплая, почти горячая: в те дни жара стояла жуткая, родители даже посмеивались, что отмечать придется в купальниках и плавках. Мы пили сворованное из кухни шампанское, пели песни под гитару, что притащил Глеб, чтобы удивить мою одноклассницу Дашу, с которой тогда встречался, и провожали школьные годы, искренне веря, что будущее готовило для нас огромное счастье. Ночь пахла мокрым песком и июньскими цветами.
Тонин же выпуской был другой. В большом зале, погруженном в свет фиолетовых ламп, пахло как в комнате ожидания в аэропорту: условной чистотой и замаскированным безразличием. Тоня писала, что вечер совершенно не понравился, потому что с ней никто не танцевал и не разговаривал. Весь вечер она провела за столом, поглядывая на знакомых и друзей в ожидании, что кто-то захочет подойти и поговорить, но каждый находил более интересного собеседника. Тоня так и не выпила шампанского, корсет платья весь вечер ломал ребра, ноги болели от туфель, а парень, который ей когда-то был очень симпатичен, подошел к ней и спросил, свободна ли ее подруга.
Помню, прочитал эти страницы и почувствовал странную радость. Была у Тони все-таки обыкновенная жизнь когда-то. Грустная, но настоящая. Хотя, кто знал, чем она жила до нашей встречи.
Ночной холодный ветер ворвался в номер через форточку. Она обомлела от такого нахальства и шлепнулась о стекло, да так громко, что я посмотрел на Тоню, испугался, что от такого резкого шума проснется. С бившемся в лихорадке сердцем всматривался в ее лицо, но спутница даже не пошевелилась, лежала будто мертвая, испускавшая последние хриплые выдохи.
Я обернулся, отодвинул штору. На улице тихо, гул машин раздавался приглушенно, мир словно погрузился в невидимые кисельные сумерки, и только белоснежная иномарка как-то одиноко покоилась на стоянке. Все фары выключены, а внутри, казалось, никого нет. Но что-то зловещее было во всей этой обстановке: пустота, черная улица, освещенная лишь одним фонарем, выключенный у всех свет и странная машина, появившаяся на пустыре ниоткуда. Словно вестник чего-то важного среди мглы.
Я отвернулся. Мало ли, может, это машина хозяина мотеля, ну в самом деле. Не на вертолете он же сюда прилетал.
И стал листать дальше.
Добрую четверть записной книжки занимали односложные записи в один абзац о жизни, скучном лете в квартире и во дворе с соседскими девочками, пока те не уехали в лагерь, прогулках по парку, вскоре прекратившихся, тихие вечера в окутанной молчанием комнате, проведенные за чтением книг и разглядыванием журналов «Bravo» и «Вокруг света». Я почти удостоверился в нормальности Тони, хотел закрыть дневник и отложить геройства на потом, но вдруг перевернул еще одну страницу.
И в миг все изменилось.
Записи Тони стали длинными, изменился даже почерк, превратился в изящный и какой-то чересчур острый. Казалось, она описывала воспоминания так старательно, чтобы запомнить их, словно боялась, что исчезнут. Только вот большую часть записей занимали какие-то совершенно пространные мысли, а самое важное съежилось в несколько строк.
Содержание записей стало пугающим.
«Я не верю, не могу поверить, что это реально, – писала она, а буквы были настолько острые, будто старались уколоть через бумагу. – Понимаешь, я готовилась к любому исходу, но только не к такому. Это слишком страшно осознавать. Я пыталась не писать об этом, хотя бы здесь не видеть правды, но молчать слишком сложно. Понимаешь, пройдет неделя, может, две или даже месяц, и ничего ничего не изменится. Оно, кажется, никогда не уйдет. Что делать? Как же мне тяжело, а ты, бездушная деревяшка, даже не можешь мне ничего ответить. Как фигово на душе…»
Я прочитал тогда эту запись много-много раз, просмотрел все, что окружало ее, но так ничего и не понял. До этого никаких подобных записей не было. Тоня писала о болезни, но не говорила, кто именно болел. Какое-то третье лицо, так и оставшееся безымянным, но пугавшим меня своей неизвестностью. Много записей были посвящены этому человеку, разворотов пять, исписанных мелким почерком. Тоня будто бы вела дневник его самочувствия.
А потом лицо обрело очертания, черные, развевающиеся от дуновеновения ветра:
«Он черный, плотный, как резина, обнимает широкими руками, вжимает в мягкое тело, тянет за уголки губ, чтобы заставить улыбнуться, когда я хочу плакать. Он сторожит меня, как сторожит охранник на кладбище. Он следит, чтобы я не ушла, хотя знает, что не смогу. Что прикована к нему, как к себе, и не готова сделать последний шаг. Он не оставляет меня, идет следом куда бы ни пошла. Он всасывается в меня. Я вижу его даже в отражении.
Что реальность, а что – сон? Но если бы спала, не боялась бы так. Я чувствую его, как он лежит позади меня в кровати, сжимает в холодных руках, а у меня не остается сил противостоять. Может я – его эксперимент?»
Я закрыл этот разворот и поднял голову к потолку. Ровный, белый, всего несколько трещин. Рассыпается, как я внутри. Ну почему, почему я не могу просто пройти мимо?
Тоня комкала страницы и, кажется плакала, писала вновь и зачеркивала. Я уже даже перестал читать, боялся, что и сам расплачусь.
«Ты отвратителен, Дима, ты просто отвратителен! Ты влезаешь к Тоне в душу и топчешь ее своими грязными кроссовками!» – повторял я про себя, но что-то неописуемо противное и желанное заставляло читать дальше. Мое человечное «Я» куда-то улетучилось, уступив свое место «Я» бесчеловечному, животному.
Глубоко вздохнув, я вновь раскрыл книгу, перелистнул страницу и, к моему удивлению, увидел на ней просто огроменную кляксу. Раковой опухолью оно разлилось по искусственно состаренной бумаге. Я потрогал кляксу пальцем – сухая и плотная. Где вообще можно взять столько чернил? И зачем заливать ими целый разворот?
Я потрогал пустые страницы, следовавшие за залитыми краской. На них еле-еле прощупывались буквы.
«Значит, писала что-то, а потом решила забыть,» – решил я и, даже немного жалея, что не могу читать подушечками пальцем, залистал дальше.
Больше упоминания черной субстанции не появлялись. Долго записи в дневнике были вообще какие-то пространные и непонятные, рассказывавшие обо всех вокруг, но только не о Тоне. Зато появилось нечто другое.
Она писала о каком-то деле. О чем-то, что боялась называть, чтобы «не спугнуть фортуну», словно ручка и бумага могли как-то повлиять на ее будущее.
«Я почти закончила половину. Все идет как никогда лучше. Боль уходит, странно. Я стараюсь, работаю ночами, куда бы то ни было хожу только после нескольких доз кофе, чтобы не уснуть в пути, но чувствую, как становится легче».
Несколько разворотов были усеяны маленькими абзацами, в которых постоянно говорилось только о работе, словно ничего, кроме нее, в жизни Тони в тот момент не существовало. Она писала о вдохновении, о стараниях и слезам, заливавшим страницы, усеянные словами о помощи, которую она так искала, но, по всей видимости, так и не нашла. Затем несколько страниц было пропущено. Вскоре снова начались записи, повествование о куче книг, которые она читала. Списки, столбики которых по три-четыре штуки усеяли каждую страницу, перечисляли романы и рассказы, повести и сборники стихов, которые Тоня прочитала, некоторые даже писались с указанием возраста, в котором были прочитаны. Так я понял, что Тоне на момент написания этих списков было около девятнадцати. И еще, оказывается, она не врала: список книг был огромный, что, кажется, Тоня прочитала все на свете. Но вот после цифры девятнадцать все годы вновь исчезли.
И вот, когда мои глаза наконец-то прочитали несколько не очень-то интересных описаний очередной книги, появилось что-то по-настоящему интригующее.
После нескольких вырванных листов появилась достаточно короткая, написанная черной ручкой, запись, и даже почерк изменился.
«Знаю, зачем ты заставил меня сделать это. Зачем приказал поковыряться в мозгу и вытащить оттуда все, что хотелось бы зацементировать на страницах. Мне так хорошо, как никогда ни было. Даже не чувствую, как тянет к земле».
Я перечитал эту маленькую, стоявшую в сиротливом одиночестве на пустом развороте, запись и, кажется, догадался: Тоня писала по памяти. Может, то, что считала нужным запечатлеть. Но почему-то я так и не увидел ни одной записи про ее семью.
Тоня писала о жизни в общежитии, кажется, в Москве, но ни разу город не объявился. Я догадался только потому, что Тоня много раз писала о том, какой красивый главный корпус МГУ. Но прочитав пару записей, бросил: и тут все было обыденно: соседки, пары, какие-то пространные размышления.
Я пролистал еще несколько залитых и перечеркнутых страниц, кое-где даже замаскированных под «замазкой», и очутился на развороте, где почерк Тони стал таким, в который можно было поверить: документ, подписанный ее рукой, все еще лежал в сумке.
«Я не хочу больше возвращаться в ту жизнь. Я так мечтала о любви, что, засыпая после тяжелого дня, хотела только оказаться хоть в чьих-то объятиях, почувствовать жар чужого тела и услышать, как кто-то хмыкает и шепчет мне на ухо, что любит. Я столько искала, проливала слезы в одиночестве, обнимая подушку в кромешной темноте комнаты, что сейчас, наконец-то встретив тебя, могу вздохнуть. И кажется мне, что никогда прежде я не дышала так свободно…»
Я вздрогнул.
«Неужели Тоню никто никогда не любил? – подумал я. – Такого ведь быть не может, были ведь у нее родители, друзья. Конечно, личность она не очень-то обычная, да и подход к ней чуть ли не на минном поле приходится выискивать, но ведь определенно заслуживает быть любимой».
Даже больше – Тоня должна быть любимой. И мне стало даже как-то жаль ее.
Но потом все переменилось, и на страницах появился кто-то.
«Помнишь нашу первую встречу? Помнишь песни тишины в свете мрака, когда звуки живых замерли, чтобы отдать вечность нам? Помнишь, как я смотрела на тебя, с испугом, но благоговением? Ты говорил, что не обидишь, что не бросишь, что всегда, отдавая часть себя, будешь рядом.
Я даже боюсь говорить о нас, о том, что было до и после. Кроме нас ничего ничего не было и не будет».
Помню, как рассказала тебе о своем секрете. Ты принял его спокойно, словно готовился стать моим доверенным вечность.
Я бы не смогла также. Ты слишком велик для меня, ты безграничен, ты не ходишь по земле, потому что она тебя не выдержит. Твоей любви хватит, чтобы объять весь Земной шар. Давно не звонила семье, но и не чувствую надобности. Они винят меня, а ты говоришь, что они просто ищут хотя бы кого-то для обвинений, лишь бы только успокоить свои души. Я чувствую, ты любишь. Но знаю, должна измениться. Ради нас обоих. Чтобы наша вечность была безупречной».
Я не знал, кому Тоня признавалась в любви, но одно я понял точно – она очень любила вырывать листы.
На одном из разворотов я увидел новое имя, которого прежде не встречал. На поле боя появился Виктор. Все листы, шедшие до этой записи, были вырваны.
«…Ты сказал, что он должен мне помочь. У него и связи, и опыт и все-все, но мне страшно идти на встречу. Я видела его фотографии, читала о нем. Да и вообще, кто же не знает Виктора? Тот, кто хочет хоть чего-то добиться в жизни, обязательно должен знать его. Но ты сказал, что он – твой хороший друг и что мне совершенно нечего бояться. Но мне все-таки очень страшно. А вдруг я скажу что-то не то? Как жить дальше?»
В то время я, конечно же, никакого загадочного Виктора не знал. Знакомых Викторов у меня было достаточно, но среди них не было никого хотя бы немного необычайного. Более того – об этой известной персоне и не слышал никогда, хотя, по моему мнению, если человек известен в Москве, то и по всей России его тоже знать обязаны.
Следующие записи уклончиво рассказывали о каком-то клубе.
«…Сегодня вечером Виктор тоже был в клубе. Сидел за столиком с каким-то мужчиной и болтал с ним. Когда мы вошли, Виктор обернулся. Его прекрасное лицо, обагренное красным светом, исходящим от лампы. Я неловко помахала ему, а он, как обычно, расплылся в своей странной улыбке, которая, впрочем, никогда не предвещает ничего хорошего. Хотела бы и я также загадочно улыбаться. Только вот мне это не светит».
Я невольно хмыкнул. Вот уж улыбаться загадочно Тоня точно научилась.
«…Мы очень долго с Виктором разговаривали, и он меня уверил, что абсолютно все решит. Мне же только доделать конец, который ему не очень нравится. Виктор говорит, что хеппи-энд – это самое отвратительное, что можно придумать. Что страдания дают пищу для размышлений, а счастье – тормозит развитие. Он говорит, что у меня талант.
Все больше времени мы проводим вместе, а меня словно засасывает в водоворот. Жизнь изменилась – мои желания, кажется, сбываются. Потом все станет еще лучше. Виктору совсем не нравится, что я начала курить. Он говорит, что курящие женщины выглядят совершенно не элегантно, как все привыкли думать, а скорее дешево, и о нашем договоре и слышать не хочет».
И все-таки я был не согласен с Виктором. Курящая Тоня выглядела весьма элегантно.
И вдруг что-то изменилось. На одной из страниц вдруг появилась запись, которая точно не была Тониной. А все потому, что внизу стояла подпись: ваш В.В.
Запись была небольшая, всего в пару строк, но я запомнил ее и даже ночью смогу повторить: «Ты всегда говоришь, что он хочет слышать. Поверь, дорогая, лишь глупец внемлет чужим желаниям, а ты умна. Твои слова – оружие. Так используй его. Преврати жизнь в искусство – так ты обретешь вечность. Других убедить легко, а себя – невозможно».
Я, еще раз взглянув на Тоню и убедившись, что она спала, судорожно перелистнув несколько листов, принялся читать уже вразнобой. Времени высматривать у меня не было – нужно же было и следы замести.
Весь мир перестал существовать, и тьма, которая плотным куполом накрыла все вокруг, щупальцами забралась в меня и очернила. Все стало иным, окрасилось мрачными красками. Я не выдержал, сходил, умылся холодной водой – почему-то меня все еще клонило в сон. Вернулся, а Тоня все спала. Дневник сам по себе раскрылся на какой-то из страниц, будто приглашая. И я не мог противиться ему.
Тогда бы я не мог сказать, что прочитал, но сейчас, когда держу их в руках, могу переписать с листов. Хотя, уже знаю их почти наизусть.
Тоня писала о чем-то, что понять было невозможно, кричала на себя, на каких-то страницах были даже красные отпечатки пальцев, но я искренне надеялся, что это просто краска. Она писала о боли, страхе, снах, клубах и темных комнатах, бессонных ночах, одиночестве и поисках и о чем угодно, что вряд ли бы встретилось мне в жизни, и оттого – непонятное.
Но одна запись оказалась переломной. Она ютилась на пустом развороте, а до нее не было ничего подозрительного.
И вот, наконец-то, что-то свершилось.
«…Крис говорил, что я почувствую разницу с первых мгновений, но прошло уже несколько часов, а мир все тот же, что и был до этого – серый и безликий. Вдруг дверь распахнулась, мрак прогнал столб желтого света, который чуть не ослепил меня. Запахи клуба, которые мне так не нравились, вернулись.
Ты спросил, как я себя чувствовала. В тот момент твой голос звучал как-то особенно чарующе.
Ты медленно подошел к кровати. Уселся рядом и стоило тебе слегка наклониться, как терпкий аромат духов окутал меня благоухающим шарфом. Холодная ладонь твоя нашла мою, коснулась горячих от лихорадки пальцев и обожгла.
Первое слово было болезненным. Казалось, что губы пришлось разорвать, испить собственной крови.
Ты хмыкнул и посмотрел на меня так, что боль пропала.
Знаю, милый, я всегда была твоей мечтой. Но хотелось большего. Хотелось быть мечтой всего света. Чтобы все, до кого доходит благословение солнца, шептали мое имя и улыбались. Я всего лишь хотела дарить людям улыбки. Разве слишком много попросила?»
Несколько страниц залили чернила. Листы, спасшиеся от вырывания, в отличие от пары предшественников, скомканные, но разглаженные, а на них красиво, словно узором, выведены обращения, похожие на прощальные открытки:
«Жарко и жалко, что боли больше нет. Я пережила страх агонии, чужие руки не удержали, я упала во мрак. Все в один момент будто бы окаменело.
Сны… Я не могу больше спать. Ты уверяешь, что так и должно быть, но я понимаю, ты врешь. Милый, ты врешь ради нас. Пошепчи своему творению, Пигмалион, что рассыпаться хорошо, но ты не соберешь меня снова. Ты создашь новое, а я останусь прахом на земле.
Я хочу верить тебе, как всегда, но не люблю ложь.
Жизнь превратилась в ночной кошмар, от ужасных мыслей не скрыться, мой разум сжирает меня. Я не помню себя, память объял туман. Кто я? Не могу смотреть в зеркало и видеть другого человека. Во мне нет уже ничего. Я раскрываю рот, и я – снова не я. Меня не осталось нигде, везде лишь Она.
Милый, я сбежала. Я лишь помогала адскому пламени разгореться. Душа моя потеряна. Ничего уже не спасти.
Я спустила машину в реку. Пусть все думают, что я умерла. Знаю, вы не поверите. Вы найдете даже на той стороне, если она есть. Но я хочу осуществить начатое. Мое турне по свету только начинается. Мир еще получит мою улыбку».
Несколько страниц залили чернила. Листы, спасшиеся от вырывания, в отличие от пары предшественников, скомканные, но разглаженные, а на них красиво, словно узором, выведены обращения, похожие на прощальные открытки:
«Ты думаешь, что я слабая. Знаю. Ты шепчешься с собственным отражением, когда твои владения пусты, а оно отвечает лишь то, чего ты желаешь. Ты превосходно надрессировал его, оно думает, как ты, а ты никогда не подумаешь о себе плохого.
Но, поверь, ты не знаешь, на что я способна. Я – вижу, я – чувствую, а ты – только рисуешь. Ты не знаешь о жизни ничего, потому что никогда не жил. Ты создал жизнь, а я вынуждена проживать ее. Она жестокая. И когда-то тебе отплатит.
Ты ослеп, когда любовался собственным отражением. Твой яд отравил этот мир, а ты продолжаешь уверять, что зло всегда прячется за моей спиной. Что ж, сейчас я вижу его».
Я вздрогнул, но дневника не отпустил, продолжил, перевернул страницу и увидел новое обращение. Как хорошо, что тогда не знал французского. Погладил оборванный край вырезанного листа. И читал:
«Ты умеешь обманывать. Ты – мастер человеческой души. Ты шептал, как красивы мои глаза, как хорошо они видят жизнь, и знал, что я поверю. Я верю, милый. Мои глаза цвета болотных вод, в которые ты отпустил меня, когда я отвлеклась. И они затянули меня, но я не злюсь. Так нужно. Ты всегда говорил, что жизнь случается лишь с теми, кому нужно доказывать силу. И я докажу. Ты будешь мной гордиться.
Rencontrerons-nous dans les cieux, милый, но даже там мы не увидимся. Не он создал меня. Ты. Только ты. И только тебе я приведу послушника. Пусть он внемлет твоим речам. А я – уйду.
Даже смерть не разлучит нас. Но я не собираюсь умирать».
Я дрожащими руками пролистал записи, многие из которых были выдраны наполовину, и открыл самую последнюю, которую Тоня написала совсем недавно. Скорее всего, при мне. И обомлел.
«Времени осталось мало, но я чувствую, что наконец-то нашла подходящего. Это мое прощальное представление. Мрак идет следом, но еще есть время. Это – подарок. Не потеряйте его.
Прощайте».
Стоит ли говорить, как я перепугался, когда прочитал это? Я был уверен, что запись посвящалась мне, но все еще отчаянно ничего не понимал, все казалось какой-то насмешкой. Театром. Словно это было всего лишь новое действие.
Но в самый ответственный момент, когда нужно было спасаться, тело вновь меня подвело. Голова стала свинцовой, руки налились неописуемой тяжестью, глаза видели перед собой лишь туман, а мысли путались.
Я бился с дремотой, мотал головой, погружаясь в дурман все больше, словно дневник сам пытался усыпить меня. Но, как бы ни старался противиться вдруг навалившемуся на меня дурману, вырубился, не успев даже подняться с кресла.
Всю ночь мне снились кошмары, а разбудил меня только ядовитый и хриплый возглас Тони.
– Что ты делаешь?
Я распахнул глаза и, в мутном свечении, объявшем комнату, увидел, что так и не выпустил дневник Тони из рук.
Глава XIII: Ягодный этюд
За несколько секунд вся жизнь пролетела перед глазами. Липкий воздух душного номера, так и не ставший прохладным, облепил. Ледяной пот крупными каплями полился по спине.
Тоня сидела на кровати, одну ногу подогнув под себя, а другую – поставив на пол. На первый взгляд спокойная, но во всем теле такое напряжение, что, казалось, Тоня могла в любой момент сорваться с места и вцепиться мне в шею длинными ногтями. Рукав футболки свалился с костистого острого плеча, лучи раннего летнего солнца нежными брызгами окропляли Тонино бледное и измученное лицо. Ее волосы прорежены золотыми нитями, но в глазах, до этого не подававших признаков жизни, тлели огоньки злости.
Я смотрел на нее и боялся говорить. Не знал даже, с чего начать. Как объяснить? Сказать правду? Да это еще хуже, чем соврать. А если соврать? Она же поймет, что я соврал.
– Тонь, я…
– Я вижу, – процедила она хрипло. – Объяснись.
Я испугался, но не мог даже выбросить дневник, все еще его сжимал в руках. Тоня же на него даже не смотрела. Не сводила сосредоточенного взгляда с моего лица.
– Я, я просто…
– Не просто, а по существу, – произнесла Тоня и рывком поднялась с кровати. Я дернулся, уже ожидал удар в лицо, но она даже не пошла ко мне – лишь встала, скрестив руки перед грудью, и слегка качнулась на ступнях вперед-назад.
Лучшее положение для броска. Миг – и ее ногти разрывают мою шею.
– Тонь, я…
– Я помню, как меня зовут.
Ее лицо казалось спокойным, но спокойствие это было не принятием моих раскаяний, а чем-то другим. Ледяной маской. Страшной до морозного холода.
– Тонь, прости, пожалуйста, я…
– Ты закончишь хоть одну мысль сегодня или так и будешь блеять?
Я смотрел на нее, боясь моргнуть. Все происходящее казалось мне сном, но холод, разливавшийся по спине, возвращал к реальности. Я не спал. И в реальности совершил огромную глупость.
Тоня казалась мне неестественно прямой. Она вдруг стала настолько высокой, что еще немного – и проткнула бы потолок макушкой. Лицо Тони, бледное, без единого яркого пятна, черных стрелок и темно-красных губ, – лист бумаги, на котором художник еще не успел ничего изобразить. Белоснежная, с тонкими голубыми полосами вен, исчертившими кисти рук. Губы вытянулись в полоску, разделив лицо на две части, ни одна из которых не выглядела хотя бы немного приятной.
И тогда я, перепуганный, брякнул:
– Тонь, ведь что-то не так.
– Правда? И ты хочешь мне объяснить, что со мной не так? Ты теперь, наверное, специалист.
Я мысленно проклял день, когда сел к ней в машину. Хотя, кто-то уже определенно сделал это за меня.
– Тонь, я просто очень испугался за тебя. Когда у тебя были те приступы! Я испугался, правда, – начал было я, но Тоня вновь не дала мне договорить.
– Ты испугался моих приступов? – Тоня улыбнулась так, что я взрогнул.
– Такого невозможно не испугаться! Я не знал, что с тобой! Тонь, когда ты в машине просила меня дать тебе таблетки, я… Тонь, я хотел узнать, что с тобой, я хотел помочь! – шептал я, а дневник в моих руках полыхал, оставлял на ладонях пузыри воображаемых ожогов.
– И теперь, когда ты порылся в моих вещах, твоей мечущейся в агонии душе стало легче? – протянула она и оскалилась, словно забыла, как улыбаться.
Я дрожал. Ожидал чего угодно: криков, драк, истерик, выдворений меня из номера или даже летального исхода. Но никак не спокойствия, фальшивых любезностей и этой чудовищной улыбки, которая совершенно не собиралась сходить с Тониного лица.
Тоня, разве ж это была Тоня?
– Тонь, я хотел как лучше. Облажался, но хотел ведь как лучше!
– Удивительная добродетель, Дмитрий. Добродетель, достойная величайших сказаний. Жаль, что о таких не слагают легенд. Хотя, может, ты еще успеешь запечатлеть свою.
– Я повел себя как идиот, я знаю! И я не буду просить у тебя прощения, потому что я знаю, что прощать меня нельзя, но…
– Жизнь учит говорить правду лишь тогда, когда ложь сулит тебе проблемы куда более значительные, может, и смертельные, – проговорила Тоня выразительно, словно читала лекцию в университете, и все продолжала улыбаться.
– Что?
– Ты разве говоришь правду?
– Конечно! – Была моя ложь.
Она хмыкнула так, как никогда бы прежде не хмыкала. Так ядовито, что невидимый яд окропил меня.
– Я припомню.
Я очень надеялся, что она просто так упомянула смерть за ложь. Но противоестественная улыбка говорила об обратном.
«Господи, дай мне только выйти из этого номера живым, и я в тебя обязательно поверю», – подумал я, отдаленно понимая, что вряд ли это случится. А вот что именно, появление во мне веры или спасение, решил не уточнять.
– О том, Дмитрий Жданов, что мы говорим правду лишь тогда, когда иного выхода у нас нет. Мы лжем все время, потому что лишь во лжи мы видим благодетель, спасение как для нас самих, так и для всех других. Мы удивительно великодушны в клевете, – медленно произнесла она, чуть склонив голову на бок и продолжая улыбаться. – И правда для нас лишь тогда важна, когда она выгоднее. Мы живем ради выгоды. Вся жизнь – беготня за теми, кто продаст нам лучшее по самой низкой цене.
– Тоня, пожалуйста, прекрати, – прошептал я, – ты меня пугаешь.
– Правда? Как тогда, при моих приступах? Тогда я пугала тебя так же, как сейчас?
Я посмотрел на нее вновь. Зря.
– Сейчас ты пугаешь меня больше.
И Тоня рассмеялась. Клянусь, я никогда не слышал более страшного смеха, чем тогда, в комнате мотеля. Тоня смеялась так, словно и плакала, и кричала от боли, и задыхалась одновременно. Смех ее был уставший, словно ему пришлось пролететь столетия, прежде чем раздаться в четырех стенах и застрять в них эхом. В этом смехе звучали вопли нескольких человек, верещавших на разный лад, и столько невидимой желчи в нем было, что ее хватило бы на многих. Вместе с Тоней смеялся кто-то невидимый, наполнявший комнату объемным плачем.
Как жаль, что я не знал ни одной молитвы. Тогда-то они бы точно пригодились.
– Страх заставляет человека жить. Почувствовав, как конец наступает на пятки и дышит в затылок, все начинают верить в невозможное, – сказала она, отсмеявшись.
Лучше бы и вовсе молчала.
– Я никому не скажу.
– Я знаю, что не скажешь, – спокойно ответила Тоня, пожав плечами.
Улыбка с ее лица, благо, ушла, но вот смешившее ее безэмоциональное выражение казалось еще хуже.
«Она же не укокошит меня прямо здесь? Убираться ведь придется», – подумалось мне.
Нужно было хоть как-то умаслить ситуацию, но, как назло, не нашлось подходящих слов.
– Я не должен был брать твои вещи без спроса. Но я все забуду! Вот, я уже забыл! Посмотри в мои честные глаза!
Она усмехнулась, взглянула на меня. Не по-доброму усмехнулась и, взяв пачку сигарет, прошла мимо, откинула штору и уселась на подоконник, прижалась спиной к стеклу. Окно она так и не открыла, и весь дым собирался в комнате, благо, там не было датчиков дыма.
– Тонь, пожалуйста…
– Что «пожалуйста»? Что тебе нужно?
«Что происходит? Я схожу с ума?» – вертелось в голове, пока я смотрел на развалившуюся на подоконнике Тоню – центр вселенского спокойствия.
И бывает же так – хочется, чтобы на тебя накричали, словно крик – своеобразная награда за оплошность.
– Тонь, скажи…
– Что тебе сказать? – перебила она.
– Почему ты так отвечаешь? – вздохнув, спросил я.
– А что же ты ожидал услышать?
«Человеческую реакцию? – подумал я, – И почему я недоволен ответами? Неужели было бы лучше, если бы она вцепилась мне в шею?»
И вновь согласился с собой. Ведь было бы куда проще, если бы Тоня накричала, обвинила в чем-то. Да хоть бы и исцарапала – все равно лучше холодной маски, которая не шла ни в какое сравнение с теми, что я видел прежде. Крики и обвинения были бы человеческими. А ее безмолвие отдавало липкостью кладбища.
– Эмоции, – собравшись, выдохнул я.
– А что видишь? – поинтересовалась она, рассматривая сигарету, зажатую между пальцев, словно это было произведение искусства.
– Ничего я не вижу, Тонь. И это страшно.
– Неужели. Я сейчас пугаю больше, чем записи в дневнике?
Я смог только кивнуть.
Тоня смотрела на тлевшую в пальцах сигарету. Аккуратно стучала кончиком пальца и ссыпала пепел в пепельницу. И, кажется, не думала ни о чем.
– И почему же? – протянула Тоня спустя несколько секунд напряженной тишины.
– Там ты была живее.
– А сейчас?
Она дотронулась ногтем до кончика сигареты, и кусочек пепла упал на пол. Я проследил за каждым ее движением.
– А сейчас ты как… как мертвец.
Она хрипло рассмеялась.
– Если бы все мертвецы умели смеяться, мир не замолкал бы ни на минуту.
– Что?
– Ты знаешь, сколько человек умерло за время существования цивилизации? Сколько трупов хранит наша земля? Сколько людских душ покоится под нашими ногами? Сколько историй мы топчем каждый день? Представляешь? – продолжала она, не сводя глаз с сигареты.
– Я даже знать не хочу.
– Жаль. Занимательный факт, пригодился бы в любой светской беседе. Апеллировать подобными знаниями для человека разностороннего очень полезно, – сказала Тоня и с тихим хрустом разломила сигарету пополам.
– И часто ты в своей компании говорила на такие темы?
Я надеялся, что упоминание этих людей хоть как-то приведет ее в чувство. Что Тоня рассвирепеет, накричит. Но она посмотрела на меня как на отвертку или камень на дороге, один из сотни, – совершенно без интереса. Все такая же ледяная статуя.
– Мы говорили на разные темы, – Тоня бросила сигарету в пепельницу и взяла в руки всю пачку. – Об искусстве, о жизни, о смерти, о чести, о бесчестии. О том, как лучше расставлять вещи в спальне и о том, как стоит вести себя на званом ужине…
Она все перечисляла, и в голосе ее было столько ледяной насмешки, что я не выдержал этого издевательства и взмолился:
– Да хватит! Я не могу больше!
Тоня отвлеклась от созерцания сигарет в пачке и посмотрела на меня.
– Скажи, зачем ты лез, куда не просят? Тебе хочется пожалеть меня? Или наоборот, хочешь почувствовать превосходство? Хочешь быть рыцарем, спасающим прекрасную даму? Или ты просто любопытный огрызок, который считает, что все на свете существует только для него? Эгоист ты, Дима, или безотказный мученик? Ты обрекаешь на страдания других или страдаешь сам?
– Я хотел тебе помочь, – прошептал я, хотя и хотел ответить громко и внятно.
Тоня закрыла глаза, на лице ее растеклась блаженная улыбка.
– Каким же образом? – протянула она.
– Не знаю. Я думал, что пойму тебя, но не понял.
– Ты хотел помочь мне или помочь себе? Мне кажется, что если бы твои помыслы были чисты, в тех строках увидел бы, что искал. А ты остался слеп, потому что и не пытался найти.
Я чувствовал себя на исповеди, но в этом храме правду вытягивали не ради спасения души, а ради того, чтобы сказать: вот, посмотри, какая грязная у тебя душонка, даже руки испачкала.
А ведь Тоня и правда отряхивала пальцы от невидимой пыли.
– Я просто прошу поговорить со мной как с нормальным человеком.
– Тебе не нравится мой тон, потому что я говорю спокойно, когда любой другой человек покрыл бы тебя матом и синяками? Когда другая бы вцепилась тебе в волосы и разодрала бы лицо до кровавого месива?
И ведь отрицать бесполезно.
– В таком случае могу лишь поздравить. Сегодня ты останешься жив.
С этими словами она встала с подоконника. Неспешно прошла мимо меня, взяла сумку с вещами и направилась в ванную комнату. Через минуту послышался шум воды.
Я отбросил дневник в сторону – он отлетел и плюхнулся на кровать, где раскрылся на последней странице. Той самой, где так подробно было написано про меня. И непонятно, почему Тоня написала это, зачем я ей, но не спросить.
Почему она не накричала, не обвинила? Неужели ей совершенно все равно, что все, что было написано в ее записях, теперь знали мы оба? И не помешает ли моя осведомленность задуманному?
Я с трудом поднялся с кресла, к котором успел прирасти. Быстро, насколько это возможно на несгибавшихся ногах, я собрал свои вещи, причесался и собирался уже улизнуть, даже не попытавшись найти свой паспорт, но путь мне преградила Тоня, уже собравшаяся и накрасившаяся. Ее лицо не оживилось. Она смотрела на меня сверху вниз, такая статная, ледяная и высокая, что я почувствовал себя муравьем рядом со слоном, но никак не человеком.
Я втянул воздух носом, боялся задохнуться. Словно не сделай я усилие, тело и не захотело бы утруждать себя дыханием. Тоня, увидев, с каким усилием я это сделал, кивнула в сторону кровати. Я ошеломленно уставился на нее, испуганно помотал головой из стороны в сторону, но она лишь закатила глаза и пихнула меня рукой в сторону.
– Собрался улизнуть, даже не забрав документы? – спросила она спокойно и отошла к тумбочке.
Я вздрогнул. Опять в ее голосе было что-то чужое. Словно не своим голосом говорила.
– Ты же не захочешь больше со мной ехать.
– С чего ты взял? – поинтересовалась она, протягивая мне паспорт. Так, словно ничего и не было.
– Я же прочитал твой дневник!
Тоня пожала плечами, будто бы и не понимала уже, о чем я пытался сказать. Она взяла записную книгу в руки, запихнула ее в сумку и вновь уставилась на меня безразличным взглядом.
– И что с того?
– Ты же запрещала его читать!
– Запрещала, – спокойно согласилась она, словно я ей зачитывал состав продукта с упаковки.
– А я прочитал!
Она склонила голову на бок, вопросительно подняла бровь.
– И что же ты там прочитал?
– Я, я прочитал все, про твою жизнь! Я знаю и про тех, как их там. Двоих тех! И про машину, и про, ну, то, что я читал…
Тоня хмыкнула, скривив губы в мерзкую улыбку. Отвернулась, достала из тумбочки свой кулон в форме черной птицы, который я увидел на ней в одну из первых наших встреч. Оказалось, что это ворон.
– Помнится мне, ты хотел совет? – спросила она спокойно, присаживаясь на краешек кровати передо мной. И пусть смотрела Тоня снизу вверх, я все равно чувствовал себя так, словно пытался рассмотреть человека, следившего за мной с небес.
– Какой совет?
– Кто-то говорил, что заблудшим душам нужна путеводная звезда, так ведь? – произнесла она. – Так вот, первый урок для взрослой жизни. Помнишь, как я пахла, когда мы встретились?
Я даже сначала не понял, что она от меня хотела. Но взглянув на аромакулон, сразу вспомнил.
– Ты… Ты пахла ягодами. Клубникой. Крыжовником, кажется.
– Наверное, твои любимые ягоды? – Она улыбнулась.
Я кивнул, и Тоня протянула кулон. Наши пальцы на мгновение соприкоснулись. Тонины были холодны как лед.
– А теперь попробуй еще раз.
Я поднес кулон к носу, ожидая вновь почувствовать аромат детства, ягодной корзинки, которую в дорогу всегда давала бабушка, компота, варенья, теплых пирогов. Но стоило мне сделать вдох, холод пробежал по моему телу.
– Я никогда не пахла ни клубникой, ни крыжовником. Все это – лишь твоя фантазия и самоубеждение.
И правда, я, перепуганный до смерти, понял, что от кулона исходил аромат черной смородины, которую я терпеть не мог.
– Я не понимаю…
Тоня хмыкнула, поднялась с кровати и подошла ко мне. Встала так близко, что я почувствовал горячее легкое дыхание. И все больше убеждался, что от Тони, ее волос, лица, одежды пахло черной смородиной. Это было настоящим безумием. В голове складывалась картинка, обраставшая ароматами. И это был запах смородины, но никак не моего любимого крыжовника или даже клубники.
«Я схожу с ума», – подумалось мне. И никаких опровержений не пришло на ум.
– Ты любишь крыжовник и только потому почувствовал его запах. Ты хотел, чтобы это был он. Ты мечтал увидеть меня девушкой, которая бы тебе нравилась, и ты вылепил меня такой, – тихо начала она. Ледяная маска, скрывавшая истинный свет ее лица, испарилась, уступив место другой.
– Я не понимаю, – выдохнул я, а Тоня тепло улыбнулась.
– Мы видим то, что хотим видеть, то, что ты прочитал, глаза поняли так, как хотел именно ты. Как аромат, мысли рассеиваются по нашему организму, отравляют каждую клеточку нашего тела и заставляют верить в то, в чем мы, может, и не хотим признаваться. Обман – это правда для того, кто хочет в него верить. Нет правды, нет лжи. Все субъективно. Любой человек – актер, сценарист и режиссер. Все, что он говорит и делает, может быть ложью. Истинны только чувства и на них мы играем. Подчиняя чувства, мы подчиняем человека.
Тоня улыбнулась. Как-то так улыбнулась, что я на мгновение почувствовал себя самым счастливым парнем на свете. И в ее чужом взгляде не было ненависти или обиды. Все шло так, как она и хотела.
– У каждого своя правда, Дим, как у этого аромата. Крыжовник никогда не станет смородиной, но если уверить себя в том, что смородина и крыжовник – это одно и то же, ты всегда будешь видеть в одном другое, и тебя никто никогда не переубедит. Так и здесь. То, что увидел ты, для тебя всегда будет правдой. Ты будешь в нее искренне верить, и что бы я ни говорила, переубедить тебя не получится. Быть верным себе – истина, какой бы она ни была, а верить другим – ложь.
Она отпустила меня, все еще улыбаясь. Мир вокруг стал светлее, словно сотни солнц окружили нашу комнату. Тоня отошла к своим вещам, что-то начала упаковывать, а я решил подышать воздухом напоследок. Посмотрел в окно, и перед ним была пустота. Не было даже следов от шин машины, что была там ночью.
Может, я уверил себя, что видел ее? Может, и не было никакой машины на пустынной стоянке этой роковой ночью? Но что же тогда правда, если я мог выдумать все, что было перед моими глазами? Кто тот сценарист, что написал сценарий нашего спектакля, но так и не показал его актерам? Во что я ввязался?
Мы вышли на улицу, сели в машину. Тоня на водительское сиденье, я – на заднее. Ничего не сказала, даже не взглянула на меня. Мы продолжили путь так, словно ничего не случилось.
Лес показался странным, словно за ночь поредел, стал намного светлее и больше. Сосны, прежде упиравшиеся в небеса, всего лишь закрывали горизонт. Солнечный свет слепил глаза. Машины ехали стройными рядами, Тоня не обгоняла никого и ехала относительно спокойно. Меня это спокойствие пугало, но в глубине души я надеялся, что это странное время растянется.
Я не звонил ни маме, ни Костику, забросавшим меня сообщениями, в которых очень переживали о моем молчании. Во рту пересохло, слова все перепутались, и казалось, будто вовсе разучился говорить. Я сверлил взглядом Тонин затылок, светлый и объятый ореолом испачканной святости, и уже знал, что никогда не смогу ее забыть. Страх скорого расставания наконец добрался до меня и я молил только об одном: получить шанс еще раз увидеть Тоню, хотя бы раз после того, как мы попрощаемся. И почему-то мне казалось, что этому желанию сбыться не удастся.
Удача покинула меня в ночь, когда пришлось перейти черту. Время, тянувшееся изнеженным вседозволенностью лавовым потоком, вдруг завыло потоком горной реки и полетело так быстро, что три сотни километров, которые нужно преодолеть, проносились как десять. Тоня молчала, молчало радио, и в машине будто бы и не было никого, кроме водителя. Мы ни разу не остановились, но живот, в котором вот уже много часов не было ни крошки, не подавал признаков жизни. Ничего не хотелось. Казалось, что все в машине покрылось пленкой мертвого духа.
Я думал о том, что будет, когда мы расстанемся. Как навсегда проститься с ней? Я мечтал раскусить Тоню с каждой секундой все больше, но, чем ближе мы становились, – тем больше отдалялись.
С горечью я понимал, что Тоне был совершенно не нужен. Разве что… А, впрочем, неважно.
Леса кончились и уступили место равнинам, которые тянулись бесконечным ковром до горизонта и пугали меня. Я вжался в сидение и пытался не стонать от усталости и отчаяния. Мне так хотелось прикоснуться к ней хоть раз, чтобы убедиться, что не сплю, но каждый раз было страшно. Вдруг дотронусь, и все рассыплется в пыль?
Когда мы въехали в Москву, Тоня спросила адрес моего дяди. Голос ее был тих и ровен, но что-то в нем мне не понравилось. Что именно – тяжело сказать.
Я мысленно проклинал столицу за то, что именно в день нашего приезда мы не встретили ни единой пробки, за серость, унылость, за сотни людей на улицах, за запах бензина. Та Москва, которая повстречалась мне тем летним днем не обещала стать новым домом. Казалось, она была еще более безразлична ко мне, чем спутница. Тоня молча везла меня по адресу. Разномастные дома мелькали перед глазами, время утекало сквозь пальцы, не оставляя на них ни единой песчинки.
Мысли клубились в голове. Я чувствовал, что теряюсь навсегда и путеводная звезда покидает именно в тот момент, когда так нужна. Стойкое чувство проклятия дамокловым мечом нависло надо мной и упиралось острием прямо в макушку. Словно что-то губительное надвигалось с каждой минутой, приближавшей наше с Тоней расставание.
«Тебе просто чудится. Без Тони будет спокойнее, – уверял я себя, но тут же поправлял: – Спокойнее-то будет, а лучше? Лучше-то будет без нее?»
Но я не мог ответить.
Мы остановились у подъезда пятиэтажного дома, где жил дядя. И вдруг липкая тишина, висевшая в воздухе, дала трещину. Я почувствовал, что должен что-то сказать. Взвешивал фразы, гадал, прикидывал, но, как это обычно и бывает, ни одна здравая реплика так и не пришла на ум.
– Спасибо, Тонь, за все спасибо, – сказал я.
Тоня сжимала двумя руками руль и не обернулась. Посмотрела на меня через зеркало заднего вида, и в глазах ее я увидел только выражение безразличия.
– У меня будет к тебе просьба, – сказала она бесцветно. Мою благодарность Тоня пропустила мимо ушей.
– Да, конечно. Любая, – тихо ответил я.
– Не ищи меня и никогда не вспоминай. Представь, что меня не было в твоей жизни. Никому обо мне не рассказывай и сам представь, что все увиденное было лишь сном. И продолжай жить, как прежде, – произнесла она тихо, но в голосе ее не было ни грамма сожаления.
«Это невозможно. Я никогда тебя не смогу забыть», – пронеслось в голове, но я ответил:
– Конечно, не беспокойся.
– Ты не понял, Дим, – прошелестела Тоня и повернулась ко мне, протягивая документы. Глаза ее смотрели внимательно, но без интереса. – Я хочу, чтобы ты забыл все. Никогда меня не вспоминай. Сделай над собой усилие и забудь.
«Не смогу, ты же и сама прекрасно это понимаешь», – горько изрек я про себя, но вслух произнес:
– Постараюсь. Мне просто нужно немного времени, и о тебе ни одной мысли не останется.
Тонин взгляд в миг покрылся злобной пленкой. Кровь моя словно застыла. Неужели, она умеет читать мысли?
«Интересно, а она тоже обдумывала эту просьбу? Так ли волновалась, как я, или сказала легко, без сожаления», – подумал я.
А Тоня, немного помолчав, вдруг добавила:
– Не ищи меня. Никогда не ищи. Если вдруг увидишь – пройди мимо. Так будет лучше. Мы никогда не встретимся. Наша встреча была ошибкой. Живи, следуй своей мечте. И никогда не оборачивайся.
Я смотрел на нее, внимая каждому слову, но ничего не понимая. Мне было страшно, но чувства самосохранения словно и не осталось.
– А можно я задам тебе последний вопрос?
Она, чуть подумав, кивнула. Без особого энтузиазма.
– Про какое представление ты писала? Зачем я тебе нужен был? – спросил я. И никак не мог ожидать того, что случится после моего вопроса.
Тоня, кажется, позеленела. Ее словно поработил кто-то другой. В лице не осталось ни капли Тони. Это был кто-то другой, кого я еще не знал. Она по-звериному хмыкнула, облизнула губы, и, сверкнув белоснежными зубами, ответила:
– Лучше тебе не знать, Дима Жданов. Считай, что я ошиблась. Молись об этом, молись, чтобы я никогда тебе не встретилась. Считай, что это наставление – мой прощальный подарок. Пользуйся им с умом.
И клянусь, в тот миг я был безумно счастлив, что пришел момент расставания.
Я вылетел из машины, а Тоня все еще смотрела на меня звериными глазами и улыбалась. Точно так же, как и утром. Я судорожно проверил свои вещи, закрыл багажник и уже хотел было идти к дяде, но понял, что не проститься с моей попутчицей было бы невежливо.
К моему удивлению, когда я постучал в окно, Тоня уже отвернулась и смотрела вперед, положив руки на руль. Изнуренная и поникшая.
– Тонь, – начал я, и девушка опустила стекло, но так и не посмотрела на меня. – Спасибо тебе за все. И прости за то, что было не так.
Тоня медленно повернулась ко мне, и на лице ее остались только грусть и усталость. Ни намека на ярость, что окрашивала глаза-болота всего несколько минут назад.
– Удачи, Дим. Будь счастлив, – прошептала она в ответ.
– Скажи, а ты хоть когда-то говорила правду за это время? Или всегда мне врала?
Я не спрашивал, чтобы раскрыть очередное надуманное детективное расследование. Просто за день так устал, так измучился, что хоть в чем-то хотел быть уверенным.
Тоня долго на меня смотрела, не говоря ни слова.
– Для меня в нашем знакомстве было намного больше лжи, но она может стать истиной для тебя, – прошептала она загадочно и выдохнула. – Прощай, Дима Жданов. Будь счастлив.
Стекло поднялось прямо перед моим носом, забрав с собой аромат крыжовника и клубники, никогда не существовавший. Глаза, цвета затянувшего в себя болота, для меня закрылись.
Но я прошептал: «До встречи, кем бы ты ни была».
Черный автомобиль Тони медленно сливался с серостью московской улицы, а я чувствовал, как занавес медленно опускался.
Третья запись
Читатель, боюсь представить, каков объем твоей злости, обращенной к нерадивому Диме Жданову. Писать об этом так же тяжело, как и читать. Но прошлое остается в прошлом. Любой камень – всего лишь часть фундамента.
Может показаться, что я преувели
