Читать онлайн Чтобы ахнули бесплатно
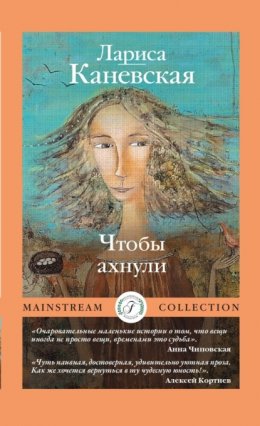
© Лариса Каневская, текст, 2023
© Анна Милькис, иллюстрация на обложке, 2023
© Наталья Обухова, иллюстрации в блоке, 2023
© Александр Кудрявцев, дизайн обложки, 2020
© «Флобериум», 2023
© RUGRAM, 2023
* * *
ЧТОБЫ АХНУЛИ
История в покупках
– Расскажите про покупки,
– Про какие… про покупки?
– Про покупки, про покупки,
про покупочки мои…
«Всегда радостно и волнующе читать искренние тексты, в которых светится желание поделиться, поведать, осознать, высказаться… Сталкиваясь с открытостью и честностью, невозможно не подчиниться этой энергии и не пожелать с ней взаимодействовать снова и снова. Откровения детских и юношеских воспоминаний узнаваемы, каждый найдет в них свои отзвуки, свои аналогии и созвучия. Я благодарна автору за возможность встретиться с прозрачными и деликатными эмоциями, с образами и аллюзиями, которые они рождают. Хочется пожелать всем нам, читателям, больше искренних и честных чувств, выраженных в словесных эквивалентах».
Алла Сигалова
1950-е годы
Брошка за гуся
– Баба Катя, ну, баб Катяяя, пожа-а-алустааа, хочу твой сказ про брошечку!
Семилетняя Тата перед сном выклянчивала у бабушки любимую историю. Бабы-Катины воспоминания нравились Тате гораздо больше сказок, придуманных какими-то незнакомыми писателями. Вот бабушка, она живая и добрая, чего с ней только не приключалось, и все по правде. В бабы-Катиной берестяной шкатулке хранилось много удивительных вещиц, а больше всего Тата любила круглую металлическую брошку с яркими разноцветными стекляшками. Девочка старалась подольше задержать в руках это сокровище, обожала разглядывать и гладить прозрачные камушки, только бабушка всегда быстро запирала шкатулку: «Посмотрела, и хватит, вещи старые… рассыплются, если каждый потрогает…» Но на этот раз бабушка приколола брошку к кармашку передника, а сама присела рядом и стала задумчиво накручивать на палец концы белого платочка. Баба Катя всегда и везде ходила в платках – так с детства привыкла, хотя давно жила с семьей сына в городе.
– Таточка, в последний раз расскажу, и не мучай меня больше, стыдно про то мне поминать, вот уж наказание. – Баба Катя наклонилась, поцеловала внучку, подоткнула одеяло под маленькие ножки. – А может, все же сказку расскажу?
– Не хочу сказку, хочу быль. Почему, ба, тебе стыдно про то вспоминать… ты такой смелой девочкой была, я вот не такая…
– И, слава богу, внученька. Вот, храню я эту брошку всю жизнь в назидание…
– В на-зи-да-ни-е? Назидание… какое-то задание?
– Ну да, урок, чтоб неповадно было такие вещи делать…
– Какие вещи? Я забыла, бабулечка Катюлечка… ты, что ли, сама эту брошечку сделала?
Бабушка с трудом поднялась со стула и, переставляя отекшие ноги, сделала три шаркающих шага, прикрывая дверь в коридор.
– Татушка-хитрюшка, разве не помнишь, я же много раз сказывала, что купила брошку в сельпо? Ох, ладно, слушай. – Баба Катя тяжело присела на краешек стула. – Жили мы когда-то с родителями в маленькой деревне под Рязанью, что возле большого села Малинищи…
– Красивое название. Малины много было, да, баб Кать?
Тата с готовностью повернулась на бочок и положила бабушкину ладонь себе под щечку. Она любила разглядывать и гладить желтоватую морщинистую руку. Синими ручейками разбегались вздутые венки по узловатым бабушкиным рукам. По длинным синим прожилкам водила Тата своим маленьким пальчиком, пока слушала очередную историю. Сегодня брошка оказалась в такой доступной близости, что девочка боялась пошевелиться. Одной рукой она держала бабушкину ладонь, а другой потихоньку оглаживала предмет рассказа. Брошка сверкала на переднике, покоящемся на бабушкиных коленях.
– Да, мой золотой, видимо-невидимо там малины росло, а в самом центре Малинищ было сельпо – большой сельский магазин, где покупали все что надо, от соли и спичек до сапог. И побрякушки там продавались. Любили мы с моей закадычной подружкой Галькой разглядывать кольца, разноцветные бусы да брошки: нам, детям войны, те незатейливые безделушки царскими сокровищами казались, так что мы с Галькой часто мотались на велосипедах в Малинищи любоваться на красоту, которую изредка на прилавок выбрасывали…
– Зачем выбрасывали, бабулечка?
– Не в том смысле, что на помойку, а выкладывали на прилавок товары, которые тут же народом сметались…
– Сметались веником или тряпкой?
– Господи, каким еще веником! Сметались, то есть раскупались очень быстро, дефицит же был, понимаешь?
– Неа. Что такое дефицит?
– Ну, где тебе понять, Таточка, в твои семь годков, когда на дворе двадцать первый век, магазины завалены, покупай все, что душеньке угодно. А на моем веку людям, к примеру, не хватало предметов первой необходимости: вот нужны удобные резиновые сапоги, а их нет. Все ждали, когда их завезут да выбросят на прилавок, ведь без сапог никуда…
– Выбросят, то есть положат на прилавок, чтобы купили? – деловито уточнила Тата.
– Умница. Вот, значит, выложат сапоги, и летит слух по окрестностям, все мигом прибегают да раскупают, а кто не успел, тот опоздал. Снова ждет.
– А брошка твоя, баб Кать, дефицитом была?
– Да не особо. После войны люди никак не могли наесться да одеться нормально, откуда ж лишних денег взять на побрякушки? А нам, девчонкам, знамо дело, хотелось себя украсить, не все же венки из ромашек да васильков плести да гнуть из проволоки кольца и браслеты, тут вон фабричная работа, глаз не отвести, даже тебе, городской, балованной, нравится…
– Да, бабулечка Катюлечка, мне брошка твоя очень-очень нравится: она так красиво сверкает… – Тата во все глаза смотрела на брошку.
Баба Катя, кашлянув, отцепила брошку от передника и переложила на одеяло поближе к внучке:
– Столько лет прошло, а сверкает. Вишь, какую качественную бижутерию мастерили…
– А что такое бижутерия?
– Ну, когда вместо драгоценностей стекляшки, а вместо золота и серебра простой металл.
За дверью послышались шаги.
– Екатерина Тимофеевна, вы в курсе, сколько сейчас времени?! – Дверь приоткрылась, раздосадованное лицо невестки просунулось в комнату. – Девочке завтра рано вставать. Это вы можете весь день в кресле продремать, у нас ни у кого такой возможности нет.
– Иринушка, не сердись, мы с Таточкой чуть поворкуем, и все…
– Маааамааа, пожа-а-алуйстаааа, я завтра быстро встану и в школу не опоздаю, не мешай нам сейчас с бабой Катей.
– Я всегда почему-то вам с бабой Катей мешаю. – Мама поджала губы и, чуть помедлив, распахнула дверь, вошла. Шелковая красная пижама, ярко-синие домашние туфли на широких каблуках, коротко стриженная челка торчала, как перья у нахохлившейся птицы, и блестела как лакированная. – Даю вам десять минут, ни минутой больше, иначе прекращу эти ваши вечные посиделки…
– Посмотри, мамочка, у меня ж не посиделки, а полежалки. – Девочка засмеялась, но мама шутку не оценила.
– А я, Иринушка, не так уж и далеко от вечности, – вздохнула Екатерина Тимофеевна.
– Хватит ныть, сколько можно, удивляюсь вам, мама! Время пошло… – Ирина строго посмотрела на часы, потом на дочь, пристукнула каблучками и вышла, не закрыв за собой дверь.
Екатерина Тимофеевна положила руку на грудь, стащила с головы платок. Реденькие седые волосы были сплетены в тоненькую косичку, закрученную смешным бубликом вокруг головы. Бабушка крайне редко снимала платок:
– Первая невестка-то подобрей была, зато эта дочку сыночку родила.
– Бабуль, ты что-то там шепчешь про сыночка, про невесту… кто невеста?
– Будешь перебивать, Татуся, до утра не доскажу, и мамка твоя нас совсем заругает. Спасибо говорю Иринушке за то, что ты у нас есть, только через десять минут я пойду, а ты засни, иначе нам не поздоровится. – Бабушка достала из кармана передничка маленькую коробочку, вынула большую таблетку, разжевала ее, не запивая водой. – Так, слушай, в сельпо мы с Галькой мотались на велосипедах: пять километров дороги… если пешком да бегом, так больше часа выйдет в одну сторону. Нас бы за такую прогулку точно выпороли, ведь нельзя ж надолго хозяйство оставлять…
– Как выпороли? Почему?! Вы же девочки, какое еще у вас хозяйство?! – Тата возмущенно приподнялась на локте, чуть не уронив брошку на пол, ярко-карие глазки загорелись праведным огнем…
– Лежи, лежи, егоза. Ну… как, пороли ремнем дедовым или отцовским, штоб дурью не маялись. В деревне работы всегда невпроворот: скотину накорми, попаси, подои, грядки прополи, полей… С рассвета до заката трудились стар да мал. Время голодное, ведь всего десять лет с войны прошло. Нам с Галькой по тринадцать лет – самый что ни на есть рабочий возраст. Мы всё умели и даже не представляли, что бывает по-другому. Эх, Галька моя не дотянула до нового века. Вот ты живешь в большом городе, никаких обязанностей, в школу разве что ходишь, уроки, конечно, делаешь, а небось думаешь, булки на деревьях растут…
– Бабуля, ты смеешься? Это в сказках только. Ты давай-давай не отвлекайся, рассказывай, а я глаза прикрою и буду себе представлять, будто кино смотрю…
Баба Катя покосилась на будильник, громко оттикивающий убегающие минуты, боязливо оглянулась на дверь. Тата подумала, что за последний год бабушка стала такой маленькой и худенькой, почти как сама Тата, но бабушка же не первоклассница…
– В общем, отправили нас как-то коз пасти, дело нехитрое: привязал веревкой к колышку посреди лужайки, вот они и ходят, каждая вокруг своего колышка, объедают траву да веточки, до чего дотянутся, то и съедят. Гонишь их на другую полянку, там привяжешь, они и там все объедят – скотинка прожорливая. Коз у нас на выпасе было три, Галиных – две и моя – одна, мы легко справлялись, еще время оставалось на купание и венки. В то утро спустились мы к реке да увидели на противоположном берегу двух заблудившихся гусей. Гальке возьми да приди шалая мысль. «А давай, – говорит, – Катька, их поймаем, ощиплем да продадим на сельском рынке, сегодня ж как раз суббота – базарный день…» А я ей: «Дык, прежде чем ощипать, их еще убить надо, а они вон какие здоровые, щиплются небось…» Галька прыснула: «Брось, Катька, чё мы вдвоем не одолеем какую-то птицу? Мы с тобой коз с коровами вона гоняем, а тут гуси домашние, не дикие – те близко не подпустят…» Я ей: «Чужие гуси тоже могут не подпустить…» А она сразу: «Струсила? А кто мечтал брошку купить, чтоб на танцы прийти и чтоб все ахнули? А на какие шиши?» Права была Галя. Мечтала я, как однажды в воскресенье явимся мы, такие нарядные, в клуб на танцы, и все пацаны рты поразинут. Ну и переплыли мы речку, она узенькая была, мелкая, можно пешком перейти вброд. Вылезли. Гуси на нас не реагируют. «Давай, я камень кину, вон сколько тут валяется. Потом ощиплем, на костре опалим и свезем на велосипедах в село…» Никогда я не видела Гальку такой решительной, но меня мучили два вопроса. Как мы сумеем без помощи взрослых превратить живых гусей в товар? Коров, коз и свиней родители отводили к мяснику Митяю, но птицу папа бил сам, что поделать, дело житейское, ее ж для этого и растили, чтоб есть…
Тата уже лежала с закрытыми глазами, но тут вскинулась:
– Как это ужасно, баб Катя…
– Ага, только, к примеру, ты ешь курочку, а ее для этого на фабрике выращивают и…
– Бабуля, не надо про курочку! А те гуси… они что, ничейные были?
– Вот сейчас ты правильно спросила, это мне до сих пор покоя не дает. Конечно, гуси чьи-то были, только мы этого никогда не узнали: сошло нам с рук мокрое дело, что очень плохо, я, может, всю жизнь свою через это расплачиваюсь, дед-то вон как рано умер…
– При чем тут дед и гуси?
– Притом, Таточка, что никто не знает, как наши поступки скажутся на судьбе. Все возвращается, плохое и хорошее. Вот сделаешь доброе дело, оно к тебе непременно вернется, а гадость сделаешь или пожелаешь кому-то недоброе, жди неприятностей.
Тата снова закрыла глаза. Екатерина Тимофеевна замолчала, любуясь персиковыми щечками, светлыми завитушками у висков, тихонько привстала, собираясь накинуть на голову платок, но девочка схватила за подол халата:
– Баба Каааать, кудаааа?! Еще не досказала…
– Я думала, заснула…
– Как заснула?! Я вот думаю о чем: ты говоришь, доброе и злое возвращается? А как же Ирка из детского сада? Она моей кукле Барби ногу оторвала и закопала в саду, а мне сказала, что это Петя. Я с Петей подралась и рассорилась, а Ирке хоть бы что. Мы, правда, потом с Петей помирились, а Ирка как ни в чем не бывало живет себе, и ничего ей за это плохого не сделалось…
– Но… ты ж не дружишь с Иркой теперь?
– Конечно нет! И потом, я уже первый класс заканчиваю, у меня в школе новые друзья. Это я просто так про садик вспомнила. Рассказывай дальше.
– Ну и вот, не успела я у Гальки спросить, как же мы зажжем костер, ведь спичек-то нет, как потрошить гусей станем, если ножа при себе не водится, мы ж не мальчишки с ножами-то за голенищем ходить… Тут Галя, схватив огромный камень, метнула его в гуся и попала прямо в голову, второй зашипел злобно и убежал. Подружка была так похожа в этот момент на пролетария, что был нарисован в школьном учебнике по истории, что я ахнула.
– Прямо в голову? А кто такой пролетарий?
– Ааа… была революция, рабочие – пролетарии вытаскивали булыжники из мостовой и кидали в буржуев, куда попало. Если ты меня постоянно терзать будешь, я вовек не закончу…
– Все-все, бабулечка, не буду больше…
– В общем, пришлось мне бежать домой за ведром, ножом да спичками. Мы разожгли костер, вскипятили воду, окунули туда гуся и ощипали. Самое трудное и неприятное оказалось – потрошить тушку. Мне такое дело никогда не поручали, а Галька уже опытная была: ее бабка заставляла все это проделывать. Гусиную тушку мы припрятали в овраге, завалив ветками, отвели домой коз, взяли велосипеды, спроворили все в момент…
– Спроворили?
– Ну да, быстро.
– Ветками прикрыли, чтобы никто не заметил? А если б волк почуял?
– О волках мы и не думали, боялись, чтобы взрослые ничего не проведали. Мигом домчали до Малинищ и продали гуся сразу первой же тетке, что у входа на рынок торговала птицей. В черном платке, вся такая страшная, в бородавках, она подозрительно покосилась на тушку, откуда, мол, гусь, а мы ей: соседняя бабка приболела, попросила продать, чтобы лекарства купить. Галька еще хотела поторговаться, чтоб больше денег выручить, но у меня зубы стучали от страха, что увидят нас какие-нибудь знакомые из деревни и родителям скажут. Схватила я деньги, не пересчитывая, крикнула: «Галька, покатили в аптеку за лекарствами!» Галя недовольно: «Ладно, только соседка просила еще в магазин заскочить за хлебом…» Мы – на велосипеды да дернули подальше от базара. Денег в аккурат хватило на брошку для меня да на бусы для Гальки и на кулек «разноцветных камешков» – наших любимых.
– Каких еще камешков?
– Тогда были такие конфеты – драже – в виде маленьких камешков, сверху – цветная глазурь, внутри – изюм. Очень вкусные.
Тата сглотнула, хотела что-то добавить по поводу конфет, но не решилась.
– Ну, вернулись вы, и никто ничего не заметил? А как же брошка, баб Кать? Носила ты ее?
– Один раз надела, вот прям на следующий день. Отправились мы на танцы в клуб, а мальчишки-то и не глянули ни на мою брошь, ни на Галькины бусы. Я свою брошку схоронила в носовом платке и Гальке посоветовала припрятать бусы…
– Почему?
– Да потому… если б шум поднялся из-за пропавшего гуся, а потом бы узнали, что какие-то девчонки на базаре ощипанную тушку продали, то родители за наши купленные сокровища влупили бы по первое число… – Баба Катя печально поглядела в темное окно. – Знаешь, милая, лучше б нам тогда влупили. Я всю жизнь маюсь, прощения прошу у безвестных хозяев гусей, да и у безвинной птицы тоже. Совесть – самый страшный судья: она все про нас знает, и спасу от нее никакого нет…
– А почему ж ты тогда не выбросила эту брошку, чтоб не думать о ней? – Тата заморгала, стараясь не заплакать, ей было жаль маленькую грустную бабушку.
– Наверное, чтоб тебе рассказать, Таточка. Не радуют самые дорогие вещи, если достаются нечестным путем. Время-то вышло, милая, давай спать…
Тата ласково погладила морщинистую руку:
– Я так тебя люблю, бабулечка, не расстраивайся, ты у меня самая лучшая на свете…
Повернулась на бочок, зевнула, подложила кулачок под щеку и засопела. Екатерина Тимофеевна погладила по светлой пушистой головенке, посмотрела на брошку и прицепила ее к старинному гобелену с оленями, висящему над кроваткой.
– Спокойной ночи, родненькая… будешь жить в ладу с совестью, тогда счастливую жизнь проживешь, вот тебе мой наказ и мое благословение.
Екатерина Тимофеевна с трудом встала, поковыляла к выходу, перекрестила издалека внучку и тихонько прикрыла за собой дверь.
Гири Хаютиной
В нашей семье самой популярной из бабушкиных присказок была такая: «Ты прямо как Белла Хаютина с гирями…».
Эти слова адресовались любому из нас в качестве комментария бестолковому действию, которое мы совершали или только собирались совершить.
Надо пояснить, что наша бабушка Юля окончила МИНХ (Московский институт народного хозяйства), где преподавали такой интересный предмет, как логистика. Бабушка рассказывала, что как-то на одном из занятий студентам велели выстроить оптимальный маршрут покупок. Каждому дали листок с перечнем товаров, которые нужно закупить за один поход по магазинам, и к этому списку приложили карту Москвы с адресами магазинов.
В группе училась одна оригинальная девушка, специфическая, по словам бабушки, фигура. Звали ее Белла Хаютина. Белла, в отличие от большинства студентов того послевоенного времени, была довольно упитанной, носила очки с толстенными стеклами в коричневой роговой оправе и короткую стрижку. Одевалась всегда в одну и ту же вязаную черную кофту и грубые серые башмаки на стоптанной подошве. Ходила, немного косолапя, переваливаясь, как уточка. Имела неприступный вид и вздорный, упрямый характер. На всех лекциях украдкой под столом читала потрепанные книги.
После того как студенты сдали преподавателю выстроенные маршруты, Белла навеки осталась легендой в истории института, передаваемой из уст в уста. Дело в том, что в перечне товаров, которые надо было приобрести, значились две пудовые гири. Спортивный магазин, где продавались гири, располагался прямо по соседству с институтом, поэтому Белла первым делом отправилась туда, обозначив спорттовары первым пунктом своего похода. Оттуда, уже с приобретенной гирей, она таскалась по маршруту за прочими товарами из списка, аккуратно проставляя галочки в графе «куплено».
Посмотреть на колоритную Беллу приходили студенты других факультетов. Хаютина в институте стала знаменитостью, притчей во языцех, предметом всеобщих насмешек – иначе как «наша Хаютина с гирями» ее и не называли.
– Бабушка, а почему ее прозвали «с гирями», если она купила только одну?
– Потому что в списке значились две гири, но Белла принципиально вступилась за права женщин. Она заявила нашему преподавателю: «Советская женщина – не ишак какой-нибудь, пудовая гиря весит шестнадцать кило, значит, две гири – тридцать два килограмма, и таскать такие тяжести девушкам, собирающимся в будущем стать женами и матерями, нефизиологично. Мы – не Иваны Поддубные, чтобы так надрываться, хватит с вас и одной гири…», – отрезала Белла, решительно вычеркнув из задания вторую гирю.
О дальнейшей судьбе однокурсницы бабушка не рассказывала, как мы ни просили.
– Ничего хорошего, как вы понимаете, на ее пути ни с гирями, ни без гирь не было. Ума Бог не дал, считай, калека, – поджимала тонкие губы бабушка, ехидно поглядывая на нас с братом.
Мы ежились под ее насмешливым взглядом и тщательно продумывали свои слова и поступки, прежде чем ляпнуть и проштрафиться, став мишенью острого бабушкиного языка.
В моей голове строптивая Белла Хаютина присутствовала всегда. Все детство я боялась повторить ее путь и не знала худшей страшилки, чем незавидная, по непререкаемому мнению бабушки, судьба несчастной Беллы.
А вот брат много позже мне потихоньку признался:
– Знаешь, я часто думал о Белле Хаютиной, какой она была принципиальной и смелой девушкой. Я бы с ней в разведку пошел, наверное. И вообще мог бы в нее влюбиться, во всяком случае, подружился бы точно…
– Несмотря на толстые очки в коричневой оправе?
– С лица воду не пить. Эту бабушкину поговорку я тоже на всю жизнь запомнил. Белла была личностью, а красивые девочки, что мне попадались, пустые куклы.
1960-е годы
Целый лимон
Лена ждала первенца. Беременность протекала беспокойно и утомительно – тошнота, головная боль и прочие «радости». Молодая семья жила предельно скромно. Денег хватало лишь на самое необходимое. Из питания – кашки и овощные супчики, мясо – раз в неделю, а Лене в ее интересном положении хотелось то соленого, то кислого. Валентин старался угодить любимой, но, если соленые огурцы и квашеную капусту достать в те годы не проблема, то лимон – из области фантастики. Однажды Лене приснился лимон – огромный, глянцевый, ярко-желтый. Так бы и съела прям с кожурой. Цитрусовые в майской Москве начале шестидесятых – экзотика и страшный дефицит.
Валя по вечерам подрабатывал чертежником, а вечерами на всех парах несся домой к любимой, чтобы провести уютный вечерок за чаем с сушками и маминым вареньем. Только Лену вновь стало тошнить от сладкого и мучного, и опять приснился красивый большой лимон. «И такой, знаешь, кислый-прекислый…», – с трудом сглатывая, объясняла она утром мужу. Беременной необходим этот чудесный источник витамина С, но Вале с Леной – преданным потребителям картошки, морковки, свеклы и капусты – экзотика не по карману. Задачка посложней математического уравнения: достать лимон при всех неизвестных составляющих.
Каждый вечер после работы Валентин методично прочесывал район за районом. В овощных магазинах разводили руками. Лена ждала, волнуясь.
– Валечка, ангельчик мой, не приходи ты так поздно, боюсь я вечерами одна, вдруг что-то случится.
– Ленчик, маленький, не волнуйся, что может случиться, я мысленно всегда с тобой. Каждую минуту думаю о тебе, о нас, о нашем малыше.
Через неделю старый Валин приятель Генка справлял день рождения. Гена, человек не бедный, собрал ребят, бывших одноклассников, в ресторане «Узбекистан». Ресторан открылся недавно, и новый директор стремился поразить гостей роскошным дворцовым убранством и великолепием восточной кухни.
В ресторане Генка объявил, что через неделю женится, поэтому решил совместить именины и мальчишник. Генка предпочитал совмещать шик с экономией и радовался, когда ему это удавалось. Мужская компания уелась и упилась. Валя в жизни не пробовал таких яств, но расслабиться и получить истинное удовольствие не получилось – все время беспокоился: как там Ленчик? Телефона в квартире не было, предупредить жену он не мог, так что сильно задерживаться в Валины планы не входило.
– Генк, извини, пойду, меня Ленка ждет…
– Валюх, ты чего, сейчас будет самое главное: торт, чай с лимоном и коньяком и… обнаженная девушка! Тебе, старик, по секрету скажу: девушка будет внутри торта.
– Как это? Запеченная, что ли?
– Остряк-самоучка. Там в середине пустое пространство, ровно для танцовщицы. Мне обещали откровенный танец живота. Ты ж потом локти себе будешь кусать: нигде больше такого не увидишь…
– Ген, я, может, много чего в жизни не увижу, но зато скоро увижу своего сынищу. И, старик, поверь – для меня сейчас это самое важное. Не хочу расстраивать Ленку из-за какой-то девушки в торте…
– Не из-за какой-то, а из-за восточной красавицы. Разнюнился, что там может случиться с твоей Ленкой, посидит еще часок без тебя. Она же не знает, что тут обнаженные девушки, а… меньше знаешь, крепче спишь, учись, пока есть у кого…
– Да пошел ты, тоже мне нашелся учитель…
– Сам пошел, скатертью дорога, подкаблучник хренов!
Валька схватил со стула пиджак, выскочил из ресторана, помчался по Неглинной в сторону Большого театра, вбежал на станцию «Площадь Свердлова», успев впрыгнуть в закрывающиеся двери последнего поезда, отправляющегося на Речной вокзал. По дороге, перебирая в памяти эпизоды сегодняшнего вечера, Валька решил, что Генку, как приятеля, он потерял, ну и ладно, им давно не по пути. Генка сразу после школы устроился работать к дяде в гараж. Гараж был не простым – министерским. Вскоре хваткий паренек перешел в личное подчинение замминистра – стал персональным водителем. Приличная зарплата, министерские пайки, командировки. При встречах с одноклассниками Генка не забывал подтрунивать:
– Эх вы, гнилая интеллигенция, засели по своим институтам-университетам, жизни не знаете, достать ничего не можете, а я все могу, только попросите.
Кто-то просил, но Валя – никогда. Генка наверняка мог сразу не один лимон достать, а целый килограмм. Стоп-стоп-стоп. Лимон! Что-то он говорил про чай с лимоном в ресторане…
На следующий день Валя после работы понесся в «Узбекистан». При входе стоял солидный швейцар.
– Молодой человек, куда это вы разбежались?
– Да мне только спросить, мы вчера у вас большой компанией гуляли, помните?
Вчерашний Генкин праздник, наверное, произвел впечатление. Швейцар подмигнул Вале и пропустил в зал. Администратор в строгом синем костюме и белоснежной рубашке направился было к случайному посетителю, но тот отрицательно покачал головой, заискивающе улыбнулся и рванул прямиком к барной стойке, уставленной разнокалиберными бокалами и разноцветными импортными бутылками:
– Будьте добры, товарищ бармен, скажите, пожалуйста, можно ли купить у вас один лимон?
– Молодой человек, мы – не магазин, овощами-фруктами не торгуем. – Бармен в белой накрахмаленной рубашке и красном галстуке-бабочке презрительно выпятил губу. Маленькие глазки сквозь опухшие веки смотрели недобро.
– Но у вас же есть в меню чай с лимоном?
– Будете заказывать? – Он раскрыл маленький блокнотик и приготовил остренький карандашик.
– Буду. Только у меня вопрос: для скольких стаканов чая вы нарезаете один лимон?
– Почем я знаю, я ж не математик и не повар!
– А можете спросить у повара?
– Уже бегу! Делать мне больше нечего. – Бармен хмыкнул и закрыл блокнот.
– Товарищ дорогой, ну, пожалуйста, я буду очень признателен. Мне позарез нужен целый лимон. Я закажу ровно столько чая, сколько потребуется, только умоляю: не режьте лимон по стаканам, отдайте его мне. А чай посчитайте, я заплачу, а пить не буду.
Бармен округлил глаза, но тут же прищурился:
– Что значит, пить не буду, вы что, того…
– Ну, поймите же меня наконец: лимона нигде не достать, а у вас он есть. Без лимона я отсюда не уйду. Пойдите мне навстречу, пожалуйста. Всем от этого будет лучше. Вы мой чай другим заварите и наварите сверху, а я доставлю лимон самому нуждающемуся в нем человеку – моей беременной жене.
Наваривать с чая бармену до сегодняшнего дня в голову не приходило. Пожав плечами и хмыкнув, он неторопливо удалился. Через десять минут на стойку был выставлен поднос с пятнадцатью стаканами кипятка и целым лимоном. Валентин благодарно взял лимон, быстро сунул его в карман, чуть не порвав единственные приличные брюки, расплатился (денег едва хватило), поклонился и немедленно удалился.
Швейцар недовольно посмотрел ему вслед:
– Мог бы и чаевых дать, очкарик.
Бармен крикнул администратору:
– Володь, скажи швейцару, пусть больше не пускает голь перекатную…
* * *
– Миленький, лимон такой кислющий, кажется, нашего малыша передернуло, наверное, он больше любит сладкое, давай лучше выпьем чаю с сушками и вареньем.
Валя рассмеялся и нежно погладил круглый Ленкин живот.
Изумрудный костюм
Витя Ручкин был широко известен в узких, закрытых от широкой общественности кругах. Руки у него были золотые. Работал он мастером по ремонту бытовой техники при дипкорпусе и был нарасхват. В дипломатическом ведомстве числились не только дипломаты, советники, секретари и члены их семейств, но и повара, уборщики, охранники и рабочие. А посольств и консульств в Москве предостаточно. Снабжались они лучшей импортной техникой, но и та иногда выходила из строя. Бытовые приборы – холодильники, стиральные машины и проч. – в то время принято было чинить, так что Виктора постоянно отправляли то в одно полпредство, то в другое, а то и за границу командировали.
Виктор недавно женился и был счастлив. Свою Аню боготворил. Познакомились молодые люди на торжественном вечере в Доме дружбы народов на Арбате, куда Виктора пригласили за похвальной грамотой. После награждения все переместились к накрытым столам. Бледная хрупкая девушка играла на фортепиано для придания мероприятию праздничной атмосферы. Ручкин с первого взгляда влюбился – поразился, с какой силой ее тоненькие пальчики извлекали сильные звуки, проникающие ему прямо в душу. Боясь потерять пианистку из виду, Виктор сразу же после выступления подошел сказать, что сражен, но так засмущался, что лишь буркнул:
– Спасибо вам… я – Виктор, но я… не знаю, что еще сказать.
– Очень приятно, Виктор, я – Аня.
Аня, смешливая с детства, залилась смехом, глядя на покрасневшего богатыря, от волнения смявшего в бесформенный комок только что врученную грамоту. Анин смех был вовсе не язвительным, а дружески ободряющим. Девушка взяла несчастную грамоту, аккуратно расправила и еще раз вручила. Ее доброжелательность и полное отсутствие кокетства окончательно покорили Ручкина. Ухаживал Виктор неумело, но напористо, по-мужски. Аня с удовольствием сдалась.
Мать пришла в ужас от выбора дочери:
– Доченька, ты же интеллигентная девушка с консерваторским образованием, с блестящими перспективами! Как ты могла ввести в наш дом простого мужлана?!
На свадьбу дочери Елена Артуровна надела черное платье, а когда зять пригласил ее на танец, прошипела на ухо:
– Знайте, Виктор, что вы закрыли Ане путь на большую сцену, ведь за ней увивались несколько солистов оркестра и даже один известный дирижер. Она могла бы сделать хорошую карьеру…
Поселились молодые с Аниными мамой и отчимом. Виктор с мамой ютились в одной комнате в коммуналке. Несколько лет назад они сбежали из Липецка к тетке в Москву от Витиного папы, хронического алкоголика. По пятницам отец устраивал порку, сначала сыну, а потом жене, грозился, что убьет обоих, если они не купят ему еще бутылку. Витька поклялся маме, что в жизни не возьмет в рот ни капли спиртного, и слово сдержал.
Когда Елена Артуровна разводилась с Аниным отцом, то отсудила огромную квартиру в старом кирпичном доме на Бауманской: четыре комнаты, большая кухня, гостиная с роялем, два балкона. Аня с Виктором поставили в Анину комнатку новую кровать, остальное их устраивало. Зять вносил свою лепту в семейный быт: покупал продукты и хозяйственные вещи, чинил все, что требовалось. Помимо оклада, за каждую командировку Ручкин получал восемьдесят рублей – стандартный гонорар, который платили за каждый выезд. В месяц иногда случалось несколько командировок, так что зарабатывал Ручкин похлеще дирижеров и академиков. Виктору нравилось привозить жене эксклюзивные подарки из-за границы, однако оставлять любимую в окружении ее знаменитых коллег и дурного тещиного влияния надолго побаивался, в командировках не задерживался. Отработает – и тут же домой, и всегда с сюрпризом, который Виктору помогали приобрести благодарные сотрудники посольства.
Как-то из Милана Виктор привез белую итальянскую дубленку. Жена посла провела Ручкина в один меховой бутик, где он купил потрясающую дубленку – теплую легкую с капюшоном, расшитую золотистым шнуром. Таких дубленок в Москве видели всего две: одна – у народной артистки, другая – у Ани Ручкиной.
Молодая жена души не чаяла в Викторе, и совсем не из-за подарков, она искренне любила своего Витю за добрый и простой характер, за льняные кудри и курносый нос, так мило торчащий на круглом лице. Теща на людях нахвалила зятя, его золотые руки, демонстрировала похвальные посольские грамоты, но в душе никак не могла смириться с семейным мезальянсом. Елена Артуровна в отсутствие дочери проводила с зятем воспитательную работу:
– Виктор, послушайте, вам надо идти учиться. Не спорю, руками вы многое умеете, но образования не хватает, что сказывается даже на ваших подарках…
Виктор нервничал, но потом успокаивался: главное, чтобы Ане нравилось. После возвращения зятя из Колумбии теща снова принялась за свое:
– Виктор, вы привезли Анечке бархатный костюм какого-то жуткого цвета…
– Почему жуткого, Елена Артуровна? Цвета изумруда, как раз под ее зеленые глаза.
– Вот именно, цвет изумруда! Вы в курсе, что Колумбия на весь мир славится богатейшими месторождениями изумрудов? Вас в посольстве никто не просветил?
– Елена Артуровна, да меня даже возили на ювелирную фабрику, но там лишь одно кольцо с изумрудом мне понравилось, и оно тоже стоило восемьдесят рублей, как костюм…
– И???
– Я не решился – боялся ошибиться с размером. Анин размер одежды я на глаз определяю, еще ни разу не ошибся, а кольцо…
– Ха-ха-ха! Да Аня просто вас жалеет и не признается. Знайте же, что ваши костюмы, дубленки и прочее она втайне отдает моей портнихе Зине перешивать. Вы даже не представляете, во сколько нам это обходится. Кольцо дешевле уменьшить или расширить. Как можно сравнивать: изумруд с бархатной тряпкой?! У костюмчика вашего юбка сорок восьмого размера, а пиджак – пятидесятого, а у Ани сорок четвертый размер, если вы до сих пор не разобрались…
– Как?! Мне ж его с витрины сняли с манекена. Манекен был Аниного размера, костюм на нем сидел как влитой…
– Вы – простота, Виктор! Знаете, вот вам мой совет: привозите гонорары валютными чеками, а уж мы с Анечкой сами будем отоваривать их в «Березках»… и с размерами не ошибемся… Боже мой, я даже не стану Ане рассказывать про кольцо с изумрудом! Как можно так опростоволоситься?! Пусть это останется нашей маленькой… мм… не такой уж и маленькой тайной. Все же я не хочу, чтобы дочь с вами развелась, хотя на ее месте я бы… мдааа… изумруд – достаточный повод…
– Знаете, Елена Артуровна, если б вы были на Анином месте, я точно не женился бы, уж извините…
– Ах, вот как? Анечка, пойди сюда, доченька!
– Ма-а?
– Ты знаешь, что твой, с позволения сказать, золото-ручкин мог тебе из Колумбии привезти не бархатный костюмишко, а золотое кольцо с огромным изумрудом?! За те же деньги! Изумруд – на всю жизнь, на века, в наследство детям и внукам, а что костюм? Перешьешь, относишь и выбросишь…
– Мамааа, я же просила тебя не трогать Витю! Меня все устраивает, а у тебя свой муж есть. Я же не говорю Андрею Романовичу, что тебе дарить и как себя вести…
Елена Артуровна негодующе замахала руками:
– Ах ты неблагодарная! Как ты смеешь мне про Андрея что-то лепетать? Я замуж вышла второй раз из-за тебя, чтоб ты не страдала от безотцовщины…
– Я тебя не просила! И не страдала!
– Не перебивай мать! Вышла замуж, чтоб ты не переживала, что твой папаша нас бросил. И что, скажешь, Андрей Романович тебе плохим отчимом был? Признавайся, паршивка! Слава богу, обута-одета была лучше всех…
– Паршивка??? Елена Артуровна, ну, вы даете! – Виктор стукнул кулаком по столу так, что все вздрогнули.
– Папа не НАС бросил, а тебя! У меня НИКОГДА, слышишь, никогда не было безотцовщины, папа всегда любил меня, хоть и умер рано – ты его доконала, а Андрей Романович, как был чужим человеком, так и остался. – Аня заплакала, рванулась к дверям, крикнув: – Витя, мы сегодня же переезжаем к тебе, я тут ни дня не останусь!
– Не забудь, неблагодарная, забрать изумрудный костюмчик и больше к Зине не обращайся, ходи в том, что привозит тебе твой благоверный, который в размерах «не ошибается»! Ха-ха-ха!
– Мама, замолчи, ты уже достаточно наговорила! Витя, не слушай ее!
– Аня, до «паршивки» я не обращал внимания, но теперь все. Уезжаем…
– Скатертью дорога! Намыкаетесь еще по коммуналкам…
– Елена Артуровна, если бы вы не были матерью моей жены, я бы…
– Что? Ударил бы? У вас, простых мужиков, так, кажется, принято, ваш отец…
– Знаете, Елена Артуровна, это просто подло…
Когда за Аней и Виктором закрылась дверь, Елена Артуровна опомнилась, выбежала на балкон, перевесилась через перила и закричала:
– Анечка, не уходи, родная, я все поняла, прости меня!!! Мне без тебя ничего не нужно, я жить без тебя не хочу… и не буду…
Аня подняла глаза:
– Мама, прекрати, сейчас все соседи сбегутся, тебе будет стыдно. Иди оденься, дождь идет!
– Мне все равно! – Елена Артуровна перелезла через ограждение и стояла на крошечном скользком выступе.
– Боже мой, Витя, вдруг мама сейчас упадет, что делать?!
– Мдаа, вот это номер, не ожидал… Елена Артуровна, крепко держитесь за перила, ждите нас. Мы возвращаемся, – скомандовал Витя.
– Да-да. – Елена Артуровна закивала головой, хотела что-то сказать, но покачнулась и едва не сорвалась, но успела зацепиться. Тапочки слетели вниз с четвертого этажа.
Проследив за их полетом, она представила себя на их месте, голова закружилась. Почти теряя сознание, цепляясь из последних сил, она с трудом дождалась, когда хлопнет входная дверь.
Увидев заплаканную и перепуганную дочь, зарыдала:
– Прости меня, Анечка, я только сейчас… поняла, я поняла. Витя, прости меня!
– Держитесь.
Виктор подхватил тещу под руки и перевалил внутрь, ободрав локоть о край перил. Ноги дрожали от напряжения: теща-то на добрых два размера больше Ани. Елена Артуровна сползла на мокрый пол и обхватила Витины ноги.
– Спасибо тебе, Витя! Анечка, береги моего зятя – тебе повезло с ним… нам повезло. Простите меня, дети, я буду стараться… очень. Только не уезжайте. Никогда!
– Мама, а я ведь сказала Зине, чтобы костюм не ушивала, он твоего размера. Витя угадал. Просто хотел сюрприз сделать.
– И под глаза вам, Елена Петровна, подходит.
Белый горошек
После окончания ПТУ Тоню приняли в институт секретарем-машинисткой. В училище ей как отличнице собирались дать рекомендацию в вуз, но Тоня отказалась: скорей бы начать работать. Она ведь ушла из школы после восьмого класса, поскольку денег в семье катастрофически не хватало: у родителей, помимо Тони, было еще четверо детей. Шестнадцатилетняя Тоня – самая старшая, потом Маша, еще Вася с Ирой, двойняшки. «Настоящая семья – Семь Я: мама, папа, три девочки и два мальчика…» – гордился отец. Он работал бухгалтером в строительном тресте. Мама – воспитательницей в детском саду.
Объявление о вакансии Тонин отец прочел в «Вечерке» (газета «Вечерняя Москва»): декану одного из факультетов Бауманского института, находившегося неподалеку от их дома, срочно требовалась секретарша. Тоня поспешила в Бауманку. Декан встретил девушку недоверчиво: на вид – совсем подросток, но аттестат с отличием и строгий взгляд красноречиво говорили, что девушка ответственная и старательная.
Работы у Тони – невпроворот, бумаг – несметное количество: предыдущая секретарша последние дни перед декретным отпуском плохо себя чувствовала и забросила дела. Тоню работой не испугать. Она с детства была прилежной девочкой, привыкла трудиться: вместо кукол – младшие братья и сестры. Когда Тоня устроилась на работу, мама предупредила:
– Теперь сама уж себя обеспечивай. Кормить дома буду, как всех, а одевать – нет. Ты теперь рабочий человек, сама должна понять, как деньги зарабатываются и на что тратятся.
Зарплату Тоне назначили пятьдесят пять рублей. Половину зарплаты Тоня отдавала маме на продукты, оставшиеся деньги тратила в студенческой столовой на обеды, немножко оставалось на походы в кино и эклеры, которые Тоня обожала. В институте обещали к концу года, если не будет нареканий, премию в двадцать рублей. Какие там нарекания – девушка заслуживала только похвалы.
Печатная механическая машинка требовала максимального сосредоточения. Клавиши тугие, буквы приходилось изо всех сил вбивать пальцами, а потом еще вручную передвигать тяжелую каретку. Тонины руки были такими сильными, словно сделаны из стали. В училище она блестяще освоила слепой метод печатания – когда смотришь не на клавиши, а только на текст. Декан был доволен – Тоня почти не делала ошибок, а те, что шеф находил, безропотно записывала в свою тетрадку, как бы выполняя работу над ошибками. Окуная тоненькую кисточку в специальную баночку, Тоня замазывала неправильную букву белой гуашью, тщательно дула на листочек, чтобы тот быстрей просох, и впечатывала на забеленном месте нужную букву.
Тоня придумала, на что потратит премию. В районе Разгуляя, где располагался их дом, располагался знаменитый магазин «Ткани», куда съезжались модницы и портнихи со всей Москвы – ассортимент там был богатейший. Тоне приглянулся шелковистый синий сатин в белый горошек. Горошек был мелкий, чуть выпуклый, глаз не отвести. Осенью сестра Маша сшила ей приличный костюм для работы – двойку из модного бледно-голубого штапеля. Рукава и воротничок жакета отделала белым кантиком. Маша училась в девятом классе, ей очень нравились уроки труда. Штапель Тоне подарила бабушка на шестнадцатилетие. За костюм учительница по труду поставила Маше пятерку с плюсом и посоветовала поступать в Текстильный институт.
Тоня любовалась тканью в горошек и представляла, как красиво будет смотреться блузка с рукавами в три четверти и жабо с воланчиками, пошитая умелыми сестренкиными руками. Тоня высмотрела такой силуэт на одной студентке. А что, женственно и красиво. Маша подготовила выкройку из бумаги. Девочек беспокоило лишь одно: как бы ткань не раскупили. Каждый день, возвращаясь с работы, Тоня забегала в магазин. На блузку потребуется отрез ткани размером в один метр семьдесят сантиметров, но лучше купить два метра, вдруг на жабо не хватит, а еще можно поясочек сшить. Стоила ткань в белый горошек – четыре рубля пятьдесят копеек за метр. Еще надо будет подобрать крупные синие пуговицы. Блузка выйдет в десятку. Дороговато немного, но еще останется на любимый торт для всей семьи. «Подарочный» торт, обсыпанный жареным арахисом и сахарной пудрой, стоил два рубля сорок копеек. Хватит даже на премиальный шоколад для сестренки. В булочной за углом продавался шоколадный лом. Если стограммовые шоколадные плитки стоили от рубля до полутора, то килограмм прекрасного шоколадного лома стоил шесть рублей пятьдесят копеек, следовательно, можно купить целых двести граммов, не говоря уж о том, что шоколадные неровные куски, похожие на разломанные скалистые горы, намного вкусней скучной, расчерченной на квадратики, тонкой плитки.
И вот долгожданная премия в кармане. Зажав две красные премиальные десятки, Тоня влетела в светящиеся всеми окнами «Ткани». Пока двигалась очередь, Тоня привычно обшаривала взглядом полки, но не находила искомого. В магазине она не была два дня: позавчера ходили с девчонками в кино, а вчера мама просила посидеть с двойняшками.
– А у вас тут лежал рулон синего сатина в белый горошек, я почему-то его не вижу, – с тревогой обратилась Тоня к продавщице, заворачивающей покупательнице три метра красной вискозной ткани в бежевую плотную бумагу.
– Белый горошек вчера забрали оптом для театральной студии…
– Как?! Разве так можно? В одни руки разве столько дают?
– Девушка, у нас тут нет нормы, мы не колбасу продаем и не ботинки, тем более что артисты обратились с письмом к директору – им для спектакля нужно…
– Им весь рулон, а мне нужен был всего-то один метр семьдесят сантиметров! – Тоня обиженно всхлипнула. – Может, завалялся кусок?
– У нас, девушка, зарубите себе на носу, ничего не валяется. Я вас, кстати, запомнила, вы к нам каждый день ходили, как шпионка какая, все высматривали…
– Я вам не шпионка! Я денежную премию ждала…
Слезы закапали на прилавок.
– Нуууу, здрааасьте, нечего тут нюни распускать! Дождались премию, берите, девушка, другую ткань, вон, зеленая в красный горох, тоже красивая…
– Мне не нужнааа зелё-ооная…
За Тоней стояла сердитая пожилая женщина с большой хозяйственной сумкой на колесиках:
– Девушка, берите материал или отходите! Не задерживайте очередь…
Тоня всхлипнула:
– Вам-то что, а моя мечта… умерла!
Очередь заволновалась.
– Кто умер?
– Там кто-то умер, не слышали???
– Помер хтой-то там, сердечный приступ? Дайте посмотреть!
Продавщица цыкнула:
– А ну, тихо! Не мешайте работать! Никто тут не умер… Девушка, я последний раз спрашиваю: будете другой горошек брать?
– Нет, ни за что!
– Как знаете, дело ваше…
Тоня выскочила из магазина на улицу. Голубая мечта накрылась медным тазом, заменить ее было нечем. Деньги жгли – их надо было срочно потратить. Тоня принесла домой торт, шоколад и баночку черной икры.
Мама всплеснула руками:
– Вот ты транжира! Зачем столько? И икру, боже мой, она ж такая дорогая!
– Мам, я премию получила за хорошую работу. Давайте праздновать, сегодня устроим пир и порадуемся…
– Купила бы себе что-нибудь дельное на память, жалко проедать первую в жизни премию, – проворчала мать, но отправилась ставить чайник.
Маша, отведя Тоню в сторонку, спросила:
– Ты что, передумала блузку шить?
Тоня всхлипнула:
– Мою ткань вчера всю выкупили… какая-то театральная студия…
– У тебя еще остались деньги?
– Осталась десятка…
– Отлично. – Маша положила руку на хрупкое Тонино плечико.
Маша уродилась высокой, крепкой и покровительствовала Тоне, словно была не младше на два года, а старше.
– Завтра поедем не в магазин, а на склад, там дешевле и выбор больше, наша трудовичка про него рассказывала. Я все найду, придумаю… ахнешь!».
Девочки в обнимку двинулись на кухню, где на плите весело посвистывал раскаленный чайник.
Маша смастерила Тоне нарядный сарафан из темно-синей ткани в белый горошек. Под сарафан она сшила строгую белую блузку со стоячим воротничком. В институте оценили, и даже суровый начальник показал Тоне большой палец.
1970-е годы
Папины презенты
Мой папа, Михаил Антонович Шляпин, часто ездил в командировки. Хорошо помню, как мама была этим недовольна: ей постоянно приходилось одной оставаться на хозяйстве, по вечерам сломя голову бежать после работы за мной в садик, а по утрам снова меня отводить. Так они с папой делали это по очереди, а тут, как мама выражалась, от меня спасу не было. Папа чувствовал себя виноватым и каждый раз вез в утешение какую-нибудь красивую, с его точки зрения, вещь. Он любил маму и гордился ею, она слыла в институте «комсомолкой, спортсменкой и просто красавицей», как говорили позже про героиню фильма «Кавказская пленница» в исполнении актрисы Наталья Варлей, а он – тихим, незаметным студентом. Судьба их соединила на практике: они попали в одно учреждение.
Человеком папа был симпатичным и интеллигентным, но на редкость непрактичным. Из командировок привозил такие несуразные вещи, над которыми мама сначала плакала от смеха, потом просто смеялась, а потом не знала, что делать. Вот таким непутевым уродился мой папа. После одного такого «презента» мама строго-настрого запретила папе что-либо привозить, кроме продуктов и книг.
Однажды из Урюпинска папа привез маме ядовито-лилового цвета комбинацию, к тому же не вискозную, а нейлоновую: когда ее в руки брали, искры летели во все стороны. Более всего маму сразил цвет «разъяренной фуксии». Она потом подругам рассказывала, что Мишу в урюпинском сельпо ждали много-много лет: «Вот приедет товарищ Шляпин и купит наконец эту залежавшуюся комбинацию уникального цвета вырви глаз…» Я с трудом могла себе представить, как должна выглядеть разъяренная фуксия, но комбинация действительно оказалась незабываемой. Помню ее, как сейчас.
При каждом удобном случае мама попрекала отца этой комбинацией:
– Решительно никому бы в голову не пришло купить такую жуть. Один раз увидеть – и будет сниться в кошмарах всю оставшуюся жизнь. Ты же настоящий праздник устроил всем урюпинцам, теперь они смогут спать спокойно в отличие от меня.
Папа обиделся и перестал покупать вещи в командировках, разве что сыр привозил, ведь он работал в НИИ МЯСОМОЛПРОМе и ездил контролировать производство сыра на заводах по переработке молока. Как-то он нам рассказал, что на одном сыроваренном заводе лично наблюдал, как в огромный чан, в котором кипел плавленый сыр, свалилась крыса, деловито бежавшая по бортику по своим делам. Она бежала, бежала и упала прямо в котел…
– И что с ней стало? – ужаснулась я.
– Понятия не имею, никто ее больше не видел, – кротко пожал плечами папа.
Я представила, что в плавленых сырках можно нечаянно наткнуться на кусочки шерсти, хвоста, когтей, и прививку отвращения к этому виду молочной продукции получила на всю жизнь.
Да, случилось еще, что папа как-то раз ослушался маму и решился купить в подарок ценную вещь. В семидесятые годы, в самый расцвет эпохи дефицита, в провинции можно было отовариваться хорошими импортными вещами, например обувью, которая не пользовалась спросом у местного населения – дорого, да и некуда, в грязи утонешь. Так вот, папа отхватил чешские лакированные туфли-лодочки на тоненьких каблучках – красные, прекрасные-распрекрасные.
Он гордо поставил коробку с туфлями на кухонный стол и отошел подальше – полюбоваться на наше восторженное удивление. Его лицо сияло, мол, вот, мои дорогие девочки, какую вещь достал! Импортные лаковые туфельки, конечно, чудо! Несколько минут мама потрясенно взирала на лаковую красоту, не веря своим глазам. Придя в себя, подошла поближе, взяла одну «лодочку», покрутила в руках, посмотрела на подошву, разочарованно вздохнула и горько вернула туфлю в коробку. Затем медленно и печально вернулась на место: очевидно, впала в настоящий ступор. Помолчав, зловещим шепотом задала вопрос:
– Миша, а Миша… скажи, пожалуйста, кому ты ЭТО купил?
– Ну, кому-кому… кому больше подойдет. – Папа сразу напрягся, заподозрив что-то неладное. Лицо утратило победное сияние.
– Дело в том, Мишенька, – язвительно заметила мама, – что лично у меня сороковой размер ноги, а у нашей Ольки – тридцать шестой. И никому из нас никогда, ты слышишь, НИКОГДА не придется это надеть.
Наш папа, естественно, понятия не имел, какие размеры обуви мы с мамой носим, и решил купить нечто среднее, нейтральное.
– Самый ходовой – тридцать восьмой размер, – подсказали ему продавщицы.
– Может, у Оли нога еще вырастет?
– Она, Мишенька, уже давно выросла, хотя вполне вероятно, что лет через двадцать – тридцать ноги ее растопчутся, как у меня, и дорастут до искомого размера (тут я огорченно ойкнула), но тогда ей будет точно не до лаковых туфелек на шпильках, как мне сейчас…
Продавать в нашей семье никто никогда ничего не умел, так что несчастная дефицитная обувь долго томилась в своей коробке, пока мама не сообразила передать туфли своей портнихе Люське, та быстро нашла покупательницу, и деньги наконец вернулись в семью.
– Миша, не смей, слышишь, больше не смей ничего привозить из своих дурацких командировок! – еще долго не могла успокоиться мама. – Как я все это выдерживаю?!
Почему мама терпела, несмотря на промахи? Да просто папа был честным и порядочным человеком, очень хорошим человеком, пусть и ужасно непрактичным.
Как-то папу выбрали на работе в местком, и не просто в местком, а председателем. Начало девяностых годов… В стране уже не просто дефицит, а тотальный дефицит: все по талонам. Магазинные полки опустели. Целых пять лет товарищ Шляпин трудился на ниве утомительной общественной работы и за эти годы не принес домой ни одного талона.
– Хоть бы ковер какой захудалый купил в честь своей безупречной благотворительной деятельности, – сокрушалась мама, когда папа ушел на пенсию.
Я хотела ей напомнить, что она сама всю жизнь отучала папу от покупок, но благоразумно промолчала. С нашей мамой спорить бесполезно.
Зато в моей благодарной памяти навеки остались папино бескорыстие и скромность.
Молоко с препятствиями
Славины родители отправились в Якутию за длинным рублем. Золотодобыча – вредное производство, климат тяжелый – девять месяцев зимы, – зато платят хорошо и даже талоны дают на молоко. Молоко в Славиной семье все уважают, так что талоны быстро заканчиваются, тогда мама выдает Славику рубль, и тот с удовольствием бежит через большую дорогу к тете Дусе, заведующей металлической бочкой на колесах с надписью: «Молоко».
Ходить за молоком – прерогатива Славика. Ему всего пять лет, но парнишка он смышленый, крепкий, трехлитровый бидон тащит, даже ни разу не крякнет. Славику от каждого похода достается прибыль в две копейки, так как три литра молока стоят девяносто восемь копеек. За несколько ходок получается накопить на целое мороженое.
Отправляется Славик в путь, весело помахивая пустым бидоном, зажав под мышкой специальную картонку, чтобы не увязнуть в земляной колее. Самое трудное – перейти проезжую часть дороги: колея уж больно громадная. Ее накатывают постоянно шныряющие туда-сюда многотонные БелАЗы. Их гигантские колеса высотой с дом продавливают подтаивающую в летние месяцы вечномерзлую дорогу, и без картонки Славику не переползти.
Идти недалеко. Крутит Славик бидон, звонко шлепая им по голым ногам, мурлычет песенку из любимого мультика про львенка и черепашку: «Я на солнышке сижу, я на солнышко гляжу…» Бумажный рубль внутри бидона, потому что на Славике только маечка да трусики, карманов нет, вот и додумался мальчишка сунуть денежку в пустую посудину.
– Драсьть, теть Дуся, нам, как обычно…
– Здравствуй, Славик, давай бидон. А деньги?
– Так в бидоне же. Там бумажный рубль.
– Пусто там, мой милый, сам посмотри.
Славик заглянул в бидон, огорченно покачал головой, накрыл крышкой: «Наверное, по дороге выпал…» Опустив голову, поплелся обратно тем же путем, внимательно высматривая: валяется же где-то его бумажный рубль. Напрасно тетя Дуся кричала Славику, чтоб вернулся, что она и так ему нальет, а потом с мамой рассчитается. Славик не слышал, сосредоточенно крутя головой во все стороны, ища заветную бумажку.
Рубль не нашелся. Мама почти не ругала, слегка расстроилась:
– Эх, ладно, возьму у соседки один талон взаймы, сходи еще разок за молочком.
Славик обрадованно бежит обратно. В одной руке – картонка, в другой – бидон, талон – внутри бидона, только на этот раз Славик бидоном не размахивает, несет аккуратно, чтоб талон не выпал, как тот злосчастный рубль. Ветром, что ли, унесло.
– Теть Дусь, наливайте!
Дуся ласково трепет мальчонку по щеке и открывает кран. Молоко широкой струей направляется в бидон. В эту секунду мелькает белая бумажка.
– Ой, там же талон внутри…
– Ну, ты даешь, миленький, что ж ты все в бидон пихаешь, то деньги, то талоны. – Славик чуть не плачет. – Ну что теперь горевать, полбидона уж налилось. Ладно, когда молоко выпьете, талон высохнет, после принесешь.
Славик понес бидон. От огорчения забыл возле бочки картонку. Когда добрался до колеи, стал перелезать через глиняные горы, споткнулся и уронил бидон. Крышка тут же опрокинулась навзничь, и почти все молоко вытекло. Славик подскочил к бидону, и взгляд его упал на крышку: к ней, оказывается, прилепился тот потерянный рубль. Мама ж помыла бидон перед тем, как дать его Славику, вот и прилипла рублевая бумажка к мокрой крышке, когда бидон раскачивался.
Славик метнулся обратно:
– Тетя Дуся, вот он, рубль, никуда не делся, просто прилип к крышке, налейте мне молока, пожалуйста… – И радостно опрокинул в рот бидон, допив остатки.
– Батюшки, неужели ты один все три литра выглохтал? – всплеснула руками молочница, заглянув в бидон. – А-а-а… вот и талон твой лежит на дне. Подумать только, чудны дела твои, господи. Я талон-то возьму, сама высушу и отчитаюсь им. А куда ж все-таки три литра делись?
– Да споткнулся на дороге и расплескал нечаянно.
– Немудрено, бедненький ты мой, ты ж картонку возле бочки забыл…
Славик смутился, но радость находок почти полностью перекрыла огорчение от разлитого молока.
– Не расстраивайся, малыш, еще раз налью тебе полный бидон, только ты уж, миленький, шагай потихоньку, не расплескай, ладно? И забери свою картонку. Две копейки я тебе в следующий раз отдам, а то еще положишь денежку в молоко. Может, проводить тебя до дому?
– Да не-е-е, не надо, теть Дусь, сам донесу, только вы уж не забудьте про две копеечки, ладно?
– Что ты, что ты, миленький! Ты скажи мамке, чтоб кармашек на трусы нашила с внутренней стороны, а то так и будем с тобой с деньгами да талонами в прятки по бидонам играть…
Луноход не спасет от укуса
Оле Зайцевой исполнилось десять лет. Папа предложил выбрать любой подарок – все же первая круглая дата. Родители повезли дочку в Дом игрушки на Кутузовском.
Оля – особенная девочка: в гости ни к кому не ходит, не дружит ни с кем, играть не хочет. Игрушки ей неинтересны. Она с младенчества любит, чтобы все дома были, мама ей книжки читала, а папа диафильмы показывал. Оля даже в детском саду ни разу не была, до школы прожила у бабушки с дедушкой. Там тоже книжками увлекалась. Дедушка ей велел прочитать все книги на трех нижних полках в большом шкафу. Когда она к семи годам справилась с первой полкой, выстругал ей симпатичного деревянного человечка, бабушка сшила человечку курточку и колпачок. С Буратино Оля подружилась: сажала рядом на стульчик и рассказывала ему о приключениях из каждой новой прочитанной книжки. Буратино внимательно слушал. Но все это было до школы, теперь Оля Зайцева – ученица третьего класса, пионерка, и главная ее задача – отличная учеба.
Бродили-бродили Зайцевы по Дому игрушки, все пересмотрели, перетрогали, перебрали. Ничего не отозвалось в задумчивой Оле. Остались необследованными большие стеклянные шкафы-витрины, в них закрыты самые дорогие игрушки. Олино внимание привлек необычный предмет.
– Пап, а что это?
– Модель лунохода, дочка. Примерно такой луноход недавно совершил высадку на Луне. Представь, советские ученые изобрели робота, который может передвигаться без водителя и работать самостоятельно. Луноход приносит пользу советской науке: исследует нашего ближайшего соседа, ведь Луна – единственный спутник Земли, ты же знаешь.
У Оли загорелись глаза: «Вот что нужно моему принцу…» Девочка обожала великую сказку Антуана де Сент Экзюпери. «Маленького принца» она читала и перечитывала, не уставая восхищаться чудесным мальчиком и плакать, сочувствуя его одиночеству. Принцу она могла бы стать настоящим другом. И сейчас Оля вдохновилась мыслью: Маленькому принцу просто необходим луноход. Тот по размерам очень подходил к маленькой планете принца. Оля представляла, как обрадуется друг:
– Смотри, Оля, какая блестящая крышка у космического аппарата и какая серебряная антенна!
– Этот луноход прекрасно умеет переползать через препятствия. Он управляется пультом. Ему можно поручить поливать Розу, чтобы она не засохла в твое отсутствие…
– Правда? Здорово!
– Настоящее техническое чудо. Ты такое и представить себе не мог, ведь правда?
Конечно, Оля и сама могла бы играть с луноходом, гулять с ним во дворе, управлять, брать на пробу грунт из песочницы и всякое такое, но ведь во дворе все будут завидовать, а этого Оля терпеть не могла.
– Луноход – не просто игрушка, а точная копия дистанционно управляемого космического аппарата, представляешь, сколько людей работало над его созданием? – Папе самому, наверное, хотелось поиграть.
Мама укоризненно посмотрела на него:
– Слава, этот луноход стоит пятнадцать рублей. Слишком дорого…
Оля прекрасно понимала маму: поездка на метро стоила пять копеек, булочка – тоже пять, молоко – шестнадцать копеек. Если тратить только на еду и метро, то вместо лунохода можно целый месяц прожить. Ну а как же Маленький принц? Ему нужен луноход…
С другой стороны, если человек дружит со змейкой, ему сначала надо научиться лечить змеиные укусы.
– Мам, пап, я не хочу никаких игрушек, и луноход мне сейчас не нужен, прости, папочка. Купите мне лучше детскую медицинскую энциклопедию – я стану врачом. Бабушка говорит, что самую большую пользу людям приносят врачи – они спасают жизни.
«И я спасу тебя, Маленький принц!», – загадала Оля и потянула родителей к выходу.
Прошло несколько лет, Ольга Вячеславовна Зайцева стала врачом. Хорошим детским врачом – педиатром. «Маленький принц» навсегда остался ее любимым сказочным мальчиком, а настоящих мальчиков и девочек Оля теперь спасает от разных болезней, в том числе и от змеиных укусов.
Леви Страус
История про вожделенные американские джинсы
В конце семидесятых Московский экономико-статистический институт (МЭСИ) стал вдруг дико модным. В нем, единственном в те годы, вступительные экзамены по математике принимал компьютер – так, во всяком случае, утверждали члены приемной комиссии МЭСИ. Когда-то его окончили мои родители. В годы их учебы о МЭСИ не слышал никто, они сами туда случайно попали, их даже заманивали. И лишь в год моего поступления, благодаря новейшим факультетам АСУ (Автоматизированные Системы Управления и Программированию) и Информатики, институт МЭСИ вдруг сделался престижным.
Меня предки уговорили, поднажав на то, что я еще окончательно не определилась, куда хочу поступать. Мне нравился Архитектурный институт, но туда нужно было сдавать физику, с которой я радостно распрощалась навсегда на выпускных школьных экзаменах. Манил Литературный институт, не зря ж мои сочинения всегда отправляли в РОНО как лучшие в школе.
– В Литературном тебя прямо-таки ожидают, уже расстелили красную ковровую дорожку и высматривают, не приближается ли Полянская Ирина. Не берут в Литературный после школы, и правильно делают. Что за писатель без жизненного опыта, что он может рассказать своим читателям? А вот в наш МЭСИ на «Статистику» вместо физики сдают историю, которую ты так любишь. Две математики, история и сочинение – такой набор вступительных экзаменов. Ты все эти предметы знаешь. Поступи, отучись, потом будешь делать, что хочешь, – уговаривала мама.
Я подумала и согласилась. Мой школьный аттестат составлял четыре целых семьдесят пять сотых балла (две четверки – по физике и труду), остальные – пятерки. По принятым тогда правилам я имела право держать всего два экзамена. Если наберу суммарно девять баллов, то поступлю автоматически. Конкурс в тот год был довольно значительный: зачисляли сто десять человек, а пришли поступать шесть сотен абитуриентов. Ко второй математике допустили лишь четыреста, двести человек отсеялось. Первую математику я сдала лихо, поскольку была готова к определенной «засаде» – задач и примеров на первом экзамене давали не четыре или шесть, как в других вузах, а восемнадцать, но не зря ж я занималась с преподавателем из МЭСИ. Многие абитуриенты, получив в задании столько задач и примеров, от неожиданности терялись. Я же, не останавливаясь и не теряя времени, щелкала задачки как орешки. Они все были несложными, главное, успеть решить. Получила четверку. Немного расстроилась. Я знала, что вторая математика посложней, хотя заданий будет только шесть. Уж сколько их перерешали мы с репетитором. Я почти не волновалась, пока не получила свой вариант задания. Вот где была засада. Варианты заданий, как нам объясняли на консультации, составляет компьютер, у каждого абитуриента, как у автомобиля, заранее обозначенный номер. Свой пронумерованный листок я читала и перечитывала, совершенно не врубаясь, что делать. Может, я просто сошла с ума от переутомления, переволновалась? Как может быть, что ни к одному из условий я не знаю, как подступиться? Заглянула в листок к соседу: там совершенно нормальные задачи, я бы с ходу их решила. Значит, дело не в моем волнении. И что дальше? Спросить с кого? В аудитории только дежурные студенты, назначенные следить, чтоб никто не списывал и не подсказывал. Я переписала условия задач на свой черновик и подняла руку:
– У меня тут что-то странное…
Студент-третьекурсник прижал палец к губам, подошел, взял в руки листок, посмотрел, пожал плечами:
– На экзамене запрещено разговаривать…
Я почувствовала унизительную беспомощность – вылить свою обиду было не на кого.
– Раз вы не можете разобраться с этим недоразумением, тогда я ухожу с экзамена. – С досады я повысила голос, пытаясь привлечь к себе общее внимание.
Все на секунду оторвались от своих листочков и вновь уткнулись. В зале стояла такая напряженная тишина, что слышался скрип абитуриентских мозгов. Мой сосед сочувственно покачал головой. Ко мне стремительно направилась старшая – наверное, аспирантка. Очки, накрашенные губы, пучок на голове для солидности. Она выпроводила меня в коридор и сообщила:
– Если вы с чем-то не согласны, то можете подать на апелляцию, но шуметь в зале категорически нельзя. Надо было хотя бы попробовать что-нибудь решить.
– Да?! Вы такое видели? Вы можете это решить? – Я ткнула ей в нос свой листок.
Она поморщилась, отодвинув мою руку и не взглянув на задание:
– Знаете, мне сейчас не до того, я должна быть в зале…
С этими словами она повернулась ко мне спиной и ушла, просвечивая противным розовым бюстгальтером сквозь белую блузку.
Мой преподаватель, к которому я отправилась прямиком с экзамена, изучил задачи и вздохнул:
– Эх, печально. Тебе попался завальный вариант: задачи с международных математических олимпиад. Подавать на апелляцию бесполезно: выбор компьютера, объективно придраться не к чему.
Сказать, что родители были расстроены, ничего не сказать. Они были абсолютно уверены в моем поступлении: родной институт, отличная подготовка, знакомые преподаватели (до сих пор некоторые живы).
Мама засучила рукава:
– Ира, не будем терять времени – поступим на вечерний, – бодро решила она.
– Учиться и работать, света белого не видеть, благодарю покорно, – сопротивлялась я.
– Потерпи год, сдашь зимнюю и летнюю сессии, и я тебя переведу на дневное отделение.
– Ты?
– Позвоню Женьке Воронину, нашему с папой бывшему сокурснику, он нынче большой начальник. Посодействует.
– А сразу нельзя было ему позвонить, чтоб меня не завалили?
– Кто ж мог предположить такой несчастный случай?
Мне совершенно не улыбалось мотаться вечерами в институт после работы, но надо знать мою маму – ей бесполезно возражать. Мама сразу после окончания института как стала начальником, так и оставалась им всю жизнь, в том числе в семье. Мама устроила меня в свое статуправление, где я абсолютно не могла филонить – каждый мой шаг был ей известен. Хорошо, что хоть в другой отдел, который подчинялся другому начальнику.
Год дался тяжко: я уставала, не высыпалась, сердилась, но… училась старательно. Мне очень хотелось стать настоящей студенткой, а не вечерницей. В вечерней группе все были старше меня, совершенно взрослые люди, у многих уже семьи, дети. Никакой студенческой жизни – только работа, учеба и домашние заботы. Ко мне относились как к ребенку – умненькой толстенькой потешной девочке. В учебе я действительно была умненькой – свежих школьных знаний мне на первый курс хватило с лихвой. Запросто щелкала задачи, помогала одногруппникам по всем предметам. А еще работает правило: объясняя другим, сам лучше понимаешь и запоминаешь, так что я легко сдала обе сессии на отлично. Однако перевод на дневное отделение оказался делом непростым, висел на волоске и грозил сорваться. Все лето мы с родителями нервничали: я заверила их, что в случае неудачи брошу МЭСИ к черту (во мне давно созрел бунт), так как мне совершенно не улыбалось гробить свои лучшие годы на учебу и работу в той области, которая меня не привлекала. Меня интересовали литература и архитектура, а не статистика.
– Получишь высшее образование в МЭСИ, а дальше хошь в писатели иди, хошь в театр, – твердила свое мама.
Наконец дело о переводе благополучно разрешено: зачислили сразу на второй курс, даже без потери года. «Ирина Полянская – студентка дневного отделения!» – я была в полной эйфории. Сразу нашлись подружки, с которыми мы веселились и хохотали по каждому поводу. Больше всех мы сблизились с Таней Глинской. Она была «секси» – все мужики сворачивали головы ей вслед. Еще бы, высокая грудь, тонкая талия, узкие аристократические щиколотки. При этом была смешлива и ценила юмор, так что мы радовались друг другу. Я заражала и заряжала смехом всех, кто оказывался рядом, – так была счастлива. Остротами сыпала направо и налево, смех друзей очень вдохновлял. Мои расслабленные дневные однокурсники понятия не имели, каково это, не видя белого света, возвращаться домой в полночь, и не с гулянки какой-нибудь, а с учебы, завершающей утомительный трудовой день в коллективе занудных теток.
Получив перспективу четырех прекрасных безмятежных, безответственных лет на дневном отделении, я даже не стала укорять родителей за их фантастические рассказы о распрекрасной студенческой жизни. Ничего подобного в конце семидесятых в нашем институте не наблюдалось. Факультет статистики в основном состоял из девушек, и никаких затей в виде КВН, капустников, студенческого театра – каждый развлекался, как мог. В основном студенты сбивались в группки по интересам. Кто-то предпочитал толочься в барах и на дискотеках, кто-то пропадал на спортивных матчах, благо стадион Лужники был рядом, а кто-то просто шлялся по Москве. Местонахождение института было козырное: приятно пройтись по Плющихе, Остоженке, мостам и набережным Москва-реки, полюбоваться Новодевичьим монастырем, зайти в Пушкинский музей…
Одно начало угнетать: однокурсник Шурка Тихомиров не обращал на меня ни малейшего внимания. Он в упор меня не видел, как, впрочем, и остальные парни.
Мама утешала:
– Мальчишки – дураки, ничего не понимают, зато умные взрослые мужчины оборачиваются тебе вслед.
Так себе утешеньице. Бабушка тоже любила поговорку, что «мужчина – не собака, на кость не бросается», ей нравилось меня перекармливать с детства, что я – послушная, хорошо ем и поправляюсь. Но к чему мне взрослые мужчины, если мне нравился Шурка? Я страдала, что он глядит то ли мимо, то ли сквозь меня… страдала, но не худела. Страшно переживала и, назло себе, жрала сладкое на ночь, а пусть будет еще хуже: раз никто меня не любит, то и я себя тем более.
Через пару месяцев учебы на втором курсе я поняла, в чем загвоздка. Дело вовсе не в моей сдобной комплекции. Большая часть нашего курса имела отношение к той части «золотой молодежи», о которой я прежде не слыхивала. Обеспеченные предки, квартиры в центре, лучшие московские спецшколы с углубленным изучением иностранных языков. Они носили настоящие американские джинсы, шикарную импортную обувь, модные стрижки (я только к третьему курсу решилась отрезать каштановую косищу – мое главное достоинство, по мнению мамы) и с небрежным изяществом курили дорогие сигареты. Курить я хотя бы успела научиться еще в девятом классе (надо же было нам с Наташкой хоть как-то запятнать непорочную репутацию отличниц и примерных девочек). На сигареты типа «Ява-100» и «Стюардессу» и на рублевый обед мне вполне хватало стипендии, но джинсы…
Мои родители уехали в свое время из центра куда глаза глядят, лишь бы подальше от коммунальной квартиры. Самые важные десять лет своей жизни я провела на далекой рабочей окраине. Там и окончила рядовую районную школу.
– Наша главная задача – готовить из вас грамотных рабочих, – еженедельно внушали нам на школьных линейках.
В итоге убедили: из класса лишь три человека рискнули пойти в вузы, остальные – в техникумы, а кто-то даже ушел после восьмого класса в ПТУ, чтобы время не тратить. На вечернем отделении мои однокурсники тоже были людьми простыми. Все одевались в то, что можно купить в советских магазинах, и не знали, что бывает по-другому.
Фирменные джинсы стоили сто пятьдесят рублей, что при стипендии в сорок рублей было абсолютно недостижимо. Копить на джинсы до самого окончания института и прозябать в ряду отсталых несчастных замарашек никак не улыбалось. Ходить в индийской подделке (джинсы братской Индии через свою сотрудницу достала мама) было унизительно: джинсы из тонкой ткани сидели паршивенько, подчеркивая несовершенства фигуры. Ну, как объяснить маме, недоуменно пожимающей плечами, глядя на мои терзания, что без настоящих джинсов жизни нет и не будет.
– Глупость какая-то. Чем эти-то тебе не джинсы? – возмущалась мама, потрясая блеклой подделкой. – Такие же точно…
Ну-у-у… как втолковать? Я подумала и предложила родителям:
– Мамочка, папочка, пожалуйста, я прошу, просто умоляю вас не покупать мне целый год никаких подарков, ни на Новый год, ни на Восьмое марта, ни на день рождения. Купите только одни джинсы – точнее, дайте денег, я сама куплю. А вы на весь год, а то и на всю жизнь забудете о подарках для меня, я и так буду счастлива!
– Сколько ж они стоят, эти джинсы? – заинтересовался папа, отрываясь от «Науки и жизни».
– Сто пятьдесят, – робко прошептала я, ожидаемо понимая, что услышу в ответ.
– С ума сойти! Какая-то тряпка не может и не должна столько стоить! Совсем вы там обалдели! – Папа еще долго не мог успокоиться. – Как это можно допустить: советская молодежь сдается в плен американскому золотому тельцу! Какие-то джинсы у них – предел мечтаний! Докатились! Мы – страна победителей, и так унижаться… даааа, с такой молодежью коммунизм не построишь!
Папа свято верил в построение коммунизма в отдельно взятой стране и был настолько слеп в этой истовой вере, что мне откровенно было его жаль, особенно потом, когда в девяностые годы все грохнулось. Папа, как лошадь в шорах, честно трудился во славу СССР и не замечал, что творится. Я же упрямо стояла на своем:
– Мне не нужны никакие другие подарки, потратьтесь один раз, подарите просто деньги. Ну, посчитайте, вы же – экономисты, сколько бы вам пришлось купить за год подарков своей единственной дочери, и выдайте эту сумму сейчас. Я ведь у вас даже на обед и проезд не беру, мне хватает стипендии.
– Ну, сто пятьдесят за год мы, положим, не потратили бы, – проворчал папа, – буржуинство все это…
Маму я все же сумела убедить, а она уже как-то уговорила папу. «Строитель коммунизма» долго кипел и булькал от негодования, но в ноябре родители торжественно вручили мне конверт, в котором лежало четыре фиолетовых бумажки по двадцать пять рублей и одна зеленая пятидесятирублевая, до сих пор мной не виданная.
Оставалось достать настоящие джинсы. В универмагах они не продавались, только в валютных «Березках». С валютой никто из моих знакомых дел не имел, оставалось найти надежного фарцовщика, который не подсунет польскую или индийскую подделку. Мои продвинутые сокурсники водили знакомство с нужными людьми, торгующими заграничными вещами. Фарцовщики продавали вещи вдвое-втрое дороже номинала, что считалось спекуляцией и строго каралось советскими законами, но тем, кто сам не имел возможности выбраться за границу, приходилось тайно покупать именно у фарцы. Сегодня вся торговля на этом зиждется: покупаешь дешевле, продаешь дороже изначальной цены, а в семидесятые – восьмидесятые фарцовщики и спекулянты побаивались милиции и торговали из-под полы.
– Иметь надо «вранглеры» или «левисы» (Wrangler, Levis), они самые лучшие, – деловито учила меня Танька, моя нынешняя лучшая подруга.
Таня Львовская с первого курса ходила в фирменных «вранглерах», вызывая зависть у необеспеченной женской части курса и восхищение у мужской. Танька договорилась с Олегом Кошкиным, который с весны добивался ее благосклонного взгляда, чтобы тот подыскал для меня подходящие штаны. Кстати, я понятия не имела, какой размер надо заказывать Олегу, потому что американские джинсы имели другую размерную линейку. Опытный Олег цинично оглядел меня и небрежно кивнул:
– Сделаем…
Через неделю Танька передала мне пакет:
– Вот, померяй, это – настоящие «левисы» даже в фирменном пакете, только стоят они двести рублей…
Я ахнула.
– Ладно, не дрейфь, «левисы» даже круче «вранглеров», ну и не возвращать же их из-за полтоса, главное, чтобы налезли.
– Танька, у меня ж только полторы сотни, родители меня убьют или из дома выгонят, но ни за что не дадут больше…
– Ладно, одолжу тебе полтинник, потом отдашь…
Я попыталась влезть в «левисы». Это оказалось не так уж просто. На мои крутые бедра мы с Танькой штаны хоть и с трудом, но натянули, а застегнуть молнию сил не хватило: сантиметров восемь ткани не доставало.
– Лежа надо джинсы надевать, – вспомнила Танька, – потом разносятся, сядут по фигуре. Я свои тоже натягивала, еще и намочила перед тем, как влезать. Давай ложись, втяни живот, щас застегнем.
Я растянулась на полу, и мы с огромными усилиями застегнули пуговицу, а потом подняли молнию. Мне показалось, что нижняя часть туловища одеревенела. Было страшно вставать: вдруг пуговица отлетит, молния сломается, я не смогу вздохнуть? С трудом враскоряку я поднялась и замерла перед зеркалом.
– Клево сидят. – Танька обошла меня со всех сторон. – Как влитые. Вот что значит фирмА.
– По-моему, Тань, они мне маловаты…
– Балда, много ты понимаешь, джинсы только так должны сидеть, это тебе не советская мешковина.
– А вдруг я наклонюсь и пуговица отлетит или по шву где-нибудь разойдется?
– Нет, – отрезала Танька, – такого не случится. У американских штанов кругом двойная строчка и пуговица не пришита, а впаяна, как заклепка, ее вырвать можно только с мясом. Бери, не сомневайся, Олег, смотрю, расстарался…для меня. – Она кокетливо наклонила голову, и пушистая челка золотой занавеской прикрыла ее хитрющий зеленый глаз.
Я возвращалась домой на метро, перевозбужденная, радостная, как ребенок с кремлевской елки с подарком, любуясь новеньким фирменным пакетом. В вагоне всю дорогу стояла: во-первых, сесть было нереально, во-вторых, незаметно для окружающих внимательно рассматривала непривычное, точно чужое отражение крепкой задницы и длинных ног и старательно втягивала живот, только теперь понимая, как должна выглядеть девушка, которая нравится парням. Я была счастлива этим джинсам почти так же сильно, как недавно обретенной студенческой свободе на дневном отделении.
Дома мама оценила и даже выразила некоторое восхищение американскому качеству штанов – «брюк», как она выразилась. Папа пожал плечами, не видя разницы.
Носила я свои «левисы» потом несколько долгих лет. Этим американским штанам действительно ничего не делалось. От стирки джинсы становились лишь мягче и выглядели еще лучше. Влившись в ряды золотой молодежи, отличающейся от «совков», к которым я до сих пор принадлежала, я успокоилась. Наличие фирмЫ полностью компенсировало отсутствие в моем гардеробе других модных причиндалов. Остальное было неважно. Я чувствовала себя человеком, нет, не так – Человеком.
А вот Шурку Тихомирова я разлюбила, как только он начал мне улыбаться. Заметил, значит, гад. Да пошел он…
P.S. С Танькой я расплатилась через три месяца, однако мой студенческий обед почти все годы учебы состоял из одного пирожного за пятнадцать копеек и стакана кофейной бурды за десять копеек: надо же было и на развлечения тратиться.
Французские туфли
Диму мама обожала. Его вообще все любили – родные, друзья, знакомые: он никому и никогда не доставлял ни огорчений, ни хлопот. Был всегда приветливым, послушным, улыбчивым, здоровеньким – сплошная радость, а не ребенок. После того как спустя три года Мила родила второго сына и поняла, что первенец Дима – ангел не потому, что она такая распрекрасная мать, а просто сам по себе подарок, то Диму Мила просто стала боготворить. Младший Тимоха давал всем жару, Дима оказался единственным, кто кротко сносил капризы мальца. Старший Пилюгин без конца пропадал в командировках, в воспитании не участвовал, благополучно наслаждаясь коротким общением с мальчишками между отъездами.
В три года Дима выглядел уже рассудительным, солидным пацаном: приклей бороду – настоящий «мужичонка с ноготок». Пока светлый бесенок Тима забирал на себя все внимание, Дима поступил в ближайшую школу (водить его было некогда и некому) и окончил ее на отлично. Все школьные годы, помимо учебы, он успевал помогать маме по хозяйству, утешал, как мог, занимался Тимой. Почему утешал, спросите вы? Да потому, что мама отчаянно хотела девочку Соню, а когда забеременела и родила в третий раз мальчика, вообще перестала разговаривать с мужем. Это было полное фиаско Ильи Ильича, который мечтал назвать дочку Сашей.
– Сашу, значит, хотел?! Получи Шурика! Что с тебя взять, бракодел Пилюгин? Девочки получаются только у крепких мужчин…
Пилюгин еще с рождения Тимы стал тише воды ниже травы, а после Саши и вовсе сник, а ведь когда-то слыл видным мужчиной. Если на старте пилюгинского брака прохожие, завидев вышагивающую пару, удивленно переглядывались: как удалось такой некрасивой, коренастенькой, конопатой девице завладеть этаким красавцем? – то теперь рядом с женой Илья Пилюгин становился ниже ростом, и лицо его имело какое-то жалкое выражение. В доме царил жесточайший матриархат. О том, что эта форма семейного правления именно так называется, Дима выяснил к окончанию школы, когда начал интересоваться девушками. Изучив историю вопроса, разобрался наконец в отношениях родителей, которые всегда казались ему странными. На заре человечества миром правили воинствующие самки и жестоко расправлялись с непокорными мужчинами. В доме Пилюгиных женщина правила безраздельно. Папа приносил маме зарплату, мама выдавала ему ежедневный рубль на обед и строго допрашивала о каждом часе, прошедшем без нее.
* * *
В молодости Илья Пилюгин пользовался успехом у женщин. Миле пришлось немало потрудиться, чтобы отбить черноволосого кудрявого красавца Илюшу от десятка особо страждущих однокурсниц. На пятом курсе Мила удачно забеременела, Илье, как честному человеку, пришлось на ней жениться. После института семейную пару распределили в НИИ авиационной промышленности. Родился Дима. За время декрета молодая жена похудела и похорошела. Пролетел год тихого семейного счастья, но, выйдя после декретного отпуска, Мила обнаружила вокруг красавца мужа наэлектризованное поле научных сотрудниц всех возрастов. От ревности и переживаний Мила снова начала поправляться и дурнеть. Илью Пилюгина, как молодого и перспективного, частенько посылали в длительные командировки, Миле приходилось изнывать в неведении – она трудилась в соседнем отделе. Через три года Мила вновь отправилась в декрет. Никто не понял, как удалось Миле скрыть свою беременность, только, когда она явилась в кабинет начальника подписывать разрешение на декретный отпуск, все, что называется, выпали в осадок. Полненькая Мила, с юности предпочитающая широкие балахоны, никогда и ни с кем не делилась своими тайнами, тогда как личную жизнь Ильи Пилюгина обсуждали всем институтом. Выйдя из второго декрета, Мила принялась наводить порядок. Никто из коллег женского пола не имел права задерживаться возле Пилюгина. Ему также возбранялось провожать взглядом хорошеньких женщин. По каждому инциденту между супругами разгорался скандал, инициируемый сильной половиной, то есть Милой. На стороне Милы имелось численное преимущество в виде мелких Пилюгиных. В мальчишках своих Илья души не чаял, правда, от командировок не отказывался. Поездки давали ему возможность выскальзывать из-под строгого надзора жены. По возвращении командировочный чемодан тщательно осматривался, вещи обнюхивались.
Следы духов и помады ни разу не ускользнули от бдительного, мечущего молнии грозного ока Милы. Скандалы были неизбежны, как гром после вспышек молнии.
Практических психологов тогда никто не знал и не пользовал, их заменяли месткомы, профкомы и парткомы, но не такова была Мила, чтобы доверить свое личное дело кому-то. Жизнь ее убедила: хочешь сделать что-то хорошо, сделай сам. И вот настал роковой момент, когда бездонная чаша ее терпения переполнилась. Из последней командировки, куда вместе с Пилюгиным отправили институтскую королеву красоты Риту Незлобину, Илья вернулся в приподнятом настроении. Рита тоже сияла. Платиновые волосы молодой хищницы покрывали широким веером открытые плечи полупрозрачной блузки, сквозь которую победно просвечивала упругая молодая грудь. В обед Мила прогулялась в аптеку. Вернувшись, распахнула дверь в соседний отдел, деловым шагом подошла к рабочему месту оторопевшей Риты, достала из кармана пузырек зеленки, открыла и аккуратно вылила все его содержимое на макушку платиновой блондинки. Сослуживцы, слегка разморенные после обеда, резко встрепенулись, получив редкую возможность лицезреть мексиканские страсти, тем более что никаких сериалов то время по телевизору не показывали. Незлобиной пришлось взять отпуск на две недели за свой счет, а потом опозоренная красотка и вовсе перевелась в филиал института в Подмосковье. Больше на Пилюгина никто не покушался, да и сам он сильно присмирел с того случая.
