Читать онлайн Большая собачья книга бесплатно
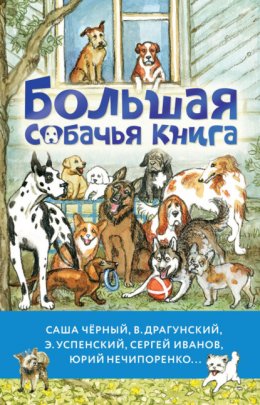
© Драгунский В.Ю., насл., 2024
© Иванов С.А., насл., 2024
© Нечипоренко Ю.Д., 2024
© Пермяк Е.А., насл., 2024
© Пришвин М.М., насл., 2024
© Успенский Э.Н., насл., 2024
© Ил., Алёшина Н.В., 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024
Л. Н. Толстой
Лев и собачка
В Лондоне показывали диких зверей и за смотренье брали деньгами или собаками и кошками на корм диким зверям.
Одному человеку захотелось поглядеть зверей: он ухватил на улице собачонку и принёс её в зверинец. Его пустили смотреть, а собачонку взяли и бросили в клетку ко льву на съеденье.
Собачка поджала хвост и прижалась в угол клетки. Лев подошёл к ней и понюхал её.
Собачка легла на спину, подняла лапки и стала махать хвостиком.
Лев тронул её лапой и перевернул.
Собачка вскочила и стала перед львом на задние лапки.
Лев смотрел на собачку, поворачивал голову со стороны на сторону и не трогал её.
Когда хозяин бросил льву мяса, лев оторвал кусок и оставил собачке.
Вечером, когда лев лёг спать, собачка легла подле него и положила свою голову ему на лапу.
С тех пор собачка жила в одной клетке со львом, лев не трогал её, ел корм, спал с ней вместе, а иногда играл с ней.
Один раз барин пришёл в зверинец и узнал свою собачку; он сказал, что собачка его собственная, и попросил хозяина зверинца отдать ему. Хозяин хотел отдать, но как только стали звать собачку, чтобы взять её из клетки, лев ощетинился и зарычал.
Так прожили лев и собачка целый год в одной клетке.
Через год собачка заболела и издохла. Лев перестал есть, а всё нюхал, лизал собачку и трогал её лапой.
Когда он понял, что она умерла, он вдруг вспрыгнул, ощетинился, стал хлестать себя хвостом по бокам, бросился на стену клетки и стал грызть засовы и пол.
Целый день он бился, метался в клетке и ревел, потом лёг подле мёртвой собачки и затих. Хозяин хотел унести мёртвую собачку, но лев никого не подпускал к ней.
Хозяин думал, что лев забудет своё горе, если ему дать другую собачку, и пустил к нему в клетку живую собачку; но лев тотчас разорвал её на куски. Потом он обнял своими лапами мёртвую собачку и так лежал пять дней.
На шестой день лев умер.
Булька
У меня была мордашка. Её звали Булькой. Она была вся чёрная, только кончики передних лап были белые.
У всех мордашек нижняя челюсть длиннее верхней и верхние зубы заходят за нижние; но у Бульки нижняя челюсть так выдавалась вперёд, что палец можно было заложить между нижними и верхними зубами. Лицо у Бульки было широкое; глаза большие, чёрные и блестящие; и зубы и клыки белые всегда торчали наружу. Он был похож на арапа. Булька был смирный и не кусался, но он был очень силён и цепок. Когда он, бывало, уцепится за что-нибудь, то стиснет зубы и повиснет, как тряпка, и его, как клещука, нельзя никак оторвать.
Один раз его пускали на медведя, и он вцепился медведю в ухо и повис, как пиявка. Медведь бил его лапами, прижимал к себе, кидал из стороны в сторону, но не мог оторвать и повалился на голову, чтобы раздавить Бульку; но Булька до тех пор на нём держался, пока его не отлили холодной водой.
Я взял его щенком и сам выкормил. Когда я ехал служить на Кавказ, я не хотел брать его и ушёл от него потихоньку, а его велел запереть. На первой станции я хотел уже садиться на другую перекладную, как вдруг увидал, что по дороге катится что-то чёрное и блестящее. Это был Булька в своём медном ошейнике. Он летел во весь дух к станции. Он бросился ко мне, лизнул мою руку и растянулся в тени под телегой. Язык его высунулся на целую ладонь. Он то втягивал его назад, глотая слюни, то опять высовывал на целую ладонь. Он торопился, не поспевал дышать, бока его так и прыгали. Он поворачивался с боку на бок и постукивал хвостом о землю.
Я узнал потом, что он после меня пробил раму и выскочил из окна и прямо, по моему следу, поскакал по дороге и проскакал так вёрст двадцать в самый жар.
Булька и кабан
Один раз на Кавказе мы пошли на охоту за кабанами, и Булька прибежал со мной. Только что гончие погнали, Булька бросился на их голос и скрылся в лесу. Это было в ноябре месяце: кабаны и свиньи тогда бывают очень жирные.
На Кавказе, в лесах, где живут кабаны, бывает много вкусных плодов: дикого винограду, шишек, яблок, груш, ежевики, желудей, терновнику. И когда все эти плоды поспеют и тронутся морозом, – кабаны отъедаются и жиреют.
В то время кабан так бывает жирен, что не долго может бегать под собаками. Когда его погоняют часа два, он забивается в чащу и останавливается. Тогда охотники бегут к тому месту, где он стоит, и стреляют. По лаю собак можно знать, стал ли кабан, или бежит. Если он бежит, то собаки лают с визгом, как будто их бьют; а если он стоит, то они лают, как на человека, и подвывают.
В эту охоту я долго бегал по лесу, но ни разу мне не удалось перебежать дорогу кабану. Наконец, я услыхал протяжный лай и вой гончих собак и побежал к тому месту. Уж я был близко от кабана. Мне уже слышен был треск по чаще. Это ворочался кабан с собаками. Но слышно было по лаю, что они не брали его, а только кружились около. Вдруг я услыхал – зашуршало что-то сзади, и увидал Бульку. Он, видно, потерял гончих в лесу и спутался, а теперь слышал их лай и так же, как я, что было духу катился в ту сторону. Он бежал через полянку, по высокой траве, и мне от него видна только была его чёрная голова и закушенный язык в белых зубах. Я окликнул его, но он не оглянулся, обогнал меня и скрылся в чаще. Я побежал за ним, но чем дальше я шёл, тем лес становился чаще и чаще. Сучки сбивали с меня шапку, били по лицу, иглы терновника цеплялись за платье. Я уже был близок к лаю, но ничего не мог видеть.
Вдруг я услыхал, что собаки громче залаяли, что-то сильно затрещало, и кабан стал отдуваться и захрипел. Я так и думал, что теперь Булька добрался до него и возится с ним. Я из последних сил побежал чрез чащу к тому месту. В самой глухой чаще я увидал пёструю гончую собаку. Она лаяла и выла на одном месте, и в трёх шагах от неё возилось и чернело что-то.
Когда я подвинулся ближе, я рассмотрел кабана и услыхал, что Булька пронзительно завизжал. Кабан захрюкал и посунулся на гончую, – гончая поджала хвост и отскочила. Мне стал виден бок кабана и его голова. Я прицелился в бок и выстрелил. Я видел, что попал. Кабан хрюкнул и затрещал прочь от меня по чаще. Собаки визжали, лаяли следом за ним, я по чаще ломился за ними. Вдруг, почти у себя под ногами, я увидал и услыхал что-то. Это был Булька. Он лежал на боку и визжал. Под ним была лужа крови. Я подумал: пропала собака; но мне теперь не до него было, я ломился дальше. Скоро я увидал кабана. Собаки хватали его сзади, а он поворачивался то на ту, то на другую сторону. Когда кабан увидал меня, он сунулся ко мне. Я выстрелил другой раз, почти в упор, так что щетина загорелась на кабане, и кабан захрипел, зашатался и всей тушей тяжело хлопнулся наземь.
Когда я подошёл, кабан уже был мёртвый и только то там, то тут его пучило и подёргивало. Но собаки, ощетинившись, одни рвали его за брюхо и за ноги, а другие лакали кровь из раны.
Тут я вспомнил про Бульку и пошёл его искать. Он полз мне навстречу и стонал. Я подошёл к нему, присел и посмотрел его рану. У него был распорот живот и целый комок кишок из живота волочился по сухим листьям. Когда товарищи подошли ко мне, мы вправили Бульке кишки и зашили ему живот. Пока зашивали живот и прокалывали кожу, он всё лизал мне руки.
Кабана привязали к хвосту лошади, чтоб вывезти из лесу, а Бульку положили на лошадь и так привезли его домой. Булька проболел недель шесть и выздоровел.
А. П. Чехов
Белолобый
1
Голодная волчиха встала, чтобы идти на охоту. Её волчата, все трое, крепко спали, сбившись в кучу, и грели друг друга. Она облизала их и пошла.
Был уже весенний месяц март, но по ночам деревья трещали от холода, как в декабре, и едва высунешь язык, как его начинало сильно щипать. Волчиха была слабого здоровья, мнительная; она вздрагивала от малейшего шума и всё думала о том, как бы дома без неё кто не обидел волчат. Запах человеческих и лошадиных следов, пни, сложенные дрова и тёмная унавоженная дорога пугали её; ей казалось, будто за деревьями в потёмках стоят люди и где-то за лесом воют собаки.
Она была уже не молода и чутьё у неё ослабело, так что, случалось, лисий след она принимала за собачий и иногда даже, обманутая чутьём, сбивалась с дороги, чего с нею никогда не бывало в молодости. По слабости здоровья она уже не охотилась на телят и крупных баранов, как прежде, и уже далеко обходила лошадей с жеребятами, а питалась одною падалью; свежее мясо ей приходилось кушать очень редко, только весной, когда она, набредя на зайчиху, отнимала у неё детей или забиралась к мужикам в хлев, где были ягнята.
В верстах четырёх от её логовища, у почтовой дороги, стояло зимовье. Тут жил сторож Игнат, старик лет семидесяти, который всё кашлял и разговаривал сам с собой; обыкновенно ночью он спал, а днём бродил по лесу с ружьём-одностволкой и посвистывал на зайцев. Должно быть, раньше он служил в механиках, потому что каждый раз, прежде чем остановиться, кричал себе: «Стоп, машина!» и прежде чем пойти дальше: «Полный ход!» При нём находилась громадная чёрная собака неизвестной породы, по имени Арапка. Когда она забегала далеко вперёд, то он кричал ей: «Задний ход!» Иногда он пел и при этом сильно шатался и часто падал (волчиха думала, что это от ветра) и кричал: «Сошёл с рельсов!»
Волчиха помнила, что летом и осенью около зимовья паслись баран и две ярки[1], и когда она не так давно пробегала мимо, то ей послышалось, будто в хлеву блеяли. И теперь, подходя к зимовью, она соображала, что уже март и, судя по времени, в хлеву должны быть ягнята непременно. Её мучил голод, она думала о том, с какой жадностью она будет есть ягнёнка, и от таких мыслей зубы у неё щёлкали и глаза светились в потёмках, как два огонька.
Изба Игната, его сарай, хлев и колодец были окружены высокими сугробами. Было тихо. Арапка, должно быть, спала под сараем.
По сугробу волчиха взобралась на хлев и стала разгребать лапами и мордой соломенную крышу. Солома была гнилая и рыхлая, так что волчиха едва не провалилась; на неё вдруг прямо в морду пахнуло тёплым паром и запахом навоза и овечьего молока. Внизу, почувствовав холод, нежно заблеял ягнёнок. Прыгнув в дыру, волчиха упала передними лапами и грудью на что-то мягкое и тёплое, должно быть, на барана, и в это время в хлеву что-то вдруг завизжало, залаяло и залилось тонким, подвывающим голоском, овцы шарахнулись к стенке, и волчиха, испугавшись, схватила, что первое попалось в зубы, и бросилась вон…
Она бежала, напрягая силы, а в это время Арапка, уже почуявшая волка, неистово выла, кудахтали в зимовье потревоженные куры, и Игнат, выйдя на крыльцо, кричал:
– Полный ход! Пошёл к свистку!
И свистел, как машина, и потом – го-го-го-го!.. И весь этот шум повторяло лесное эхо.
2
Когда мало-помалу всё это затихло, волчиха успокоилась немного и стала замечать, что её добыча, которую она держала в зубах и волокла по снегу, была тяжелее и как будто твёрже, чем обыкновенно бывают в эту пору ягнята; и пахло как будто иначе, и слышались какие-то странные звуки… Волчиха остановилась и положила свою ношу на снег, чтобы отдохнуть и начать есть, и вдруг отскочила с отвращением. Это был не ягнёнок, а щенок, чёрный, с большой головой и на высоких ногах, крупной породы, с таким же белым пятном во весь лоб, как у Арапки. Судя по манерам, это был невежа, простой дворняжка. Он облизал свою помятую, раненую спину и, как ни в чём не бывало, замахал хвостом и залаял на волчиху. Она зарычала, как собака, и побежала от него. Он за ней. Она оглянулась и щёлкнула зубами; он остановился в недоумении и, вероятно, решив, что это она играет с ним, протянул морду по направлению к зимовью и залился звонким радостным лаем, как бы приглашая мать свою Арапку поиграть с ним и с волчихой.
Уже светало, и когда волчиха пробиралась к себе густым осинником, то было видно отчётливо каждую осинку, и уже просыпались тетерева и часто вспархивали красивые петухи, обеспокоенные неосторожными прыжками и лаем щенка.
«Зачем он бежит за мной? – думала волчиха с досадой. – Должно быть, он хочет, чтобы я его съела».
Жила она с волчатами в неглубокой яме; года три назад во время сильной бури вывернуло с корнем высокую старую сосну, отчего и образовалась эта яма. Теперь на дне её были старые листья и мох, тут же валялись кости и бычьи рога, которыми играли волчата. Они уже проснулись, и все трое, очень похожие друг на друга, стояли рядом на краю своей ямы и, глядя на возвращающуюся мать, помахивали хвостами. Увидев их, щенок остановился поодаль и долго смотрел на них; заметив, что они тоже внимательно смотрят на него, он стал лаять на них сердито, как на чужих.
Уже рассвело и взошло солнце, засверкал кругом снег, а он всё стоял поодаль и лаял. Волчата сосали свою мать, пихая её лапами в тощий живот, а она в это время грызла лошадиную кость, белую и сухую; её мучил голод, голова разболелась от собачьего лая, и хотелось ей броситься на непрошенного гостя и разорвать его.
Наконец щенок утомился и охрип; видя, что его не боятся и даже не обращают на него внимания, он стал несмело, то приседая, то подскакивая, подходить к волчатам. Теперь, при дневном свете, легко уже было рассмотреть его… Белый лоб у него был большой, а на лбу бугор, какой бывает у очень глупых собак; глаза были маленькие, голубые, тусклые, а выражение всей морды чрезвычайно глупое. Подойдя к волчатам, он протянул вперёд широкие лапы, положил на них морду и начал:
– Мня, мня… нга-нга-нга!..
Волчата ничего не поняли, но замахали хвостами. Тогда щенок ударил лапой одного волчонка по большой голове. Волчонок тоже ударил его лапой по голове. Щенок стал к нему боком и посмотрел на него искоса, помахивая хвостом, потом вдруг рванулся с места и сделал несколько кругов по насту[2]. Волчата погнались за ним, он упал на спину и задрал вверх ноги, и они втроём напали на него и, визжа от восторга, стали кусать его, но не больно, а в шутку. Вороны сидели на высокой сосне и смотрели сверху на их борьбу, и очень беспокоились. Стало шумно и весело. Солнце припекало уже по-весеннему; и петухи, то и дело перелетавшие через сосну, поваленную бурей, при блеске солнца казались изумрудными.
Обыкновенно волчихи приучают своих детей к охоте, давая им поиграть с добычей; и теперь, глядя, как волчата гонялись по насту за щенком и боролись с ним, волчиха думала:
«Пускай приучаются».
Наигравшись, волчата пошли в яму и легли спать. Щенок повыл немного с голоду, потом также растянулся на солнышке. А проснувшись, опять стали играть.
Весь день и вечером волчиха вспоминала, как прошлою ночью в хлеву блеял ягнёнок и как пахло овечьим молоком, и от аппетита она всё щёлкала зубами и не переставала грызть с жадностью старую кость, воображая себе, что это ягнёнок. Волчата сосали, а щенок, который хотел есть, бегал кругом и обнюхивал снег.
«Съем-ка его…» – решила волчиха.
Она подошла к нему, а он лизнул её в морду и заскулил, думая, что она хочет играть с ним. В былое время она едала собак, но от щенка сильно пахло псиной, и, по слабости здоровья, она уже не терпела этого запаха; ей стало противно, и она отошла прочь…
К ночи похолодело. Щенок соскучился и ушёл домой.
Когда волчата крепко уснули, волчиха опять отправилась на охоту. Как и в прошлую ночь, она тревожилась малейшего шума, и её пугали пни, дрова, тёмные, одиноко стоящие кусты можжевельника, издали похожие на людей. Она бежала в стороне от дороги, по насту. Вдруг далеко впереди на дороге замелькало что-то тёмное… Она напрягла зрение и слух: в самом деле, что-то шло впереди, и даже слышны были мерные шаги. Не барсук ли? Она осторожно, чуть дыша, забирая всё в сторону, обогнала тёмное пятно, оглянулась на него и узнала. Это, не спеша, шагом, возвращался к себе в зимовье щенок с белым лбом.
«Как бы он опять мне не помешал», – подумала волчиха и быстро побежала вперёд.
Но зимовье было уже близко. Она опять взобралась на хлев по сугробу. Вчерашняя дыра была уже заделана яровой соломой[3], и по крыше протянулись две новые слеги[4]. Волчиха стала быстро работать ногами и мордой, оглядываясь, не идёт ли щенок, но едва пахнуло на неё тёплым паром и запахом навоза, как сзади послышался радостный, заливчатый лай. Это вернулся щенок. Он прыгнул к волчихе на крышу, потом в дыру и, почувствовав себя дома, в тепле, узнав своих овец, залаял ещё громче… Арапка проснулась под сараем и, почуяв волка, завыла, закудахтали куры, и когда на крыльце показался Игнат со своей одностволкой, то перепуганная волчиха была уже далеко от зимовья.
– Фюйть! – засвистел Игнат. – Фюйть! Гони на всех парах!
Он спустил курок – ружьё дало осечку; он спустил ещё раз – опять осечка; он спустил в третий раз – и громадный огненный сноп вылетел из ствола и раздалось оглушительное «бу! бу!». Ему сильно отдало в плечо; и, взявши в одну руку ружьё, а в другую топор, он пошёл смотреть, отчего шум…
Немного погодя он вернулся в избу.
– Что там? – спросил хриплым голосом странник, ночевавший у него в эту ночь и разбуженный шумом.
– Ничего… – ответил Игнат. – Пустое дело. Повадился наш Белолобый с овцами спать, в тепле. Только нет того понятия, чтобы в дверь, а норовит всё как бы в крышу. Намедни ночью разобрал крышу и гулять ушёл, подлец, а теперь вернулся и опять разворошил крышу.
– Глупый.
– Да, пружина в мозгу лопнула. Смерть не люблю глупых! – вздохнул Игнат, полезая на печь. – Ну, божий человек, рано ещё вставать, давай спать полным ходом…
А утром он подозвал к себе Белолобого, больно оттрепал его за уши и потом, наказывая его хворостиной, всё приговаривал:
– Ходи в дверь! Ходи в дверь! Ходи в дверь!
М. Пришвин
Лимон
В одном совхозе было. Пришёл к директору знакомый китаец и принёс подарок. Директор, Трофим Михайлович, услыхав о подарке, замахал рукой. Огорчённый китаец поклонился и хотел уходить. А Трофиму Михайловичу стало жалко китайца, и он остановил его вопросом:
– Какой же ты хотел поднести мне подарок?
– Я хотел бы, – ответил китаец, – поднести тебе в подарок свой маленький собак, самый маленький, какой только есть в свете.
Услышав о собаке, Трофим Михайлович ещё больше смутился. В доме директора в это время было много разных животных: жил кудрявый пёс Нелли и гончая собака Трубач, жил Мишка, кот чёрный, блестящий и самостоятельный, жил грач ручной, ёжик домашний и Борис, молодой красивый баран. Жена директора Елена Васильевна очень любила животных. При таком множестве дармоедов Трофим Михайлович, понятно, должен был смутиться, услыхав о новой собачке.
– Молчи! – сказал он тихонько китайцу и приложил палец к губам.
Но было уже поздно: Елена Васильевна услыхала слова о самой маленькой во всём мире собачке.
– Можно посмотреть? – спросила она, появляясь в конторе.
– Собак здесь! – ответил китаец. – Он здесь! – повторил китаец. – Не надо совсем приведи.
И вдруг с очень доброй улыбкой вынул из своей кофты притаённую за пазухой собачку, каких я в жизни своей никогда не видел и, наверное, у нас в Москве мало кто видел. Моей мягкой шляпой её можно было бы прикрыть, прихватить и так унести. Она была рыженькая, с очень короткой шерстью, почти голая и, как самая тоненькая пружинка, постоянно отчего-то дрожала. Такая маленькая, а глазища большие, чёрные, блестящие и навыкате, как у муравья.
– Что за прелесть! – воскликнула Елена Васильевна.
– Возьми его! – сказал счастливый похвалой китаец.
И передал свой подарок хозяйке.
Елена Васильевна села на стул, взяла к себе на колени дрожавшую не то от холода, не то от страха пружинку, и сейчас же маленькая верная собачка начала ей служить, да ещё как служить! Трофим Михайлович протянул было руку погладить своего нового жильца, и в один миг тот схватил его за указательный палец. Но, главное, при этом поднял в доме такой сильный визг, как будто кто-то на бегу схватил поросёнка за хвостик и держал. Визжал долго, взлаивал, захлёбывался, дрожал, голенький, от холода и злости, как будто не он директора, а его самого укусили.
Вытирая платком кровь на пальце, недовольный Трофим Михайлович сказал, внимательно вглядываясь в нового сторожа своей жены:
– Визгу много, шерсти мало!
Услыхав визг и лай, прибежали Нелли, Трубач, Борис и кот. Мишка прыгнул на подоконник. На открытой форточке пробудился задремавший грач. Новый жилец принял всех их за неприятелей своей дорогой хозяйки и бросился в бой. Он выбрал себе почему-то барана и больно укусил его за ногу. Борис метнулся на диван. Нелли и Трубач от маленького чудовища унеслись из конторы в столовую. Проводив огромных врагов, маленький воин кинулся на Мишку, но тот не побежал, а, изогнув спину дугой, завёл свою общеизвестную ядовитую военную песню.
– Нашла коса на камень! – сказал Трофим Михайлович, высасывая кровь из раненого указательного пальца. – Визгу много, шерсти мало! – повторил он своему обидчику и сказал коту Мишке, подтолкнув его ногой: – Ну-ка, Мишка, пыхни в него!
Мишка запел ещё громче и хотел было пыхнуть, но, быстро заметив, что враг от песни его даже не моргнул, он метнулся сначала на подоконник, а потом и в форточку. А за котом и грач полетел. После этого большого дела победитель как ни в чём не бывало прыгнул обратно на колени своей хозяйки.
– А как его звать? – спросила очень довольная всем виденным Елена Васильевна.
Китаец ответил просто:
– Лимон.
Никто не стал добиваться, что значит по-китайски слово «лимон», все подумали: собачка очень маленькая, жёлтая, и лимон – кличка подходящая.
Так начал этот забияка властвовать и тиранить дружных между собой и добродушных зверей.
В это время я гостил у директора и четыре раза в день приходил есть и пить чай в столовую.
Лимон возненавидел меня, и довольно мне было показаться в столовой, чтобы он летел с коленей хозяйки навстречу моему сапогу, а когда сапог его легонечко задевал, летел обратно на колени и ужасным визгом возбуждал хозяйку против меня. Во время самой еды он несколько примолкал, но опять начинал, когда я в забывчивости после обеда пытался приблизиться к хозяйке и поблагодарить.
Моя комната от хозяйских комнат отделялась тоненькой перегородкой, и от вечных завываний маленького тирана мне совсем почти невозможно было ни читать, ни писать. А однажды глубокой ночью меня разбудил такой визг у хозяев, что я подумал, не забрались ли уж к нам воры или разбойники. С оружием в руке бросился я на хозяйскую половину. Оказалось, другие жильцы тоже прибежали на выручку и стояли кто с ружьём, кто с револьвером, кто с топором, кто с вилами, а в середине круга Лимон дрался с домашним ежом. И много такого случалось почти ежедневно. Жизнь становилась тяжёлой, и мы с Трофимом Михайловичем стали крепко задумываться, как бы нам избавиться от неприятностей.
Однажды Елена Васильевна ушла куда-то и в первый раз за всё время оставила почему-то Лимона дома. Тогда мгновенно мелькнул у меня в голове план спасения, и, взяв в руки шляпу, я прямо пошёл в столовую. План же мой был в том, чтобы хорошенько припугнуть забияку.
– Ну, брат, – сказал я Лимону, – хозяйка ушла, теперь твоя песенка спета. Сдавайся уж лучше.
И, дав ему грызть свой тяжёлый сапог, я сверху вдруг накрыл своей мягкой шляпой, обнял полями и, перевернув, посмотрел: в глубине шляпы лежал молчаливый комок, и глаза оттуда смотрели большие и, как мне показалось, печальные.
Мне даже стало чуть-чуть жалко, и в некотором смущении я подумал: «А что, если от страха и унижения у забияки сделается разрыв сердца? Как я отвечу тогда Елене Васильевне?»
– Лимон, – стал я его ласково успокаивать, – не сердись, Лимон, на меня, будем друзьями.
И погладил его по голове. Погладил ещё и ещё. Он не противился, но и не веселел. Я совсем забеспокоился и осторожно пустил его на пол. Почти шатаясь, он тихо пошёл в спальню. Даже обе большие собаки и баран насторожились и проводили его удивлёнными глазами.
За обедом, за чаем, за ужином в этот день Лимон молчал, и Елена Васильевна стала думать, не заболел ли уж он. На другой день после обеда я даже подошёл к хозяйке и в первый раз имел удовольствие поблагодарить её за руку. Лимон как будто набрал в рот воды.
– Что-то вы с ним сделали в моё отсутствие? – спросила Елена Васильевна.
– Ничего, – ответил я спокойно. – Наверное, он начал привыкать – ведь пора!
Я не решился ей сказать, что Лимон побывал у меня в шляпе. Но с Трофимом Михайловичем мы радостно перешепнулись, и, казалось, он ничуть не удивился, что Лимон потерял свою силу от шляпы.
– Все забияки такие, – сказал он, – и наговорит-то тебе, и навизжит, и пыль пустит в глаза, но стоит посадить его в шляпу – и весь дух вон. Визгу много, шерсти мало!
Как я научил своих собак горох есть
Лада, старый пойнтер десяти лет, – белая с жёлтыми пятнами. Травка – рыжая, лохматая, ирландский сеттер, и ей всего только десять месяцев. Лада – спокойная и умная. Травка – бешеная и не сразу меня понимает. Если я, выйдя из дому, крикну: «Травка!» – она на одно мгновение обалдеет. И в это время Лада успевает повернуть к ней голову и только не скажет словами: «Глупенькая, разве ты не слышишь, хозяин зовёт».
Сегодня я вышел из дому и крикнул:
– Лада, Травка, горох поспел, идёмте скорей горох есть!
Лада уже лет восемь знает это и теперь даже любит горох: горох ли, малина, клубника, черника, даже редиска, даже репа и огурец, только не лук. Я, бывало, ем, а она, умница, вдумывается, глядишь, и себе начинает рвать стручок за стручком. Полный рот, бывало, наберёт гороху и жуёт, а горох с обеих сторон изо рта сыплется, как из веялки. Потом выплюнет шелуху, а самый горох с земли языком соберёт весь до зёрнышка.
Вот и теперь я беру толстый зелёный стручок и предлагаю его Травке. Ладе, старухе, уж, конечно, это не очень нравится, что я предпочитаю ей молодую Травку. Лохмушка берёт в рот стручок и выплёвывает. Второй даю – и второй выплёвывает. Третий стручок даю Ладе. Берёт. После Лады опять Травке даю. Берёт. И так пошло скоро: один стручок Ладе, другой – Травке. Дал по десять стручков.
– Жуйте, работайте!
И пошли жернова молоть горох, как на мельнице. Так и хлещет горох в разные стороны у той и другой. Наконец Лада выплюнула шелуху, и вслед за ней Травка тоже выплюнула. Лада стала языком зёрна собирать. Травка попробовала и вдруг поняла: и стала есть горох с таким же удовольствием, как и Лада. Она стала есть потом и малину, и клубнику, и огурцы. И всему этому я научил Травку из-за большой любви ко мне Лады: Лада ревнует ко мне Травку и ест, Травка Ладу ревнует и ест. Мне кажется, если я устрою между ними соревнование, то они, пожалуй, скоро у меня и лук будут есть.
Предательская колбаса
Ярик очень подружился с молодым Рябчиком и целый день с ним играл. Так в игре он провёл неделю, а потом я переехал с ним из этого города в пустынный домик в лесу, в шести верстах от Рябчика. Не успел я устроиться и как следует осмотреться на новом месте, как вдруг у меня пропадает Ярик. Весь день я искал его, всю ночь не спал, каждый час выходил на терраску и свистел. Утром – только собрался было идти в город, в милицию – являются мои дети с Яриком: он, оказалось, был в гостях у Рябчика. Я ничего не имею против дружбы собак, но нельзя же допустить, чтобы Ярик без разрешения оставлял службу у меня.
– Так не годится, – сказал я строгим голосом, – это, брат, не служба. А кроме того, ты ушёл без намордника, значит, каждый встречный имеет право тебя застрелить. Безобразный ты пёс.
Я всё высказал суровым голосом, и он выслушал меня, лёжа на траве, виноватый, смущённый, не Ярик – золотистый, гордый ирландец, а какая-то рыжая, ничтожная, сплющенная черепаха.
– Не будешь больше ходить к Рябчику? – спросил я более добрым голосом.
Он прыгнул ко мне на грудь. Это у него значило:
– Никогда не буду, добрый хозяин.
– Перестань лапиться, – сказал я строго.
И простил.
Он покатался в траве, встряхнулся и стал обыкновенным хорошим Яриком.
Мы жили в дружбе недолго, всего только неделю, а потом он снова куда-то исчез. Вскоре дети, зная, как тревожусь о нём, привели беглеца: он опять сделал Рябчику незаконный визит. В этот раз я не стал с ним разговаривать и отправил в тёмный подвал, а детей просил, чтобы в следующий раз они только известили меня, но не приводили и не давали там ему пищи. Мне хотелось, чтобы он вернулся по доброй воле.
В тёмном подвале путешественник пробыл у меня сутки. Потом, как обыкновенно, я серьёзно поговорил с ним и простил. Наказание подвалом подействовало только на две недели. Дети прибежали ко мне из города:
– Ярик у нас.
– Так ничего же ему не давайте, – велел я, – пусть проголодается и придёт сам, а я подготовлю ему хорошую встречу.
Прошёл день. Наступила ночь. Я зажёг лампу, сел на диван, стал читать книжку. Налетело на огонь множество бабочек, жуков, всё это стало кружиться возле лампы, валиться на книгу, на шею, путаться в волосах. Но закрыть дверь на террасу было нельзя, потому что это был единственный выход, через который мог явиться ожидаемый Ярик. Я, впрочем, не обращал внимания на бабочек и жуков, книга была увлекательной, и шёлковый ветерок, долетая из леса, приятно шумел. Я и читал и слушал музыку леса. Но вдруг мне что-то показалось в уголку глаза. Я быстро поднял голову, и это исчезло. Теперь я стал прилаживаться так читать, чтобы, не поднимая головы, можно было наблюдать порог. Вскоре там показалось нечто рыжее, стало красться в обход стола, и, я думаю, мышь слышней пробежала бы, чем как это большое подползло под диван. Только знакомое неровное дыхание подсказало мне, что Ярик был под диваном и лежал как раз подо мной. Некоторое время я читаю и жду, но терпения у меня хватило ненадолго. Встаю, выхожу на террасу и начинаю звать Ярика строгим голосом и ласковым, громко и тихо, свистать и даже трубить. Так уверил я лежащего под диваном, что ничего не знаю о его возвращении.
Потом я закрыл дверь от бабочек и говорю вслух:
– Верно, Ярик уже не придёт, пора ужинать.
Слово ужинать Ярик знает отлично. Но мне показалось, что после моих слов под диваном прекратилось даже дыхание.
В моём охотничьем столе лежит запас копчёной колбасы, которая чем больше сохнет, тем становится вкуснее. Я очень люблю сухую охотничью колбасу и всегда ем её вместе с Яриком. Бывало, мне довольно только ящиком шевельнуть, чтобы Ярик, спящий колечком, развернулся, как стальная пружина, и подбежал к столу, сверкая огненным взглядом.
Я выдвинул ящик, – из-под дивана ни звука. Раздвигаю колени, смотрю вниз – нет ли там на полу рыжего носа, – нет, носа не видно. Режу кусочек, громко жую, заглядываю – нет, хвост не молотит. Начинаю опасаться, не показалась ли мне рыжая тень от сильного ожидания и Ярика вовсе и нет под диваном. Трудно думать, чтобы он, виноватый, не соблазнился даже и колбасой, ведь он так любит её; если я, бывало, возьму кусочек, надрежу, задеру шкурку, чтобы можно было за кончик её держаться пальцами и кусочек её висел бы на нитке, то Ярик задерёт нос вверх, стережёт долго и вдруг прыгнет. Но мало того: если я успею во время прыжка отдёрнуть вверх руку с колбасой, то Ярик так и остаётся на задних ногах, как человек. Я иду с колбасой, и Ярик идёт за мной на двух ногах, опустив передние лапы, как руки, и так мы обходим комнату и раз, и два, и даже больше. Я надеюсь в будущем посредством колбасы вообще приучить ходить его по-человечески и когда-нибудь во время городского гулянья появиться там под руку с рыжим хвостатым товарищем.
И так вот, зная, как Ярик любит колбасу, я не могу допустить, чтобы он был под диваном. Делаю последний опыт, бросаю вниз не кусочек, а только шкурку и наблюдаю. Но как внимательно я ни смотрю, ничего не могу заметить: шкурка исчезла как будто сама по себе. В другой раз я всё-таки добился: видел, как мелькнул язычок.
Ярик тут, под диваном.
Теперь я отрезаю от колбасы круглый конец с носиком, привязываю нитку за носик и тихонько спускаю вниз между коленями. Язык показался, я потянул за нитку, язык скрылся. Переждав немного, спускаю опять – теперь показался нос, потом лапы. Больше нечего в прятки играть: я вижу его, и он меня видит. Поднимаю выше кусочек. Ярик поднимается на задние лапы, идёт за мной, как человек, на двух ногах, на террасу, спускается по лесенке на четырёх по-собачьи. Теперь он понимает мою страшную затею и ложится на землю пластом, как черепаха. А я отворяю подвальную дверь и говорю:
– Пожалуйте, молодой человек.
Саша Чёрный
Дневник Фокса Микки
О Зине, о еде, о корове и т. п
Моя хозяйка Зина больше похожа на фокса, чем на девочку: визжит, прыгает, ловит руками мяч (ртом она не умеет) и грызёт сахар, совсем как собачонка. Всё думаю – нет ли у неё хвостика? Ходит она всегда в своих девочкиных попонках; а в ванную комнату меня не пускает, – уж я бы подсмотрел.
Вчера она расхвасталась: видишь, Микки, сколько у меня тетрадок. Арифметика – диктовка – сочинения… А вот ты, цуцик несчастный, ни говорить, ни читать, ни писать не умеешь.
Гав! Я умею думать, – и это самое главное. Что лучше: думающий фокс или говорящий попугай? Ага!
Читать я немножко умею – детские книжки с самыми крупными буквами.
Писать… Смейтесь, смейтесь (терпеть не могу, когда люди смеются)! – писать я тоже научился.
Правда, пальцы на лапах у меня не загибаются, я ведь не человек и не обезьяна. Но я беру карандаш в рот, наступаю лапой на тетрадку, чтобы она не ёрзала, – и пишу.
Сначала буквы были похожи на раздавленных дождевых червяков. Но фоксы гораздо прилежнее девочек. Теперь я пишу не хуже Зины. Вот только не умею точить карандашей. Когда мой иступится, я бегу тихонько в кабинет и тащу со стола отточенные людьми огрызочки.
* * *
Ставлю три звёздочки. Я видал в детских книжках: когда человек делает прыжок к новой мысли, он ставит три звёздочки…
Что важнее всего в жизни? Еда. Нечего притворяться! У нас полон дом людей. Они разговаривают, читают, плачут, смеются – а потом садятся есть. Едят утром, едят в полдень, едят вечером. А Зина ест даже ночью – прячет под подушку бисквиты и шоколадки и потихоньку чавкает.
Как много они едят! Как долго они едят! Как часто они едят. И говорят ещё, что я обжора…
Сунут косточку от телячьей котлетки (котлетку сами съедят!), нальют полблюдца молока – и всё.
Разве я пристаю, разве я прошу ещё, как Зина и другие дети? Разве я ем сладкое: клейстер, который называется киселём, или жидкую гадость из чернослива и изюма, или холодный ужас, который они называют мороженым? Я деликатнее всех собак, потому что я породистый фокс. Погрызу косточку, съем, осторожно взяв из рук Зины, бисквит, и всё.
Но они… Зачем эти супы? Разве не вкуснее чистая вода?
Зачем эти горошки, морковки, сельдерейки и прочие гадости, которыми они портят жарко`е?
Зачем вообще варить и жарить?
Я недавно попробовал кусочек сырого мяса (упал на кухне на пол – я имел полное право его съесть!)… Уверяю вас, оно было гораздо вкусней всех этих шипящих на сковородке котлет…
И как было бы хорошо, если бы не варили и не жарили! Не было бы кухарок: они совсем не умеют обращаться с порядочными собаками. Ели бы все на полу, без посуды, – мне было бы веселей. А то всегда сидишь под столом, среди чужих ног. Толкаются, наступают на лапы. Подумаешь, как весело!..
Или ещё лучше – ели бы на траве перед домом. Каждому по сырой котлетке. А после обеда все бы барахтались и визжали, как Зина со мной… Гав-гав!
Меня называют обжорой (выпил глоток молока из кошкиного блюдца, подумаешь)…
А сами… После супа, после жаркого, после компота, после сыра – они ещё пьют разноцветные штуки: красную – вино, жёлтую – пиво, чёрную – кофе… Зачем? Я зеваю под столом до слёз, привык около людей околачиваться, а они всё сидят, сидят, сидят… Гав! И всё говорят, говорят, говорят, точно у каждого граммофон в животе завели.
* * *
Три звёздочки.
Новая мысль. Наша корова – дура. Почему она даёт столько молока? У неё один сын – телёнок, а она кормит весь дом. И чтоб давать столько молока, она весь день ест, ест свою траву, даже смотреть жалко. Я бы не выдержал. Почему лошадь не даёт столько молока? Почему кошка кормит своих котят и больше ни о ком не заботится?
Разве говорящему попугаю придёт в голову такая мысль?
И ещё. Почему куры несут столько яиц? Это ужасно. Никогда они не веселятся, ходят, как сонные мухи, летать совсем разучились, не поют, как другие птицы… Это всё из-за этих несчастных яиц.
Я яиц не терплю. Зина – тоже. Если бы я мог объясниться с курами, я бы им отсоветовал нести столько яиц.
Хорошо всё-таки быть фоксом: не ем супа, не играю на этой проклятой музыке, по которой Зина бегает пальцами, не даю молока и «тому подобное», как говорит Зинин папа.
Трах! Карандаш надломился. Надо писать осторожнее – кабинет на замке, а там все карандаши.
В следующий раз сочиню собачьи стихи – очень это меня интересует.
Фокс Микки, первая собака, умеющая писать
Стихи, котята и блохи
Взрослые всегда читают про себя. Скучные люди – эти взрослые, вроде старых собак. А Зина – читает вслух, нараспев и всё время вертится, хлопает себя по коленке и показывает мне язык. Конечно, так веселей. Я лежу на коврике, слушаю и ловлю блох. Очень это во время чтения приятно.
И вот я заметил, что есть такие штучки, которые Зина совсем по-особому читает – точно котлетки рубит. Сделает передышку, языком прищёлкнет и опять затарахтит. А на конце каждой строчки – ухо у меня тонкое – похожие друг на друга кусочки звучат: «дети – отца, сети – мертвеца»… Вот это и есть стихи.
Вчера весь день пролежал под диваном, даже похудел. Всё хотел одну такую штучку сочинить. Придумал – и ужасно горжусь.
- По веранде ветер дикий
- Гонит листья всё быстрей.
- Я весёлый фоксик Микки,
- Самый умный из зверей!
Замечательно! Сочинил и так волновался, что Даже не мог обедать. Подумайте! Это первые в мире собачьи стихи, а ведь я не учился ни в гимназии, ни в «цехе поэтов»… Разве наша кухарка сочинит такие стихи? А ведь ей сорок три года, а мне только два. Гав! Эта кубышка Зина и не подозревает, кто у неё живёт в доме… Запеленала меня в салфетку, уткнула в колени и делает мне замшевой притиралкой маникюр. Молчу и вздыхаю. Разве девочка что-нибудь путное придумает?
И вот, лёжа пробовал прочесть про себя свои стихи наоборот. Тяв! Может быть, так ещё звончей будет?..
- Дикий ветер веранде по
- Быстрей всё листья гонит…
- Микки фоксик весёлый я,
- Зверей из умный самый…
Ай-яй-яй! Что же это такое?
Котята! Скажите пожалуйста!.. Их мать, хитрая тварь, исчезает в парке на весь день: шмыг – и нету, как комар в ёлке. А я должен играть с её детьми… Один лижет меня в нос. Я тоже его лизнул, хотя зубы у меня почему-то вдруг щёлкнули… Другой сосёт мое ухо. Мамка я ему, что ли? Третий лезет ко мне на спину и так царапается, словно меня тёркой скребут. Р-р-р-р! Тише, Микки, тише… Зина хохочет и захлёбывается: ты, говорит, их двоюродный папа.
Я не сержусь: надо же им кого-нибудь лизать, сосать и царапать… Но зачем же эта девчонка смеётся?
Ах, как странно, как странно! Сегодня бессовестная кошка вернулась наконец к своим детям. И знаете, когда они бросили меня и полезли все под свою маму – я посмотрел из-под скатерти, задрожал всей шкурой от зависти и нервно всхлипнул. Непременно напишу об этом стишок.
Ушёл в аллею. Не хочу больше играть с котятами! Они не оценили моего сердца. Не хочу больше играть с Зиной! Она вымазала мне нос губной помадой…
Сделаюсь диким фоксом, буду жить на каштане и ловить голубей. У-у-у!
* * *
Видел на граммофонной пластинке нацарапанную картинку: фокс сидит перед трубой, склонил голову набок, свесил ухо и слушает. Че-пу-ха! Ни один порядочный фокс не будет слушать эту хрипящую, сумасшедшую машину. Если бы я был Зинин папа, уж я бы лучше держал в гостиной корову. Она ведь тоже мычит и ревёт, да и доить её удобней дома, чем бегать к ней в сарай. Странные люди…
С Зиной помирился: она катала по паркету игрушечный кегельный шар, а я его со всех ног ловил. Ах, как я люблю всё круглое, всё, что катится, всё, что можно ловить!..
Но девочка… всегда останется девочкой. Села на пол и зевает: «Кактебе, Микки, не надоест сто раз делать одно и то же?»
Да? У неё есть кукла, и книжки, и подруги, папа её курит, играет в какие-то дурацкие карты и читает газеты, мама её все время одевается и раздевается… А у меня только мой шар – и меня ещё попрекают!
Ненавижу блох. Не-на-ви-жу. Могли бы, кажется, кусать кухарку (Зину мне жалко), так нет – целый день грызут меня, точно я сахарный… Даже с котят все на меня перескочили. Ладно! Пойду в переднюю, лягу на шершавый коврик спиной книзу и так их разотру, что они в обморок попадают. Гав-гав-гав!
Затопили камин. Смотрю на огонь. А что такое огонь – никому не известно.
Фокс Микки, Собака-поэт, Умнее которой в мире нет…
Разные вопросы, мой сон и мои собачьи мысли
Вопросом называется такая строчка, в конце которой стоит рыболовный крючок – вопросительный знак.
Меня мучают пять вопросов:
Почему Зинин папа сказал, что у него «глаза на лоб полезли»? Никуда они не полезли, я сам видел. Зачем же он говорит глупости? Я прокрался к шкафу, сел перед зеркалом и изо всех сил закатил кверху глаза. Чушь! Лоб вверху и глаза на своём месте.
Живут ли на Луне фоксы, что они едят и воют ли на Землю, как я иногда на Луну? И куда они деваются, когда лунная тарелка вдруг исчезает на много дней неизвестно куда?.. Микки, Микки, ты когда-нибудь сойдёшь с ума!
Зачем рыбы лезут в пустую сетку, которая называется ве́ршей? Раз не умеешь жить над водой, так и сиди себе тихо в пруду. Очень мне их жалко! Утром плавали и пускали пузыри, а вечером перевариваются в тёмном и тесном человеческом желудке. Да ещё гнусная кошка все кишочки по саду растаскала…
Почему Зинина бонна всё была брюнеткой, а сегодня у неё волосы как соломенный сноп? Зина хихикнула, а я испугался и подумал: хорошо, Микки, что ты собака… Женили бы тебя на такой попугайке: во вторник она чёрная, в среду – оранжевая, а в четверг – голубая с зелёными полосками… Фу! Даже температура поднялась.
Почему, когда я себя веду дурно, на меня надевают намордник, а садовник два раза в неделю напивается, буянит, как бешеный бык, – и хоть бы что?! Зинин дядя говорит, что садовник был контужен и поэтому надо к нему относиться снисходительно. Непременно узнаю, что такое «контужен», и тоже контужусь. Пусть ко мне относятся снисходительно.
Пойду догрызу косточку (я спрятал её… где?.. а вот не скажу!). Потом опять попишу.
* * *
Ах, что я видел во сне! Будто я директор собачьей гимназии. Собаки сидят по классам и учат «историю знаменитых собак», «правила хорошего собачьего поведения», «как надо есть мозговую кость» и прочие подходящие для них штуки.
Я вошёл в младший класс и сказал: «Здравствуйте, цуцики!» – Тяв, тяв, тяв, господин директор! – «Довольны вы ими, мистер Мопс?» Мистер Мопс, учитель мелодекламации, сделал реверанс и буркнул: пожаловаться не могу. Стараются. «Ну, ладно. Приказываю моим именем распустить их на полчаса».
Боже мой, что тут поднялось! Малыши бросились на меня всей ватагой. Повалили на пол… Один вылил на меня чернильницу, другой уколол меня пером в кончик хвоста – ай! Третий стал тянуть моё ухо вбок, точно я резиновый… Я завизжал, как паровоз, – и проснулся. Луна. На полу сидит таракан и подъедает брошенный Зиной бисквит. За окном хлопает ставня. Уй-юй-юй!..
Зинина комната на запоре. Я прокрался в закоулок за кухней и свернулся на коврике у кухаркиной кровати. Конечно, я её не люблю, конечно, она храпит так, что банки дребезжат на полке, конечно, она высунула из-под одеяла свою толстую ногу и шевелит во сне пальцами… Но что же делать?
Окно побелело, а я всё лежал и думал: что означает мой сон? У кухарки есть затрёпанная книга – «сонник». Она часто перелистывает её пухлыми пальцами и всё вычитывает по складам про какого-то жениха. Подумаешь, кто на такой сковородке женится?..
Но что мне «сонник»? Собачьих снов в нём всё равно нету… А может быть, сон был мне в руку? То есть в лапу.
* * *
Мысли:
Вода замерзает зимой, а я каждое утро. Самое гнусное человеческое изобретение – ошейники, обтянутые собачьей кожей. Зачем наш сосед пашет землю и сеет хлеб, когда рядом с его усадьбой есть булочная? Когда щенок устроит совсем-совсем маленькую лужицу на полу – его тычут в неё носом; когда же то же самое сделает Зинин младший братишка, пелёнку вешают на верёвочку, а его целуют в пятку… Тыкать – так всех! Дрался с ежом, но он нечестный: спрятал голову и со всех сторон у него колючий зад. Р-р-р! Это что ж за драка?.. Ел колбасу и проглотил нечаянно колбасную верёвочку. Неужели у меня будет аппендицит?!
Зина пахнет миндальным молоком, мама её – тёплой булкой, папа – старым портфелем, а кухарка… многоточие…
Больше мыслей нету. Взы! Почему никто не догадается дать мне кусочек сахару?
Фокс Микки, которому по-настоящему следовало бы быть профессором
Осенний кавардак
Осень. Хлюпает дождик. Как ему не надоест целый день хлюпать? Жёлтые листья всё падают, и скоро деревья будут совсем лысые. А потом пойдут туманы – большая собака заберётся в будку и будет храпеть с утра до вечера. Я иногда хожу к ней в гости. Но она глупая и необразованная: когда я с ней играю и осторожно цапаю её за хвост, она бьёт меня лапой по голове и хватает зубами поперёк живота. Деревенщина!
Туманы – туманы – туманы. Грязь – грязь – грязь. И вдруг потянет теплом. Налетят со всех сторон сумасшедшие птицы. Небо станет, как вымытая Зинина голубая юбка, и на чёрных палках покажутся зелёные комочки. Потом они лопнут, развернутся, зацветут… Ох, хорошо! Это называется – весна.
Деревья, вот даже старые, молодеют каждую весну. А люди и взрослые собаки – никогда. Отчего? Вот Зинин дядя совсем лысый, вся шерсть с головы облезла, точь-в-точь – бильярдный шар. А вдруг бы у него весной на черепе зелёная травка выросла? И цветочки?
Или чтоб у каждой собаки в апреле на кончике хвоста бутон распускался?..
Всё бы я на свете переделал. Но что же может маленький фокс?
А в доме – кавардак. Снимают ковры, пересыпают каким-то на-фта-ли-ном. Ух, как от него чихаешь! Я уж в комнаты и не хожу. Лежу на веранде и лапой тру нос. Ведь я же всегда хожу босиком, к лапам и пристаёт. Прямо несчастье!
* * *
Зина собирает свои книжки и мяучит. Братец её лежит в своей колясочке перед клумбой и визжит, как щенок. И только я, фокс Микки, кашляю, как человек, скромно и вежливо: у меня бронхит.
Пусть, пусть собирается. Ни за что я в Париж не поеду. Спрячусь у коровы в соломе – не разыщут.
Ну что там в Париже, подумайте? Был один раз, возили к собачьему доктору. Улиц – миллион, а миллион – это больше, чем десять. Куда ни посмотришь – ноги, ноги и ноги. Автомобили, как пьяные носороги, летят, хрипят – и все на меня!.. Я уж Зининой юбки из зубов не выпускал. Цепочка тянет, намордник жмёт. Как они могут жить в таком карусельном городе!..
Ни за что! Чтоб я сидел у окна и смотрел на вывеску с дамской ногой? Чтоб меня консьержка называла «поросёночком»? Чтоб меня гоняли с кресел и с дивана?! Чтоб меня попрекали, что я развожу в доме блох?! Я ж их не фабрикую – они сами разводятся…
И какие там гнусные собаки! Бульдоги с растопыренными лапами, вывороченной мордой и закушенными языками; полосатые доги, похожие на мясников; мопсы вроде жаб, зашитых в собачью шкуру; болоночки – волосатые насекомые с висячими ушами и мокрыми глазами… Фу! Гав-гав! Фу! Отчего это собаки такие разные, а кошки все на один фасон? И знаете – это, впрочем, Зина сказала, – они все похожи друг на друга: хозяева на своих собак и собаки на своих хозяев. А Микки и Зина? Что ж, и мы похожи, только бантики у нас разные: у неё зелёный, а у меня жёлтый.
Ах, как из дверей дует! Пальто на диване, а укрыться не умею. Нет, что ни говори, – руки иногда вещь полезная.
* * *
Грузовик забрал вещи. В столовой – бумаги и сор. Зачем это люди переезжают с места на место? Дела, уроки, квартира… «Собачья жизнь!» – говорит Зинин папа. Нет уж, собачья лучше, это позвольте мне знать.
