Читать онлайн Бог нашептал бесплатно
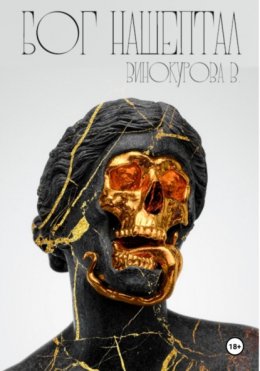
1. Тамарочка
Кабинет директора выполнен в светлых, не давящих тонах. Самые тёмные предметы в нём приятного шоколадного цвета – массивный стол и шкафы с документацией и наградами. Самые яркие – грамоты и дипломы школы в рамках на мягко-жёлтых стенах. Герман расположился в комфортном кожаном кресле напротив стола, за которым сидел Альберт Рудольфович. Сидел тот, переплетя пальцы и постоянно крутя вокруг друг друга большие. Daumenfinger. Если он этого не делал, то брал белый платок из нагрудного кармана и вытирал им и без того сухой лоб.
Альберт Рудольфович мужчина с приличным весом, щёки его выпирают, второй подбородок трясётся, когда он не занят ни своими большими пальцами, ни платком – в промежутке между ними, пока руки снова не будут сцеплены в замок для того, чтобы ощутить почву под ногами, хотя та была – мягкий ковёр и кресло. Но, возможно, именно шаткость и податливость офисного сидения на колёсиках смущали самоощущения Альберта Рудольфовича, которому для полной уверенности нужно было встать на ноги, выйти из кабинета, школы, уйти подальше, встать на заложенный несколько лет назад асфальт и вздохнуть.
Его ментальное положение неустойчиво, он из последних сил держит себя в руках, пытаясь оставить на лице высокомерное равнодушие, которое покажет, что ничего не случилось, всё в полном порядке, виноватых и умерших нет. Все живы. Все здоровы. Он повторял это мантрой, но сама мантра знала, что он врёт, не верит и поэтому не оседала в его сердце спокойствием. Наоборот, она указывала на просчёты системы и выполняла обратную функцию – повышала уровень его тревожности, который, как заметил Герман, возрастал с каждой минутой его пребывания в директорском кабинете.
– Итак, Герман Павлович… не буду скрывать и спрошу открыто: вы понимаете, почему открылась вакансия?
– Да, конечно. Я читал новости, следил даже за ними. То есть начал следить, когда заголовки статей заговорили о «закономерности».
– Именно, «закономерность»…
Альберт Рудольфович опустил голову и перестал вертеть пальцами, сжал губы и неуверенно решил задать ещё один вопрос:
– И вас всё устраивает?
– Вы предлагаете работу, я предлагаю вам свой человеческий ресурс.
– Но вы ведь понимаете, – директор вздёрнул голову, – это уже не просто работа школьного психолога!
– Да, похоже на работу экстренной психологической помощи, и я это прекрасно осознаю. – Герман сверкнул своими зелёными глазами. – Почему вы меня отговариваете? Не хотите терять ещё одного психолога или боитесь, что на вас ещё «званий» навешают?
Званий у школы за последние три месяца прибавилось, и СМИ активно ищут повод добавить новое, как некто ещё ищет возможность добавить жертв в список.
С начала учебного года четыре ученика покончили жизнь самоубийством. Первое произошло в конце сентября: семнадцатилетний Артём Море повесился в собственной комнате на ручке шкафа. Изучение истории его браузера показало, что перед смертью он посещал сайты суицидологии, оттуда и узнал, что повеситься можно не только повиснув на перекладине. О его самоубийстве никто не говорил, потому что это казалось случайным стечением обстоятельств. Было что-то, что его беспокоило, и это довело. Класс погоревал, но со временем тема остыла.
Второй была Копейкина Анжела, пятнадцати лет. В середине октября. Именно со второго самоубийства СМИ начали шевелиться. Кто-то оговорился, что ведь недавно, вот только что буквально, кое-кто уже умер. Из этой же школы. Совпадение? Бывают ли такие совпадения? Никто верить не хотел, и на школу начали давить, появилось первое прозвище: «Рассадник травм». Травм, которые доводят детей до смерти.
Альберт Рудольфович говорил, что школа не имеет к смертям отношения, и дело бы заглохло, если бы в конце ноября не стало известно, что Мельник Саша – отличник и гордость школы, ушёл из жизни. Родители первое время скрывали его смерть, не рассказали, что их сын отравился бытовой химией, а как рассказали… так и привлекли всеобщее внимание. Связь казалась нерушимой: мальчик-отличник так старался быть хорошим, «отличным», что это его и довело, а учителя только поддерживали его позицию, заставляя быть на первых местах в конкурсах и олимпиадах.
Закрепила дурную репутацию последняя смерть Лизы Гордиенко на зимних каникулах, когда она отдыхала с родителями в Египте. Осталась одна в гостиничном номере и наглоталась обезболивающих. Умерла, задохнувшись собственной рвотой. Родители и не предполагали, что возвращаться в Россию им придётся с телом собственной дочери.
Именно они привлекли большее внимание СМИ к проблеме суицидов учеников одной и той же школы. Такими совпадения не бывают. Все подумали именно так, и начались гонения в информационном пространстве, окрестившую школу оплотом абьюза, травматизации, сборищем некомпетентных идиотов, которые не умеют учить детей и лучшее их место за её пределами. В сети были ролики, как учительница кричит на ученика, как дети и взрослые препираются, как взрослые говорят, что таких тупых поискать надо, позже подключились и ролики-разоблачения, которые копали под учителей, завучей, самого Альберта Рудольфовича, брали интервью у учеников, которых буквально выхватывали на улице возле школы. Таких «отбитых» на территорию не пускали, выпроваживали, стоило только увидеть, что у них есть камера или телефон направлен своими тремя глазами ровно в человеческие глаза. В сети достаточно видео, где люди говорят: «Расскажите правду!», а учителя сбегают подальше. Кто-то пускается в агрессию: «Куда вы лезете? Кто разрешал снимать? Телефон убери! Я кому говорю?!» Кто-то отвечает и говорит трагично заунывным тоном, что никто на самом деле не понимает, что происходит, что оставьте, пожалуйста, в покое, думаете, мы не переживаем? Думаете, нам нормально со всем этим? Думаете, нам нормально, что наши ученики так уходят из жизни?
Герман не говорил этого, но, кроме статей, он постарался просмотреть как можно больше видеоматериала, но быстро понял, что правда одна – никто не знает, что произошло с мальчиками и девочками. Людям проще думать, что это школа, потому что так будет понятно, на кого направить свою злость, грусть, тоску. Своё горе, в конце концов. Другие варианты даже не рассматривают: что это была собственная семья или друзья, разрыв с парнем или девушкой, потому что личные переписки умерших показали, что ничего подобного не было. Так же переписки показали, что никто не давил на учеников, никто не третировал, ни с кем свои суицидальные настроения они не обсуждали.
Между собой умершие знакомы не были, все учились в разных классах. В коридорах школы пересекались, возможно, сказали пару слов в адрес друг друга, но тесный контакт исключён. Никто не мог сказать, что он существовал, что они «сговорились», но самым загадочным в их смертях было то, что никто не оставил предсмертной записки. Ни один из четырёх. Один, два – ещё ладно, но чтобы все четверо? Артём, Анжела, Лиза, Саша – четыре разных подростка, но каждый из них решил уйти из мира молча. Ничего никому не сказал, не предупредил. Возможно ли такое?
Герман сомневался и намеревался выяснить, что на самом деле произошло. Виновата могла быть как и школа, которая замалчивает свои грехи, покрывает своих нерадивых учителей, так и семья, которая не выносила сор из избы. Так же закономерность могла оказаться случайной последовательностью. На самом деле могла, потому что обратное ещё доказано не было. Никто из полиции этого не сделал, никто из тех людей на ютубе с тысячами или десятком подписчиков на канале – никто из них не подобрался к правде, а Герман собирался в неё погрузиться, как выйти в открытый космос. Главный вопрос состоит в том, будет на нём скафандр или нет, испарится жидкость в его организме и тело распухнет от водяного пара в мягких тканях и в венозной крови или он будет под защитой от радиации, ультрафиолета и электромагнитного излучения, услышит он ответ или останется глух на те секунды, что будет пребывать в сознании.
Грузный как медведь, Альбер Рудольфович только вздохнул и достал платок.
– Всё это очень сложно. Я не могу быть в ответе за всех, но… получается так, что обязан. Это и есть работа директора, но, когда единиц слишком много, я не могу за всеми уследить, поэтому и нужен замдиректора, а за ним и завучи, и учителя, но мы не идеальная машина… Мы тоже допускаем ошибки, но неужто… мы совершили именно такие ошибки?
Едва ли не задыхался. Кряхтел. Подбородок дрожал. Опора всё менее плотная. Директор завалился на спинку кресла и запрокинул голову.
– Я здесь буду для того, чтобы узнать, в чём дело, – утвердил Герман.
Альберт Рудольфович смотрел с неверием. Откуда такие громкие слова? Зачем? А что делать будешь, если ничего не узнаешь? Если смерть ребёнка снова повторится? Если ты не сможешь это диагностировать и пресечь? В чём тогда будет смысл этих пустых и пафосных слов? Хочешь сделать их ложью? Хочешь выставить себя героем? Кем ты хочешь быть, Герман Павлович?
– Но я не обещаю, – обязательная помарка, – что смогу изменить. Моя работа не в том, что отговаривать людей, а том, чтобы привести их к разрешению проблемы. Иногда людям уход из жизни кажется большим благом, ведь жизнь слишком невыносима и тяжела. Но я понимаю, что для окружающих последствия такой смерти ещё более травматичны, чем естественная смерть. Всё неоднозначно, но я буду стараться, иначе в чём смысл?
– Спасибо, – выдохнул Альберт Рудольфович. – Но предупреждаю, это будет непросто для всех.
– Наверное, родители каждый день наведываются?
– Не каждый, но раз в неделю точно. Несколько учеников уже перевелись от греха подальше. Не могу их судить. Никто бы не захотел, чтобы их ребёнок находился в месте… как говорят? В месте, которое собирает негативную энергию. Говорят ведь, что такие эмоции даже на растения влияют, а тут целый человек – живой организм с живыми клетками, который очень хорошо может… атмосферу пронимать. И вот в такой атмосфере учиться… Едва ли я могу сказать, что это возможно. Не знаю, смог ли я сам на их месте.
– Я удивлён, что вы можете даже на своём месте, ведь все наковальни падают на вас, вы перед всеми отчитываетесь: СМИ, репортёрами с ютуба, родителями, учениками, и такое крутить в себе каждый день – я бы не смог, это невозможно. Слишком тяжело.
– Поэтому Тамара Олеговна и не может. Многое на неё одну свалилось. Она и так работала одна, всё второго психолога найти не могли, а тут ей ещё прилетает такое… такие, эти… смерти.
– Понимаю. Головой понимаю, что это такое. Досталось ей. И вам тоже. Но гнев людей считается праведным.
– Да уж…
Тяжеловесность Альберта Рудольфовича с каждым предложением становилась более ощутимой для собеседника. Она давила как гравитационное притяжение Юпитера, такой же большой планеты, как и директор со своими габаритами. Хоть он и не Солнце в солнечной системе школы, но он «самая важная шишка». Фигурально и, возможно, фактически.
– Я правильно понимаю, – уточнил он, – что вы останетесь с нами?
– Конечно, куда я денусь? Я, сказать честно… Нет, пожалуй, честно говорить не буду. Передумал, извините. Я просто думаю, что это действительно сложно, а без психолога уж совсем не пойдёт. Да и очень надеюсь, что сам вам подойду.
– А если не секрет, почему ушли с прошлого места работы?
– Непримиримые разногласия подойдут? – ухмыльнулся Герман, чем ошарашил Альберта Рудольфовича. Не к месту пришлось.
– С кем-то не поладили, выходит?
– Выходит. Иногда такое случается, я ведь тоже человек.
– И конфликт было не разрешить?
– А кто говорил, что был конфликт? Просто я недостаточно понравился, вот и получилось. Сам не ожидал. Неприятно, когда на тебя так остро смотрят, будто иголочками колют, как куклу вуду. Очень уж давит. А вы… и сами понимаете, сами под микроскопом.
– Только колют не иголочками.
– Гвоздями, я так понимаю.
– Будет ли у вас время сегодня?
– Смотря для чего.
– Я бы познакомил вас с Тамарой Олеговной, она бы объяснила что-нибудь, показала, насколько времени бы хватило, а потом бы вы договорились о том, когда ещё можно встретиться. Многое вам, Герман Павлович, наверное, придётся тут выучить.
– Я в школе работал, но согласен – на новом месте новые правила. Отказываться не буду, это же мне самому пойдёт плюсом.
Они закрепили решение кивками и покинули кабинет.
Шли уроки, стояла тишина. Стенды с объявлениями и фотографиями лучших учеников, стенгазета преследовали по руку.
Герман видел фотографию в интернете, где на такой же газете было написано огромными чёрными буквами «УБИЙЦЫ», в этом же самом коридоре. Надписи с тем же смыслом, вычерченные баллончиками, красовались на стенах школы снаружи. Их закрашивали, но они снова появлялись, словно просвечивали сквозь белую краску, как звёзды из космоса.
Несколько кабинетов – и они стояли рядом с табличкой «Психолог». Альберт Рудольфович постучал несколько раз и зашёл, Герман – следом.
Тамара Олеговна была женщиной в достопочтенном возрасте. Седые полосы покрывали чёрные волосы. От Юпитера она находилось далеко, но и не слишком близко к Меркурию. Вес ей шёл, создавал благородный аристократский образ, но несмотря на свой собранный по кусочкам вид: тёмно-вишнёвое вязанное платье, белые бусы на шее, круглые перламутровые серьги, стянутый сеточкой пучок, весь он коробился её невыносимой усталостью.
– Здравствуйте, – сипло произнесла она, отрываясь от компьютера.
Её – будущий кабинет Германа – был выполнен в идентичных цветах, что и кабинет директора. Ничего нового, ничего более привлекательного, разве что на стенах дипломы, принадлежащие лично Тамаре Олеговне, а в шкафах психологические методики разного спектра действия.
– Здравствуйте, Тамарочка, – чуть повеселел Альберт Рудольфович, складывая руки вместе, – я к вам нового психолога привёл, – говорил он это с отчаянной надеждой на то, что новый психолог задержится на подольше, – побеседуете? Герман Павлович изъявил желание остаться с нами.
Тамарочка подняла свои заплывшие от наваждения глаза.
– Правда?
– Правда-правда. – Альберт Рудольфович положил руку на спину Германа, заставляя того лишь бросить взгляд.
Быстро директор переобулся из состояния «мы летим вниз» к состоянию «у нас есть возможность снова взмыть в небо». Действительно порадовал ответ Германа? Или он боялся перед своими показать минутную слабость? Всем и так досталось, хоть кто-то должен дать надлежащий пример, вот и ведёт себя… как самая крупная планета.
– Поговорю, конечно, – без радости ответила Тамарочка. – Приятно познакомится, Герман.
– И мне.
– Тогда я вас оставляю! Герман Павлович, где меня искать, вы знаете. Номер ваш у меня есть, оставьте его и Тамарочке тоже. Здесь, я думаю, вы и сами разберётесь.
– А куда мы денемся. – Герман поддержал его настрой, а потом глянул на коллегу.
На товарища по несчастью, с которым он остался один на один в просторном, но медленно сжимающем кабинете, всасывающим в себя как чёрная дыра. Это состояние Тамарочки. На её лице запечатлено истощение прошедшего школьного полугодия, в её глазах боль и разочарование, подавленность и беспомощность.
Она рассчитывала, что самой её большой проблемой будет ЕГЭ для одиннадцатиклассников, их нервозность и тревожность. До суицидов не все доходят, не в каждой школе, не каждый год, все выдерживают, переживают, и Тамарочка на это рассчитывала, что будет переживать и выдерживать вместе с ними год за годом, но не сложилось. Ситуация поменялась, и теперь ей надо что-то думать о том, почему ученики её школы один за другим, стабильно раз в месяц уходят из жизни. Или ей больше нужно думать о том, что говорят родители ещё живых учеников, как обвиняют педсостав, некомпетентного психолога, который не увидел проблему, не помог? Толку от него раз он в полгода проводит тестики на компьютере? Что с этих тестиков взять, если дети умирают?
Тамарочка теперь тоже так думала.
– Что ж, Герман… Я на «ты», на «вы» нет сил, не против?
– Не против. Что расскажете?
– Присаживайся. – Она указала нежным движением на стул около тёмного стола.
Многих так к себе уже приглашала, уже выработала привычку. Эта нежность была и в её потухшем голосе, который звёзд не видел, от которых он не разгорался, даже если те блеснули. Угасла. Потеряла себя. Поэтому и решила уйти, освободить место, а занимать его никто не стремился, представляя себе то, из чего может состоять «место ментальной инвалидизации».
– У нас есть программа, куда занесены все ученики, здесь же есть их электронные дневники, наши дневники, доступ к которым можем получить только мы с тобой, а потом и только ты сам будешь. Тут можно записывать все наблюдения, замечания касательно учеников. – Прозвенел звонок и через пару секунд из коридора донеслись десятки торопливых шагов. – Большинство тестов ученики проходят в классе информатики, там им открывают тесты, они выбирают ответы, а мы потом получаем результаты. Если что-то нас будет волновать, мы уже можем обратиться непосредственно к ребёнку.
– Здорово, что этот процесс автоматизирован.
– Согласна. Не представляю, сколько бы времени уходило на ручную проверку. Моя работа тогда только из этого и состояла бы, – отшутилась Тамарочка без капли улыбки на лице. – Что ещё… Так же есть методики в печатном виде, – указала на шкаф, – по ним информацию тоже можно занести в программу. После, как ты начнёшь работать с детками, сможешь ознакомиться с тем, что я писала. Захочешь – удалишь, захочешь – сохранишь. Это лишь подсказки нам. Сложно передавать своих…
Череда громких стуков, и дверь открылась. Из щёлки выглянула мальчишеская голова.
– Тамара… Ой, – сказал парень и было попятился назад.
– Заходи, Лёша, что такое?
Парень всё-таки зашёл внутрь, перетёк из коридора, полный людей, в кабинет, где почти никого не было. Волосы тёмные, жидкие, распущены, до плеч не доходят. Веки полуопущены, придают сонный вид, когда мальчишка не выражает эмоций. На лбу косой шрам с правой стороны, который переходит на левую. Губы пухлые, яркие. Тело тонкое, вытянутое. Одет по форме: белый верх, чёрный низ.
– Да я заглянуть к вам хотел. Проведать перед тем, как уйдёте.
– Мне ещё три дня здесь.
– Ну вот, три дня! – взмахнул парень руками, шурша сильно свободной рубашкой. – Я бы не успел. – Он подлетел к столу. – Ну, может, останетесь? Ну куда вы от нас?
– Лёша, я говорила, что устала. К сожалению, я тоже человек.
Парень поджал губы, сложил брови домиком и опустил голову. В этот момент Лёша напомнил Герману девушку. При определённых ракурсах, при определённых эмоциях андрогинность парня выбивалась из общего контекста.
– Ну, тогда, может… это, как его… С нами хоть попрощаетесь? Ребята сказали, что купят всего, а мы проводим вас?
– Извини, Лёша.
Этого ответа было достаточно, чтобы Лёша поджал с одной стороны губы и принял своё поражение, соглашаясь со старшей парой кивков.
– А вы новым будете? – спросил он у сидящего рядом Германа.
– Буду. Надеюсь, что смогу заработать столько же доверия, сколько его есть у Тамары Олеговны.
Мальчишка на этих словах улыбнулся:
– Попробуйте. Но это будет непросто! Ладно, Тамара Олеговна, я к вам ещё потом загляну, так что ждите!
Дверь за ним закрылась, а Тамарочка вздохнула, потирая переносицу.
– С ним что-то не так? – спросил Герман.
– Много чего не так и много чего так. Лёша… Лёша Небесный – сложный мальчик, пусть и пытается казаться простым. У него тяжёлая история, но он очень старается сделать её лёгкой. Я ничего по нему не записывала, и, если он захочет, сам всё расскажет. Я не буду. Конечно, я тебе передаю деток, всех этих деток, но есть среди них особенные.
«Деток» Тамарочка очень любила. Это чувствовалось в её отношении, обращении к ним. Будто её собственные. Света так же говорит о своих маленьких пациентах, которые сидят в её стоматологическом кресле. Эту любовь ни с чем не спутать. Эта любовь основывается на том, что взрослые знают, что дети это – не цветы жизни, это капитальная ответственность, которая высосет из тебя силы: сначала физические, когда нужно будет в первый год жизни вставать по любому призыву, справляться со всеми проблемами, болезнями и изменениями, а потом и моральные, когда родитель поймёт, что он не доглядел, и теперь пожинает плоды своих ошибок. Эти взрослые любят детей несмотря на то, что они бывают сложными, трудными, неконтактными, злыми, агрессивными. Герман детей не любил, но и не ненавидел. Он относился к ним, как к любому человеку в этом мире – с долей принятия и благостного безразличия, когда никто никого не касается. В этом плане он завидовал таким людям как Света и Тамарочка. Они знали ценность детства чужого человека.
– Они будут по вам скучать, – сказал Герман.
– Я тоже буду. Но давай не отходить от темы, что я ещё могу тебе рассказать и показать? Можешь сам посмотреть, какие методики у нас есть, отложить себе те, которые ты используешь чаще всего. В шкафах находятся и листы бумаги, и карандаши, краски. Всё просила купить песочницу, но так ничего и не получилось, зато есть много кукол и игрушек. Дети сами приносили, теперь целый «Детский мир».
Её голос звучал трепетно, но лицо оставалось непроницаемым, железным как дверь сейфа банка из голливудского фильма, в котором хранились пачки долларов и золото – сокровища, которые нельзя отдавать людям просто так.
Тамарочка не могла отдать свои эмоции сейчас. Понимала, что если сделает это, то разобьётся на осколки. Она держалась этой напускной холодностью и «извини, Лёша». Она бы хотела провести время с детками, хотела бы с ними попрощаться как следует, поела бы с ними конфеты, рулеты, пироги, чипсы, выпила газировку, окрасила свой язык в оранжевый или коричневый цвет, посмеялась бы с ними, сказала напутственную речь, но всё это обрывалось воспоминаниями о том, что четыре ученика школы уже умерло. Будет ли больше или кошмар на этом закончится? Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Это волновало её сильнее всего. Даже не то, что родители постоянно донимали и какие-то блогеры с ютуба, а именно то, что детки умерли. Её детки.
Герман понимал, как это будет некрасиво, нетактично, но у Тамарочки осталось три дня, больше может и не подвернуться возможности:
– Тамара Олеговна, вы общались с теми учениками, которые умерли?
Умерли, а не покончили жизнь самоубийством, чтобы не напоминать о способе ухода.
– Только с Сашей. Мельник который. Умный, способный, мог проскочить через несколько классов, но оставался со своими друзьями, пусть и было скучно. С Артёмом, Лизой и Анжелой мне не доводилось общаться, ко мне они не приходили, но я смотрела, – она защёлкала мышью, открывая данные учеников, – последние их тесты никаких отклонений не показывали. Но и тесты эти были проведены в начале года, а началось всё это… – «Всё это» бьёт десятикилограммовой гирей. – Позже. Но до этого за ними никаких… подобных настроений замечено не было. Никто не знает, в чём дело. Знаешь, Герман, – она посмотрела своими карими глазами, распахнула длинные, намазанные тушью ресницы, – наши учителя не идеальные, но не такие, которые могут довести людей. Я верю им. Я общалась с ними. Да, на них иногда жалуются, но они не такие… просто не такие. Совсем. Дело в чём-то другом, я уверена, просто… Может быть, полиция не всё рассказывает? Может, они не доглядели, что-то пропустили? Мне так кажется. Чего-то не хватает, но чего, никто не скажет.
Герман тоже верил в существование злостной вестницы несчастий. Что-то должно было повлиять на каждого из четырёх. Ничего не могло не быть. Если это не учителя, то кто? Что? Внутренние конфликты? Почему тогда никто не поделился этим с друзьями? Или друзья бояться говорить, потому что чувствуют вину за то, что не помогли, не уберегли? В чём дело? Кто «вестница»? Где она прячется? Как комета по небу, она не проскользнёт. Она будет прятаться в тени, действовать исподтишка. Но сначала стоит узнать о каждом из четырёх, чтобы понять, от чего отталкиваться.
– А как отношения у Саши были с родителями?
– Я тоже об этом думала… Но я знаю лишь то, что он сам мне рассказывал, поэтому я передам тебе то, что он дал мне знать. – Герман принял правила игры. – Натянутость была, но не критичная. Он никогда на них не жаловался, не говорил, что они давят на него, заставляют хорошо учиться. У него были разные оценки, и они все их принимали. Если ему нужно было ехать по олимпиаде в другой город, давали денег, никогда не говорили, что у него нет такой возможности. Он говорил, что благодарен им за такую свободу, но при этом какого-то тепла в их отношениях не было. Они позволяли ему всё, иногда хвалили, но в целом он чувствовал, что всё не так просто. Что чего-то не хватает. Он ещё переживал, что это ему так кажется, что на самом деле его любят и ценят, просто он этого не чувствует. Пожалуй, это всё.
– И впрямь, сложно отсюда взять какое-то зерно.
– Либо всё – зёрна, либо ничего из этого, и искать нужно в другом месте, о котором он умолчал.
– А с остальными… Лучше спросить у их классных руководителей?
– Думаю, что стоит лучше у них, но я не уверена, что они дадут достаточную информацию, ведь полицейским не было что рассказать. Даже если вы зададите правильный вопрос, навряд ли у них будет правильный ответ.
– Ничего, я ведь просто собираю информацию.
– Герман, – вот здесь она усмехнулась, и улыбка эта была как трещина, ползущая по глиняной античной вазе, – ты решил расследованием заняться?
– Нет, однозначно нет. Я просто хочу понять, что произошло.
– То есть заняться расследованием, – провела она руками. – Если что-то узнаешь, обязательно расскажи полиции, это будет важно. Тем более сам познакомишься со всеми учителями, посмотришь, могли они… довести или нет. Сам решишь. Может, ты примкнёшь к тому лагерю. Тебе говорили, что из-за этого от нас ушли учителя русского и математики? Теперь у нас по два учителя на эти предметы. Замену сложно найти всё-таки. Удивлена, что ты пришёл.
– Совру… – Он остановился, подумал. Снова хотел сказать лишнее.
– Соврёшь? Сразу признаёшься в таком?
Герман засмеялся и махнул рукой.
– Скажу лишь, что мне была необходима работа, а тут объявление, вот и пришёл.
– Понятно. Смотри, чтобы с таким отношением тебя не выжали эти родители.
– Читал, что это началось из-за родителей Лизы… Про них речь или про всех?
– И про всех, и про них. Они к нам часто заглядывают. Всё требуют правды. А какую правду мы можем дать, если сами не знаем, в чём дело? Каверзный вопрос.
Звонок на урок, шаги ускорились, голоса утихли.
– Покажу я, что ли, как работать с программой. Подсаживайся поближе, а то на два фронта неудобно работать.
Тамарочка показала интерфейс, рассказала про кнопки, назначения, как с чем работать. Сложного было мало. Они договорились, что Герман придёт завтра, а на сегодня они заканчивают знакомство с обменом телефонов для поддержания связи. На три дня. Потом телефон Тамарочки можно смело удалять – сама так сказала, но Герман переубедил. Вдруг помощь понадобится? О ком-то что-то узнать? Такие номера нужно держать под пальцем, слишком много значат.
Тамарочка даже улыбки не удостоила, благосклонно опустила голову и согласилась, держа на губах «извини, Лёша». Извини, Герман.
Она чувствовала себя виноватой, уходя с поля боя. Думала, что оставляет всех своих: и деток, и взрослых коллег. Для неё это тоже было непростое решение, но это было лучшее решение для того, чтобы сохранить себя и не повторить участь тех четверых. Она бы не смогла такое выдержать. Она не могла. Улыбка была лишь одной из трещин, вся ваза была уже ими покрыта. Достаточно прикосновения – и она развалится, и собрать её не сможет никто. Тамарочка себе такой участи не желала. И правильно сделала, иначе бы сгорела с концами, и спасать уже надо было бы её.
Герман вернулся домой, в свою маленькую студию. Лофт-студию, как они называли её со Светой. Красные кирпичи с одной стороны и белые – с другой. Минимализм в интерьере, практичное отсутствие лишних деталей, которые при переезде остались в коробках, заняв место в зеркальных шкафах.
Света ещё была на смене, поэтому Герман занялся мелкой уборкой, а ближе ко времени её приезда приготовил поздний обед – ранний ужин.
– Привет! – крикнула она с порога, снимая с себя белый пуховик. Герман забрал её рюкзак и целовал в висок. – Как у тебя прошло? – Она погладила его холодной рукой по спине.
– Меня взяли.
– Как здорово! – выдохнула Света с заметным облегчением. – Я думала, придётся сложнее. – Она стянула с себя дутые валенки и оставила их на половике, чтобы снег не стаял на другую обувь. – Сейчас. – Она чмокнула Германа в щёку и скрылась в ванной.
Помыв руки и переодевшись в домашнее, села за стол.
– Там, правда, всё хорошо? – уточнила она.
– Ты знаешь, что там не всё хорошо.
– Ну да… – Склонила голову. – Я про другое. Что тебе дали это место… Что ты им подходишь. Ты только сам не напрягайся, а то я знаю, как ты любишь! Потом из кабинета тебя не вытащишь, и это мне придётся за тобой ездить. А знаешь, зимой несильно хочется!
– Да я понял, понял, – безобидно рассмеялся Герман, – постараюсь следить за собой тоже.
– Ты в первую очередь должен следить за собой, – наставила она.
– Как скажешь. А у тебя как на работе?
– Блевашка сегодня был, – грустно улыбнулась Света. – Лечили в седации, говорили же девочки-администраторы, чтобы за четыре часа не ели и не пили, а они поели. Понимаешь, там блинчик по частям собрать можно было! Ну как так? Я их не понимаю, ребёнок же задохнуться может, это опасно! А они всё равно кормят. Понимаю, жалко голодом морить, но тогда выбирайте утреннее время, а не дневное… В общем, мрак страшный с этими блевашками. Аня потом ещё пол мыла, а из-за этой блевашки и так задержали пациентов на десять минут.
Первое, о чём подумал Герман, услышав, «может задохнуться», – это Лиза. Девочка, которая отравилась таблетками в Египте. Наверное, тоже поела, перед тем как проглотить обезболивающее. Пять звёзд, all inclusive, шведский стол, последняя радость утром, а потом горсть таблеток, а потом ещё одна и ещё. Почему именно в Египте, а не дома? Что именно могло её довести там, где она была дальше всего от проблем, школы, одноклассников? Родители? Так ли это?
Второе – это детки. Деток Света жалела. Не любила, когда их родители за ними не следили, ведь детский кариес – это заслуга старшего, который не научил ребёнка тщательно чистить зубы или не чистил их тогда, когда ребёнок был ещё на грудном вскармливании, зарабатывая себе бутылочный кариес. Света всегда с пониманием относилась к детям, но родителей позволяла себе ругать, и при этом всегда лечила постоянных пациентов, а родители благодарили её за внимание к деталям и дельные советы по воспитательной части. Не обходилось без эксцессов, но Света знала, что права и свою позицию могла отстоять. Перед этой её чертой многие родители оказывались безоружными и слабыми, словно сами были детьми. Детьми, но не детками.
Третье – Света не была перфекционистом, но всегда старалась уложиться в задаваемые рамки. Это Герману особенно нравилось, что у Светы есть этот контроль над ситуацией, и она знает, как его достигнуть, при этом не пав жертвой невротического «я обязана это сделать». Время своё она любила, чужое – уважала, поэтому никогда не позволяла себе бездумно им распоряжаться. Герман на время внимание не обращал, только если это не касалось консультации, в остальном – он был свободен и нерасчётлив. Света его в этом плане тоже контролировала и частенько написывала, когда вернётся, если Герману это принципиально важно.
– Значит, родителей надо учить.
– У нас Поклаков учит.
– Ваш анестезиолог?
– Именно. Он так расскажет, что родители будут за своё чадо трястись в раз десять сильнее. Умеет он сказануть так, чтобы все поняли, не хиханьки да хаханьки тут, а целая наука и работа!
Работу свою Света тоже любила. Попала туда, куда хотела, выучилась на того, кого надо, и работает с теми, с кем всегда хотела. Деток она любила и любить не перестанет. Герман не мог себе представить такой ситуации, при которой Света от них бы отвернулась. Не отвернётся, не оставит, ведь у неё уже есть «её» детки, которые ходят именно к ней и ни к кому другому. Называют её тётей Светой или уважительно Светланой Васильевной и отдают свою любовь, иногда игрушки или сладости.
– Но я очень надеюсь, Гер, что у тебя всё пройдёт хорошо. – Она положила свою ладонь на его. Согрела своими холодными с улицы пальцами. – И чтобы… никто тебе ничего не говорил.
– Если уж будут, я придумаю, что им ответить.
– Знаю, но меньше волноваться не получается. Всё-таки такое место… А если ещё кто-то умрёт? Что же тогда делать?
– Тогда могут сказать, что новый психолог ещё более некомпетентен, чем предыдущий, – пожал он плечами. – Тамара Олеговна, может, и успокоится… Это психолог, на место которой я пришёл. Она очень плоха. Ей срочно надо уходить.
– Вот она и уходит. Трудно, да? Я бы тоже не выдержала, если бы узнала, что один из моих пациентов умер вот так… Точно бы не смогла. – Она покачала длинными каштановыми волосами и сжала пальцы с грубой коже. – Даже страшно представить, что бы тогда было… Это ведь горе и для родителей, и для бабушек с дедушками.
– Это так, – только и сказал Герман, а потом потянулся к Свете, обнимая её за плечи. – Плохая тема для разговоров у нас…
– Ну, ты выбрал такое место, что по-другому и не получится. Нельзя ведь о таком молчать, да? – Она подняла свои тёмные глаза, заглянула точно в душу, прощупывая, используя те знания, которые дал ей Герман в период их сближения, в период становления их пары куда более крепкой и устойчивой. – Смерть – это наша жизнь, даже такая… Сложно, но молчать нельзя, иначе будет хуже.
Герман кивнул.
– Нужно говорить о том, как больно и страшно, как плохо и тоскливо, как хочется всё исправить и вернуть назад. Я думаю, это испытывают сейчас все родители, которые потеряли детей. Надеюсь, что им есть, с кем это обсудить.
Герман вспомнил родителей Лизы. Те единственные, которые пришли с войной. Эта война – способ справится с горем, найти виноватого в смерти дочери и получить отмщение, потому что так должно стать легче. На время станет, а затем горе вернётся, снова нависнет, как Луна перед Солнцем в период затмения, погружения во тьму, обратно к своим демонам, которые могут выжить даже в открытом космосе.
– Гер, ты, если что, говори, я послушаю.
– Конечно, – он приобнял её, – без тебя я никуда.
Её руки обвились вокруг его спины. Уже согрелись и были тёплыми, приятными, чуточку строгими, заставляя закрепить в своей голове слова: «Ты можешь на меня положиться! Я тут и здесь, всегда, и никуда не денусь, слышишь? Не-де-нусь!». И Герман тоже надеялся, что никуда не денется, не пропадёт на этой работе, вытянет то, что сломило Тамарочку. С таким он ещё не сталкивался, но от проблем бежать нельзя, даже если это твои проблемы через пятое колено. Нельзя.
Герман не может. Хватит уже допускать ошибки.
2. Артём, Анжела, Лиза
Последние три дня для Тамарочки были непосильными, как и прошедшее время со смерти Анжелы. Какими силами она держалась, Герман не понимал и понять не пытался. Не рассказала бы, сохранив на лице сухое равнодушие, которое со скрежетом удерживало острые, лопнувшие осколки. Она давала Герману самому изучать программу, разрешила разобрать её методики в шкафу – Герман заметил, что беспорядка не было только там, куда чаще всего Тамарочке нужно было залезать, а остальных местах – творился полный бедлам. Или это её постоянная привычка, или это следствие мрачного полугодия.
На переменах Герман заглядывал в кабинеты и знакомился с учителями. Вывод был один: все они на нервах, пусть и скрывают это. Как ещё только не сорвались капитально, залетев в очередной паблик в «ВКонтакте» или канал в «Телеграме», дав пищу для информационных землероек. Маленьких, незаметных, но прожорливых и в очень большом количестве, доставляющих столько дискомфорта, что вопрос о жизни в этом мире пошатнётся.
Хейт – это публичная казнь через четвертование, восьмирение и шестнадцатирение. Перемоют все косточки, наставят диагнозов, пожелают смерти тебе и твоим близким. Никто не будет беспокоиться о том, что если умрёт ещё один человек – это принесёт ещё больше проблем. Всем лишь бы высказаться, прикрывая свою активную агрессию личным мнением. Многие и не понимают, что такое личное мнение и нарекают им всё, что вырывается изо рта, путают прямолинейность и твердолобость с искренностью и честностью. Всё в одну тарелку – и получается интересный мультифрукт, где никто никому не может угодить, никто никого не может понять.
Поближе Герман захотел поговорить с классруками Артёма, Анжелы, Саши и Лизы.
Ирина Николаевна – учитель физики и классрук Артёма Море, женщина в чёрном костюме и с очками в прямоугольной оправе, мало что сказала о самом мальчике. «Пассивный и безынициативный», никуда его нельзя было вытянуть, ни на какие шествия, ни на сценку для местного КВН, ни на празднование Нового года, зато у неё на душе была другая животрепещущая тема, которой она жаждала поделиться, и судя по напору, подобному сгоранию топлива космического шаттла, держала она в себе долго, и Тамарочка не оказалась тем человека, который был готов её услышать.
– Герман Павлович! Я считаю, что здесь всё очевидно. Как вы, психологом быть не надо, это лишнее. Задирали его, вот и… и всё. Полный мальчик был, всегда один, ни с кем не общался, только Марина Алексеевна его холила и лелеяла. Она у нас учитель информатики, он ей всегда помогал, а с остальными ребятами не общался. Ну не нормально это, в семнадцать лет сидеть одному на галёрке! В глаза не смотрел, бубнил постоянно, прятался. С головой сальной ходил, девочкам он просто не нравился, вот я и думаю, что Андрей наш… Андрей Храмов, вы с ним ещё познакомитесь, управы на него никакой нет! Столько лет с ним воюем, а он как задирал других, так и задирает. Я думаю, что это он! Вот кто виноватый.
– И остальных тоже он задирал? – Герман не поверил, но посчитал своим долгом продолжить тему.
– Мне-то откуда знать? Он всех задирал! И неважно, мальчик или девочка: посмотрит косо, подножку подставит, обзовёт как-нибудь некрасиво. Несколько раз к Артёму лез, точно помню!
– А что именно он делал? Избивал его?
– Упаси боже! Если бы Андрей рукоприкладствовал, его бы тут не было. Ну как вы, Герман Павлович, психолог, и не понимаете? Морально он на него давил где-нибудь за школой, где никто не достанет, никто не увидит и не услышит, со своими дружками, Вовкой и Максимом! Уверена я в этом, он сам и довёл, и Артёма, и Сашку! И девочек тоже. Захотелось ему так. Он всегда таким был, не вчера стал, я вам отвечаю. Просто что говори, что не говори, ему всё, как говорят, по барабану. Сам себе на уме, мальчишка, семнадцать лет, а так много думает о себе, ну ни в какие ворота! Вы ведь тоже так думаете?
– Лично с Андреем – Храмовым? – я не знаком, ничего утверждать или опровергать не могу.
– Герман Павлович, но всё же на поверхности! Человек творит зло, до зла доводит. Его «проделки» не могут никого не касаться. Ведь тронет, если один человек будет постоянно и планомерно тюкать в голову! Это не может не трогать, это я вам отвечаю. Довелось мне тоже натерпеться в своё время, и я считаю, что такое нужно пресекать на корню, а Андрей распоясался, много ему родители позволяют!
– А с его родителями вы говорили по этому поводу?
– Ой, его родители – это отдельный номер. Цирковой. Отец военный, считает, что самый правый, а его сын самый лучший и тоже всё делает правильно, а мать и слово не скажет, только покивает, а сама дома ничего делать не будет, только для вида соглашается, а потом!.. Сами понимаете, говоришь, а как об стену. У меня ученики и то не такие пустоголовые как она. Смотреть противно.
– Ну а что сам Андрей говорит по поводу того, когда вы обращаетесь к нему с замечаниями?
– Что он говорит? Если бы он говорил! Улыбается, как идиот, а потом махает рукой и уходит. Он прямо как родители: от матери ему досталось глухота, а от отца – упёртость.
– Тогда почему же его терпят?
– Потому что мозгами не обделён, вот почему. Только если не обделён, почему к другим лезет? У него что, как это вы говорите? Эмпатия? Эмпатия у него не развита, умный такой, а что толку? Пятёрки получает, а сам он бревно бесчувственное и тупое.
– Высокий интеллект не обещает развитый уровень эмпатии. Иногда высокий интеллект эмпатию отключает. Может быть, вы слышали про эмоциональный интеллект? Его тоже нужно прокачивать, иначе рискуешь остаться эмоционально тупым, если им не занимались родители. Возможно, в случае с Андреем всё именно так, что его эмоциональный интеллект никогда не был в приоритете ни у него, ни у его родителей.
– Да что же это такое? И вот тут его родители не научили! Я же говорила, не семейка, а сборище циркачей, кто на что горазд. Я вам очень советую к Андрею присмотреться и пригласить в свой кабинет. Уверена, раскроется, стоит только надавить.
– Силой я никого не могу к себе затащить, извините. Только если будет уже совсем серьёзный проступок.
– А то, что я рассказала, не серьёзный проступок? Герман Павлович, мне кажется, вы чего-то не понимаете в своих должностных обязанностях.
Ich höre nur Bahnhof .
Герман улыбнулся. Додумывать правду в его должностные обязанности не входило.
– Ну да чёрт с ним! Я что ещё хотела сказать, вам эти ваши тесты надо почаще проводить, а то проводите три раза в год и что с них взять? Артём взял и в конце сентября… Ну вот как так, объясните? Вовремя бы его посмотрели и всё стало бы ясно, но нет, разок вначале года провели и довольны. Не в обиду Тамаре Олеговне, женщина она хорошая, спору нет, но я считаю, что слишком мягкая она, ей строгости не хватает. Чтобы хватиться рукой, да не отпускать, ведь если спицы не держать, ничего не свяжешь, верно? Вот и она не держала, а так, поглаживала. Ну и что с этого будет? Ничего.
– Я бы хотел вас предупредить, что тесты лишь обособленно направлены на выявление проблемы. Они могут показать результат тогда, когда человек откровенно честен, но вопросы построены таким образом, что становится достаточно быстро и легко понятно, о какой сфере твоей жизни идёт речь. Обмануть тест просто, достаточно отвечать так, чтобы ответы были «положительными». Знаете же эти вопросы? «Иногда я слышу голоса», «Часто я чувствую себя подавлено», «Я часто злюсь по мелочам». Если человек захочет, никто о нём ничего не узнает. Тем более методики стандартизированы, а у детей есть интернет, в котором им достаточно забить: «Тесты на депрессию», и узнать, что тесты из себя представляют.
– И толку тогда от этих тестов! – впала в непонимание Ирина Николаевна.
– Они лишь вспомогательный элемент, на первом месте стоят наблюдение и беседа. Пока я не увижу и не поговорю, я ничего не пойму.
– И как, по-вашему, можно полагаться на наблюдение?
– Вы же учитель физики, – улыбнулся Герман, – наблюдение – это такой же научный метод исследования, как измерение физических параметров, просто форма разная. Возьмём, к примеру… Астрономию. С чего всё начиналась? С того, с чего начинает любая наука – наблюдения. Наблюдение помогло египтянам определить продолжительность тропического года, кочевым племенам – ориентироваться в пути, даже элементарно земледельцам определять времена года по положению Солнца, а потом было составлено летоисчисление и измерение времени. Всё это неразрывно связано. Да и сейчас один из способов изучения космоса – это наблюдение с помощью специальной аппаратуры. В психологии так же, только вместо аппаратуры – человеческий мозг, но это не значит, что каждый умеет наблюдать. Смотреть – да, наблюдать и делать выводы – нет. Это навык, который нужно развивать. Наблюдать нужно не только за внешними данными, но и за внутренними. Так что наблюдение один из лучших методов исследования, как думаете, Ирина Николаевна?
– Сложно с вами поспорить, Герман Павлович. Может быть и так, но я тоже давно наблюдаю за Андреем и тоже могу сделать выводы, не хуже ваших, так что присмотритесь к нему. Хотя зачем присматриваться? Я его вам сама приведу! Поговорите с ним, давно нужно. Вы же ещё и мужчина, всяко лучше нашей мягкотелой Тамары Олеговны будете, хоть какой-то авторитет у мальчишки получите, а с Тамарой… С Тамарой Олеговной – ничего, это очевидно, что с неё взять. Правильно, что уходит. Не её это.
Ирина Николаевна успешно продвигается к красной зоне со своими замечаниями, осталось ещё узнать, как она ведёт себя. Может быть, сейчас она была такой, лишь потому что распалилась, потому что нашла наконец кому высказать свои подозрения? Или это может быть её обычной манерой поведения, но такая манера вызывает много вопросов. Если она так же ведёт себя на уроках, это не идёт ни ей в плюс, ни школе, а у учеников может вызывать подозрения касательно товарищей. С такими людьми нужно быть аккуратным. Они авторитарны, и хорошо, когда не доходят до уровня тирании. Её нужно взять на вооружение, и пусть окажется так, что она из тех людей, которые говорят: «Отлично! Три!»
Следом Герман отправился в кабинет информатики. Познакомился в Мариной Алексеевной, дежурно спросил о проведении тестовых заданий на следующей неделе среди всех классов, и та дала добро. Не дать она его не могла, поскольку это было нужно и конкретно каждому учителю, и графику, который говорил: «Раз полугодие закончилось, нужно обновлять данные». Уходить Герман не поспешил, не топтался на месте, а сразу спросил про Артёма:
– Ирина Николаевна рассказала, что он был с вами близок.
Марина Алексеевна опёрлась на стол. Была худой и плоской во всех местах. Её тёмное якутское лицо было приплюснутым, но при этом широким. Её тело стремилось к тому, чтобы стать толщиной с доску. Чёрные от рождения волосы коротко подстрижены, раскосые глаза создавали лисий прищур, а прямоугольные длинные пальцы держались друг за друга.
Марина Алексеевна выдохнула.
– Был… Так тяжело теперь думать о том, что он «был». И не просто ведь перевёлся или уехал, а его не стало… Не помню, чтобы я была близка так с кем-то из учеников. Артём был хорошим мальчиком, только замкнутым. Из-за лишнего веса. Но он говорил, что хотел бы начать заниматься, привести себя в форму. Переживал, что девочек отталкивает, что одеколон не помогает… Переживал, что он не такой, как другие мальчики: что они худые, вытянутые, а он «здоровый и жирный». Сам так говорил. Но я видела, сколько сил он прикладывал для того, чтобы начать думать о себе иначе. Он хотел, чтобы было по-другому, просто не мог.
– А к Тамаре Олеговне он с этим не ходил?
– Нет, – досадно покачала она головой, – хотел, но не мог дойти. Боялся, что засмеют.
– Но вас он не испугался.
– Получилось, похоже. – Марина Алексеевна выдавила из себя улыбку, как пищевой гель, и проглотила её. – Если бы я могла что-то сделать… Сама же могла пойти к Тамаре, а не пошла… Думала, что-нибудь вместе придумаем. Поддерживала его. Думала, что хорошо поддерживала, а оказалось, что плохо… – Она прижала руки к груди. – Не додумалась сама обратиться за помощью, а ведь могла… дурная совсем. Ещё и учитель.
– Мне кажется, вы ни к кому больше за помощью не обращались, потому что этого не делал Артём. – Та взглянула неуверенно, вопрошая продолжения. – Вы не могли пойти против его желания, неготовности, если бы сделали это, то получилось бы, словно действуете вопреки его словам и желанию. Он ведь сам хотел, а вы лишь поддерживали его отложенную самостоятельность.
– Вот как, думаете? Может быть. – Выдох. – Я ни о чём сейчас не думаю, кроме того что можно было исправить. СМИ говорят, что школа виновата. Не знаю насчёт остальных ребят, но мне кажется, Артёма довело именно то, что сидело внутри него. Он старался, боролся всеми силами, но ничего у него не получилось, и я оказалась недостаточной для него поддержкой, и вот… Насчёт остальных ничего не знаю. Анжела была примерной девочкой, были друзья. Саша – наша звёздочка, но информатика его не интересовала, а Лиза… Звёздочка среди школьников. Яркая девочка была. Всегда привлекала внимание, а Артём был звёздочкой, которую видела только я.
– Он сам заинтересовался информатикой? Или с вашей руки?
– Сам. Он всё сам. Мне он просто помогал. Вы знаете, что дают уроки информатики в школе – ничего сверхнового, сверхинтересно или нужного в нашем мире, а Артём сам всё делал, всё изучал. Приходил ко мне и помогал, когда было нужно. Вместе обновляли систему, шутили о мелочах. Рассказывал он, – её кожа покраснела, добираясь воспалением капилляров до глаз, – что хотел пойти на айтишника, что это прибыльно, удобно, что это, что ему надо. Игру даже свою делал, хотел сделать… Мне показывал черновики идеи. Знаете… визуальные новеллы? Вот он и хотел её сделать, только делать её было не с кем. Я вызвалась помочь, и мы вместе писали сценарий. В будущем он хотел найти художника…
– А о чём должна была быть эта визуальная новелла?
– А вам, правда, интересно? – Марина Алексеевна не поверила. Взялась за сомнение. – О создании в мире, в котором ничего нет, а потом оказывается, что это создание – оно бог, и оно создаёт мир вокруг себя. Сначала только белый фон и строка диалога, а потом появляется силуэт, он обрастает деталями, и Бог обретает внешний вид, и ему скучно, и он начинает строить свой собственный мир, создаёт животных, а потом людей, с которыми пытается взаимодействовать. Но не всё так просто, потому что ему так же надо придумать, как они будут себя вести, и… В целом, это история о том, какую ответственность Бог несёт за тех, кого создал. Концовки две: одна ведёт к процветанию цивилизации, а вторая – к возвращению белого фона, когда ничего не было… Это только две концовки, которые мы обсудили. Я придумала ещё и третью… Когда всё осталось бы таким, каким Бог создал… То есть статичным, стагнированным. Не совсем смерть мира, но и не его жизнь. Хотела рассказать… Артёму, но… не успела. Я даже подумать не могла, что не успею… Что такое случится. – Она закусила нижнюю губу и схватила себя за плечи, как за трос, который должен был вернуть её обратно на корабль.
– Этого никто не мог предсказать. Такие вещи обычно прячутся внутри, и догадаться о них очень сложно… Если вам не дают никаких знаков.
– Так может, всё, что мне говорил Артём, было знаками? – Она рассеянно уставилась на будущего психолога своей школы. – А я… не увидела, не поняла правильно.
– К сожалению, Марина Алексеевна, мы этого не узнаем. Уже не узнаем…
– История не знает сослагательного наклонения, да? Мы не можем взять и удалить ненужную переменную и получить другой результат здесь и сейчас… Это не так просто, как работать с программами, кодами. Там исправленная ошибка тут же показывает результат, а в реальности мы сами ничего не можем исправить. Даже если будем знать как… Нам это не поможет. Совсем не поможет. – Она подняла своё плоское лицо к белому потолку, люминесцентным лампам. Обессилено опустила руки, расправила прямоугольные пальцы.
– Ходите к нему на могилу?
– Хожу. Раз в месяц. Пытаюсь ему что-то рассказать, но… не получается. Это я перед вами ещё бодрячком, а перед ним… только сопли развожу. Жалко мне его… Жалко. – По смуглой щеке проскользнула бесцветная капля. – Я никогда не думала, что так получится. Что это возможно. Конечно, я знала об этом, но знать – это одно, а когда это с тобой… – Она затряслась и обхватила себя руками, склоняя жертвенно голову. – Извините, я больше…
– Я понял, извините, что надавил.
Надавил, а не вскрыл, но Марина Алексеевна всё понимает. Она тоже хорошая, как Тамарочка, как Света, тоже привязывается к деткам. По крайне мере, к тем деткам, которые её. Не похоже, чтобы она переживала за Анжелу, Лизу и Сашу так, как переживала за Артёма. Она беспокоилась о том, кто был рядом с ней и кого сейчас нет. Сейчас она чувствительна и уязвима, больна потерей, которая длиться полугодие. Для неё всё началось не со смерти Анжелы, но и не продолжилось ею. Горе Марины Алексеевны индивидуально, может быть, оно даже сильнее, чем у родителей Артёма. А быть может, равно в такой же степени или даже меньшей.
Герман достал из кармана сухие салфетки и отдал пачку Марине Алексеевне. Та закивала, хватаясь на мягкий пакет, и позволила себе выронить ещё несколько слёз.
Если в кабинете, среди парт и компьютеров она ещё держится, что с ней происходит на могиле мальчика? Герман постарался не представлять, ведь эти чувства захлёстывали с головой и тянули вглубь, на дно омута, где ноги вязли в тине и водорослях, где за тебя хваталось невидимое наваждение прошедших счастливых дней, которые обратились нагнетающим сознание кошмаром. Только в отличие от представлений и снов, эти дни, эти кошмары были настоящими, стали настоящими, и по-настоящему отнимали возможность жить спокойно и безбедно.
– Если вам понадобиться помощь, приходите ко мне. – Плеча её Герман не коснулся, но ей было достаточно и словесной поддержки.
Той, которую она пыталась оказывать Артёму.
Она сделала достаточно, просто этого не хватило для того, чтобы отвести от Артёма «вестницу несчастий».
Судя по тому, что рассказала она и Ирина Николаевна Артёма могло довести и одиночество среди сверстников и понимание того, что он не такой, как большинство: внешне, социально, даже дружил с учителем информатики… Ещё был Андрей Храмов, который, возможно, приложил руку к издевательствам. Но что именно он делал – вопрос. Возможно, он ограничивался один неприятным словом раз в месяц или каждый день доставал, пинал и ставил подножки. Сама Ирина Николаевна говорила, что это было не так часто. Будь это частой проблемой, об этом бы оговорилась и Марина Алексеевна, но она говорила о других проблемах Артёма.
На следующей день Герман побеседовал с Егором Добролюбовичем – учителем истории и классруком Анжелы. Потрёпанный старик, на лице которого морщин больше, чем складок у бегемота. Вид благодушный, но отстранённый. Очки с толстой оправой увеличивали глаза, от чего он смотрелся по мультяшному карикатурно. Носил коричневый, застиранный костюм, с заплатками на локтях.
– Да-да, – оторвался он от заполнения журнала, – а вы у нас кем будете? Германом Павловичем? А-а, новый психолог, на место Тамарочки Олеговны? Здорово, здорово, что вы так быстро к нам пришли, мы учителей русского и математики найти не можем, зато психолог есть! – Его добродушный тон не скрывал иронии, с которой он проговаривал слова.
Мозгоправ, который ничем не поможет, и учителя, которые научат уму-разуму – тут и вычислять не надо, чтобы понять, кто школе нужнее.
– А зачем пожаловали? Познакомиться? Познакомимся, но лучше не на перемене, а на обеде. Не люблю захламлять время, нужно подготовиться к шестиклассникам, а то вы знаете, какими они бывают, эти шестиклассники? В школе-то хоть работали до этого? Работали? Ну хоть что-то.
«Хоть какой-то толк», – перевёл для себя Герман.
– Шестиклассники самые неугомонные, сложно с ними всеми. Что? Анжела? Какая именно? Вру, Анжел у нас было не так много, чтобы понять, о какой вы говорите, да и по вам видно, что вынюхивать пришли. Думаете, мы чего-то полицейским не рассказали? Утаили, да? По глазам же вижу, всё вынюхать хочешь!
Leere Wagen klappern am meisten .
Герман отчётливо ощущал настрой маниакального фанатика, который говорит о том, что сам считает верным. С такими сложно вести диалог, потому что он опирается не на то, что есть в реальности, снаружи, а на то, что есть у него внутри, как он себя там ощущает, что он сам себе надумывает. С такими Герману и общаться не хочется, но тут стоило узнать хотя бы что-то об Анжеле. Хоть какую-нибудь мелочь.
– Скажу я тебе, Герман Павлович, то же, что и этим в форме! – пригрозил Егор Добролюбович скрюченным пальцем. – Анжелка наша была свободолюбивой девочкой. Стенгазету рисовала, всегда рисунки свои на конкурсы отправляла. И друзья у неё были, Машка, Алёнка… Вместе всегда были, никогда её одну увидеть нельзя было. И я без понятия, что у неё в голове щёлкнуло. Только я – я не понимаю, как такое возможно? Чтобы человек, у которого было всё хорошо, и в школе, – он загнул один трясущийся палец, – и в семье, – второй, – решил покончить с жизнью? Не знаю, не верю я всему этому. Слишком многое сейчас у молодёжи есть, вот она и начинается «па-ариться» о вещах, которые на самом деле не имеют – не имеют! – никакого значения. Всё придумывают себе проблемы, которых не существуют, а потом заставляют своих родителей страдать. Да что уж там, нам тоже от всего этого досталось! Один, вторая, третий – как сговорились! Специально они, что ли? Чушь какая, но другого объяснения я не вижу, и ты не увидишь, Герман Павлович, не увидишь! И искать тебе здесь нечего, если ты здесь за этим. Место лучше не занимай и освободи для того, кому это нужнее! А теперь всё, – Егор Добролюбович хлопнул журналом, – у меня дела, тебе я и так достаточно времени одолжил. Не думаю, что ты сумеешь мне его вернуть, так что и брать с тебя я ничего не буду. Ты же тоже молодняк, наверняка сам себе проблем надумал. Игру такую интересную. В Шерлока Холмса решил поиграть. Время для игр прошло! А теперь вон из кабинета, мне готовиться к шестиклассникам надо!
Герман вышел, а Егор Добролюбович закрылся на замок изнутри.
Старик да даст фору молодым. Упёртый, критичный, уверенный в том, что нынешнее поколение просто зажралось, раз позволяет себе выйти из игры посредством смерти… А Герман – Шерлок Холмс. Ненастоящий, жалкая подделка, грубая копия, которая не сумеет сыграть роль оригинала ни при каких обстоятельствах, да и откуда бы у Германа была такая возможность? Он человек, а не книжный персонаж, наделённый дедукцией и знаниями из различных, никак не связанных между собой областей. Даже если бы у него эти знания были, он бы никогда не узнал, как их нужно использовать, особенно в этой школе.
Причины Артёма понятны и на виду, его смерть действительно могла быть спусковым крючком, который показал: «Я могу, и вы можете». Смерть Анжелы никак не обоснована внешними критериями, поскольку снаружи всё казалось хорошо; у Саши тоже видимых причин нет, раз он любил то, что делал, раз его никто не заставлял, только одно царапнуло сознание Германа – то, что мальчик не ощущал любви своих родителей. Он уже представил себе, что на это бы сказал старик Добролюбович: «Крыша над головой есть, еда есть, одежда есть, родители дают деньги для того, чтобы кататься по области и в другие города, они разрешают ему делать то, что он хочет, они не бьют его, не оказывают психологического насилия над ним, так в чём проблема? У него же всё ХО-РО-ШО!», и у Анжелы было всё хорошо, осталось теперь узнать, всё ли хорошо было у Лизы, но Герман уже подозревал, как у неё могло быть, учитывая то, что он успел услышать.
Наталия Дарьевна – учитель биологии, классный руководитель Лизы и последний учитель, с которым так подробно хотел начать своё общение Герман. На его удивление учительница была молодой. Совсем недавно выпустилась из педагогического университета и сразу в школу пошла работать. Встретила она его ласковой улыбкой, несмотря на то что рабочий день подходил к концу.
Lächeln ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Menschen .
Звонок с последнего урока уже прозвенел, но она не отказалась от знакомства. Закрыла дверь на ключ и провела психолога в лаборантскую, которая была заполнена книгами, плакатами со строениями клеток, человеческого организма, отдельных органов: почек, печени, мозга. На стеллажах стояли консервированные лягушки, крысы, двухголовые птенцы, в нескольких банках находились эмбрионы с искажённым развитием, и среди всего этого девочка-припевочка с распущенными, длинными, блондинистыми волосами, в белой блузке, сером сарафане и чёрных лодочках.
– Приятно познакомится, Герман Павлович, – задорно произнесла она, словно её одну не касалось то, что происходит в школе. – Чай будете? Вафли есть, печенья. Или вы не очень по мучному? Знаю, что вредно, но никак не могу отказать себе в удовольствии быстрых углеводов, где же ещё их получить? Да и никто не говорит, что нельзя, можно, только чуть-чуть, и чтобы медленных было побольше. Ну так что, будете?
Герман отказываться не стал. Они сели за маленький стол около узкого окна, прикрытого ажурной занавеской. Наталия Дарьевна разлила чай по кружкам и придвинула поближе сладости.
– Вафли с лаймом и лимоном. Я так вообще мяту люблю, но такого добра у нас немного. Знаете, ситуация такая смешная была, пошла на фудкорт, заказала чай, а мне сказали, что на выбор можно мяту или… или что-то ещё, но вы уже поняли? Я взяла мяту, её залили кипятком и дали пакетик чая, ну а я что? Я просто выпила воду с мятой, очень даже ничего было! Приятно, чай забрала с собой. Думаю, что надо поставить себе на подоконник её выращивать. – Она пригубила горячую кружку. – А вы чего не пьёте? Не нравится?
– Я хотел поговорить… О Лизе. Которая Гордиенко.
– Ах, Лиза… – Прозвучало ровно как: «Да, была здесь такая, помню». – Что хотели узнать?
– Как она вообще… Себя вела? Были ли у неё причины для суицида?
– А мне же откуда знать? – просто ответила Наталия Дарьевна. – То, что происходит в душе человека, от меня закрыто. Я с ней столько не общалась, для этого надо к её подругам обращаться: Лилит, Софе, Ане. Они точно скажут больше моего.
– Тогда, Наталия Дарьевна, расскажите, какой она была снаружи, что вы видели?
Та застыла с вафлей около открытого рта с ровными выбеленными зубами. Не хватало только вульгарной красной помады. Герман был уверен, что такая в её косметичке есть, и она есть с ней где-нибудь в истории Инстаграма, с завитыми волосами, в коротеньком белом халате, обворожительно вытянутой ножкой.
– Что я видела? Хороший вопрос, что я видела в ней. Я видела девочку, которая в свои шестнадцать получила столько, о чём я только мечтала в её возрасте. У неё богатые родители. Достаточно богатые, чтобы на Новый год слетать в Египет, а летом в Шри-Ланку. Я ей завидовала, у меня семья была бедной, мне нужно было следить за вещами, чтобы они не дай бог не порвались. Знаете, – она усмехнулась, – когда у меня рюкзак пришёл в негодность, пришлось ходить с пакетом в школу… А вы знаете, шесть учебников, шесть тетрадей, пенал. Один пакет был тяжёлым, и я ходила с двумя. Не думаю, что Лиза могла бы себе такое представить. Вот и… ах, какие времена была. Пусть тогда и косились, но буллинг меня обошёл стороной. Тогда-то и буллинг не говорили, травля это. Вам не кажется, что буллинг как бы смягчает? А вот травля говорит прямо, что травят, выживают. Ну а буллинг – это что? От «булла»? Быка? Дети даже разбираться не будут. Я считаю, что в таких вещах надо быть прямолинейным и не ходить вокруг да около. Это неправильно.
– Раз вы так говорите, вернёмся к Лизе?
– Точно, Лиза! А я-то думала, куда меня понесло? – Она с аппетитом укусила вафлю, а потом и протолкнула её в себя, едва ли жуя. – Извините, я такая. Все постоянно жалуются, что я куда-то в другую степь ухожу. Все идут в Арктику, а я – в Антарктиду! Какой же была Лиза… Девочкой, которая получала то, что хотела. В материальном плане. В этом я не сомневаюсь. Но то, что она чувствовала от этого внутри, мне не ведомо. Вот прям совсем. Ни капельки. Ни чуточки. Может быть, она была довольна. А может, её от этого тошнило и на самом деле за деньги она платила тем, что не могла быть собой. Ей… восхищались. Знаете, она была негласной королевой школы. В шестнадцать лет! Это сильно. Ну это я её так называю, «королева школы». Так она просто была постоянно на слуху, везде светилась, её родители вкладывали деньги в школу, о ней постоянно говорили. Оценки средние, но, например, она отличалась в атлетике. Осанка прямая, походка грациозная, смех… яркий, чистый. Я всегда могла определить, когда она смеётся…
– Вас её смех раздражал?
– Ой, скажете, Герман Павлович! – потрясла она рукой. – Нет, просто… Она всегда сияла и отличалась от всех остальных. Интересно, чем это было для неё самой, раз она решила умереть. Не просто же так, что-то там да было.
– То есть вы думаете, что это из-за внутренних конфликтов, а не внешних?
– Имеете в виду, не виноваты ли учителя? – Сразу проняла. Склонила голову, её светлые волосы запереливались. – Возможно, они могли себе позволить резкое словцо, как, например, Ирина Николаевна, знаете такую? Уже познакомились? Вот она может, но не с Лизой. Не с Лизой Гордиенко, у которой родители являются нефтяной парой Гордиенко, которые уверенно заполняют рынок. Никто бы не посмел на Лизу и голос повысить. Не то чтобы довести её.
– А вы знаете Андрея Храмова? Ирина Николаевна говорила, что он тот ещё… человек.
– Андрея мы все знаем, конечно, – покивала она, – но я думаю, он мальчик… немного глупый. Задирает всех словесно, весело ему от этого, а на деле это ребячество.
– Не травля?
– Не-ет! Что вы, он себе такого не позволяет. Это Ирина Николаевна наговорила? Я даже знаю почему, хотите расскажу? – Она приблизилась и перешла на шёпот. – Это потому, что он позволил себе сказать ей слово поперёк, сказал, что чего-то делать не будет, потому что это не входит в его обязанности как ученика школы, что он тут не придворный, или что-то в этом духе. На субботнике было, вот и взъелась Ирина Николаевна, считает, что он точно что-то такое натворил. Она об этом не распространялась, но по ней видно, хочет насолить ему. А я думаю, что с ребёнка взять? Ему семнадцать, но в душе ему десять! Всего лишь десять, куда ему? – Примирительная улыбка взрослого, который со снисхождением смотрит на разбитое футбольным мячом окно. – Это у нас Ирина Николаевна много думает.
– А что вы сами думаете по поводу смертей?
– Что я думаю? – удивилась она. – А что мне думать? Есть жизнь, есть смерть. Смерть придёт в любом случае, сами мы её выберем или нет. – Наталия Дарьевна пожала острыми плечиками. – Конечно, неприятно, когда человек сам уходит из жизни, но это его выбор. Он не просил, чтобы жизнь ему давали, так почему он не имеет право решить, как её закончить?
– А если так они избегали своих проблем?
– Тогда это плохо и грустно. Потому что… у них было не много выбора, лишь пара. А то и вовсе один, как оказалось. Как сказали полицейские и друзья погибших… никто не рассказывал о том, что с ними было что-то не так. Что они как-то изменились. То есть изменения были, чуть большая закрытость, нервозность, агрессия. Но не большие. Их поэтому определить было нельзя, что это всё укладывалось в рамки нормы. В рамки привычного. А это было оно самое.
Наталия Дарьевна взяла песочное печенье с джемом и быстро проглотила. Потом второе, третье, запила чаем и разморилась, откинувшись на спинку стула.
– Есть ещё вопросы? – Улыбка снова развернулась на её лице, словно никакой грусти, никаких смертей не было, словно они проводят чаепитие на солнечной поляне, вокруг которой прыгают маленькие, пушистые кролики. И лисы с волками из леса за ними не следят, они наелись и спят по норам и пещерам.
– Как вы сохраняете такой оптимизм?
– Это просто. Если меня всё это будет касаться, я сама не выдержку, как Тамара Олеговна. Я так не хочу. Я для себя живу, а не для других. Люди каждый день умирают, и что мне о каждом горевать? Никаких сил на это не хватит, а я жить хочу. Оно мне нужнее, чем слёзы за неизвестных детей.
Последняя фраза показалась Герману особенно колкой. «Неизвестные дети». Не детки. Не Артём для Марины Алексеевны, не Саша для всей школы, никто. Наталия Дарьевна приветлива, доброжелательна, проявляет столько радушия, сколько Егору Добролюбовичу могло только во сне привидится, да и то, кошмарном, но на деле обстоят иначе: Наталия Дарьевна отодвигает от себя всё то, что приносит ей дискомфорт, и живёт одна в своём умиротворяющем доме из печенья и суфле с шоколадкой посыпкой. Поэтому она может вести себя так, в отличие от остальных учителей, которые выражают гнев, непринятие, горе.
Герман поблагодарил за разговор и чай. Провёл ещё немного времени в кабинете психолога, пообвыкся с ним, а на следующий день пожал руку Тамаре Олеговне, которая собиралась в гардеробе, надевая длинную дублёнку и вырисовывая мягко формы, которые продолжали отображать её статность и грацию, пусть и с излишком. Лёшу Небесного Герман не видел, возможно, парнишка заскочил к Тамарочке тогда, когда замены не было рядом. Сама Тамарочка отказалась даже от провода педсостава. Хотела скорее закончить рабочую неделю и испариться из школы, будто её здесь никогда и не было: ни её грамоты и дипломы, сертификаты и благодарности висели на стенах, будто не ей ученики приносили игрушки для терапии, ни с ней хотели торжественно попрощаться. Они ведь остались здесь, а не ушли, они продолжали ходить к ней, быть с ней.
Связь перерезали как пуповину.
– Удачи тебе, Герман, – сказала она, протягивая руку в чёрной перчатке.
– И вам, Тамара Олеговна. Поработайте с этим потом.
– Такое только психолог мог сказать. Такта в тебе не так много, – шутила она и не улыбалась.
– Я знаю, когда я могу его отключить и мне ничего за это не будет.
– Ты прав, не будет. Но разберись с этим. Может, ты дотянешься до правды, хотя я даже не представляю себе, как это можно сделать. Времени прошло слишком много, а с родителями мы не общаемся, и даже если бы общались, кто из родителей признался бы, что совершил нечто подобное, что подтолкнуло его ребёнка… к такому выбору? Ведь признаться будет значить признать тот факт, что ты не справился. Что ты напортачил так, как нельзя было этого допустить. А может быть, – она подняла и опустила плечи, – никто не понимает, что происходит и почему оно происходит, а мы с тобой можем только наблюдать и говорить: «Ты ошибся, но этого не поймёшь в силу устройства своей психики».
– Вот и не узнаешь, так это или нет.
– Удачи.
– И вам не пуха.
– К чёрту, Герман! К чёрту! – Она прокричала это с облегчением на весь холл первого этажа.
Toi toi toi.
Герман вернулся в кабинет, осмотрел его. Свои бумажные заслуги в рамках он тоже принёс, уже развесил. В шкафу перебрал методики и отложил свои любимые. Он последний выключил компьютер и тоже собрался домой.
Со Светой они оказались дома почти одновременно: он застал её снимающей с себя пуховик.
– Привет! – сказала она и бросилась ему на шею, не остужая своими холодными прикосновениями, а наоборот, согревая и даруя тепло. – Как прошло?
– Ты каждый день спрашиваешь, а я даже не знаю, что и отвечать, если всё было спокойно.
– Никто из родителей ещё не приходил?
– Не в мою смену.
– Значит, ещё придут. Я как чувствую!
Они стянули обувь, развесели вещи и перетекли в комнату. Поставили колонку с Фрэнком Синатра и приняли готовить ужин, периодически уходя в пляс и забывая про нарезанную картошку.
Света держала Германа за руку и кружилась, потом он ловил её и наклонял к полу. Они смеялись, менялись местами, и теперь женскую роль выполнял Герман. Песни менялись, а ужин стоял. Когда у обоих заурчало в желудках, они взялись за готовку более основательно. Довели до конца, но после ужина продолжили танцы, скользя по ламинату в тёплых носках, прижимаясь разгорячёнными телами друг к другу и переплетая пальцы.
Довольные они упали на кровать.
– Я не спросил, а у тебя как день прошёл? – дышал тяжело, глубоко, чувствовал, как кровью наполняется каждый мелкий сосуд на кончиках пальцев, особенно тепло было под пластинами ногтей.
– Да как обычно. Хотя! Знаешь, кого сегодня привели? – загорелась Света, точно Сириус на горизонте.
– Трёхмесячного?
– Четырёхдневного! Совсем малютка, только из роддома, и сразу к нам! – чуть ли не скулила от умиления она. – Видел бы ты, какие у него малю-юсенькие пальчики были! Ну прям такие – такие!.. Я описать не могу. Лежал так спокойно, я ему рот открыла, скальпель поднесла, а мама как отвернулась, зажмурилась, испугалась, бедная! Ну конечно, дитя её резать будут, пусть и во благо.
– Говоришь так, будто ты не уздечку подрезаешь, а лицо.
– Гер! – пихнула его слабо в бок. – Мама испугалась, папа у двери стоит тоже испугался, одна лялька спокойная как не в себя. Ему-то что? Ничего не чувствует, спокойно переносит, но какой это стресс для родителей! Каждый раз смотрю на них и думаю, а вот если бы я была на их месте? – Она задержала дыхание и уставилась в потолок, где звездой висел плафон лампы. – Я бы… тоже так боялась?
– Мне кажется, что да. Всё-таки хирургическое вмешательство – это причинение вреда, пусть и во благо, а своё… своего ребёнка хочется защитить от каждой иглы, от каждого ножика.
– А если я сама буду проводить операцию?
– А сможешь?
– Не знаю, я же не проводила… – Света надула губки, а потом проморгалась. – Да и о чём это я. Наверное, действительно не надо, родительские чувства взыграть могут. Сто пудов не смогу. Точно не смогу. – Она нащупала его руку и крепко сжала, а потом перевернулась и устроилась под боком, сладко закрывая глаза. – Но он был таким милашкой. Глаза большие, взгляд заинтересованный. Хоть и сонный… Смотрит и мало что понимает, но любопытно ему, так любопытно… Гер, тебе надо было его увидеть.
– Извини, я был с детьми постарше.
– Да, у тебя теперь свои детки будут. Надеюсь, они тоже будут любопытными.
– Сложно сказать. С Тамарой Олеговной они были пять лет, если не больше, а тут я… Ни с того ни с сего. Не знаю, получится ли у меня что-то, кроме тестиков.
– Да и те на компьютере.
Герман шикнул.
– Я даже проверить их не смогу.
– Ох уж эта компьютеризация современного общества.
– Вот уж точно.
Выходные прошли гладко, у Светы были полные смены, поэтому дом оказался на плечах Германа. Пока его дамы не было, он убрался, приготовил первое, второе, а потом сел за методический материал по суицидологии. Эти знания уже были сохранены в его долговременной памяти, но их стоило освежить. Этим он себя и занял.
В течение следующей недели он закреплял в своей голове имена учителей. С основными лицами, его интересующими, он познакомился достаточно плотно, связал себя с ними, хотя с тем же Егором Доброславовчием и Ириной Николаевной вести диалоги было сложно, потому что они всегда перетягивали одеяло на себя. Брали даже чужое, когда у самих в руках были свои, но при этом между собой они вели себя достаточно сдержанно и спокойно.
Так же Герман познакомился с классами. Познакомился он с ними, но не они с ним. Начинался урок информатики и перед тем, как дети приступали к тестированию, слово брал Герман, представляясь и определяя своё место в иерархии солнечной системы школы.
Далеко не Юпитер и даже не Меркурий, скорее всего, спутник одной из девяти планет, каждой из которых мог оказаться любой ученик. Герман будет кружить вокруг него, пока они будут сидеть в его – теперь уже единолично его – кабинете и обсуждать. Обсуждать то, что захочет ребёнок. Или то, с чем придётся работать психологу и ребёнку, которого насильно затащил учитель. Второе Герман особенно не любил, потому что тогда работа не строилась. Не тот повод, не то положение. В глазах ребёнка он будет как соучастник учителя, который притащил его сюда – такой же плохой и неприличный взрослый, которому лишь бы поучать. Таким быть в глазах учеников Герман не хотел. Он мог исправить это положение, но предпочитал изначально в него не попадать.
Школа – это система со своими законами, иерархией, своим положением вещей и движением тел: будь то перемещение между кабинетами или мысленные скитания, вопросы и ответы, запись под диктовку или устный ответ у доски. Поскольку школа – это микрокосм, модель социального общества, в нём всё должно быть организовано таким образом, чтобы не пришлось потом бегать и ловить отбившиеся светила, заставляя их встать на «путь истинный», которому они смогут слепо следовать. Они должны научиться быть такими, чтобы следовать слепо, но при этом в любой момент суметь понять, зачем и почему они это делают. Бесцельность сыграет против. Всё должно быть оправдано, объяснено.
– Я понимаю, что Тамарой Олеговной я не стану, – Герман одинаково начинал свою речь, обращённую к разным классам, – даже если сделаю пластическую операцию. Для вас я новый, чужой человек, и я не жду, что вы потянетесь ко мне, но я хочу, чтобы вы знали, что, несмотря на уход одного психолога, второй у вас будет. Я работаю так же, так же готов принять вас в любое время. Мы можем поговорить о том, что вас беспокоит. Не только о том, что беспокоит многих сейчас, – расплывчатая формулировка, чтобы каждый решил для себя, что многих беспокоит, – а то, что волнует конкретно вас: лишний вес, плохие оценки, проблемы с агрессией, бессонница, непонимание родителей или человека, с которым вы встречаетесь. Не обязательно беспокоиться о том, что окружает, я хочу, чтобы вы подумали в первую очередь о себе, и тогда пришли ко мне, если видите выход из ситуации в общении со мной.
Некоторые слушали заинтересованно, кто-то хотел поскорее пройти тест и заняться сбором презентации, кому-то было безразлично и первое, и второе. Такой реакции Герман и ожидал – обычной и человеческой. Не всем нужен психолог, но тем, кому он нужен, он уже дал о себе знать. Надеялся только, что не переусердствовал со своим образом хорошего человека.
Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos .
3. Маша Рудько
Ещё одна неделя прошла в обживании и привыкании. Не Германа к окружению, а окружения к Герману, пусть он и ходил с Тамарой Олеговной по школе до этого, его вид до сих пор вызывал у некоторых вопросы. Дети смотрели, не понимали, кто этот взрослый, говорили дежурно, чуть ли не отдавая честь: «Здравствуйте», а за спиной спрашивали: «Кто это? Знаешь?», даже несмотря на то, что сам Герман был на каждом уроке информатики и представлялся. Кого-то не было, кто-то просто забыл, кто-то изначально не обратил внимания.
Тестов было много и большинство из них положительные – никаких проблем, кроме несколько повышенного уровня тревожности у девяти- и одиннадцатиклассников, и парочки самих по себе тревожных учеников. Никакой красной линии они не достигали. Либо прятались, либо действительно всё было не так плохо. Зато уровень напряжения был заметно у всех на краю нормы. Почти у всех. Их касалось то, что произошло, и лишь малая часть была такой, какой предстала перед Германом Наталия Дарьевна – благодушные, себе на уме и о своей жизни. Эта позиция была самой выигрышной, даже если работало подавление. Пока оно работает, никто о проблемах трубить не станет.
Один раз к нему в кабинет привели родителей. Те удивились, увидев вместе привычной особы из высшего общества с чёрно-седыми волосами среднестатистического мужчину тридцати лет, с небрежной копной коротких волос, которые по-умному должны были лежать в аккуратной британке, если бы не отрасли и Герман их не забросил. Вид его был более прилежным: бежевые прямые брюки, белая рубашка, заправленная за пояс, светлый галстук. Вид его располагал к себе, потому что, хотя бы отдалённо, но сочетался с тем, какую форму носят ученики. Этот же вид успокаивал взрослых, которые быстро переводили взгляд с волос на чистое лицо с квадратной челюстью. Их встречала спокойная, ровная, как метрическая система измерения, улыбка.
Эти родители пришли поговорить о том, что происходит в школе, будет педсостав что-то с этим делать или им стоит брать сына в охапку и уходить.
– Это зависит от вашего решения, – прямо ответил Герман, обводя рукой сидящих перед ним, взбитых до состояния нервозности родителей. – Но в первую очередь от состояния вашего ребёнка. Что он чувствует, чего он хочет, что он сам думает обо всём этом.
– Как он может решить? – строго вступилась мать. – Ему ещё ничего непонятно! Он просто находится в этом, и!..
– Злата, – попытался успокоить её муж, – понимаете…
– Герман.
– Да, спасибо, Герман. Мы просто хотим знать, продолжится это или нет. Чего нам ждать? Такие происшествия не проходят просто так ни для кого.
– А как ваш ребёнок реагирует?
Злата показательно вздохнула, будто Герман не слышал материнских слов. И как он только мог не обращать внимания на то, что она говорит о своём ребёнке? Он же ничего не понимает. Абсолютно ничего, и от смерти далёк настолько, что ни один из родителей не говорит «смерть», «самоубийство» или «суицид». Табуированные темы, которые стоят под запретом. Люди живут веки вечные, а потом просто исчезают, оставляя за собой материальный след из свежей могилы и чистенького надгробия.
– Вы ведь знаете, что испытывает ваш ребёнок? – надавил Герман.
– Послушайте!..
– Злата, – вновь остудил её супруг, – мы… не можем сказать, потому что мы сами с этим не встречались, и, честно говоря, сами не знаем, что думать.
– Но, похоже, ваша супруга боится. Если боитесь, обсудите это с ребёнком, узнайте у него, что нужно ему. Возможно, смерти его и не касаются, он продолжает жить в своём мире вместе со своими друзьями, которые отвлекают его от насущных вопросов, такое тоже имеет место быть.
– А вы точно психолог? – врезалась клином Злата, сводя рыжие брови. – Не представляю, чтобы психолог мог так изъясняться.
– Тамара Олеговна, по всей видимости, так не говорила? – Обескураженный вид Златы дал односложный ответ. – Психологи – это люди, а все люди разные, и у каждого психолога своя манера общения, свой способ работы. Я настаиваю на том, чтобы вы обсудили данный вопрос с ребёнком.
– Да он с друзьями захочет остаться, конечно! А что тогда делать, если снова?..
– То есть это в большей степени трогает всё-таки вас, а не его? Боитесь за его психику? Если боитесь, можете договориться. А можете принудить, если будет слишком страшно. Если подумать, то что решает ребёнок? – Герман подтянулся, слишком позволил себе развалиться в кресле, скинув руки на подлокотники. – Пока ему нет восемнадцати, пока он не достиг критического возраста, вы властны над ним.
– Но мы не хотим так поступать! – твёрдо озвучил мысли обоих отец.
– Замечательно. Тогда поговорите и семейным консилиумом решите, что для вас ценнее и важнее. Не забудьте только ему сказать, что вы боитесь и чего вы боитесь, чтобы он понял ваши мотивы, потому что, скорее всего, он увидит только ваше желание оторвать его от коллектива, с которым он вырос.
Родители замолчали, уставились на психолога, а он развёл руками, без слов говоря: «На этом всё, ваши проблемы, за вами их разрешение».
– Но что вы можете сказать о том… о смертях: будут они или нет?
– Я этого сказать не могу: ни облегчить ваши размышления, ни усложнить их. Хотя неопределённость всё делает за меня. Я тут две недели, только сам во всё погрузился. Никаких данных и исследований я вам предложить не могу, но, как показал первый суицид, даже его никто не мог прогнозировать, не говоря о последующих. Причины нам неизвестны, но мы будем внимательнее следить за общим настроением в школе, за атмосферой, за поведением учителей. После суицидов ученики стали чаще говорить о том, как себя ведут учителя, так что у нас есть даже подобная информация. Можно сказать, что и дня не проходит без того, чтобы кто-то не сказал, что учитель позволил себе повысить голос. Думаю, вы понимаете, ученики отстаивают себя.
– Всё-таки учителя себе такое позволяют?
– А ваш ребёнок вам об этом не говорил?
Злата растерянным лицом с бегающими глазами снова выдала ответ раньше, чем произнесла его.
– Если вашего ребёнка это так не касается, то мне кажется, что он живёт вполне себе хорошо. Но это лишь мои фантазии. Возможно, он привык молчать, как сами думаете?
Супруги переглянулись, и сказал муж:
– Он очень активный… И всегда говорит о том, как хочет, чтобы было.
– Здорово. – Герман дал полное согласие. – То есть у нас меньше треволнений по этому поводу?
Супруги снова нова переглянулись, передали друг другу мысленные выводы, похлопали глазами, и Злата выдохнула:
– Я не знаю, как с ним об этом поговорить.
– Поговорить о чём? – Герман прекрасно знал, что скрывается за «этим», но суть была в том, чтобы вывести мать на произнесение «этого» вслух, иначе при ребёнке она тоже будет обходиться обтекаемыми формами, которые тот пропустит мимо ушей.
– Вы знаете.
– Допустим, что не знаю.
Он непреднамеренно ухмыльнулся, чем спровоцировал очередной всплеск агрессии в янтарных глазах. Непреднамеренно или всё-таки специально? Герман держал улыбку, складывал вместе пальцы и отдавал себе полный отчёт в том, что специально.
Злата и пришла за тем, чтобы вытеснить свою злость и разочарование, которые она испытывает, когда думает о том, в каком месте теперь приходится учиться её ребёнку. Это она не может выдержать чужих смертей, это ей трудно с этим смириться. Мозг ребёнка другой, его фокус внимания может быть на совершенно других вещах. Конечно, его это тоже может беспокоить или будет беспокоить через некоторое время, но не говорить с ним об этом вовсе – не выход.
– Хватит придуриваться!
– Злата, никто не придуривается, только вы боитесь озвучить правду. Как вы тогда хотите заговорить с ребёнком, если даже не можете сказать: «Меня пугают суициды»? Попробуйте сказать, наверное, у вас ещё и зажимы в шее? У меня такое бывало, когда я не мог говорить о вещах, которые были доступны всем, но не мне. Попробуйте сказать?
Та взорвалась, но вязко, медленно источая лаву из кратера, без взрывов и летящих горящих камней, как в фильме-катастрофе. Она была тихой, угнетающей катастрофой, которая, в первую очередь, вредила себе, не позволяя чувствам возобладать над собой. Она подорвалась с места, вздёрнула нос и, насупив брови, резко развернулась. Дверью постаралась хлопнуть как можно сильнее.
– Извините, не рассчитал с формулировкой, – признался Герман.
Он не хотел любезничать и формальничать. Злата не была на это настроена, она бы не восприняла ни один из его ответов, а так он постарался вывести её на открытый конфликт, но она предпочла закоптить его в себе, как делала это постоянно, прячась от страшных монстров под одеялом, нежели убегая из комнаты и кидаясь в объятия родителей, которые бы знали о страхе дочери и могли помочь его разрешить, а её защитить: ночником, крепким объятием, рационализацией или исследованием комнаты посреди ночи.
– Вы… – начал супруг Златы. – Вызываете мало доверия.
Герман почти снова развёл руки, но сложил их, вместо этого пожимая плечами.
– Ко взрослым у меня другой подход, нежели к детям.
Этого ответа было недостаточно, не для тех, кто оказался один на один с таким наглым психологом, который позволяет себе говорить, что думает, и раздавать советы направо и налево.
Герман сам по себе знал, почему он так себя ведёт и почему говорит именно так. В его планы не входило кого-то задеть или принизить, ему, как всегда, захотелось решить не только проблему, озвученную человеком, но и подкопать под неё, вырыть туннель и выйти на разрешение того конфликта, который люди опускают, но который показывают бессознательно чуть ли не постоянно или тогда, когда человек находится в стрессе. В такие моменты, даже если человек всё остальное время вёл себя здорово и «нормально», вскрывается то, что на самом деле в нём сидит. Это Герман уже давно научился видеть. Потому что он не только смотрит, а наблюдает: за словами, действиями, мимикой. Иногда всё на поверхности, а иногда он прорывает туннель вместе со своим клиентом до Ламанша.
Открыв программу, он задумался, что даже не спросил имени ребёнка и что родители вполне себе могут направится в кабинет Альберта Рудольфовича, чтобы нажаловаться на то, как по-скотски психолог себя ведёт. Если директор подойдёт, объяснить ситуацию Герман сможет только наедине. Он ждал. Десять минут, полчаса, час. Супруги не вернулись, в кабинет никто не постучал, всё осталось на своих местах.
Следующий день Герман планировал провести в изучении данных об учениках, которые заносила Тамара Олеговна. Тех детей, чьи показатели по тестам превышали норму, Герман пригласил через классруков, но те либо не дошли, либо учителя забыли о том, что их просили. Герман не нагнетал: если человек не приходит, то это тоже своеобразный знак. Может быть, дети понимают своё состояние и нисколько не хотят с ним работать. Чести много. Но по завершению уроков, когда гул за дверью привычно пошёл на убыль, в кабинет постучались.
– Здравствуйте, – неуверенно проговорил девичий голос, а фигура быстро закрыла за собой дверь. Но сделала это тихо, в отличие от Златы.
– Добрый день. – Герман оторвался от экрана и оглядел девочку.
Русые волосы заплетены в две низкие косички. На круглом лице веснушки, краснота и подростковые прыщи. На теле чёрный, официальный комбинезон, на плечах белая вязанная пелерина. В весе, но не критичном. Пышная, но без переизбытка.
Она замерла около двери, держась за потёртую ручку.
– Могу чем-то помочь?
– Я… поговорить хотела.
– Конечно. Закрой, пожалуйста, дверь на замок и проходи. – Движением Тамары Олеговны Герман пригласил ученицу присесть.
То, что у него в кабинете было два кресла для учеников – это не так плохо, как если бы у него было только два стула, без спинок, но отсутствие дивана продолжало смущать, а наличие преграды между ним и учеником – массивный шоколадный стол, потихоньку выводил из себя. Это совсем не соотносилось с тем, в каких условиях раньше Герман пребывал, и вот эти мелочи – они влияли не только на его внутреннее равновесие, но и на ощущения учеников, которые пришли поговорить с ним, а выходило так, будто они пришли к директору или завучу в кабинет и сейчас будут критично разбирать все взлёты и падения, усиленно делая пометки в тетрадях и слушая поучения, которые будут вылетать раз заразом.
– Я – Герман Павлович, – представился он, когда девочка села напротив.
– Я знаю, – кротко ответила она. – Я – Маша.
– А по фамилии?
– Рудько.
Герман быстро забил данные в программу, прошёлся взглядом и увидел, что записей по ней нет. Первый раз. Либо «сложная», как Тамарочка говорила про Лёшку Небесного, и поэтому записей не вела. Но вся сложность, которую могли показать тесты, скрывалась в том, что у Маши немного повышенной уровень агрессии. Недостаточный для того, чтобы трубить о том, что ей нужна срочная консультация у психолога.
– По какому вопросу пришла?
– Да я… – Она смотрела в глаза, а потом опускала свои, глядя то ли на ноги, то ли на руки – из-за стола видно не было. – М-м, вы проводили тесты недавно. Представлялись тогда ещё. Я запомнила. Вы сказали кое-что, и… я подумала, что могу к вам обратиться. – Герман кивнул. – Сказали, что можно прийти со своими проблемами. – За уточнением она потянулась взглядом.
– Конечно, иначе зачем я здесь? В чём заключается твоя проблема?
– Да я… м-м, вы сами сказали, что можно… с этим обратится. И вот я пришла. Я немного злая.
– В каком смысле?
– В прямом, – надула она тонкие губы, – злюсь на всех постоянно. Постоянно меня что-то не устраивает, высказываю… Девочки меня бояться начали. Не постоянно, а вот когда так говорю или делаю.
– А что ты говоришь и делаешь?
Маша потёрла локоть, и тогда Герман больше внимания обратил на её осанку. К спинке кресла девушка не прижималась, сидела, чуть склонившись вперёд, слегка ссутулившись. Одна рука опиралась на колено, вторая трогала голую кожу, которую не прикрывали ни пелерина, ни короткий рукав блузки.
– Всякое говорю, – буркнула она. – Некрасиво говорю, злюсь. А девочкам неприятно, но я это… неспециально даже. Само собой получается. Я даже не замечаю, а когда замечаю… Становится неприятно. Но я даже извиниться за это не могу. Говорю, делаю, а не извиняюсь.
– Стыдно за это?
Маша активно закивала, её косички подпрыгнули.
– А как ты думаешь, что мешает тебе извиниться?
– Не знаю. Если бы знала, м-м, я бы уже поняла, что делать, и извинилась бы. А так получается, что нет. Ничего не понимаю, ничего не знаю, и ещё извиниться не могу… Со мной так никто общаться не будет.
– Боишься, что тебя из-за этого бросят?
Она стиснула зубы, мышцы под кожей окрепли и замерли в одном положении.
– А кто бы такого захотел?
– Не знаю, может, кто-то бы и захотел. Вопрос в том, чего хочешь ты, Маша.
– Да я… просто хочу вести себя нормально. Чтобы без вот этого вот. Без злости, агрессии, а они так и прут из меня, что ничего сделать нельзя. Тупая ещё, не понимаю, когда так говорю, что людей задеваю. Неприятно. И мне, и им… Я точно останусь одна.
– А что ты им говоришь? Как ты это говоришь? Можешь воспроизвести?
Посмотрела, как на идиота, ещё похлеще, чем считала себя саму. С осуждением и толикой презрения.
– Зачем мне это делать?
– Чтобы мы с тобой поняли, как работать. – Она выдохнула и сжала губы до толщины зубной нити. – Или хочешь, чтобы мы работали с абстрактными «злость» и «агрессия»? Несмотря на узкий спектр, это – чувства, которые могут выражать себя разными образами, и нам с тобой нужно понять, как они действуют. Сначала достаточно просто показать их, а потом разобрать, а потом мы пойдём ещё дальше и будем работать с тем, чтобы заменить одну часть на другую.
Марина Алексеевна говорила об этом, только в более тоскливом, сопутствующем своему настроению ключе. Так же, как и в коде, мы можем найти ту переменную, тот кусок данных, ту цифру или букву, которую надо поменять, но в работе с мозгом огромным пласт работы уходит именно на то, чтобы заменить эту переменную. Этим большинство и занимается, стараясь скорректировать своё поведение, свои реакции, чувства. Коррекция не означает, что от основы откажутся, это значит, что основа будет преобразована таким способом, который будет комфортен и удобен человеку и его окружению. Этого нужно было достигнуть с Машей, но она, скорее всего, будет ещё очень долго ходить вокруг того, что свои «злость» и «агрессию» она не понимает.
Перво-наперво нужно прийти к понимаю, осознанию. Возможно ли это для неё? Не все люди могут даже дойти до признания проблемы. Она признаёт проблему исходя из того, что её качества сказываются на общении с подругами. Ради них она хочет стать лучше. Она хочет быть не такой агрессивной. Она хочет… А чего именно она хочет кроме того, чтобы исключить неприятные для других людей чувства? Время ли сейчас задавать вопрос? Сможет ли она его обработать? Нужно двигаться постепенно, как люди приходили к открытию методов изучения космоса и добавляли в словари новые дисциплины: астрометрия, механика, астрофизика, космогония, космология.
Gut Ding will Weile haben .
Постепенно, от меньшего и размытого к большому и чёткому. Так мы можем сейчас увидеть другие галактики, рассмотреть звёзды в них, протянуть руку в их направлении, но не схватить. Но даже того, что мы видим, нам достаточно для того, чтобы не сдаваться и двигаться дальше.
– Что думаешь, Маша? – спросил он у молчуньи.
– Да как мне это сделать? Не понимаю…
– Можешь попросить у своих подруг помочь с этим. Поделись с ними переживаниями…
– Не могу, – вклинилась односложно она.
– Из-за чего?
– Не знаю. Из-за того… Из-за того, что внутри сидит.
– А что внутри сидит?
– Мерзкая жаба, которую душит змей.
– Они большие?
– Очень…
– Размером с мой кулак?
– Больше. М-м, раза в три.
– Это очень много. А где жаба сидит?
– Вот где-то здесь. – Маша указала на область грудины выше сердца.
– А они как, в лёгкие залезают или в сердце?
– Они… Они все вместе. В одном. Как сказать? Будто всем там тесно, и сердцу, и лёгким…
Герман приложил палец к губам, а потом подошёл к шкафу. Достал бумагу и цветные карандаши.
– Нарисуешь их?
– Их? Жабу со змеем? Да я рисовать не умею…
– Неважно, умеешь ты или нет, важно то, что ты сделаешь это. Я не оцениваю твои навыки, это не главное в моей работе. – Он подмигнул ей и положил на стол «приборы для изучения».
Маша немного жалась, осматривалась, но всё-таки подъехала поближе к столу, вытащила разом карандаши, наклонив упаковку, но придерживая руку, чтобы они не попадали со стуком на стол. Чтобы не оставили точечных разноцветных следов на белой бумаге. Это она предотвратить смогла.
Герман сел на своё место, а Маша задумалась, как показать этих жабу и змея, в три раза больших кулака Германа Павловича и так, чтобы они уместились на альбомном листе. Она отдала размышлениям больше семи минут – Герман засёк. Время – тоже важный показатель.
Простого карандаша не было, и она использовала чёрный для того, чтобы наметить форму. Пусть и не умела рисовать, начала с набросков шаров, которые обозначали жабу. Она занимала почти весь лист и, как видел Герман, стремилась вылезли с белого пространства, как оторваться от небосвода подающая звезда.
– А есть стёрка? – спросила Маша, обеспокоенная тем, что делает жаба.
– К сожалению, нет, рисуй так, как получается.
– Но она вылезает за пределы листа, – вылезло вместе с этим слабое недовольство.
– Пусть вылезает, она же большая, ей надо больше места.
Маша претенциозно вздохнула и опустила плечи. Посидела ещё с минуту, ломала свою голову и продолжила: карандашом уменьшила границы, потом начала обвивать вокруг тела змеи. Змея. Или даже ужа. По сравнению с земноводным пресмыкающееся не соответствовало размерам, обозначенным Машей. Возможно, она отталкивалась именно от размеров жабы, а не змея. Тот тремя кольцами обвилась вокруг тела. Маша, уже надавливая на чёрный карандаш, обозначила «выемки», чтобы было однозначно видно, что маленький змей приносит жабе дискомфорт.
После того, как Маша выделила силуэты и была ими удовлетворена (она порывалась схватить невидимый ластик, но каждый раз тяжело вздыхала и начинала обозначать линии чёрным карандашом, оставляя яркие следы) в дело пошли цвета. Она выбрала тёмные: зелёный, коричневый, синий, которые составляли основу. Затем взялась за жёлтый и ядовито-зелёный.
В кабинете было слышно только то, как увлечённо Маша водила карандашами по столу, иногда стучала ими, когда брала резко и целилась в листок. Жаба вышла страшная: с бородавками и нарывами, заплывшими, слипающимися глазами. Болотно-зелёным Маша показала, что земноводное источает неприятный запах, а змей был сине-коричневый. Сначала Маша пыталась нарисовать чешую, но быстро бросила это дело, нахмурившись, начала активно заштриховывать спиральное тело. Так же она цыкала каждый раз, когда выходила за пределы контура, а потом прибавляла жабе или змею лишней кожи, поэтому кое-где животные казались вздутыми, будто их перекусали комары или у них выявилась аллергия на пчёл.
– Вроде всё, – устало протянула она, пододвигая рисунок Герману, а карандаши убирая в коробку.
Убирала согласно цветовому градиенту: красный, рыжий, оранжевый, жёлтый…
– К сожалению, сейчас рисунок мы разобрать не сможем, – отметил он, глядя на время, – осталось немного. Придёшь в следующий раз, чтобы мы с тобой разобрались на месте?
– А сейчас нельзя? – воспротивилась она, ожидаемо вставая на дыбы.
Раздражительность действительно была ей присуща, и она действительно делала это на автомате. Это её привычная модель поведения. Возможно, проблема была и раньше, просто её подруги о ней говорили: ей сложно держать себя в руках, когда что-то идёт не по плану. Но даже если так, намного важнее то, как она после этого отходит. Сейчас, зная, что эти реакции касаются её подруг, она переживает это виной и чувством стыда, потому что есть ощущение, что контроль над собой ей не доступен. Что есть то, что выходит за рамки и ей невидимо.
Беспомощность всегда отягощает состояние, заставляя думать, что ничего в этой жизни правильно и достойно ты сделать не можешь. Что твоих сил недостаточно, что ты упустил шанс и подходящей момент, что ты слишком засиделся на месте.
– На интерпретацию понадобится больше времени, а пока – расскажи мне о них. – Герман указал плавным движением на рисунок.
– Да что о них говорить, жаба и змей… Никогда таких не видели? – усмехнулась пожухло она, склоняясь над коленями.
– Ты устала?
– Нет, просто не понимаю, зачем это. Я… Или всё же устала. Тяжело было рисовать. Я не рисую обычно. То есть, м-м, вообще. Мне это не нравится. Тяжело.
– Но у меня отлично получилось. Когда смотришь на такую жабу, сразу думаешь, что с такой жить очень сложно.
– А вам не кажется, – с долей заносчивости, – что со змеем, который вас душит, жить сложнее?
– И с ним тоже. Они одно или всё-таки два отдельных?
– Да я же говорю: жаба и змея – конечно, два отдельных.
– Я не знаю, что у жабы за спиной творится, вдруг всё-таки одно, поэтому уточняю.
– Тогда я отвечаю: нет, они не одно.
– Хорошо, а как они пришли к таким отношениям? Почему змей душит жабу?
– А мне откуда знать?
– Я думал, что они твои, или нет?
Маша растерянно захлопала ресницами. Даже не предполагала, что так могло быть. Неожиданная новость даже для неё самой.
– Не мои они. Припёрлись ко мне, а мне теперь от них плохо, да и вообще… Я думала, что мы, м-м, обо мне будем говорить.
– Тебе кажется, что мы говорим не о тебе? – Та кивнула. – Хорошо. Расскажи тогда о том, о чём бы тебе хотелось сейчас поговорить.
– Герман Павлович! – резко вставила она. – Я же говорила, что злюсь… А вы как специально, вопросы такие задаёте, а я даже не знаю, как ответить. И вообще, это же к делу не имеет отношения, как и вот эти. – Он дёрнула подбородком в сторону листа.
– А какие вопросы ты бы хотела, чтобы я задал?
– Какие?..
Для неё самой это тайна.
– Ну… Такие… Да не хочу я вопросов, просто скажите, что делать, чтобы вот этого не было. Чтобы я с подругами не рассорилась, чтобы… Нормально всё было, и я не злилась.
– Ты хочешь, чтобы злости в твоей жизни не было вообще?
– Да.
– Почему?
– Потому что злые люди никому не нравятся.
– А ты хочешь нравится? – Ярое согласие головой, отчего косички снова подпрыгнули. – Всем-всем-всем?
– Ну… Не прям всем-всем. Потому что это нереально… Я же не могу знать всех людей, значит, и понравится всем не могу. Я хочу нравится тем, с кем общаюсь. Они же мне нравятся, да и ведут они себя нормально, а я одна… веду себя вот так. Я же чувствую… Чувствую, что это встаёт между нами… Стеной, преградой. Что со мной начинают вести себя осторожно. Настороженно. Будто, знаете, я из тюрьмы вышла за избиение человека, и все ждут, когда я снова туда попаду, снова избив человека. А никто этим человеком не хочет быть… И я не хочу быть, этим… Как их называют, которые срываются?
– Рецидивисты.
– Да. М-м, рецидивистом быть не хочу… Но я, получается, м-м, он. Всем неприятности доставляю.
– А ты у всех спросила, что доставляешь неприятности?
– Нет, но!.. Это же видно… Как девочки смотрят, а я думаю, что же я опять такого сказала. Какая-то я неконтролируемая мразь, которая даже достойно вести себя перед друзьями не может.
– Хочешь совет? – прямо спросил Герман.
Маша с надеждой закивала.
– Попроси своих друзей отмечать твоё состояние.
– Зачем?
– Чтобы ты могла его отслеживать в моменте, раз не можешь его почувствовать внутри себя. Сначала они будут твоими спутниками, будут тебя вести, а потом ты сама научишься через них отслеживать своё состояние. Я думаю, раз они твои друзья, то будут рады тебе помочь. Только ты скажи им об этом. Чтобы говорили, чтобы указывали, чтобы ты тоже отслеживала это в себе. Сможешь?
– Но я… Я не хочу их напрягать. Я и так на них срываюсь, а тут ещё заставлять их следить за мной…
– Не заставлять, а попросить их. Если они не захотят, откажутся, верно? Но если им важны ваши отношения, они решат помочь, чтобы сделать эти отношения лучше. Я приведу тебе пример: все дети рождаются стерильными, у них нет ни знаний, ни понимания того, что в них происходит. Есть только чувства и ощущения, которые делают либо «хорошо», либо «плохо». В процессе воспитания мамы и папы говорят свои детям: «Ты голоден, тебе холодно, тебе грустно, ты плачешь» и так далее. Родители наделяют состояние ребёнка названиями, помогают ему разобраться в них, понять, что он чувствует. То же самое произойдёт и с твоей ситуацией, только вместо родителей твои друзья.
– Но я ведь… уже не стерильна, мне пятнадцать… Разве можно изменится так просто?
– Так просто – нет, но приложив силы, кое-что изменить можно. С тобой и твоими друзьями мы попытаемся это сделать. Попробуешь?
– Да не знаю… И как мне их попросить?
– «Ребята, в последнее время вы говорили, что я злюсь. К сожалению, я сама не могу отслеживать своё состояние, поэтому хочу попросить вас о помощи: говорите мне, когда я буду себя так вести. Например: “Маша, ты злишься”». Сможешь сказать?
– Не знаю… Вроде и просто звучит, но…
– Жаба?
– Она самая. Со змеем своим.
– В любом случае предлагаю попробовать. А если не сможешь, ты всегда можешь им написано в мессенджере. Это уже проще?
Машу это озарило. Она вытянулась, открыла глаза.
– Точно! Можно же написать! Тогда напишу, это будет лучше.
– Отлично, – улыбнулся Герман.
– Но… Что мне делать, после того как скажут, что я злюсь? Этого ведь недостаточно.
– Сначала тебе нужно самой научиться это отслеживать. Может быть, ты даже сможешь установить закономерность развития своего состояния, поймать этот переход к раздражительности. Я предлагаю тебе завести тетрадь и делать записи туда каждый раз, когда ты или твои подруги будут обозначать то, что ты злишься. – Герман вытянул чистый лист бумаги. – Здесь ты пишешь когда, – он расчертил таблицу, записывая название граф, – потом опишешь ситуацию, при которой это произошло, потом тебе нужно постараться отследить момент переключения с одной эмоции на другую, что именно ты сказала или сделала. Пока что для отслеживания этого будет достаточно.
– Не совсем понимаю… Я же не знаю, как это, как я это определю?
– Хорошо. Давай обыграем ситуацию. У тебя есть на руках пример со злостью, который бы тебе хотелось обсудить?
– Нет, – сказала она в себя.
– Тогда я приведу свой, чтобы тебе было наглядно. Так, что же меня бесило в последнее время… Я бы сказал о том, что произошло с родителями, но это не подобает такому человеку как я. – Маша оттянула угол рта. – Например, сегодня в метро мне наступили на ногу. Кричать и устраивать скандал, я не стал, но разозлился. Так и пишем: «Я разозлился в метро», в моменте переключения: «Наступили на ногу», что я сделал: «Вспыхнул внутри, проматерился про себя, подумал, что тоже хочу наступить ему на ногу».
– А что насчёт… Ну, м-м. Я понимаю, почему вы разозлились, но и не понимаю…
– Если я сейчас тебя правильно понял, то вот мой ответ: потому что я купил новые ботинки, они обошлись мне в пять тысяч. Денег у меня не так много, поэтому я бы хотел, чтобы к моим вещам относились с уважением, как и я к ним, потому что их ценность я понимаю. А вообще… было больно. Неприятно. На боль люди часто реагируют агрессией, чтобы защитить себя.
– А… То есть, наверное, даже боль на первом месте?
– Быть может. Денежные траты для меня – тоже боль. Только на другом уровне. Теперь стало более понятно?
Маша неуверенно кивнула. Приняла лист с таблицей.
– Если ты будешь забывать отписываться в тетради вовремя, можешь делать это отсрочено. Но если ты не будешь помнить ситуацию, об этом тоже так напиши. Попытайся вспомнить, нафантазировать. Отталкивайся от своих ощущений и как тебе показалось.
– Разве… – Она сложила таблицу пополам. – Это не означает, что я придумываю?
– Сейчас можно придумывать. Даже стоит. Просто думай о том, что и почему произошло, можешь записывать несколько вариантов, почему бы и нет? Чем больше будет твоих размышлений, тем лучше.
– А это… это правда поможет?
– Если ты этим займёшься. Твои закрытые внутри ощущения выйдут наружу, и ты сможешь с ними взаимодействовать. Но я не говорю, что это избавит тебя от проблем, так просто не получится. С этим нам с тобой придётся поработать, если ты захочешь. Как чувствуешь себя?
– Да так… М-м, не то чтобы воодушевлённо. Делать надо, записывать… Не знаю, хватит ли у меня времени.
– Учёба много забирает?
– Нет… Я ваять учусь. Много учусь, хочу делать красивые игрушки, а потом продавать их. – Она показала свои пальцы. – Не видно, но обколоты все. Больно очень. А я хочу быстрее научиться, а когда пытаюсь быстрее, промахиваюсь.
– А куда ты спешишь?
– Да знаете… Чем раньше начнёшь, тем лучше. Задую тем, кто уже к пятнадцати умеет ваять… Вот есть в кружке одиннадцатилетки, так они лучше меня это делают! Мне и завидно на них смотреть, я тоже хочу результатов.
Успокаивать тем, что всему своё время, Герман не стал. Не к месту. Неправильно. Не в этой ситуации.
– А что ты планируешь делать, когда твой уровень будет достаточным, чтобы делать красивые игрушки?
– Продавать их хочу… Хочу сообщество… Я уже завела его, в телеграмме и контакте, там мои друзья сидят. Выкладываю, как учусь. Потом хочу выкладывать готовые игрушки, продавать их. Было бы здорово, окажись в чьём-то дома моя работа… Вот просто бы стояла и радовала глаз, – улыбнулась Маша, оттаяла, отпустила своё напряжённое раздражение и непонимание. – Но это трудно… раскачиваться, находить аудиторию. Не знаю, как долго я буду это делать, учитывая то, что… Да вообще сложно. У меня… много всяких мыслей в голове по этому поводу. – Она приложила пальцы к виску. – Хочу, но понимаю, как это сложно и сколько времени мне ещё… Надо будет потратить. Хотелось бы всего да побыстрее.
– Мне тоже так хочется, – понимающе ответил Герман. – У нас время закончилось. Напоминаю тебе про таблицу, а я, – он указал на рисунок, – займусь этим, потом обсудим его. Покажи потом ещё свои поделки. Я думаю, тебе уже есть чем похвастаться, раз раны на пальцах не так заметны.
Маша поджала губы и подтянула уголки. Не поверила. Не смогла принять. Отторгает и желает вернуть обратно в руки Германа эти слова, чтобы не думал ими так бездумно разбрасываться, как флаерами, которые можно скомкать и скинуть в ближайшую урну. Она считает, что не достойна этого, что можно лучше, что будет лучше, но не факт, что, когда она достигнет того результата, о котором мечтает, её мнение касательно своей работы изменится. Скорее всего, не изменится. Она будет дальше хотеть покорять высоту за высотой, не оглядываясь вокруг, не замирая ни на секунду, позволяя себе пустить взор до горизонта, который открывается с перевалочного пункта на горе: она не увидит леса, соседние горы, реки, озёра, облака, которые расположились прямо на пиках гор, не тронет взглядом синеву неба, она будет карабкаться вперёд, видя перед собой лишь одну цель, которую по достижению не засчитает.
Это было так же, как если бы Гагарин не посмотрел в окно иллюминатора и люди не отмечали день космонавтики; как если бы Нил Армстронг не посмотрел на Землю с Луны и не поставил флаг Штатов, и потом никто не думал о том, а не сфабрикована ли высадка; как если бы никто не изучал информацию, которая поступает от странствующего в темноте и свете звёзд Вояджера-1, забыли о Хаббле после того, как он перестал работать, не ждали создания Джеймса Уэбба.
– Спасибо, хотя я… м-м, ожидала другого.
– Что мы быстро со всем разберёмся?
Маша понуро кивнула, косички в этот раз не подпрыгнули, а лишь вязко потянулись за движением головы.
– Разберёмся, у нас с тобой предостаточно времени, хоть и может казаться обратное.
Герман говорил слова, которые считал нужными произнести, даже если для Маши они ничего не значили. У неё такой образ мышления, у неё есть одна хорошая установка: «Я делаю недостаточно».
Герман проводил её и вернулся за стол. В программе добавил пару комментариев: «Не проживает агрессивные чувства? Жаба и змей». После этого взял рисунок и ещё раз внимательно его рассмотрел: линии жёсткие, продавливающие бумагу, с обратной стороны видны, прощупываются. Яркие цвета выбраны для того, чтобы показать негативные качества, типа нарыва, слизи змея. Тёмные выбраны для того, чтобы показать, что жаба и змей находятся «внутри», под кожей и костями, так же – Герману пришла эта мысль в голову – они о том, какой негативный оттенок жаба и змей имеют для Маши.
Рассказывать интерпретацию Герман не собирался слишком быстро, нужно, чтобы Маша сама смогла это сделать, поняла, кто для неё этот дуэт. Он живёт внутри неё, но ей не принадлежит – навязанная установка извне, которую она отторгает, а сам этот удушающий комок выражает её желание высказаться, прожить чувства, но ей не позволяет. Она замкнута, заточена, как жаба в пределах белого листа, а Маша – в непонимании того, как проживает свои чувства.
Это нужно взять на контроль: только ли с агрессией такие проблемы или закономерность распространяется на другие чувства? Нужно проградировать. Поскольку другие её чувства не доставляли друзьям дискомфорта, о них не говорили, но это не означает, что у Маши могут быть с ними другое взаимодействие. Может быть всё что угодно, и всё это требует дальнейшего уточнения.
Сам факт, что Маша пришла, уже говорит о том, что хочет поменять свою жизнь, но это не говорит о том, как далеко она планирует зайти. Видя её реакцию на ведение записи, Герман подумал, что пока маловероятно, что она возьмётся за задание, а если возьмётся, будет пропускать, поскольку будут работать её защиты – ей ведь нельзя знать, что она испытывает злость, агрессию. Это нужно подавить, а то, что предлагал Герман как раз о том, что их нужно будет начать проживать. Прочувствовать.
Шанс двадцать на восемьдесят. Немного, но и с этим поработать можно. Даже если будет несколько записей – всего лишь пара, это уже материал для встречи. Самому Герману тоже нужно подумать: Маша занимается ваянием, она созидает, но при этом другой вид творчества – рисование, она обходит стороной, а историю придумать не в состоянии – не может, не хочет, защищается. Она считает, что это ни к чему не приведёт, она не желает проецировать свои чувства. То есть выход для них перекрыт настолько.
Но задумывались ли она, что именно хотел получить Герман, когда просил рассказать историю? Герману казалось, что нет. Слишком много подавления.
Дома его встретила Света – у неё был выходной, и она преподнесла на ужин мясо в горшочках.
– Отрываешься по полной? – улыбнулся ей Герман и привлёк к себе.
– Раз в месяц-два можно, а то мы с тобой скоро потолстеем на макаронах.
– Тоже верно. У меня тут такое было… – начал торжественно.
– Да? И что же такое?
– Девочка ко мне сегодня пришла, проблему вроде как решить хочешь.
– С почином! А почему «вроде как»?
Света знала почему, но задала вопрос, чтобы продолжить тему. Герману было приятно. И слушать, и смотреть на Свету ему было приятно: на её распущенные, чуть спутавшиеся, непослушные волосы, на её бледное от природы лицо, на котором проступали сине-зелёные венки и была пара редких фиолетовых капилляров, мелькающих, как молнии, и появилось пара красных прыщиков от того, что она снова позволила себе слишком много сладкого, перекусывая на работе между пациентами; в её тёмные глаза, которые привлекали к себе так же, как чёрные дыры, только Герман знал, насильно Света тянуть в себя – к себе не будет, она даст выбор и возможность. Его свет такой.
– Очень много защиты. Не знаю, будет ли она дальше приходить, потому что мне показалось, что ей сложно. Но то, что ей сложно, не значит, что она опустит руки. Посмотрим, как будет. Может быть, она меня удивит.
– А сколько ей?
– Пятнадцать.
– Ой, бедняжка! Ещё и возраст такой, когда всё на обострении, а тут ещё с проблемами разбираться надо…
– Но лучше разобраться с ними сейчас, чем откладывать на потом. Но даже если она не сможет, маленький опыт пробы у неё уже есть.
– Что ж, пусть тогда ходит. Думаю, ей понравится у тебя.
Герман непроизвольно усмехнулся, вспомнив Злату и её мужа, и посчитал, что Свете будет об этом интереснее услышать.
Какой из Германа психолог? Тот, который знает, что можно вести себя по-разному с разными людьми. Не существует подхода, который бы подошёл всем людям, каждому нужен индивидуальный. Каждый хочет, чтобы к нему относились по-особенному и к такому отношению, которое они желают, они тянутся лучше. Это и значит «расположить к себе» – попасть в желания собеседника.
4. Женя Рем
Пара дней в затишье, несколько разговоров с детьми, чьи результаты тестирования были выше нормы. Дошли. То ли напоминание в школьном чате сыграло свою роль, то ли учителя ещё насели на детей, заставили, привели, но на глаза психологу не показались, скрылись так, чтобы не подкопался со своим психологическим: «Водить ко мне никого не надо, надо, чтобы сами, по своему желанию и воле».
Закономерным оказалось наличие усталости. От школы, уроков, учителей, родителей. Они хотели быть где угодно, но не здесь, но раз им «надо было», они оставались и выражали своё недовольство в тестиках. Герман предложил свою помощь, но никто не откликнулся. Все махнули рукой, забот хватало, не хотелось ещё дополнительный час торчать в кабинете, вместо того чтобы пойти с друзьями гулять, есть, беситься и разговаривать. Для них это был действенный способ отвести душу.
– Как у вас дела? – спросила за обедом Марина Алексеевна, присаживаясь рядом.
– Смотря, о какой сфере моей жизни мы говорим. Лучше вы расскажите, как вы?
Та открыла рот, раскрыла лисьи глаза, взмахивая короткими ресницами – такими короткими, что их будто и не было.
– Сложно, наверно? – выдохнула она. – Непонятно, что делать. – Повозила ложкой по гороховому супу. – И вроде бы нормально, живёшь дальше, а одной своей какой-то частью не живёшь. Или живёшь в прошлом, таком далёком, словно его и вовсе не было. Было, напечатали, а потом стёрли. Ты помнишь, что оно было, но подтверждений этому нет.
– А ваша новелла? Она ведь достаточное подтверждение? – Марина Алексеевна остановилась: перестала дышать, покачиваться, елозить суп. – Сохранилось ведь что-то?
– Сохранилось, но как сложно… Это трогать. Боюсь, если возьму, то и не смогу дальше… жить как прежде.
– Для вас… Артём ещё не умер.
– Нет. Он просто… просто заболел на очень долго, и я никак не могу выйти на связь. Хоть и пыталась.
– Писали ему?
– И звонила. Номер больше не обсуживается. Оно и понятно, но как объяснить себе там, что его… Что его. – Спрятала руки под стол. – Я застряла, верно? Есть эти пять стадий горя, а я в начале… Уже четыре месяца. – Герман промолчал, а Марина Алексеевна обратила взгляд своих чёрный глаз на него. – Как она называется?
– Отрицание.
– Лучше и не скажешь. Не умер, заболел. Хоть и знаю, как оно на бумажках, хоть и хожу к нему на могилу, а всё равно там под землёй кто-то другой. Не мой Артём. Не моё Море…
– У вас есть кто-то близкий, кто может вас поддержать?
– Муж, – улыбнулась она. – Но он думает, что я придаю этому слишком большое значение. Якобы Артём – один из многих. Будут ещё и Артёмы, и Море, но я так не думаю.
– Я тоже так считаю. Второго такого Артёма никто и никогда не встретит. Вы злитесь за эти слова на мужа?
– Нет… Нет сил злится. Не хочется доказывать ему обратное. Пусть думает так, как хочет. Но, конечно, от этого отношения стали холодными, чёрствыми. Почти не говорим. Едим, сидим рядом, а между нами только пыль. Может, он понимает, что меня и не стоит трогать, но, когда пытается, я хочу, чтобы перестал. Я хочу это прожить так, как могу… Но, кажется, я даже не могу сдвинуться с линии старта. Так и стою. Оглядываюсь назад, а вперёд – никак.
– У каждого свой темп. Кто-то начинает быстро, а заканчивает медленно. Кто-то долго топчется на месте, а потом навёрстывает.
– А если это касается смерти? Какие рамки?
Герман увёртываться не стал.
– Считается, что проживание горя продолжается год. Как раз до момента, когда будет годовщина смерти, чтобы с новыми чувствами встретиться с ушедшим.
– Год… Это же так мало. Как я смогу? А их там пять – этих стадий. На отрицание четыре месяца, на всё остальное тоже – двадцать месяцев, почти два года. И это в лучшем случае.
– Мы не знаем, как получится дальше. Может быть, наверстаете? Но, я вам скажу, что цифры – это не главное. Главное то, как вы себя чувствуете.
– Я… честно говоря, уже давно не понимаю как. И не понимаю, как именно хочу себя чувствовать.
– А вы злитесь на Артёма?
– За что? – искренне удивилась она.
– За то, что он так поступил.
Марина Алексеевна нахмурила чёрные брови, её плоское лицо обрело объёмные черты, стало гротескной индонезийской маской со множеством выступающих изрезанных деталей.
– Герман Павлович, не говорите так. Он поступил так, потому что его загнали в угол, за что мне на него злиться?
– И впрямь, – Герман вернулся к своей порции второго, – у всех это по-разному. Если вы понимаете его выбор, то, наверное, это говорит о том, насколько вы на самом деле были связаны. Как много было между вами. Сколько времени вы провели вместе. Это о многом говорит.
– Да. Только толку теперь от этого.
И впрямь. Толку от этого, когда человека нет. Обесценивание. Отрицание. Отрицание не только смерти, но и совместного прошлого. Когда горе прожито до конца, ты приходишь к выходу, что смерть – это грустно, но при жизни вас связывало многое и оно ценно само по себе, но чтобы к этому прийти, чтобы смириться со смертью, нужно пройти долгий путь. Гнев будет, но не сразу. Гнев будет, если Марина Алексеевна позволит ему появиться, сказать себе: «Артём, зачем ты так сделал? Ты хотел, чтобы нам всем было больно?!» Это нормально – дойти до таких вопросов, дойти до того, что поможет высказать свою злость и негодование.
В отличие от Маши, Марина Алексеевна законсервировала себя на линии старта. Боится ведь, что, если двинется, придётся всё менять: и своё отношения, и свои мысли, и даже замершие чувства – а это всегда больно, но так же и закономерно, как и движение звёзд на небосводе. Мы всегда примерно видим три тысячи и эти три тысячи двигаются согласно заданным законам. Так же и люди: двигаются согласно законам, живут согласно им, пусть и отрицают или не замечают, закономерность есть. Она присуща не только живой материи. Так мир строит себя – через правила и законы. Исключения есть, но они – всего лишь исключения, и их не так много.
Будь мир из одних исключений, то наш закон был бы другим – похожего бы не было, но он есть, для всех. Отличается только тем, какой человек: как он живёт, как он привык жить и как он будет жить, а кости, каркас для всех примерно тот же, облепляем мы их разными материалами, разным содержимым, разными формами и смыслом, окрашиваем в разные цвета и добавляем декоративные детали.
– Если захотите поговорить, – сказал между делом Герман, прежде чем к ним подсел Егор Добролюбович, – приходите.
– Знать бы ещё о чём говорить, кроме одного и того же.
– Какие хмурые лица! – сказал старик, устраиваясь напротив. – Что это с вами такое? Ученики все нервы вытрепали, Марина Алексеевна?
Та прикрепила улыбку к лицу степлером:
– Лучше бы трепали, не так скучно было бы.
– Отставить, нельзя им такого давать! Они же совсем от рук отобьются. Нет-нет, с ними так нельзя. Нужно строже, а то размякли совсем, стали как губки. Они должны быть пластичными, но не слишком. Должны понимать правила и следовать им, иначе начнётся такое, представьте себе! Слышите меня, Марина Алексеевна? Никому – никому! – такого не надо.
Герман выдохнул и встал со своего места. Кивнул Егору Доблюлюбовичу, а Марине Алексеевне посмотрел в глаза. Поняла она верно: если хочет, может прийти. Его работа не только в том, чтобы тестики проводить и говорить с учениками раз в сто лет между этими самыми текстиками.
Герман предполагал, что и сегодня день пройдёт впустую, раз Марина Алексеевна решила пока к нему не наведываться. Поспешил, поставил её против себя. Вопрос только в том, как она переварит эти слова: откажется от них, забудет или придёт с размышлениями касательно своей потаённой злости? На её появление рассчитывать не приходилось, поэтому Герман подумал, что ему послышалось, когда раздался стук в дверь.
На пороге показалась светлолицая девушка армянской национальности. У неё были яркие, выделяющиеся брови, острый орлиный нос и омбре на тёмных длинных волосах.
– К вам можно? – уточнила она.
– Да, можно, присаживайся.
Девушка сделала пару длинных шагов и оказалась около стола. Она была худа и вытянута, подбородок держала чуть поднятым. Села в кресло аккуратно, кладя одну руку на подлокотник, а вторую – на руку сверху. Её тело склонялась к левой стороне.
С короткого расстояния особенно выделялись её длинные, пушистые ресницы и был заметен лёгкий макияж, который скрывал шероховатости кожи.
Она была похожа на фигурку из дутого стекла, с удлинёнными формами, которые заканчивались прозрачными каплями.
– Я Герман Павлович. Представишься?
– Я – Женя. Для своих Женька, Женёк… Жека. На ваш вкус.
– А твоя фамилия?
– Рем.
– Через «е»?
Женя кивнула, но поиск по базе не показал ученика с таким именем.
– Тогда я что-то неправильно ввёл. – Он проверил себя ещё раз, а Женя разулыбалась.
– Это потому что я – Женевьева, а не Евгения.
– Как я мог не подумать об этом!
Жене реакция понравилась, подкрепила её согласными кивками. Напомнила этим Тамарочку – в ней тоже были грация и элегантность.
– Нашли?
– Нашёл.
Среднестатистическая страница нормы.
– И по какому вопросу ты подошла?
Расслабленность сошла с девичьего лица, взгляд стал жёстким, пальцы обхватили запястье, но вид её оставался благородным и выдержанным: то ли дело было в её внешности, то ли в одежде. На ней была белая блузка с рюшами: воротник стоял, на груди ткань перекатывалась волнами, на длинных рукавах она очерчивала запястья; и строгая чёрная юбка от талии. Скромный, но выделяющийся стиль. Такой бы назвали викторианским.
– Сразу к делу? – спросила она. – Вы правы, тянуть не надо, и не хочу. Нужно рассказать, как есть. Вы знаете про Лизу Гордиенко?
– Одна из тех, кто совершил самоубийство.
– Да, буквально месяц назад.
– Она была твоей знакомой?
Женя учится в том же самом классе.
– Нет. – Его взгляд скользнул по краю стола. – Она была подругой… моей подруги.
– Выходит, вашей общей знакомой? – Согласие. – Как её зовут?
– Аня.
– Переживаешь за неё?
– Да… Мне кажется, у неё… депрессия. Такое ведь может быть? Вы, как специалист, можете сказать: смерть человека может довести другого?
– Конечно. А учитывая обстоятельства, тут всё намного сложнее, чем просто смерть.
– Вот этого я и боюсь.
– Как ведёт себя Аня?
– То есть как она себя чувствует? Она почти не ходит в школу, а когда приходит, она просто… Я бы сказала «невменяема», но слово по значению и окрасу другое, но лучшего я подобрать не могу. Она… заторможена. Медлительна во всём. Не слышат, если её зовут, а если слышит, то не может ничего сказать: то ли не услышала вопрос, то ли не помнит, что надо ответить. Разговаривать с ней сложно. То есть… невозможно, потому что она сама не идёт на контакт. Краситься перестала, ногти не идёт делать – отросли уже, а она всё сидит с ними. – Женя схватилась пальцами за губу. – Я понимаю, она такая из-за того, что её подруга… умерла. Но жизнь ведь продолжается. Она будет такой всегда? – Вопрос не был риторическим, у него был получатель.
– Смотря, что она решит с этим сделать.
– А если ничего не решит?
– Тогда ничего не будет.
И это будет лучшее решение, потому что если решит что-то, может дойти до ручки. Решения тут открывают две границы: либо к светлому будущему, либо к его отсутствию.
– А мне что надо сделать?
– Хочешь услышать совет по этому поводу?
– Я… читала в интернете, смотрела видео, как общаться с депрессивными людьми, но тут ситуация другая. Не то чтобы Аня была депрессивной, она ведь просто… из-за Лизы такая. Потому что её не стало. Поэтому пришла депрессия, а не потому что с ней что-то не так.
– Да, причина тут именно такая.
– И что с ней делать? – подалась Женя к столу, положила на него длинные пальцы, украшенные светло-розовыми ногтями. – Я не пойму. Что я могу сделать? Я пыталась с ней поговорить, но она никак не реагировала или реагировала, но… мало. Плохо. Меня будто и рядом не было, почему она… Получается, для неё Лиза была так важна?
– А как ты думаешь? Что тебе сама Аня говорила про Лизу? Или, может быть, ты видела, как они общались друг с другом наедине?
Женя ещё раз уцепилась в губу.
– Я видела, как они общались, но среди других. Наедине я их, конечно, не видела. Наедине ведь никого, кроме них, и не было.
– Тогда что ты видела?
Женя отпустила губу и прижалась к спинке кресла.
– Что я видела… Крепкую дружбу. Уверенность в себе Лизы и уверенность в ней Ани. Они шутили, смеялись. У них были темы, которые обсуждали только они вдвоём, остальные могли их не понимать, а объяснений они никогда не давали. Смеялись между собой, переглядывались и понимали без слов. Кажется, они действительно так умели – без слов понимать, разбираться. Они были так близки, а Лиза… сделала вот так.
– Как она сделала?
Женя сделала глубокий вдох, рюши на её блузки поднялись, а потом шумно выдохнула.
– Она бросила Аню. Кинула, предала. Просто так. Я всё думала и думала, если у неё были проблемы, почему она о них не рассказала лучшей подруге? Что там вообще должно было такое случиться, чтобы решить убить себя? Я даже себе такого представить не могу, а теперь из-за неё, из-за Лизы этой, я должна бояться, лишь бы Аня не сотворила с собой чего похуже!
– Думаешь, что она может?
– Не знаю! Но… может ведь? Нельзя этого исключать. Депрессия доводит людей до такого, а Аня как раз в таком состоянии.
– Боишься, что она тоже тебя бросит, как бросили её?
Женя лишь потеряно уставилась на психолога. Взял и сказал, разоблачил страх, который прятался за тонкой тканью, просвечивая силуэтом. Движений у звёзд одно и у людей тоже.
– Я бы не хотела, чтобы такое произошло. Что тогда будет со мной?
Правильный вопрос. Что будет с ней, которая переживает за подругу, которая так же переживает за ту, которая ушла. Навсегда.
– Я не хочу оказаться на месте Ани… Я считаю, что вообще никто не должен оказываться на таких местах! Почему эти люди, которые совершают самоубийство, не думают о других? Всем только хуже делают, а эта Лиза – ещё и за границей, где-то в гостиничном номере… Каково было её родителям? Как им?.. – Женя подавилась, и Герман быстро налил ей стакан воды. – Спасибо… Я не понимаю и в толк взять не могу: неужто смерть – это лучшее решение? Даже если для тебя это – лучшее решение, то что насчёт остальных? Это какой-то эгоизм. Ни о ком не думают, кроме себе. Есть родители, бабушки, дедушки, друзья, знакомые, и ты всех их бросаешь, не сказав ни слова, не дав им хотя бы помочь тебе. Попытаться помочь… Никто ничего не рассказал, все просто… Выпилились, будто это нормально. Это не нормально. Вообще. Но они это так увидели, а другие теперь страдают из-за них. Из-за того, что они решили сделать со своей жизнью. Это неправильно.
– Даже если они очень страдают?
– Если они страдают, – Женя посмотрела в глаза, – они должны пойти за помощью, а не страдать в одиночестве!
– А если друзей нет?
– Но у Лизы друзья были…
– А если она их не считала друзьями?
Конечно, полное непонимание. Она же общалась и смеялась с Аней, у них были темы только для них двоих, они могли быть наедине и всё равно вместе, так почему же не считала друзьями?
– У всех разное отношение к понятию дружбы и друзьям. Кому-то достаточно почувствовать, что можно быть самим собой и, значит, мы друзья. Кому-то нужно для этого прообщаться три года или пять лет, чтобы суметь сказать, что связь достаточно крепка для таких слов. Кому-то важно, чтобы человек воплощал в себе желаемые параметры, говорил нужные слова и делал определённые действия, и тогда будет дружба. Несмотря на то, что нам кажется внешне, внутреннее отношение может отличаться. Можно быть хорошими товарищами, разделять интересы, но при этом внутренне быть далеки, как мы от соседних галактик.
Уверенность Жени пошатнулась. Она никогда об этом не задумывалась. Потупила взгляд, скользнула по воздуху длинными ресницами.
– Тогда… что это всё значило? Значит, неправда? Но, даже если так, даже если не подруги, хорошие товарищи… Хорошие же, раз могли столько общаться? Разве ты не подумаешь о том, что сделаешь кому-то больно, кто был связан с тобой так сильно? Пусть и не дружбой.
– В таком состоянии люди часто не думают ни о ком, как ты и сказала, кроме себя. Пусть будет эгоизм, это не так важно. Важно то, что в стрессовые моменты сознание сужено, и то, что кажется очевидным для других, для людей в стрессе находится за гранью их понимания. Они могут не задумываться. Могут не понимать. Иногда люди даже в обычном состоянии сознания не догадываются до определённых вещей, что взять с человека, который не видит дальше себя? Который настолько зациклен на себе и своих проблемах?
– То есть, хотите сказать, что Лиза «просто» не задумалась, кому будет больно?
– Как я могу судить по своему опыту, ей, скорее всего, тоже было больно, но не все об этом думают. Для смерти причин немного, возможно, она одна – невыносимость жизни. Когда жизнь даёт столько боли, сколько не вынести, и человек идёт на такой шаг.
– Но как же… – обессиленно проговорила Женя и захлопала глазами. Смахивала слёзы. Её лицо покраснело, выдавая начистую состояние. – А что делать тем, кто остался жив? Кто теперь из-за неё должен терпеть боль?
– Если захочешь, можешь винить. Это правда, она виновата в том, что теперь происходит с её близкими, с её подругой, но так же она проживала свою драму, просто о ней никто не знал, она забрала её с собой, к сожалению.
– А что делать?
– Тебе или Ане?
– Мне, по всей видимости…
– Выпусти сначала свои чувства к Лизе. Ты её невзлюбила за то, что она сделала, но, кажется, тебе некому было об этом рассказать.
– Конечно… Если бы я кому-то сказала, что злюсь на неё за то, что кидалова, кто бы меня поддержал? Особенно её родители… Ходят, говорят, что это школа, что дочь их бедная, покончила с собой, а тут я. – Женя указала на себя ладонью, не теряя ни капли самообладания в движениях, тогда как чувства её прорывались сквозь дозволенную моральную щель. – Которая говорит, что она предатель. Что она сделала другим больно. Кто меня поддержит?
– Я тебя поддержу. Потому что так и есть: суицид воспринимается как предательство, потому что не выбрали жизнь, не выбрали тебя, которая есть в этой жизни. То есть не выбрали Аню, а ты злишься за неё. За то, что ей приходиться переживать такое.
Краснота с бледного лица не сходила, ресницы дрожали, тёмные брови находились в напряжении, оставляя складки над переносицей. Следом задрожал подбородок, а слёзы покатились по лицу. Герман достал из ящика стола сухие салфетки и поставил поближе к Жене. Та медленно заходилась, плакала сначала тихо, лишь хлюпая носом, и то так, чтобы не вышло слишком громко. Вытирала слёзы, а потом бросила всё это. Заплакала в голос, начиная тереть лицо длинными пальцами и дыша через рот, роняя стоны боли и безвозвратности.
Эти слёзы совсем не такие как в кино: пара аккуратных дорожек, никаких сопель, красных как от конъюнктивита глаз, раздражённой кожи лица, которую не прикроет минимальное количество косметики. В реальности можно плакать несколько минут, и всё это будет тянуться, тянуться, кажется, никогда не собираясь кончаться, как космос будет продолжаться и удлиняться, а внутри сыр-бор, необъяснимый, непонятный. Комок чувств сходит с ума отдельно от человека, а человек не знает, что с ним сделать, как его успокоить, как примириться с тем, что происходит. И Женя не могла ничего сделать. Ничего для многих, но слёзы – это уже кое-что, пусть и не кажется таким действенным. Волшебным образом как в сказках они не вернут умершего человека, не заставят другого чувствовать себя лучше, они не излечат болезнь, но есть возможность, что они помогут вытолкнуть то, что так крепко засело внутри: это моральное правило, которое говорит, что суицидентов обвинять нельзя. Можно, только главное не застрять на своей злобе, потому что эта злоба потом может привести не к самым лучшим последствиям.
Когда Женя немного успокоилась, она увидела коробку с салфетками и взяла сразу несколько. Вытерла лицо, высморкалась. Теперь она была закалённой, плавленой фигуркой, горящей ярким цветом, и была такой же обжигающей – на взводе, с чувствами и ощущениями на пике.
– Получше? – спросил Герман, оставляя салфетки на месте – для ещё одного прорыва.
– Голова разболелась… И стало бы будто немного пофиг…
– Да?
– Или это у меня отходняк такой, даже не могу сказать. Но я поняла, что кое-что важное вам и не сказала.
– А хочешь?
– Теперь, думаю, что да.
– Хорошо.
– Я Лизу вообще никогда не любила. То есть я к ней испытывала именно неприязнь, а не равнодушие. Можно как, не любить и никак не относится к человеку, и это, наверное, лучшее решение. Но я её не любила именно в негативном смысле.
– Завидовала её отношениям с Аней?
– А имя не угадали… – Улыбка прошлась как маленький разлом по тонкому льду. – Завидовала. Сильно завидовала, особенно когда видела их вместе. Когда они шутили, смеялись, когда со стороны для меня всё было таким идеальным, а со мной Аня… Она разговаривала, проводила время, мы ходили вместе по магазинам, вместе ели синнабоны и жаловались, как бы нас диабет не свалил… Но всё это ощущалось не таким, каким я видела его со стороны. Между Лизой и Аней. Я ощущала себя подделкой с «Алиэкспресса». Чувствовала, что со мной не по-настоящему. Что я так, на время, а вот с Лизой… С Лизой можно что угодно.
– А Аня по этому поводу тебе что-нибудь говорила?
– Нет. Я и не спрашивала. Глупо, да? Думать так, но не спросить. Но, наверное, она бы сказала, что это не так, что я не подделка и не замена, но мои чувства… остались бы прежними. И, понимаете, Лизы не стало – я не мечтала о таком, не подумайте – но у меня в голове вопрос: почему Аня страдает, если у неё есть я? Если на меня можно положиться, если я готова подставить плечо?
– А она об этом знает?
По лицу было видно, не знает.
– Скажи ей об этом. Что она может на тебя положиться, может тебе выговориться, что ты подставишь плечо. Такое важно проговорить, потому что некоторым людям нужно получить разрешение. Или она об этом не догадывается.
– У неё сознание сужено?
– Может быть.
– Тогда скажу. А что ещё лучше сказать?
– А ты как думаешь? Что бы тебе хотелось ей сказать?
– Что жизнь на Лизе не заканчивается. Таких Лиз уже не будет, жить дальше надо. Ради себя. Ради того… Или ради меня. Мне ведь будет грустно, если с ней что-то случиться. Я не хочу этого.
– Вторая часть более честная. Первая – мнение здорового более или менее человека, потому что когда ты тонешь в депрессивном состоянии, кажется, что жизнь как раз и заканчивается. Твои слова правильные, но для них нужен подходящий настрой. Трудно наслаждаться синим небом, тёплым солнцем, когда ты не можешь на них взглянуть, а когда смотришь, а ничего не чувствуешь. Тут так же. Слова хорошие, но пока что не рабочие, нужно немного подождать.
– Тогда сказать… А у вас есть бумажка? Я бы записала.
Герман протянул лист и ручку, и Женя активно начала записывать то, что услышала. Герман заметил «суженное сознание». Она записывала всё, что они обсудили, всё, что она узнала здесь. Думает, что пригодиться. Что-то точно пригодиться, нужно ещё отслеживать ситуацию: в какой момент лучше произнести выбранные слова, иначе эффекта не будет. А иногда нужно не говорить, а действовать телом: взять за плечо, обнять, погладить. Но чаще всего должно быть и то, и другое. А ещё главное услышать, если Ане будет что сказать в её состоянии.
– Если её не будет завтра, я к ней схожу.
– Она не отвечает на сообщения?
– Она даже в сети не сидит. Куда бы я ни заходила. Всё забросила. – Женя провела пальцами под глазами, проверяя, остыла ли кожа. – Это тоже пугает, потому что кажется, что сидеть в интернете не так сложно. Это самое лёгкое, что можно сделать, не выходя из дома, лёжа в кровати. Но она и этого не делает. Поэтому меня пугает её состояние. Раньше она была активна везде: в сети и в реальности, но теперь получилось так, что её нигде нет, она пропала.
– Жаль, что так выходит. Но я думаю, что твоё появление на пороге её дома, может её приободрить. По крайней мере, уже это покажет твоё к ней отношения, а сказанные вслух слова помогут ей определиться до конца.
– Только если она меня впустит и услышит. Это ведь сложно. Сознание всё-таки… – Она указала ручкой на заветное слово, которое исключало большую часть жизни.
– Даже если не получится сразу, ты можешь попробовать снова. Что думаешь?
– Могу, но боюсь, отсутствие результатов даст о себе знать. Я начну думать, зачем я это делаю, если ничего не меняется?
– Я думаю, что-то точно будет меняться, только не так сильно и видно, как бы нам хотелось. Взять те же звёзды. Мы смотрим на них ночью и кажется, что они стоят на месте, но они двигаются, просто невидимо для нас. Только последовательная съёмка покажет, что движение было. Так и с людьми, только взгляд через время покажет, что поменялось, а что нет. Но этот путь не будет лёгким, мы будем двигаться медленнее, чем звёзды в небе.
– Читала об этом. О работе, не про звёзды. Психолог не даст магическую пилюлю, и ты не излечишься до конца. Скорее всего, никогда. Это правда?
– Смотря что мы понимаем под «излечением до конца».
– Хороший вопрос. – Женя прижалась к спинке кресле, откинула голову. – То есть раны останутся с нами до конца?
– Могут быть раны, а может быть, соединительная ткань.
– Герман Павлович! – засмеялась Женя. – Вы – не Наталия Дарьевна, чтобы такие слова выбирать.
– О, так у меня есть какой-то свой словарь, который почему-то ко мне в руки не попал?
– Похоже, что нет. – Она пожала плечами. – Соединительная ткань – это шрамы, верно?
– Да. Некоторые шрамы со временем исчезают или становятся бледными, совсем незаметными. Некоторые остаются на всю жизнь и напоминают нам о пережитой боли. Мы можем пойти с ними в центр косметологии или в тату-салон. Мы можем с ними сделать что угодно, чтобы оставить их на месте или спрятать.
– Красиво получается. Но я бы не хотела, чтобы у меня оставались шрамы. Хочу полностью зажить. И чтобы у Ани всё тоже заросло.
– Попробуй с ней поговорить. Может быть, ты сможешь наложить швы.
От этих слов она заулыбалась, а лицо оставалось всё таким же красным. То ли от слёз, то ли от смущения, то ли от того, что готовилась сделать важный, колоссальный для себя шаг. Даже если Аня не ответит на него, для Жени этот шаг будет успехом. Будет тем, что поможет начать свой пусть со стартовой черты. Она сможет – Герману так казалось. Девочка наделена чувствами, умеет их испытывать, умеет их показывать, главное – суметь обличить их в материальную форму, чтобы донести до человека, который оказался полностью закрытым.
Если Аня действительно дошла до состояния депрессии за месяц, это очень тревожная картина. Депрессия может развернуться и за более короткий промежуток, учитывая, какую травматизацию наносит смерть близкого человека. С Аней нужно побеседовать.
После того, как Женя вышла, Герман залез в программу и увидел, что Аня Соболь, которая была единственной в 10Б, отсутствовала в день тестирования. Пока ещё учителя находились в школе, Герман сходил в учительскую, а оттуда в класс географии, чтобы посмотреть классный журнал. Аня практически не появлялась. В один день на одном уроке могла присутствовать, а на другом отсутствовать. Непланомерное посещение, уход с уроков… Ей настолько тяжело здесь быть. Она не может пересилить себя. Неудивительно. Ведь школа одно из связующих её с Лизой мест. Слишком важное, слишком ранящее тем, чего теперь быть не может.
Аня, Марина Алексеевна – обе страдают от того, кого потеряли. И каждый переживает это по-разному. Аня ушла в депрессию, а Марина Алексеевна в отрицание. Две похожие истории, но разное протекание и, скорее всего, разный исход. Герман надеялся, что он будет для обеих благоприятным. Лучшим настолько, насколько может быть. Но он знал, что иногда смерть близкого человека тянет за собой ответную смерть, потому что выживший не может пережить потерю. Предательство, как верно выразилась Женя. Взрывная цепочка, которая тянет за собой людей, которая утягивает на ту сторону, в которой больше ничего нет и не будет. Никакой загробной жизни, никакого нового начала, никакого перерождения. Всё закончится здесь и сейчас. А для кого-то не закончится и превратится в бесконечный кошмар наяву.
Сам Герман такого не переживал. Его знания основывались на том, что он сам прочитал, что ему рассказывали старшие, преподаватели в университете. К нему ещё никто не приходил с тем, что у него близкий покончил с жизнью собственными руками. Но если бы он не принял предложение от школы, то когда бы у него была возможность начать с этим работать? Для него это тоже было важно, но в первую очередь куда важнее помочь детям. Они больше него не понимают то, в чём оказались. Часть из них пережило естественную смерть бабушек-дедушек, возможно, домашнего питомца, но чтобы умер тот, кто должен был жить… Даже если это просто одноклассники – это сомнительный опыт, который все получили.
Герману было интересно, насколько череда суицидов коснулась тех, кто не имел непосредственного отношения к умершим. Накладывает ли это на них отпечаток, уходит ли в бессознательное или проживается незаметно. Злату и её мужа это коснулась, хотя они даже не учились в школе, они были родителями, но для них эта тема триггерная и очень опасная. Своим беспокойством они могут только растревожить ребёнка, если не возьмут себя в руки и не начнут разбираться с тем, что с ними происходит. Возможно, ответ простой, кто-то из их близких ушёл из мира по собственной воле, и поэтому для них это настолько травматично. Но так же это может быть и повышенная тревожность, когда любое табу, поступающее из общества, отрицается, прогоняется прочь. Об этом нельзя говорить, это нельзя упоминать вскользь, с этим нельзя жить рядом. Но табу только усиливает возможную травму. Чем больше освещать проблему, тем она будет доступнее, тем ближе будут находиться способы её разрешения.
Суициды – это не просто. С ними нельзя работать фразами «это пройдёт», «всё будет хорошо», «забудь». Суицид – это многослойное последствие, которое может разрастись корневой системой в разных направлениях. Кого-то может злить умерший человек, кто-то может злиться на себя, что ничего не заметил, кто-то будет злиться на тех, кто подвёл к суициду, кто-то будет проклинать судьбу, что всё сложилось именно так. Дальше вопрос касается проживания горя и того, что люди будут делать: возводить в абсолют, принимать реальность или отравлять воспоминания. Сложно сказать, какое именно решение проблемы будет правильным, если человек в праве испытывать всё то, что разворачивается в нём. Ему нужно пережить свою трагедию, свою травму и потерю.
Трудно сказать себе: «Он так страдал, что никому не мог сказать об этом», но ещё хуже когда: «Он говорил, а я не помог».
Женя хочет сделать всё, что в её силах, да и возраст позволяет. В отличие от Маши, она более осознанна и принимает то, что в ней происходит. Принимает так, как есть, даже ту зависть, которую в ней воспаляла Лиза, будучи с Аней. Женя терпела, но не сорвалась, не сказала ничего такого, что осквернило бы Лизу. Её желание заключается лишь в том, чтобы помочь Ане, потому что если с Аней что-то случиться, самой Жене будет плохо. И Женя хочет этого избежать.
Звучит коряво и неправильно, будто Женя действует исходя из собственного эгоизма, но кто так не поступает? Мы хотим, чтобы окружающим нас людям было хорошо, чтобы мы чувствовали себя хорошо тоже. Никто не хочет страдать, никто не хочет, чтобы их близкие страдали. Это всё взаимосвязанно и образует незатейливый союз, где люди стараются ради друг друга.
Совместное выживание и защита от одиночества. Пусть и звучит это резко и грубо. «Каждый живёт ради собственного комфорта», но разве это не так? Если ты не будешь в комфорте сам, как ты сможешь спокойно жить рядом с другими? Это же и касается пирамиды потребностей. У голодающего одни потребности, у того, у кого есть кров, еда и одежда, уже другие. Но здесь исключён человеческий фактор, человеческая мораль, которая говорит, что человек человеку – брат.
Герман закрыл кабинет и вернулся домой. Света на дневной смене, обед-ужин за ним.
По её возвращению тепло-холодное объятие и радостная новость:
– Ко мне сегодня Соня приходила!
– А какая из?
Герман очень старался запоминать всех детей, которые постоянно ходят к Свете, но их было больше чем тех, которые ходили к нему. Или сложность была в том, что он слышал о них из её рассказов, а не сам лично встречался и знакомился.
– Которой пятнадцать лет. В декабре исполнилось! Ты рассказывал про девочку, которая к тебе пришла, и ко мне тоже пришла. – Света лучезарно улыбнулась. – Она меня так обняла при встрече… Я прямо почувствовала, с какой силой она это делает… Надеюсь, что я не единственный человек, которого она так обнимает и что ещё кто-то разделяет её крепкие объятия.
Соня была ребёнком с ограниченными возможностями, постоянно ходила к Свете на приёмы, с десяти лет. Света ей импонировала, а Свете импонировал любой ребёнок без исключения. Детки – её слабость. И неважно, что у них там со здоровьем и психикой, она их принимает. Соню Света встречает сама и проводит до кабинета, держа за руку, потом возвращает и снова обнимает. У девочки избыточный вес, косые глаза, кому-то она покажется некрасивой, «уродом», но Свете было всё равно. Ребёнок есть ребёнок, как бы он ни выглядел. Даже если это семнадцатилетняя двухметровая детина. Если этот деточка был с ней ещё с десяти лет, умиление до конца дней ему обеспечено.
– А у неё кариес был?
Соня плохо переносила долгое лечение. Как минимум была необходима седация, максимум – медикаментозный сон.
– Нет, чистка. Молодец она, лежала спокойно. Поп-ит, конечно, постоянно жала, но для её это обычное дело. Привычка, по сути.
– А что смотрели?
– Угадай с трёх раз!
– Ну раз так, то «Холодное сердце».
– Вторую часть!
Герман засмеялся.
– Нам тоже надо с тобой что-нибудь посмотреть, порадовать себя.
– Пиццу купить, роллы…
– Мы прям настолько решили отдохнуть?
– Гер! – засмеялась и Света, прижимаясь к нему. – Отдыхать так на полную катушку.
– У тебя обычно выходные – полные смены.
– Я постараюсь на следующий месяц сделать так, чтобы у нас был хотя бы один выходной.
– Ничего, можно и вечером поесть. И погулять, если хочешь. Зима хорошая в этом году, мягкая.
– Согласна. В пуховике иногда даже жарко, но я не меняю его, потому что боюсь замёрзнуть.
– Ну и правильно. – Он погладил её по плечу. – Лучше так, расстегнуться всегда можешь, если что.
– Буду самой горячей чикой на улице! – довольна сказала, вздёрнув подбородок.
Но поднимала подбородок она нечасто, не так, как это было в привычке у Жени. Сходство у них было – в бледнолицости, проступающих на поверхности коже венах.
– А у тебя как? – Погладила его руку указательным пальцем.
– Опять наговорил… Учительнице, не ребёнку. Надеюсь, мы в контры не уйдём. Но зато после уроков приходила девочка.
– И как с ней?
– Интересно.
– Ты всегда так говоришь.
– Тут правда интересно, но я пока ничего говорить не буду. Посмотрим, как дальше пойдёт. Ситуация сложная, но не исправимая.
– Я верю в тебя. – Света переплела пальцы и прижала руку к своей груди. – Забавно получилось так, что теперь мы вместе с детками работаем.
– Это да. – Он чувствовал размеренный стук её сердца. – Знаешь, мне немного неловко, что на тебя приходится львиная доля нашего дохода…
– Ничего. Я же тебе говорила, пусть всё будет так. Мне нравится моя работа и хорошо, что за неё так платят. Я просто надеюсь, что тебя устраивает твоя, тем более так давно не получилось найти…
Герман умолчал о том, что, по-хорошему, ему надо ходить к супервизору. Не хотел тратить их – её – общие деньги. Зарплата психолога в школе низкая, несмотря на пятидневный график, возможность работы внеурочное время, уровень стресса и необходимости в повышении профессиональной квалификации. А ещё и супервизор, с которым нужно будет разбираться в том, как лучше действовать с клиентом. С учеником. Но пока Герман чувствовал себя вполне уверенно, нет того, чего бы он ещё не знал. Всё идёт достаточно ровно. Но и к нему ещё не приходил ученик, который бы сказал, что хочет совершить самоубийство. Если такой появится, то Герман даже не представляет, как поведёт себя. То есть представляет: попытается разобраться, поговорить, составить договор, обменяется номерами, но будет ли этого достаточно? В голове всё выглядит выверенно и красиво, а на деле как будет? Он может и испугаться, начать паниковать.
Даже в воображаемой ситуации ему хочется схватить ребёнка за предплечья и закричать: «Не делай этого!» Как обычный человек, как тот, кто не умеет думать о том, как много за одной моделью поведения может быть сокрыто. А он думает. Будет думать и пытаться разобраться, но это не означает, что это будет полезно ребёнку. Для начала нужно будет узнать, что необходимо ему самому. Именно в такой последовательности. Нельзя действовать на опережение, нельзя как раньше. Свои установки надо менять, с собой тоже нужно работать, прокачиваться и раскачиваться.
Егор Добролюбович правильно сказал: нужно быть подвижными, но и в меру статичными. Уметь приспосабливаться к новым условиям и быть закоренелым в вещах, которые удерживают тебя в этом мире: мораль, законы, убеждения… Но если правильно задавать вопросы, то расшатать можно даже их. Герман себе такие вопрос задавал и расшатывал то, что не надо. А потом пришло примирение, и он согласился, раз это можно расшатать, значит, так и должно было случиться.
– Кстати, скоро день Святого Валентина, – сказала Света.
– Да. В школе, кстати, никакого ящика не ставили. Решили всё-таки с этим не играть. Хотя, как я слышал, ёлку проводили. Были недовольные родители.
– «Как вы можете радоваться, когда?..»
– Именно так. И тут такая дилемма: предаваться всеобщему горю или жить свою жизнь.
– Мне кажется, надо жить свою жизнь.
– Минус миллион очков уважения от родителей!
– Ге-ер! – запричитала Света, сминая мужские пальцы. – Ну а что поделать? Даже на войне люди радуются. Не всему, но мелочам, празднуют праздники. Если не будет этого счастья, веселья, то что останется? Так нельзя. Нельзя совсем уходить в горе. Конечно, это очень важная тема, волнующая многих, но нельзя забывать о себе. У нас ведь тоже своя жизнь. И как тогда быть?
– Если бы я знал. Нужно жить так, чтобы потом не пришлось жалеть. Чтобы не сказал себе: «Почему я вообще об этом переживал?» и «Почему я об этом не переживал?»
– Но угадать, как ты будешь реагировать в будущем… тоже нельзя.
– Нельзя совсем, поэтому и надо научиться понимать себя в настоящем.
– И мы возвращаемся к тому, что я себе должен быть и другом, и товарищем, и взрослым, и родителем.
– И ребёнком.
– И ребёнком, – нежно произнесла Света и прижала голову к плечу Германа.
Её волосы мягко ложились на шею. Герман поцеловал в темечко и прижался щекой.
И ребёнком – это самое главное.
Kleine Kinder spielen gern, grosse noch viel lieber .
5. Андрей Храмов
Выходные прошли в литературе и переписке с Тамарочкой. Герман уточнил у неё про Машу Рудько и Женю Рем. С такими ей не доводилось общаться. Встречаться – да, но не общаться. Причина Жени ясна – Лиза умерла месяц назад, когда были каникулы – ей нужны были силы собраться. Возможно, она слышала о том, что Тамарочка собиралась увольняться, и не хотела начинать к ней ходить, чтобы потом рассказывать свою историю другому школьному психологу. С Машей пока не понятно, но и Герман не спросил, когда начались её проблемы, когда в первый раз о её злости заговорили друзья. Так же недавно или уже какое-то время? Она сказала: «Вы говорили», возможно, это и подтолкнуло: что он сам предложил помощь, сам сказал, что с агрессией к нему можно подойти, а до этого она и не думала о том, что можно поделиться такой проблемой с посторонним.
Посторонний – хорошая позиция. Можно высказать, а потом забыть. Примерно такую роль изначально выполняет психолог, но потом он своими словами, своими речами и замечаниями невольно становится для клиента знакомым, а потом и вовсе наставником. Иногда любовью, иногда разочарованием. Сценариев много. Через большую часть Герман уже прошёл и не рассчитывал, что новые добавятся, но сколько людей, столько и ролей в их театре жизни ты можешь занять. Можешь стать новым восемьдесят девятым созвездием, новой картой, по которой пройдутся Солнце и Луна.
В понедельник Герман гостей не ожидал, даже рассчитывал, что день пройдёт тихо, но дверь без стука распахнула Ирина Николаевна. Уже привычно в чёрном строгом костюме, прямоугольных очках, с аккуратно уложенным каре, но на лице – суровая, военная, не терпящая неповиновения уверенность.
– Герман Павлович! – заявила она с порога и потянула за руку рослого детину.
Примерно такого же, какой был на приёме у Светы, только вес у него был оптимальный. Рост все сто восемьдесят пять, вес – семьдесят пять, а Ирина Павловна на его фоне, со своими ста семидесятью и восьмьюдестьюпятью, как хоббиты рядом с Гендельфом. Носится, копошится и чего-то уверенно хочет от Германа Павловича.
– Здравствуйте, Ирина Павловна, а это?..
– Андрей! Храмов который. Говорила же, что приведу. Давно надо. Ну, Андрей, заходи.
Несмотря на словесные выпады классрука, Андрей позволял себе блаженно улыбаться, будто ничего не происходит. Ему без разницы, как будет перья распускать учительница, ему нет до этого дела, он занят своим – разглядыванием шкафа, например. Всяко интереснее истеричной дамы.
– Я ведь вам говорил, что толку от этого…
– Что вы говорите? Психолог вы или нет? Вы со всеми проблемными должны работать!
Так и сказала, «проблемными». Даже Тамарочка не позволила себе такого сказать о том мальчике, который пришёл в первый день. Сказала «особенный».
– Мужчина мальчику пример, вот и вы покажите ему свой!
И была такова, скрывшись за дверью. Герман посидел в кресле, Андрей постоял у двери. Большие пальцы сходились и расходились, соприкасаясь подушечками.
– Проходи, Андрей, присаживайся. О чём-нибудь да поговорим.
Тот усмехнулся, но прошёл, сказал по пути:
– Иринка ещё там под дверью стоять будет, подслушивать.
Сел в кресло и немного отъехал, откинулся на спинку и закинул ноги на стол. Смотрел прямо в зелёные глаза Германа, ждал ответа. Ещё подпёр щёку рукой и любовался. Герман не опешил, тоже улыбнулся. Отъехал, насколько позволяло расстояние, и тоже закинул ноги.
Андрей такой реакции не ожидал и засмеялся. Нисколько себя не сдерживая. Его смех звучал бы даже в беззвучном вакууме космоса.
– Вот это вы даёте, Герман Павлович! Мне нравится, нравится, что ещё покажете?
– А что хочешь увидеть?
Тот присвистнул.
– Вы со словами-то осторожнее, а то скажу, а вам ещё делать придётся. – Уже всё придумал, что сказать. Хочет взять на слабо.
– Я могу в любой момент отказаться, если твои условия будут меня не устраивать. – Герман положил руки на живот и смотрел в ответ на Андрей, как и тот.
– О-о, какой вы важный. Сразу видно, «психолог».
– И почему же в кавычках?
– Да вы все хороши. Чё-то там лялякаете, ну а итогу? – Андрей передёрнул плечами и показал зубы в своей насмешливой ухмылке. – Четыре трупа! Я охренел, когда узнал! Это вообще возможно?
– Ты считаешь, что психологи – провидцы?
– Да мне откуда знать, кто вы такие?
– Но знаешь же, что мы лялякаем? – теперь улыбался Герман.
– И это всё, что «путного» вы делаете.
– Тогда можем поиграть в «Города», тебе наверняка интереснее будет.
Андрей выдавил смешок и закатил глаза.
– А вы комик ещё?
– Стараюсь ради тебя.
– Ради меня? – напустил удивления, а вот развеселить его удалось.
– И ради себя, чтобы скучно не было нам с тобой тут час сидеть, пока Иринка за дверью поджидает.
Если бы поджидала, ворвалась в кабинет ещё на первой «Иринке». Она-то не ириска, чтобы о ней так говорить.
– А-а, вон вы как. Интересно-интересно. Тамарка не такой была. Мы с ней в молчанку играли.
– Не видела смысла терять время. Наверное, она занималась своими делами?
– А я – своими, и нас всё устраивало.
Про Андрея Герман даже не подумал спросить, не такой важной фигурой был – просквозил замечанием в словах Ирины Павловны, не получил убедительных обвинений от Марины Алексеевны и забылся. Но появился вновь и теперь имеется повод обсудить его с Тамарочкой. Скорее всего, ничего не расскажет, раз молчали, но, возможно, у неё будут свои наблюдения касательно этого ученика, что он делал и какая за ним закреплена репутация.
– И что молчите? – спросил Андрей. – Уже наскучило?
– Думал кое о чём.
– И о чём это?
– Как, по твоему мнению, человек, не знакомый лично с другим, должен предугадать его поведение?
– Вы это про суицидников? Да я по приколу сказал. Никто это узнать не может. Захотели, сами себе там чё-то сказали и суициднулись.
– Так это был прикол? – искренне удивился Герман.
Парень очень умело скакал между словами и состоянием. Умел это контролировать и знал, что надо показать, чтобы поверили. Не простой, каким его выставляла Ирина Павловна. Он не просто «слепой» и «распоясался». Тут всё сложнее. Он делает это намеренно.
– Не ожидал, что ты такой, – заключил Герман.
– Иринка уже нашептала, да? Что я весь такой особенный и за мной глаз да глаз нужен?
– Полагаю, она тебе не один раз об этом говорила.
– Тридцать один! И то мало будет. – Андрей поёрзал на спинке кресла, ещё немного съехал и выдохнул удовлетворённо. – А вы серьёзно ничего не хотите?
– В плане?
– Вставить мне мозги. Раньше это очень активно пытались сделать.
– Если столько людей пытались, то смысл это делать мне? Моя работа состоит в другом.
– Да? И в чём же?
– В том, что определить проблему человека и потом скорректировать его поведение.
– У меня, похоже, есть проблемы.
– По мнению Ирины Николаевны. Если ты не считаешь это проблемой, то разговор – пустой.
– О как. Пустой… Ну понятно. Вы типа добрый коп. Хотя на фоне Иринки все добрые, одна она такая уникальная.
– Всегда такой была?
– Кажется, что да. – Пожал неопределённо плечами. – На неё ещё возраст давит. Сразу видно, что не в себе. Ещё муж недавно скопытился. После этого прям вообще тормоза слетели.
– Ничего себе, тогда это немного объясняет её поведение.
– На самом деле, ей и при муже хотелось до нас докапываться. Вы же не думаете, что я один такой? Если ей кажется, что ты что-то делаешь не так, она тебя достанет в любом случае. Выследит, как снайпер, и будет подстреливать, пока не попадёт. Хотя она совершенно не думает, что, когда снайпер делает первый выстрел, он раскрывает своё положение.
– Так это не правда, что ты задирал Артёма Море?
Андрей моргну пару раз, улыбаться перестал. Поднял глаза и задумался.
– А что мы понимаем под «задирал»?
– О чём говорит Иринка.
– Ой… Ну сказал я ему пару раз, что он жирный, вот и всё. У него отдышка была, когда он шёл по ровной поверхности. По-моему, это уже не звоночек, а автоматная очередь, которая должна была ему мозги вправить.
– Может быть, он болел или таблетки какие-то принимал?
– Гера, Гера… Принимал, не принимал, мне-то что? Даже если тебя от чего разносит, ты можешь контролировать вес диетой и активной деятельностью, если он этого не делал, то должен был признать, что то, что я говорю, лишь факт, а не какое-то там обзывательство. Делать мне нечего, других «задирать». На себя время тратить надо, а не на этих дебилов.
– Почему дебилов?
– А, по-вашему, нормальный человек суициднётся? Дебилы и идиотки, которые даже свою жизнь прожить не могут.
– Почему ты так считаешь?
– А как ещё считать? Это умереть просто – раз и лишил себя всех проблем, а чтобы жить, эти проблемы надо решать, надо жопой своей шевелить, а не сидеть на месте и ныть постоянно о том, какой я, боже, бедный и несчастный. Убили себя, вышли из игры и довольны.
– А ты не думал о том, что для того, чтобы покончить жизнь самоубийством, тоже нужны силы?
– Для чего? Чтобы таблетки проглотить или повеситься? – Голая брезгливость и ядовитая небрежность. – Гера, как хочешь, так и думай, но всё просто: чтобы жить, надо стараться; чтобы умереть – ничего не надо. Все они поголовно идиоты и трусы, которые не могли взять ни себя в руки, ни свои жизни. Того же Артёма взять. Страдал от одиночества? Ну так нашёл бы друзей, сложно так что ли? Не нравился внешний вид? Надо было спортом заняться, привести себя в форму, а не сидеть в интернете, кабинете информатике, у Маринки и ныть, ныть постоянно. Что он сделал для того, чтобы сделать свою жизнь лучше? Да ничего. Подстрадывал там, постанывал, да и это всё, что он делал. Ну и где здесь силы, воля? Может и лучше, что они умерли? Не будут заполнять пространство.
– То есть ты считаешь, что такое отделение сильных от слабых нужно?
Adler fängt keine Fliegen .
– Не я это решаю. Это они сами решили. Слишком слабы, чтобы жить? Значит, умереть. Такой у нас сейчас естественный отбор.
– А если бы они сделали всё, чтобы жизнь стала лучше, но она не стала, то что тогда?
– Такого не может быть. – Андрей нахмурился, не мог себе даже представить. – Значит, хреново старались. Или делали не то, что надо.
– А как тогда определить, сколько надо стараться и делать то, что надо?
– Гер, мне откуда знать? Они сами это должны решить. Если тебя в жизни что-то не устраивает, то ты это меняешь. Если нет, то всё тебя устраивает и нюни распускать ты не имеешь права. Сам же такую жизнь выбрал, так и чё ныть? Страдалец нашёлся. Все они страдальцы, видимо, раз даже выжить не смогли.
– Хм, а выживание ты считаешь жизнью?
– Выживание тоже требует сил и воли, это – часть жизни. Нормально, если есть она.
– А ты живёшь или выживаешь?
– А по мне не видно? – Самодовольная ухмылка на всё лицо. – Конечно, живу. А если бы не нравилось, что-нибудь да поменял, чтобы занравилось. У меня нет времени, чтобы тратить его на нытьё и причитания по поводу того, что жизнь, сука, ко мне так неравнодушна, что заставляет страдать. Вообще, что такое жизнь? Это лишь отрезок от рождения до смерти. Это время. Жизнь – абстрактное понятие, не наделённое ни чувствами, ни желаниями. Она ничего не может нам сделать, но все так привыкли говорить: «Жизнь не справедлива, у меня такая плохая жизнь, меня бог не любит». Какая к чёрту разница? Жизнь – это неодушевлённое явление, которое никак на тебя повлиять не может. Влияют уже какие-то материальные вещи, люди, да и то, ты сам решаешь, что с ними делать. Тебя задирают? Дай им сдачи, покажи, что ты не тот, кого можно задирать. Нет денег? Иди работать. Если надо, пойдёшь туда, где будут платить, даже если не очень нравится. Деньги же нужны. Не устраивает муж-абьюзер? Ну так вали от него, чё терпеть, если ты понимаешь, что он конченный. Люди… страдают какой-то хернёй, развозя сопли и ничего не делая, кроме причитания о том, какая у них тяжёлая судьба. Ну раз тяжёлая, сделай её лёгкой, в чём проблема.
Герман мог объяснить, в чём проблема, но смысл дискуссии нулевой. Андрей не воспримет, не пошатнёт свою точку зрения. Отчасти в ней нет ничего плохого, пока она не затрагивает других людей. Он имеет право думать так, как считает нужным, и жить согласно своим словам. Если он может подобным образом решать проблемы, то он устроится в жизни лучшим способом, но, если он будет продвигать свои взгляды в массы, он может нанести вред. В его словах не только уверенность, в них слепота и глухота к остальным, о внутреннем устройстве которых Андрей не задумывается.
Его жизненная парадигма проста, доступна, но исключает внутренние переживания. Если она ему подходит – замечательно, но других ему трогать нельзя.
– Практичный у тебя взгляд, – заключил Герман.
– А смысл иметь другой?
– Быть может, для кого-то смысл и есть, я не знаю.
– А у вас какой? Расскажете? Или нельзя открываться людям ниже по статусу?
– В школе для меня нет людей ниже по статусу. Я бы не стал так разговаривать, если бы считал себя выше тебя, хотя и мог бы. Взять твоё же панибратское «Гера», мы – не друзья и не товарищи, я бы мог, как Ирина Николаевна, вспылить, указать тебе на место в школьной иерархии, но я этого не делаю. И не то чтобы мне хотелось это сильно делать. Все твои слова, все твои действия в достаточной мере рассказывают о тебе, поэтому я не вижу смысла их ограничивать.
– Вот если бы это сказала Иринка, я бы ей ни на йоту не поверил, ну а вам верится. Не в том, что вы говорить, а как вы это говорите. Спокойно так, принимая все мои закидоны, будто они ничего не стоят. – Он кивнул на ноги, водруженные на столе. – Интересно. Тамарка такой же была? Никогда бы не подумал.
– Она была другой. Мы – разные люди, а значит, и разные специалисты.
Андрей хмыкнул и глянул на стену с сертификатами.
– Бумажек у вас одинаково. И как оно вообще? Стоит того, чтобы этим заниматься?
– Психологией в общем или общением с людьми?
– И то, и другое.
– Стоит. Я люблю говорить с людьми. Не отрицаю, что бывают те, с кем говорить сложно, но это не означает, что невозможно. Есть много условностей, которые нужно держать в голове. Сложные разговоры – это новое испытание, вызов, нужно думать не так, как ты привык это делать.
– И даже с такими, как я, нравится говорить? – Персональный вызов от Андрея.
– А какой ты?
– Ну вы же видите.
– Я вижу одно, а ты можешь подразумевать другое, поэтому я прошу уточнить.
Он засмеялся и откинул голову, потом вытянул руки, вздохнул облегчённо и развалился в кресле так, будто из его тела удалили кости и мышцы.
– Что я такой говнюк, который людям жить спокойно не даёт, учителей по именам называет и насмехается над суицидницами. Вот с такими нравится?
– Разговор – это форма, а вот уже темы и люди – её содержимое.
Андрей показательно закатил глаза, но при этом улыбался. Понимал, что не задаст такой вопрос, на котором Герман проколется и покажется себя с такой стороны, с которой себя постоянно демонстрирует Иринка. Совсем не такой человек. Другой. И не как Тамарочка. И не Марина Алексеевна, и не Егор Добролюбович с Наталией Дарьевной. Похоже, Герману удалось произвести правильное первое впечатление, другое дело – каким должно будет быть второе и что понадобится Андрею, если он захочет сам прийти?
Захочет ли? Навряд ли. Он решает свои проблемы по мере поступления, он с ними не варится, для него это – показатель отсталости, а он свою жизнь может жить, поэтому «тупить» на одном месте не будет, а, значит, и посиделки с психологом ему не нужны. Только час времени отнимают.
– Если хочешь, можешь идти.
– Выгоняете?
– Я думаю, что Ирины Николаевны давно здесь нет.
– А если придёт по окончанию?
Андрея это действительно интересовало?
– Ты хочешь остаться? – уточнил Герман.
Тот моргнул несколько раз и пожал плечами.
– На ваше усмотрение.
– Я думал, что мы тут просто балаболим без какой-то темы, а тебе такое не сильно впёрлось?
На слово Андрей отреагировал.
– Да, Гер, интересный ты человек. Ну, по крайне мере, ты не стал мне мозги вправлять из-за того, как я отношусь к суицидникам и этим, – он встряхнул головой, – у которых самооценка занижена до девятого круга ада. Мне обычно обратное пытаются доказать, тип: человек страдает, он по-другому не может, его пожалеть надо, ему надо помочь, ну а как таким людям помогать, если они сами себе помочь не могут? Не стараются. Стоят в болоте и ноют, что застряли, а там воды по колено.
– Но болото затягивает, если слишком активно барахтаться.
– Это потому, что нужно знать, как в нём двигаться.
– А если они будут погружены, например, по пояс?
– Тогда пусть зовут на помочь.
– Если никто не пришёл?
– Хреново звали.
Всё в его жизни было просто. Слишком просто и оттого немного безумно.
– Для тебя безвыходных ситуаций нет, – улыбнулся Герман.
– Нет выхода, сделай его сам. Вот так это работает. Вообще проблема в том, что до болота можно и не доходить, его же можно обойти, а те, кто идут напрямик, явно идиоты, потому что знают – я уверен, они все всё прекрасно знают – что, если пойдут туда, увязнут и идут: без страховки, без помощников, не привязав себя к дереву, чтобы потом по верёвке выйти.
– А если это такое болото… которое не видно?
– Такого же не видно.
– Но мы же говорим о метафоричном болоте, верно? В жизни бывают ситуации, когда ты видишь одно, а при взаимодействии оно оказывается чем-то совершенно другим, и вот так эти люди утонули.
Андрей посерьёзнел. Прикинул в голове картинку. Задумался.
– Блин, ну да, – цыкнул Андрей и прижал пальцы к виску, – такое тоже может быть. Но всё-таки, – оставался при своём, – если ты идёшь куда-то, ты ведь можешь своих друганов предупредить? Типа: ищите меня там. Ну или можешь взять мобильный и позвонить.
– А если связь не ловит?
– Блин, Гер! Усложняешь ситуацию.
– Пытаюсь рассмотреть все варианты.
– Тогда можно кричать и ждать, когда придут люди. У нас же метафорическое болото, – повторил он со сладким наслаждением, и его улыбка натянулась, как растянувшаяся резина, – в жизни вокруг много людей, и у каждого можно попросить помощи, даже если это не твои друзьяшки.
– Но не все откликнутся. А ты бы помог, если бы позвали на помощь?
– Смотря чтобы мне за это было.
– Значит, за вознаграждение работаешь?
– Естественно, – Андрей распростёр ладони, – зачем делать что-то впустую? Но я думаю, человек, который находится в болоте, точно сумеет что-то предложить. Если ему действительно надо выбраться.
– Понятно, он готов заплатить любую цену за своё спасение.
– Именно! Но только, если он такой умный-разумный этого захочет. Может же упираться, и что тогда это будет значить? Что ему нравится тонуть в своём болоте, что он слабак, который выбрал такую жизни. Кстати-кстати, знаете, что я заметил общего у этих людей с низкой самооценкой, которые постоянно прибедняются? – Герман склонил голову. – Они постоянно говорят: прости, это моя вина, это всё из-за меня, вам не кажется, что капец как… ну, в духе типа: я настолько охренительно важен, что всё из-за меня? Типа я настолько широкая и могущественная фигура, что всё буквально ложится на меня. Мне кажется, нет людей заносчивее, чем вот эти – с низкой самооценкой. Они считают, что дело только в них и ни в ком больше, и никого кроме себя не видят.
– Хорошее замечание. Центр их внимания сосредоточен на них самих и на их переживаниях. Им проще взять вину на себя, потому что они не могут позволить себе переложить эту вину на другого. Их научили брать ответственность за все беды, и они теперь думают, что это так.
– Но это же тупо! Нереально тупо. Они берут эту «ответственность», даже если она не имеет к ним никакого отношения.
– Верно. Так и работает их искажённое мышление, где они – центр бед. Им навязали эту установку и в дальнейшей жизни она только усиливается, если с ней не работать.
– И им же поголовно ничего из этого не нравится, но они продолжают себя так вести.
– Увы, некоторые входные данные очень трудно изменить. Это как ломать несущие колонны. Или убрать звёзды из созвездий.
– Иногда надо рушить подчистую и строить изначально.
– Но возможно ли это с человеком? Что будет, если всё сломать?
– Перерождение, по-хорошему. Как Феникс, умереть, чтобы восстать из пепла. – Андрей поиграл бровями.
– И как много людей умерших в нашем мире могут это сделать?
– Так метафорически!
– Вот и я про метафорическую смерть. Она может нанести непоправимый ущерб – это нужно понимать. Будь всё так просто, люди бы постоянно ломали себя, а потом склеивали снова, но мы не гидры. Это они регенерируют и отращивают новые конечности, а если их перемолоть, то смогут вернуться к первоначальной форме, а человек устроен сложнее, поэтому ему труднее с такими вещами.
– Ну да, может быть, но я считаю, что всё-таки, если захочет, человек всё сделает: и сломает себя, и восстанет из пепла, и новые конечности отрастит.
Он убеждён в своём мнении, в своём выборе. Такие люди и добираются до вершины, только если на их пути не возникает препятствия, которое подчистую сметёт это мнение, этот выбор, и тогда будет интересно взглянуть, что сделает такой человек, как Андрей, когда сами его принципы порушены: восстанет он из пепла или останется пылью навсегда? Ведь его парадигма хороша до тех пор, пока она не сталкивается с тем, что её унижает, обесценивает, сводит на нет, а она – это основа Андрея. Убери эту основу и как он тогда будет меняться? Что будет делать? Станет ли «идиотом», как эти самые, которые закончили с жизнью, или покажет мастер-класс, как человек может возродиться? Слова хорошие и сильные, но такие же поддающиеся сомнению и вопросам.
– Ты, наверное, и геоцентрической системы Птолемея придерживаешься в жизни, а не гелиоцентрической?
– Знать бы ещё, что это обозначает.
– Первое – что вокруг Земли вертится галактика, а второе – что вокруг Солнца.
– Точно первое! Какой смысл, если не вокруг тебя? Скука же. А если не вертится, заставь. Так это и работает. Пока ты считаешь, что-то кто-то там собирает вокруг себя звёзды и планеты, а ты лишь часть этого скопища, ничего нормально идти не будет. Но вот когда ты в центр поставишь себя, тогда-то и начнётся.
– Предлагаешь быть эгоистами?
– Так есть же этот – здоровый эгоизм? Я вот думаю, что здоровый в этом и заключается, когда ты для себя на первом месте. Исходя из своих желаний и предпочтений ты выбираешь людей, если тебе они нравятся, и тебе кайфово; ты выбираешь то, чем ты хочешь заниматься, выбираешь, что хочешь есть, куда ходить, и вся жизнь складывается как надо, но, когда ты постоянно подлизываешь кому-то, то какая нормальная жизнь будет? Это как раз будет обозначать, что есть какое-то другой Солнце, которое затмевает тебя, светит ярче и лучшего заслуживает, а ты ему ещё и дать это готов.
– Я примерно так и подумал, – засмеялся Герман, – а если получается так, что ты заставляешь себя быть в тени, например, на работе, где третирующий начальник?
– У меня тут только одно предположение: ты делаешь это ради денег. То есть терпишь, потому что перепасть тебе может больше, настолько больше, что ты можешь позлить такому Солнышку вылезти. Но если ты просто так его терпишь – это хрень чистой воды. Если терпишь, то только ради своих целей, и, достигнув их, ты гиблое дело бросаешь, потому что знаешь, что достоин большего.
– И все люди достойны большего?
– Я думаю, если бы все так жили, как хотят, это было бы намного круче.
– А убийцы и насильники?
Самая частая моральная дилемма – что делать с людьми, которые нарушают правила жития мира.
– Если бы у них всё изначально было нормально, они бы до такого не опустились, – быстро отвечает Андрей.
– Даже если это психопаты?
– Ну у психопатов же тоже в голове что-то не так, разве это нельзя исправить?
– Психопатия – это наложение физиологического и социального. Некоторых психопатов компенсирует общество, и они никогда не показывают себя с криминальной стороны, не говоря о том, что разные психопаты показывают разный способ жизни… Но мы о тех, о которых пишут в новостях. Так вот, если общество компенсирует, серийного убийцы не родится, однако, если с обществом всё-таки не повезло, то вырастет натуральный психопат, который будет считать, что дело его правое и он, сам по себе, как бог, который может позволить себе что угодно. Такие люди эгоисты до мозга костей, но их эгоизм разрушителен для других. Может ли он быть здоровым, с твоей точки зрения, если выигрышен он только для них, а общество и другие люди от этого страдают?
Андрей опустил голову и вздохнул. Соединил на руки на животе и начал отрывать их от тела и обратно прижимать. Вопрос тот ещё. Есть и компоненты здорового эгоизма, о котором сам Андрей говорил, но при этом, если все будут такими, само существование общества окажется под угрозой.
– Будто какого-то элемента не хватает? – подсказал Герман.
– Закона, да? – Психолог пожал плечами. – Или вот этих моральных штук. Наверное. Если их не будет, в мире будет… о-очень весело.
– Тогда получается, что совсем уж своим желаниям потакать нельзя?
– Да не, вы неправильно поняли. Когда у человека в жизни всё норм, он и ведёт себя нормально: никого не хочет резать, насиловать, бить. Ему это тупо не нужно, потому что он занят – угадайте кем? – собой. Зачем ему тратить время на такую хрень? У него и так вагон дел и целей, которых он хочет достигнуть.
– Вот теперь я понял, как это для тебя. Действительно здорово. То есть, получается, я занят собой и до других мне нет дела, потому что я хочу сделать свою жизнь лучше и какой смысл распыляться на ненужные слова и действия?
– Да, Гера, да! – Андрей аж схватился за подлокотники и чуть наклонился в сторону психолога. Так бы и на стол лёг, если бы не ноги. – Ну вот серьёзно, зачем тебе портить кому-то жизнь, если с твоей всё нормально?
– А что насчёт того, что ты других задираешь? – без обиняков.
Андрей взмахнул рукой.
– Само собой вырывается. Я ничего не имею в виду, будто мне есть до них дело. Ну жирный и жирный, дура и дура – какая разница? Тем более они сами выбрали такими быть, а я всего лишь констатирую факт, ни больше ни меньше.
А то, что это открытая агрессия, он не подозревает. Герман умиляется. Действительно умиляется. Так ведут себя дети, когда не догадываются, что их действия могут делать больно, только в отличие от них, что-то Андрей да понимает. Другое дело, как он это воспринимает сам по себе, насколько для него это нормально. Хочешь жить спокойно, не трогай других, концентрируйся на себе, но сам себе Андрей позволяет переключаться на других и судить об их образе жизни, хотя он никому и не продвигает свою настольную книгу по лучшей жизни. Только самому себе.
Интересно, на самом ли деле он по ней живёт или хочет жить? Или пользуется частью правил, а другие для него самого недоступны, как бы он ни пытался к ним перейти?
Скорее всего, вариант комбинированный. Чистый встретить сложно.
Стоит ли его подводить к мысли или пока оставить как есть?
– А часто ты вообще говоришь людям о том, какие они есть?
– Да нет. Мне это тоже ничего не даёт. Не, бывает просто настроение такое… «игривое». Хочется кому-то сказануть да и только. Дальше сам лесом иду.
– От Ирины Николаевна казалось, что ты дьявол воплоти.
– Дьявол и то лучше меня! Вот как она считает. Может, я ей так понравился? – расхохотался Андрей. – Вот и отстать от меня никак не может. Всё хочет перевоспитать да мозги вправить, ну а мне полгода осталось, куда вправлять? Скучать ещё будет, как пить дать. Кому ещё мозг выносить?
Есть и такая вероятность, что дело именно в Ирине Николаевны – что именно она что-то увидела в Андрее. Сама же говорила, что нечто подобное Артёму переживала. Задирали? Обзывали? Теперь ей кажется, что она таких нерадивых учеников через километры видит. Нюх у неё обострён и чувство справедливости, закоренелое в глухой убеждённости в том, что она «знает как лучше». Только это лучше распространяется на неё, а не на других, но она считает иначе. Часто так выходит, что мы думаем, что знаем, как облегчить жизнь всем, а, по итогу, ищем способ облегчить жизнь себе. Наши ментальные обезболивающие индивидуальны, и повезёт ещё, если никакого эффекта не будет, но если он будет негативным? Как правило, никто ответственность не берёт за то, что дал неправильный совет, сказал ненужные слова, повёл себя кривым образом. В голове человека всё выглядит до миллиметровой точности идеальным.
– Для вас я тоже дьявол? – Андрей прижал пальцы к губам. Несерьёзно спрашивал, но от ответа могло многое зависеть. Например, его расположение.
– А кто у нас Дьявол? Изгнанный из Рая ангел, который слишком любил своего бога. Получается, что у Дьявола было своё Солнце, которое он ставил во главе, а потом, когда его изгнали, он поставил во главе себя и свои желания… Параллели есть, но, как я вижу, для меня и Ирины Николаевны Дьявол – это два разных создания.
– Как ответить на вопрос, не отвечая на него. – Андрей захлопал в ладоши, размеренно, но недостаточно медленно, чтобы можно было сказать: «Он иронизирует». – Вот этим вы мне уже нравитесь. Говорить умеете. Многие не умеют. Хрень какую-то пасут, а вид важный… до горы, блин, а чё там по содержанию? Ни-че-го. Пустословные размышления о всякой нудятине.
– Значит, твоё расположение я получил?
– Ну да, – кивнул Андрей, – только если всё это не окажется… как культурно сказать? Обманом? Виртуозных обводом вокруг среднего пальца. Вот поговорим мы тут в кабинетике, а потом вы подойдёте к Иринке и скажете, что я реально козлина и из школы меня надо выпроваживать, потому что я думаю так, как я думаю.
– А ты боишься этого?
– Было бы чего бояться. – И представить себе такого не мог. – Возьму вас на карандашик.
– Понял, буду в твоём чёрном списке.
– А вы бы не хотели туда попадать?
– Иногда отношение людей может поменяться вне зависимости от моих действий. Если так произойдёт, то я ничего с этим поделать не смогу, но я стараюсь жить так, как описываешь это ты: обращать внимание на своё состояние, а других людей по мере возможностей не трогать, дать им спокойно жить свою жизнь. Если им понадобиться от меня совет, я его дам, но заранее оговорю, что может и не помочь.
– И как же вам тогда работать? Если советы могут и не сработать?
– Тогда мы должны вместе найти такой образ действий, который подойдёт человеку – в этом основная моя работа. Быть не наставником, а проводником, поддержкой со стороны, опорой, фонариком, который осветит путь, но чтобы рассеять тьму окончательно, нужно помочь зажечь другие фонари, окружающие внутренний мир, бесконечные коридоры бессознательного.
– А сами зажечь свечки никак не могут, да?
– Не могут, поэтому им нужна помощь. Но ты бы и сам справился?
Довольная ухмылка дала однозначный ответ и Герман тоже улыбнулся.
– Знаете, мне тут такое сравнение в голову пришло. – Андрей почесал лоб. – Вот касательно суицидников. В плане, каждый сам выбирает как в жизни сражаться, кто-то снайпер, кто-то стреляет с близкого расстояния, тот, кто стрелять не умеет, берёт в руки нож или кидает гранату, а если ничего не остаётся, то идёт в рукопашную и так до конца, пока зубы есть. Человек ведь сам по себе идеальное оружие? Но вот те, кто сражаться не хочет и не будет, умирает первым. Так и здесь.
– Получается, что жизнь – это поле боя?
– В некоторой степени да. – И поле боя, и болото, и тёмный коридор со множеством закрытых на ключ дверей. – Постоянно же кто-то мешает, будь то родители, учителя, твои друзья, те, кто хотят занять твою должность. Всё своё надо отстаивать. И право на жизнь, по итогу, тоже. Хочешь жить спокойно, нужно стоять за себя и не давать никому мешать себе. Но опять же, если ты выбираешь сдаться, быть рабом или умереть – это тоже только твой выбор, но это выбор труса и слабака.
– Сильные дерутся до конца?
Дерутся. Зубами вырывают победу.
За что сражается Андрей? И с кем? Не с Ириной Николаевной – не с ней точно, но борьба в нём идёт. Скрывая, тихая. Он проигрывает, и поэтому может иногда «сказануть», потому что своего оппонента в честной или подлой схватке одолеть не может. Кто-то сильнее него, увереннее, тот, для кого ставить палки в колёса – будничное дело, и ему удаётся выбивать Андрея со своей дорожки. С виду он сохраняет равновесие, идёт дальше, но уже подбитый, с кровоточащим шрамом, который прячет ото всех своей нахальной улыбкой, пустым взглядом и внешней вседозволенностью. Он проигрывает и скрывает это под плащом всеми силами.
– Хорошо побеседовали, – сказал Герман и опустил ноги на пол. – Можешь идти. Если захочешь, можешь сам зайти.
– Не заставляете и не составляете мне график? У нас с Тамаркой график был. Я просто приходил, чтобы отвести подозрения Иринки.
– Пока что времени у меня достаточно и у меня нет такой популярности как у Тамары Олеговны… Но я не знаю, насколько это будет продуктивно для тебя.
– Посмотрим. Это я уже сам решу. – Андрей резко встал и посмотрел сверху-вниз. – Ну ничё так, жить можно. – Оттянул левый угол рта и покинул кабинет.
С виду Андрей простой и ничем не примечателен: высокий шатен с уложенными назад волосами, открытым чуть прыщеватым лицом, форму соблюдает: чёрные штаны, белая заправленная рубашка, галстук и пиджак. В его внешности не за что зацепиться, даже за светло-голубые глаза – на фоне всего Андрея даже они теряются, а взгляд… Взгляд такой, какой не даст залезть себе в душу. Осознанно или нет. Он прячет секреты, чтобы опорные стены его мира не были разрушены. Знает же, что, если они сломятся, он не восстанет из пепла. Этого он и боится, а не выговоров Иринки. То, что не имеет для него значения, остаётся за фоном восприятия, размазывается, не попадая в фокус, а улыбка отводит всякие подозрения касательно того, какой его жизнь может быть на самом деле.
Андрей Храмов – отличный притворщик.
Когда Герман собирался уходить, на выходе за локоть поймала Ирина Николаевна. Схватила, сжала, дёрнула на себя, будто он один из нерадивых её учеников.
– Вы поговорили с Андреем? – строго спросила она, словно выпытывала домашнюю работу, которую съела собака прямо перед началом урока.
– Да, конечно.
– По нему не видно!
– А как это должно быть видно, Ирина Николаевна? У него на лбу должен штамп появится? «Пропсихологирован»?
– Герман Павлович! Что вы говорите?
– Я не совсем понимаю, чего вы от меня сейчас хотите. Мы поговорили с ним один раз. За один раз он перестанет вести себя как раньше и навряд ли он перестанет себя так вести.
– И какой тогда в вас смысл?! – Ирина Николаевна кинула руку. Вспылила. На весь холл первого этажа. Ор донёсся до концов противоположных друг от друга крыльев.
– Моя работа не гнуть силой железные прутья.
Ирина Николаевна вздулась, хапнула разом литр воздуха, а на слова не нашлась.
– Вы не понимаете, что из себя представляет работа психолога. Вы думаете, что мы говорим, как должно быть, и оно так будет, но у каждого человека «должно быть» – разное и изменить его парой: «Ты должен вести себя так и вот так», не работает, потому что это не чудо, это не промывание мозгов, это долгосрочная работа, в которой затрагиваются различные темы. То, что я знаю, что там у Андрея в голове, не значит, что мои слова будут восприняты так, как надо. Конечно, задирать других – это плохо, и он об этом знает, но поступает так в силу своих причин. Если он придёт ко мне снова – сам, я начну аккуратно пробираться к этим проблемам. Если он захочет, он сам себя исправит.
– И что это вообще значит?! За что вам платят? Вы с ним ничего не будете делать? А если он снова доведёт кого-то? Если ещё кто-то умрёт? Вы этого хотите?!
– Нет доказательств, что Артём умер именно из-за Андрея.
– Как это нет?! Постоянно прилипал к нему, говорил гадости, это нормально по-вашему? Говорить с такими? Да таких лечить надо!
– Если хотите лечить, то вперёд. Но если вы уже лечите его так давно, то вопрос – почему же вы сами с ним справиться не можете и требуете этого от меня? Если вы так уверены в своих методах, я спрошу, почему до моего прихода Андрей не изменился, если вы с ним столько возитесь? Может быть, проблема не в Андрее?
Герман вполне понимал, на что подписывался, когда произносил эти слова. Слова были обдуманны и осознанны. С некоторыми людьми нет смысла ходить вокруг да около, объясняя, что такое работа с внутренним содержимом. Всем всё казалось просто: возьми, разбей, залей в новую форму – человек готов к эксплуатации, он удовлетворяет себя, он удовлетворяет окружающих. Он такой, каким его хотели сделать.
– С вами поговорит Альберт Рудольфович. – Сама подписалась и ушла, оставляя за собой гневный след из чётко отбивающих ноты каблуков.
Лучше бы улетела на крыльях своего носа, а то раздувались как воздушный шар. Того и гляди, воспарит
