Читать онлайн Любимая звезда бесплатно
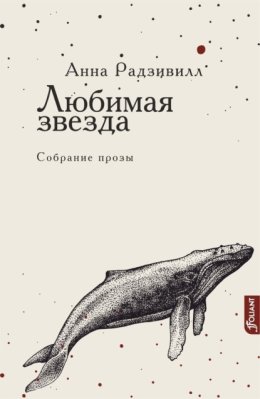
* * *
© Радзивилл А. П., наследники, 2023
© ТОО «Издательство „Фолиант“», 2023
О прозе Анны Радзивилл
Короткий рассказ не жанр, а новый способ увидеть мир. У истоков – Антон Павлович Чехов. Анна Радзивилл тоже смотрит на мир сквозь призму сжатого текста. Даже в повестях и саге о предках. Но взгляд у неё своеобычный: укрупняющий, детальный и при этом обволакивающий любую деталь бережными прикосновениями и теплотой дыхания.
Особый взгляд порождает особый тон и особый стиль. Вот только как совместить тон с литературной формой произведения? Здесь-то автору и приходит на помощь быстрая и освежающая, как летний дождь, новеллистичность. Но и она вовсе не происходит от ремесленнического следования «твёрдой» форме новеллы! А происходит от неостановимых порывов души, которые свойственны многим русским людям: посочувствовать, попричитать, поговорить нараспев, по-деревенски, добавить незлой иронии и, конечно, всплакнуть над омутами бытия.
Ну и под конец самое важное: проза Анны Радзивилл не только выводит на сцену неповторимых героев, но и представляет собой маленький театр – Театр Единичного Слова. Такое Слово, взвешенное на ладони и рассмотренное со всех сторон, трогает и покоряет. И остаётся с вами навсегда, как тот Николай Доменикович, учитель музыки и жизни из незабываемого рассказа «Цветок волшебный».
БОРИС ЕВСЕЕВ,
лауреат премии Правительства РФ
в области культуры, Бунинской и Горьковской литературных премий
Часть I
Сага о моих предках
1
Из песни
- Очень жаль, что на земле
- мы живём не вечно.
Когда я родилась, их никого уже не было на свете. Моя бабушка Акулина, тверская крестьянка, умерла за три дня до моего рождения.
Дедушка, Яков Сергеич, умер немного раньше, от рака. После похорон бабушка пришла домой, легла на лавку и сказала детям: «Мне без него не жить». Через несколько дней хоронили и её: умерла от грусти, как свечка растаяла.
У бабушки Акулины было восемь детей. У меня значительно меньше. Иногда я думаю: могла бы я вот так умереть от грусти? Вряд ли… Хотя кто его знает…
* * *
Мне трудно понять, как они жили. От их жизни осталось так мало: мама, две тётки, пережившие блокаду (вспоминают только о войне), несколько фотографий на плотном картоне, поле, засеянное удивительно зелёной травкой («это лён так растёт, смотри, это поле твоего дедушки»), да ещё ряды громадных мрачных ёлок в лесу – дед сажал у себя на хуторе еловую аллею. И цветущая в лесу сирень – на том месте, где был дом.
Одно я знаю точно: никто, ни один из их восьми детей не был так счастлив в жизни, как мои бабушка и дедушка. Бабушка так и говорила дочкам: «Знаете, а я ведь даже и царице не завидовала…»
* * *
В деревне возраст не скроешь, все тебя знают и всё про тебя знают.
Шла Акулинушка улицей, роста маленького, лицом невидная, шла, склонив голову, а вослед ей сострадательный шёпот: «Гляди, Кулюшка идёт, вековуха…» А дома сестры младшие шипели: «У, вековуха несчастная…» Из-за неё отец не выдавал замуж ни Марфу, ни Полину – надо же сначала старшую с рук сбыть. К младшим-то сватались, девки были приглядные и – молодые. А Акулине Николаевне в ту пору стукнул уже двадцать один год. (Это сегодня – смешно, это теперь в двадцать один – молоденькая, а тогда? Да ещё в деревне? Тогда в тридцать – уже без зубов, с высохшей грудью, и морщины, и руки, как клешни…)
В хоровод да на гулянки уже и ходить стеснялась. Вообще была застенчивая. Всех приглашают, а её – нет. Придёт, сидит, смотрит, на душе тяжело, и глупо всё как-то. Сестры хохочут, глазами блестят: «Ну, чего сидишь, ворона?» А что ответишь? Встанет да уйдёт.
Однажды явился на гулянку парень из другой деревни. Красивый – глаз не оторвать. Сам высокий, кудри чёрные. А пел как! А плясал! Девки обомлели. А он огляделся, возьми да и пригласи незаметную, самую тихую – Акулину. Покраснела, встала да и вышла плясать. Другие парни смотрят: чего это они прозевали? Акулька-то улыбается – прямо светлая заря… Как же это они проглядели? И тоже давай её приглашать.
Оказалось, парень тот – Степанидин Яша. Подобрала его мальчишкой на дороге бабка, нищая Степанида, пожалела, а то бы с голоду помер. Пока не вырос – с ней по миру ходил. А подрос – начал бабкино хозяйство налаживать. Избу починил, печь сложил заново. Даже худую лошадёнку завели. Старую.
Вот на этой-то худой лошадёнке и приехал он вскоре к богатому хутору, где жили Донские, Акулину сватать.
Она как поглядела – батюшки! Да это же тот парень, что плясать её пригласил! Неужели такой красавец – её сватать? Оказалось – её. Она сразу: «Тятенька, я согласна!»
Отец почесал в затылке – конечно, ни одну девушку с приданым за какого-то нищего в деревне б не отдали, но тут дело такое – вековуха… Сестры наседают: «Тятенька, счастье-то какое!» Как бы и тех не передержать. Ну что, Богу помолился, дал слово. Согласился.
А через два дня – парень богатый из их деревни. На тройке! И тоже – Акулину сватать.
Отец и мать не знают, что и делать: и слово-то дали, и родную дочь-то жалко. В богатый дом ли отдать или к нищей Степаниде в избу?
– Тут, дочка, дело такое… – начал отец.
– Я уже просватана, тятенька, – тихо сказала дочь.
– Я вот сейчас тебя просватаю… вожжой.
– Утоплюсь… – ещё тише сказала она.
Парень богатый уехал ни с чем, предложенных ему Марфу или Полину взять не пожелал. Акулину выдали за Яшу, и в приданое получила она самое главное – кусок земли, который мог прокормить семью на хуторе Терпилово.
* * *
На другой день после свадьбы Яков взялся за топор. Быстро, ладно сколотил табуретку.
– Зачем это ты, Яшенька, сделал табуреточку?
– А возле тебя сидеть, незабудка моя.
Вздохнула, не поверила – будет такой огненный возле неё сидеть…
Не верили в это и люди.
И хотя известно стало, что женился Яша, купчихи на тройках, в шубах с борами, в павловских платках цветастых, румяные, подлетали к крыльцу: «Яков Сергеич, к нам, к нам! Свадьба у нас, поехали! Ведь петь, плясать – лучше вас не найти!»
Затаилась Акулина за занавеской возле печи, дышать перестала.
– Спасибо за честь, – отвечал Яков Сергеич, – не могу.
С тех пор без Акулины Николаевны его не приглашали. И что удивительно – умел он заставить всех, в каком бы обществе ни появлялись, считать его незаметную Кулюшку ну просто королевой.
Тесть, озабоченный непонятным поведением молодого мужа, спрашивал:
– Почему не бьёшь?
Яша скалил блестящие белые зубы, обещал подумать.
* * *
Вот фотография, на которой ещё нет моей мамы, но в семье уже трое детей: девочка и два мальчика. Хорошо тогда делали фотографии: картон не рыхлый, а как пластмасса – твёрдый и гладкий. Пожелтел только снимок – три четверти века прошло.
Да, дед в самом деле редкостный красавец: глаза огромные, тёмные, заглянешь – не забыть. Виски седые, плечи широченные. Старшая дочь Наденька с такими же глазами, в него. А про бабушку как-то и сказать нечего – скромная маленькая женщина, одетая уже по-городскому. И зовут её – Лина, стесняется она теперь своего деревенского имени. Теперь в Санкт-Петербурге живут они, в столице. Напротив Сенного рынка держат лавку сельдяную. Покупают селёдку оптом, а торгуют ею в розницу. Дед копит деньги, кладёт их в банк. Да не на себя, а на каждого ребёнка. Мечтает всех выучить.
Успел выучить только старшую, Надежду. В Смольном институте для благородных девиц – попала она в какой-то процент для бедных чинов. Вот ещё один снимок: девушка в шляпе со страусиным пером, одно поле вниз, другое вверх (сейчас такие шляпы – поменьше, и поля покороче, и без страусиных перьев – продавщицы называют «боковик»), талия затянута, смотрит гордо – какая там дочь крестьянина – петербурженка! Преподаёт французский и, как вспоминают тётки, учит их, маленьких, «хорошему тону»: как ходить, как садиться, как одеваться. Ухаживает за ней барон фон Бломберг. Катает в коляске, дарит хризантемы. Вот он, барон. Холодное немецкое лицо, эполеты, осиная талия. Сидит прямо, напряжённо. Хочет лучше выглядеть, чем есть. И чего старается? И так молод и прекрасен. Летом она уезжает в деревню и пишет ему письма «из имения Терпилово». А осенью он, по естественному ходу вещей, делает ей предложение. (И прекрасно, и пусть выходит за барона!)
Но Наденька, несмотря на отчаянную любовь и свои семнадцать лет, всё-таки видит мир таким, какой он есть.
Она надевает бабушкино обручальное кольцо, берёт за ручку мою маму в платьице «бэби» и кружевных панталончиках и отправляется на свидание к барону фон Бломбергу в Летний сад. Поражённый, смотрит он на кольцо. «Да, я обручена. Слишком поздно…»
Хочется крикнуть чуть ли не через столетие: «Да расскажи ты ему, признайся, ведь он тебя любит!»
Но на меня смотрят большие грустные глаза с портрета – здесь она постарше. Нет, это свидание было последним. Не понять вам, потомкам, что такое «социальное происхождение», теперь у вас даже графы такой в паспорте нету.
Фон Бломберг писал ей уже после революции из Югославии: «У меня ничего не осталось – только покинутая мною Родина – светлая моя Россия. И Вы – единственная звёздочка в родном небе».
Она тихо погасла в блокаду, ухаживая за ранеными в госпитале. Мои жизнелюбивые тётки шёпотом и с недоумением сообщают: она умерла старой девой, у неё никогда никого не было…
Ещё до Первой мировой войны, когда детей стало восемь, появляется в семье тётя Уляша, молодая работница катушечной фабрики.
Хромая, ворчливая, не в меру страшненькая, незаконного ребёнка подкинула в приют – вот и всё, что о ней известно. Младшие дети её любят: своя, родная, вынянчила их по очереди. В доме налаженная, за дедовой спиной спокойная жизнь.
Как и всегда, всё перечёркивает война. Первая мировая. Она накатывает не сразу, сначала идёт страх, смутное время. Уляша приносит с Сенного рынка слухи – никогда так не врут, как после охоты и перед войной. Дед отправился за советом к знаменитому тогда митрополиту Иоанну Кронштадтскому – как спасти и прокормить столько детей? Сам-то в детстве натерпелся, жалел их. Бывало, дети приставали:
– Папа, папочка, а кого из нас ты больше любишь?
Он показывал пальцы на руках:
– Вот, если один обрезать – какой больнее?
Митрополит сказал:
– Есть у тебя свой кусок земли – садись на землю. А иначе всем погибель.
Отвёз семью в деревню, а сам на фронт ушёл, как и все. Сказал жене:
– Не бойся, и что бы тебе ни говорили – не верь. Вернусь. Ты меня знаешь.
И ведь вернулся!
Окопы вспоминать не любил. Смеялся редко. А петь перестал совсем.
В революцию пропали все деньги в банке, которые положил на каждого ребёнка. Ему сочувствовали – как же, столько тысяч золотом! А он улыбался: деньги-то пропали, а дети-то живы! Теперь бесплатно учат, теперь все выучатся!
* * *
Он учил их и тому, что умел сам. В сенокос вся семья в большом пятистенном доме вставала в три часа утра. Жарили яичницу с салом на огромной сковородке. Старшие косили. Средние косить не могли, но умели уже сено ворошить. Те, кто бесполезен был по малолетству на сенокосе, всё равно вставали – нянчить самых младших, чтобы освободить для сенокоса женщин. Вставали не «помогать», а делать необходимое всем дело, работать. И не дай Бог кому-нибудь из детей заваляться в постели – дед гневался, а такого его боялась даже тётя Уляша, которая никого не боялась.
(Меня в детстве хоть и не поднимали в три часа утра, но дедова закалка в маме была крепка, и слёз по поводу своего трудового воспитания пришлось мне пролить немало… Мама просто не выносила меня в горизонтальном положении, особенно в середине дня.)
– Мама, а дед помогал бабушке в домашней работе? – спрашивала я. (Вопрос, который сейчас волнует большинство женщин.)
Мама удивлялась:
– Да что ты! Вот раньше действительно было равноправие. У него своей домашней работы знаешь было сколько? Две лошади, коровы, овцы, свиньи, телеги, сбруя, дрова… Ужинать сядет, руки на стол положит – ложку не поднять!
Все восемь детей выучились, один стал главным инженером завода. Однажды он пришёл к моей маме, сестре своей, сел на диван, обнял её и вдруг разрыдался. На меня он внимания не обратил, я была слишком мала. И, конечно, почему такой большой дядя так горько плачет, не поняла, только запомнила эту картину. Потом уж, когда я выросла, мама рассказала мне, что жаловался он ей на свою жену-красавицу, на её чёрствость и грубость, и запоздало корил себя – когда-то, в лихой юности, бросил он девушку, у которой от него потом родилась дочка. Где она теперь, та родная дочка? Жена-красавица ему детей не рожала.
Другой сын стал даже генералом. Семья у него была, трое детей. Но счастливым он выглядел только на службе. Так, по дороге на службу, и умер однажды.
И у всех остальных были семьи и налаженная, как считали окружающие, счастливая жизнь. Но сказать: «Знаете, а я ведь даже и царице не завидовала…» – не мог никто.
– Неужели вы не спросили дедушку, в чём же был секрет их счастья, не узнали это, пока он был жив? – возмущалась я.
– Спрашивали, – отвечала мама, – как не спрашивали… Перед его смертью сестры приходили в больницу, он уже совсем худой был, печальный, знал, что умрёт.
– Ну, и что он говорил?
– Да как тебе сказать? Ничего особенного он им не сказал. (Я чувствую, что просто мама с ним не согласна, и поэтому вспоминать ей не хочется.) Понимаешь, всем известно, что счастье – вещь редкая, нестандартная. И конечно, главное – это его найти, своё счастье, встретить близкого человека. Но он считал, что дело совсем не в этом. Вот он сказал Вере: «Деточка, если ты хочешь быть счастливой, думай не о себе, а о нём, о том, кого любишь. Всегда о нём». А это ведь, как ты понимаешь, практически невозможно, – заключает мама тоном прожившего жизнь человека.
– Ну, а ещё что он говорил?
– Да потом, в последние дни, говорил сестрам: «Деточки, только никогда не расставайтесь… никогда не расставайтесь с теми, кого любите».
2
Почти всю жизнь моему отцу пришлось прожить под чужой фамилией.
Конечно, дома у нас об этом никогда не говорили. Но лет с двенадцати я уже знала, что наша родовая фамилия Радзивиллы – это тайна, причём такая, что лучше её вообще забыть.
Судьба кидала и раскидывала нашу семью по-разному. Росла я и в Сибири, и на Колыме, и в Магадане – отец был полярником. Но дом наш оставался в Петербурге, поэтому мы всегда туда возвращались.
Жили мы, как все вокруг, в одной комнате большой коммунальной квартиры. Коридор был такой, что пока идёшь на кухню, забудешь, зачем пошёл.
Моя жизнь мне очень нравилась. Я ходила в школу, самозабвенно играла в морской бой, по вечерам каталась на коньках и читала фантастику и «Трёх мушкетёров». Жизнь вокруг была понятная и простая.
Только иногда меня удивляло, почему это мне нельзя делать то, что можно всем вокруг?
Нельзя, например, лгать. Нельзя просить. Нельзя быть грубой. Потому что вульгарность хуже лохмотьев. Лохмотья ещё могут быть благородными, а вульгарность – никогда. А ещё стыдно не сдержать своего слова. И уж совсем последнее дело – струсить. Тут уж папа просто переставал меня замечать. И тогда моя жизнь переставала мне нравиться.
Но почему всем (и на каждом шагу!) всё это можно, а мне – нельзя? У нас врут даже учителя!
Папа ни в какие объяснения не вдавался, отвечал только одной фразой: «Потому что ты – моя дочь».
Прошлого у папы не было. Никогда я не слышала его рассказов о прошлом. Ни вещей, ни дома. От прошлого у него оставалась только могила его матери. Правда, где она, никто в нашей семье не знал. Где-то на краю города, какое-то старое кладбище, вот и всё. Иногда он ездил туда. Но с собой никого не брал. О бабушке, которая там похоронена, ничего не рассказывал, а дедушки будто и вовсе не существовало на свете.
Однажды, когда я уже подросла, захотелось мне всё-таки выяснить, как хоть выглядела-то эта таинственная бабушка?
– Ты знаешь, я в жизни не встречал женщины мудрее её, – вздохнул отец. – И нежнее…
Вообразить себе человека по таким параметрам – задача непосильная, во всяком случае для меня. Поэтому, наверное, я спросила:
– А на кого она была похожа?
Не помню случая, чтобы мой отец когда-нибудь растерялся или смутился. Но тут на лице его отразилось какое-то замешательство. Он подвёл меня к зеркалу, сильной тёплой рукой убрал с моего лба чёлку и сказал:
– Вот, смотри… И рост, и фигура, и коса, и лицо… Как две капли воды. Только она полнее тебя была. Ну, и чёлку, конечно, не носила.
Странно. Всегда все говорили, что я похожа на папу. Но ведь она же была бабушка, старуха!
– Да нет. Она умерла молодой. Ей не было и сорока.
* * *
А ему тогда исполнилось пятнадцать. Они возвращались в Петроград из Минской губернии, из Несвижа.
Холодные невские туманы да беспросветные дожди были те же. Но блистательного, гордого и нарядного города он не узнал. Из дворов-колодцев ползли трупные запахи. Отовсюду несло помойкой и гарью. Стекла в витринах выбиты. Лица у прохожих серые, испуганные. Глаза голодные. Ни цилиндров, ни котелков. На всех головах одинаковые приплюснутые кепки. И что совсем уж его поразило – некоторые улицы начали зарастать травой…
В поезде они с матерью заболели. Непонятно, как добрались до больницы на краю города – видно, кто-то помог. Называлась больница «Мать всех скорбящих», на девятой версте Петергофского шоссе. У самых дверей он потерял сознание.
Пришёл в себя в громадной квадратной комнате с высоким потолком. Сначала показалось – опять вокзал. Узкие железные кровати стояли рядами очень близко друг к другу. В душном мраке хрипели, просили пить и метались в бреду какие-то люди. Крайние валились на пол. «Вот почему кровати так близко, – сообразил он, – чтобы люди не падали. А где же мама?»
Рядом на койке неподвижно лежал мужчина. Парень.
– Ну чё, вынырнул? – очень тихо спросил он.
– Кажется…
Парень не шевелился. Только глаза у него блестели как-то слишком.
– Сдохну. Сегодня, – пообещал он серьёзно и весело. Даже хотел подмигнуть. Но не вышло.
– Ты что? Зачем ты так говоришь?
– Это не я. Это врач. Он думал, я уж и не слышу. А про тебя сказал: старинные бумаги какие-то у вас нашли. В той рванине, что с вас сняли. Мать-то у тебя княгиня… Ну, с ней, он сказал, всё в порядке. А ты вот крепкий оказался. Слушай, а как это ты сюда попал?
– Мы с мамой в поезде ехали. А потом… не помню, голова болела очень.
– А… ну это у тебя, значит, тиф.
«Как это – с ней всё в порядке? Как это врач мог так сказать?» Он боялся понять то, что услышал.
Вдруг комната ярко осветилась. И предметы, и лица под сильной электрической лампой оголились и стали ещё чудовищнее. Но никто не шёл и ничего не происходило.
– Теперь полночи гореть будет, – сказал парень. – Это по всему району включили, для обысков. Чистят… – И вдруг без перехода, глядя в упор, спросил: – Что же ты теперь без матери делать-то будешь?
Вокруг стонали, охали и хрипели люди. Он не находил в себе сил ответить хоть что-нибудь. А парень всё шептал, спрашивал:
– Своих-то никого не осталось?
– Никого.
– Ну, значит, как встанешь, так тебя и шлёпнут.
Это было ясно. Недаром они с матерью ехали, переодетые чёрт знает во что. Но бесцеремонность соседа задевала – разговаривать не хотелось. Не привык он к бесцеремонности. Закрыл глаза. Но сосед всё не унимался.
– А может, ты и сам с голоду подохнешь? Кому ты нужен?
Провалиться бы снова в беспамятство… Но комната была реальной, хотя и покачивалась в этом беспощадном свете, а потолок и вообще куда-то плыл. Вернуться во тьму не удавалось.
Поднял руку. И не узнал её – костлявая. Потёр висок. Волос на голове почему-то не было. Потрогал макушку. «А… остригли».
А сосед вдруг заволновался, задвигался, зашептал, катая голову по тощей подушке:
– Слушай, слушай… ну послушай ты меня!
Видно, прежде чем оставить этот мир, захотелось парню, отчаянно захотелось ещё успеть сделать что-то хорошее.
– Ты знаешь, что я придумал? Тебе сколько лет?
– Пятнадцать.
– А мне восемнадцать. Знаешь что? Возьми мои документы! Я уже… ну, всё уже. Я и сам чувствую. А ты рослый, скажешь: восемнадцать тебе. Ладно? А то ведь убьют!.. Ты запомни, ты хорошо запомни, как меня зовут, где родился, когда, ладно? Пострижены мы одинаково. А потом иди в Красную армию. Она больше. Никто не верит теперь, что нужен царь. Братство, говорят, нужнее. Ну и свобода, конечно. А главное – там кормят. Одевают. Может, ещё и выживешь?
Умер он совсем незаметно. Как-то укоротился вдруг с обоих концов и ушёл весь в ямину кровати. Из-под серого одеяла виднелась теперь только его макушка, кое-как остриженная машинкой.
Голый, трезвый и неузнаваемый мир опять куда-то поплыл. Кто же это теперь отдаст ему чужие документы? Снова резко заболела голова. Что же делать? Пить хочется… Где это он читал: «Если хочешь выжить – ты должен стать мёртвым»? Стать мёртвым… Книга лежала на коленях, а сам он сидел в плетёном кресле в саду. Тёмно-лиловая сирень гладила плечо и кружила голову…
Вдруг он вжался в постель. Захотелось вскочить, убежать, спрятаться. Но он лежал неподвижно и ждал. Прямо на него шёл врач. Уверенный, сытый. Чернявые кудерьки разлетались из-под белой шапочки.
Врачу оставалось несколько шагов, когда лампочка под потолком вдруг погасла – наверно, кончились обыски. Врач всё-таки подошёл, наклонился над его кроватью, прислушался, но прикасаться не стал. Хмыкнул неопределённо. Отошёл.
И тогда в полутьме, слушая хрипы и стоны вокруг, он потащил на себя, торопясь и обливаясь холодным потом, непомерно тяжёлое, уже остывающее тело своего соседа. Отдыхал. Снова тащил, почти теряя сознание. Потихоньку, по сантиметру выбирался, выползал из-под него до самого рассвета. Бесшумно переполз на опустевшую соседнюю кровать. Скрючился под серым одеялом.
Это удалось только потому, что кровати стояли слишком близко, а сестра милосердия, которой врач поручил за ним приглядывать, уснула сидя.
* * *
Раскрытая чёрная яма. Вокруг её обступили кресты.
Неузнаваемое, неподвижное и бесконечно родное лицо. Голова покойницы острижена и прикрыта какой-то тряпочкой.
Самым странным почему-то казалось, что он больше никогда не увидит этого лица. И надо запомнить, поскорее запомнить его на всю жизнь.
Он закрыл глаза и высоко поднял голову. Внутри у него всё как-то оборвалось, обрушилось и кончилось. Ноги переставали держать тело.
Монашенка положила венчик на лоб покойницы. Грамотку в правую руку. Господи, рука-то почернела вся, это же не её рука! Только овальные узкие ногти были те же. Ветер срывает венчик. Как грубо его поправляют! Зачем-то закрывают лицо. Зачем-то сыплют песок сверху… крестом. Монашенка шепчет ему: «Это святая землица». Равнодушный грязный мужик ждёт, опираясь на лопату.
– Почему же нет гроба?
– Тише, тише… – пугается монашенка. – Спасибо Господу, что не в общую яму-то удалось… Прощайся. Скорее надо, милый. Прощайся!..
И в этот миг солнце вдруг пробилось сквозь растерзанные, быстро летящие тучи и в последний раз последним лучом скользнуло по лежащей на земле неподвижной фигуре в простыне с тёмным православным крестом из песка.
Он отвернулся и, перешагивая через свежие комья земли, быстро пошёл прочь от ямы.
– Куда же ты? – растерялась монашенка. – А последнюю горсточку земельки-то… Брось!
Но он её не слышал. Ему показалось, что за спиной его обрушилась скала. И стоит он теперь один на голом острове. А со всех сторон хлещут волны, длинные, тёмные, жадные. И вот-вот смоют его, слизнут и утопят.
Он согнулся пополам и тихо опустился прямо на дорогу.
* * *
Как отец мой всё-таки выжил – я не знаю. Жизнь сделала его немногословным.
Белое, всегда очень спокойное лицо с правильными чертами и упрямым подбородком. Он никогда не тренировался, не занимался спортом, но я знала, что сильный он необыкновенно. Любил Мариинский театр. И оперу, и балет. Абонементы брал всегда в двадцать седьмую ложу бельэтажа. А вот хриплые довоенные пластинки слушать не мог. Может быть, в беззаботных ритмах румбы узнавал ритм пулемётной очереди? Или дрожь хлебной очереди морозной ночью?
Он умел видеть то, что другим не видно. Мы-то, домашние, всегда это чувствовали. Правда, мама считала – всё дело в том, что просто он очень умный. Такого умного человека, как наш папа, больше и не встретишь. Но откуда даже самому умному знать заранее о том, что будет? Что должно случиться? И почему это своё умение он всегда тщательно скрывал?
…Стылая равнина якутского аэродрома. Низко висит над ней мёрзлое солнце. Оно здесь вообще не греет. Американский самолёт цвета хаки, допотопно-старый, на котором мы вчера летели из Верхоянска и с горем пополам перелетели Верхоянский хребет, ждёт нас опять на взлётной полосе. Ура, сегодня мы летим на материк!
Внутри самолёт похож на консервную банку, поэтому в небе на нём очень холодно. Остались такие консервные банки теперь только здесь, на самом краю белого света. Но нам с братом самолёт очень нравится – ведь это первый в нашей жизни авиарейс. «Самолёт, здравствуй!» – искренне кричит ему мой маленький и глупый брат, и все кругом смеются. Всей семьёй, с вещами мы идём на посадку.
Вдруг папа останавливается и долго молча оглядывает красное солнце, горизонт и самолёт на полосе. О чём он думает – понять нельзя. Нас весело обгоняет семья папиного сотрудника, другие пассажиры. Все они тащат рюкзаки и чемоданы.
Мы стоим.
Мама начинает нервничать.
Вдруг отец хлопает себя по карману и говорит ей расстроенно:
– Эх! Какой же я растяпа! Ты понимаешь – хронометр забыл! Казённый. В гостинице на гвоздик повесил… Ну что же, ничего не поделаешь, придётся лететь на следующем.
Недовольная мама с братом остаются в аэровокзале сидеть на чемоданах. А меня папе приходится брать с собой. В наказание за свою рассеянность. Потому что до гостиницы, где он забыл хронометр, ехать далеко и долго, а маме одной с двумя детьми всегда трудно. Вечно эти дети не могут между собой чего-то там поделить.
В гостинице мы идём по красным ковровым дорожкам. Но не в номер, где мы сегодня ночевали, а почему-то в буфет. С удовольствием папа берёт кофе и пирожки с мясом.
– А хронометр? – спрашиваю я.
– Да вот он! – смеётся отец и, как фокусник, вынимает из нагрудного кармана своего синего кителя с золотыми пуговицами круглый никелированный хронометр. – Понимаешь, не хотел я маму расстраивать, – объясняет он мне. – Но нам на том самолёте дальше лететь… не стоило. Мы на следующем полетим.
«Тот самолёт» грохнулся прямо на взлётной полосе и долго потом горел. А мы ещё несколько дней после этого жили в Якутске, в гостинице с ковровыми дорожками, и мама всё поражалась и рассказывала горничной, как это казённый хронометр спас жизнь всей нашей семье.
* * *
Однажды я отважилась всё-таки спросить его:
– Папа, а откуда ты знаешь, что должно случиться?
– Ну что ты… С чего ты взяла?
– А сколько раз было так – ты мне говоришь: «Погоди-погоди… Вот попомни моё слово – года через три…» Или: «Вот в следующую пятницу…» А года через три или в следующую пятницу почему-то именно так всё и случается, как ты сказал! Память-то у меня хорошая.
– Да?
– Ага.
Мы долго и дружно смеёмся.
– А ты знаешь, что в своём дневнике написала однажды Екатерина Великая? Умнейшая, я тебе скажу, была женщина!
– Что?
– «Будущее я читаю в прошедшем».
– Папа! Ты прячешься за авторитеты. Но я же не об этом. Ну мог бы ты хоть раз в жизни сказать своей единственной дочери…
– Да… Придётся сознаваться, – вздыхает папа. – Так и быть! – И смотрит на меня весело и странно, как будто издалека. – Дело в том, что сейчас тебе ничего такого знать не положено. Живи спокойно. Но придёт в твоей жизни день, когда… Когда объяснения мои тебе уже не понадобятся. Сама всё поймёшь.
– А вдруг… что-нибудь изменится, и день не придёт? Будущее можно изменить?
– Нет. (Он говорит это жёстко и твёрдо, а его ярко-синие глаза становятся светлыми.)
– А это случится скоро?
– Нет. Очень не скоро. Меня к тому времени уже не будет в живых.
Я не могу представить себе, что его когда-нибудь не станет. И легко отметаю эту мысль.
– А почему это своё умение ты всегда скрываешь?
– И это ты поймёшь сама. И тоже будешь скрывать.
– Думаешь, всё-таки придёт такой день?
– Я не думаю. Я знаю.
– А почему это должно случиться со мной?
– Потому что ты – моя дочь.
* * *
Позже, когда я училась уже в старших классах, он понемногу стал объяснять мне, как устроен мир. Постепенно выяснилось, что мир устроен куда разумнее, чем принято считать. И гораздо прочнее. Это было приятно.
Правда, ни равенства, ни братства всех со всеми в мире, оказывается, никогда не было.
– … Понимаешь, Аннушка, истина доступна не каждому, – говорит отец. – Ну пусть люди думают, как это принято. А ты знай себе да помалкивай.
Поздний вечер. Дом затихает. Теперь у нас уже отдельная квартира. Мы сидим на кухне, и папа тихо рассказывает мне:
– Все тайны мира знаешь где спрятаны? В символах. А символы – на каждом шагу. Только повнимательнее смотри и соображай…
Я давно уже догадываюсь, что в этом простом и ясном мире, который так мне нравится, очень многое от меня почему-то скрыто.
– Дело в том, что человек – уже не животное, – объясняет отец. – Природную мудрость он уже утратил. А высших знаний ещё не приобрёл. Поэтому считать его «человеком разумным» пока рановато…
Да… Это-то я понимаю. Рановато. Неясно только, что папа имеет в виду, когда говорит «высшие знания».
– В Древнем Египте жил один мудрец. Его звали… ну, если это перевести на русский – Трижды величайший. Все религии и все философии мира произошли от него. Так вот, он знаешь как учил? «Что на небе – то и на земле. Что вверху – то и внизу». Он главную тайну приоткрывал. Да ведь до сих пор не очень-то его поняли. Ты вот лес хорошо знаешь, в колымской тайге выросла. А скажи ты мне, как вот лес устроен?
– Лес? Как мир. Там всё есть. И все со всеми связаны.
– Да. Лес – это мир, – соглашается отец. – А мир – это лес. Читай чаще Брэма «Жизнь животных». Будешь знать о зверях всё – начнёшь понимать и как мир устроен.
– Почему?
Отец долго молчит. Потом вздыхает и говорит просто:
– Потому что человечество – это зеркало мира.
– Как это?
– Так. «Что наверху – то и внизу».
Мне трудно сразу это понять.
– Сейчас поймёшь. Только запомни, что звери – это ключ к тайнописи мира. Вот скажи ты мне, что ты знаешь о медведях?
Что я знаю о медведях?
…И вдруг я просто вижу себя в тайге. Мне только шесть лет. Я стою с консервной баночкой, ручка у неё верёвочная. Вот какую корзинку сделал мне мой любимый, мой замечательный папа, пробив гвоздём две дырки для верёвочки! И я сама уже собираю бруснику. Мама где-то в стороне в зарослях стланика тоже увлеклась. Солнце греет чуть-чуть, летают волшебные бабочки, пахнет лиственницей и ягодами…
И вдруг кто-то очень большой и тёмный шумно фыркает мне прямо в лицо, делает шаг вперёд и замирает.
Медведь! Я смотрю на него с невероятным любопытством. Настоящий! Я очень боюсь, что он сейчас скроется и я не успею его как следует рассмотреть.
– Мишенька…
Медведь прочно стоит на всех своих четырёх ногах и не двигается. Мы с ним одного роста. Неужели он меня испугался? Нашёл кого бояться… Кожаный блестящий нос его чуть-чуть пошевеливается, вокруг носа жужжат серые комары. Но вот о чём он думает – по глазам понять нельзя.
Бледно и холодно светит колымское солнышко. Тихонько, боясь спугнуть, я протягиваю медведю свою баночку и говорю шёпотом: «На, Мишенька, на…»
Как-то непроизвольно он чавкает, и мне видно, что он тоже, оказывается, ел бруснику.
И тут мама окликает меня. Я оглядываюсь на её голос, а когда поворачиваюсь обратно, никого уже передо мной нет…
– Как ты думаешь, почему он тогда тебя не тронул? – спрашивает меня папа. – Если корова в лесу заблудится, ведь задерёт, обязательно.
Этого я не знаю.
– Да потому что этот опасный и могучий зверь – хозяин леса. У него голова на плечах есть. Ты посмотри, как он ко всем относится: жить никому не мешает, но за порядком смотрит. Лиса бежит – ну беги, чёрт с тобой. Волк там, заяц – никого не тронет. Вот бурундучка, говорят, погладил однажды – пять чёрных полос на спине так и остались от его когтей. А питается он чем, знаешь? Ягодами, орехами, муравьями, рыбу любит ловить. Всеядное животное. Кто был тотемный зверь русского народа до христианства, помнишь?
Я вспоминаю – читала где-то, – что русские раньше никогда не ели медвежьего мяса и даже не пряли медвежью шерсть. А за границей про нас и до сих пор говорят «русские медведи».
– Медведь?
– Да. А у немцев?
– Кабан, наверно? (Вспомнилась немецкая «свинья», клин, которым шли псы-рыцари на Чудском озере на наших предков.)
– Да. Вепрь. А знаешь, что бывает, когда медведь и вепрь встречаются на узенькой дорожке? Бьются насмерть. Никто никому не уступит.
Во все века медведь и кабан лупят друг друга. Бьются за власть в лесу. Но, как ты понимаешь, в конце-то концов медведь всегда свинью слопает. Что и доказала Вторая мировая война.
Я молчу, пытаясь осознать. Да, слопает. Но только чего это ему стоит!
– А кто тогда англичане?
– Акулы. Знаешь, как у них гимн начинается? «Правь, Британия, морями!» Холодные акулы. Вот с ними мы никогда по-настоящему не воевали. И не будем.
– Почему?
– А где медведю встретиться с акулой?
– А кто же тогда китайцы?
– Подумай.
В китайских сказках я читала, что китайцы себя считают единым организмом – Великим Драконом, который может и плавать, и ходить по земле, и летать, доставая головой солнце!
– Да, всё так, – смеётся отец, – это великие, загадочные и древние животные – муравьи. Развитие отдельной личности там не приветствуется. И ведь даже летать могут, «доставая головой солнце». Временами, правда. А работают как! Да, Великий Дракон… Одна их Китайская стена чего стоит.
– Это они так огородили свой муравейник?
– Ну да.
– А японцы?
– Японцы – это термиты. Злые, умные термиты, которые строят двухметровые термитники, закрытые со всех сторон. И никого к себе не пускают. С ними шутить опасно – обглодают.
– А цыгане кто?
– Ну кто… Укусит – и отскочит.
– Блохи, что ли?
– Подумай.
– Работать не хотят. Живут за чужой счёт. Наглые. Пьют чужую кровь – и оттого знают много тайного… – размышляю я. – А что, бывают народы-паразиты?
– А в лесу, в природе есть паразиты?
– Есть.
– Значит, и у человечества должны быть. Зеркало мы, зеркало…
– А кто же тогда американцы?
– Думай сама.
…Америка. По равнинам только что открытой Америки катятся огромные стада бизонов. Великолепных, сильных, но не слишком хитрых парнокопытных, попросту говоря – коров. Правда, почему-то их совсем не осталось. Они ведь вымерли. В зоопарках и заповедниках мира есть только помеси, зубробизоны.
– Да. Их уничтожили. Это были американские индейцы. А заповедники – это резервации, куда их загнали. Мир меняется быстро, зеркало отражает сразу… Теперь национальный символ Америки – хитрая мышка, Микки Маус. Неофициальный, но любимый. Сначала этот Микки Маус был лихой и хулиганистый, но американцы засыпали Уолта Диснея письмами: «Сделайте нашего любимца поприличнее!» Дисней стал рисовать его в цилиндре и в белых перчатках.
Однажды я страшно удивилась, когда услышала по телевизору, что американская армия на семьдесят четвёртом месте в мире по храбрости. Так ведь мышка!
Какая уж там храбрость. Сначала напалмом выжгут или бомбами сверху закидают, а уж потом сами нос суют…
– Так вот, – возвращает меня отец. – Мы с тобой говорили о медведях. Понимаешь, у медведя есть такое свойство: время от времени он впадает в спячку. И лес остаётся без хозяина. А теперь вот смотри: сколько лет мы спали под татарским игом? Потом проснулись. Где те татары? Не знаю.
– А кто они?
– Волки. Мусульмане все волки. Понимают иерархию, закон стаи. Ну вот. А теперь мы опять спим.
– И опять под игом?
– Конечно. Только теперь это иго пострашнее татарского.
– Почему?
– А потому что оно тайное. Всё в потёмках, всё под полом. Скрытый враг всегда опаснее явного. Крысы.
Мне становится не по себе. Я знаю, что мой отец ничего и никогда не говорит зря.
– А что ты знаешь о крысах?
И я соображаю, что почти ничего. Ну маленькое такое, злобное млекопитающее. Их всегда уничтожают и нигде не любят.
– А ведь крыса – древнее и самое опасное млекопитающее на Земле, – удивляет меня отец. – На неё даже радиация не действует. Она разносит заразу: тиф, чуму, холеру. Чувства своей территории у неё нет, она может жить хоть на пальме, ей всё равно. В Средние века Европа вымирала от крыс и не знала почему. В Париже оставалось сорок тысяч человек. Конечно, и тогда уже подозревали, что крыса невероятно опасна, недаром её называли «комнатная собачка дьявола», но только в девятнадцатом веке наука доказала, что крыса переносит практически любую заразу. А живёт везде – владеет миром.
Однажды на парижском рынке оставили на ночь тридцать пять туш лошадей. Утром пришли – одни скелеты! Ты мне скажи, какой лев, какой тигр сожрёт столько?
– Никакой. Но крыс всё-таки постоянно уничтожают.
– Что ж тут странного. Паразитов во все времена уничтожали. Нельзя иначе. Они же сожрут и высосут всё. У них же мозгов не хватит остановиться. Крысы – продукт цивилизации, мы сами их развели. В природе их было мало. А теперь склады, подвалы, помойки, свалки – вот теперь они практически и владеют миром…
– Папа, а кто это – крысы?
– Подумай. Время ещё не пришло – открывать все тайны. Но имей в виду: пока медведь спит – крыса может объесть ему пятки – он не чует. Мыши и крысы в это время проедают в его богатой шубе длинные дороги…
– Но… но надо же что-то делать! Медведям надо объединяться!
– Где ты видела стадо медведей? – смеётся отец. – И не увидишь. Не бойся. Медведь – зверь умный, опасный, живучий, а главное – непредсказуемый. Это тебе не бизон. Просто он спит пока – так ему положено. А когда медведь проснётся – что ему сделает крыса? Да ничего!
Мы смеёмся оба. Я – с облегчением. Здорово всё-таки, что человек, оказывается, зеркало мира!
– А кто индийцы?
– Мудрые слоны. Самые мудрые в мире. От колониального гнёта сумели освободиться мирным путём. Скинули его просто и дальше пошли.
– А у нас так не получится?
– Нет, – вздыхает отец. – Мы же не слоны.
* * *
Когда мне исполнилось восемнадцать, он подарил мне золотое кольцо. В прозрачном индийском сапфире каким-то удивительным образом был сделан портрет кошки, а вся оправа усыпана крошечными алмазами. Потом я узнала, что это называется «интальо». Он ничего не сказал мне, но я поняла, что это кольцо когда-то носила его мать. И вместе с кольцом он дал мне письмо, которое долго писал перед этим.
На белом конверте были только три слова: «Моей единственной дочери».
Дорогая моя девочка… Спрячь это письмо и храни. Пусть оно поможет тебе, когда некого будет спросить – что же тебе делать?
У меня второй жизни не будет. А ты доживёшь.
Теперь всё глухо, всё оцепенело. Медведь спит. Но наступит день, когда ему придётся вылезать…
Ты спрашивала меня, откуда я знаю то, что не знает никто. Очень многое мне успел рассказать мой отец. Мы ведь из древнего литовского жреческого рода, эти знания пришли к нам по роду, из глубины тысячелетий. А с пятнадцатого века мы – князья Римской империи. Двести последних лет наша младшая несвижская ветвь верой и правдой служила русским Императорам. (Кое-какие подробности найдёшь в энциклопедии Брокгауза и Ефрона.)
Моя знаменитая княжеская фамилия на всю жизнь оказалась для меня проклятием – всю жизнь я скрывал её. Помнишь, ты удивлялась, зачем это я четверть века проработал на Крайнем Севере, где люди и нескольких лет не выдерживают – гибнут? А знаешь, куда садится муха, чтобы остаться в живых? На мухобойку…
Медведь всё ещё спит. Крысы, узколобые, хитрые и жадные, которые сегодня думают, что они владеют миром, древних фамилий боятся. Не только как знамени, вокруг которого могут сгруппироваться опасные для них силы. Они знают, что это головы, в которых мозги оттачивались из поколения в поколение. Такие головы отлично разбираются во всём происходящем и никуда не пойдут слепо.
Я не хочу пугать тебя, но будь внимательна. Умей быть в нужное время в нужном месте. Крыса, когда она загнана в угол, бросается в глаза, не разбирая, кто перед ней.
Я говорил тебе: что делает и что думает князь – касается только его одного. Ты своенравна, смела и любишь свободу. Это хорошо. Но себе князь не принадлежит, запомни это. У тебя одна мать – земля родная – и один отец – народ. Другой дороги у тебя нету. Всю жизнь придётся тебе точить меч и ум. Самой. Не верь всяким системам. Учись думать сама. Тебе нужны знания, а не системы.
Завтра изменились условия – и твоя «система» даст обратные результаты. Всю жизнь добывай знание, применяй его – остальное появится само собой – и здоровье, и материальный успех, и благодарность людей.
Вот тогда ты овладеешь мудростью.
Я очень хочу, чтобы ты была счастлива. Самое большое счастье ты испытаешь, когда сделаешь что-нибудь для других и не потребуешь награды. Я видел за свою жизнь много злых людей – ни один из них не был счастлив. Вражда – путь к самоуничтожению. Мы все, все люди, все народы, нужны друг другу. Но у каждого есть своё место в этом огромном лесу, который называется «наша планета». Не забывай этого. Мы с тобой – это белые медведи, хозяева Арктики. Нас мало на свете, но мы есть всегда. А белый медведь практически не приручается, он под гармошку танцевать не станет. И в спячку не впадает. Ты всегда будешь ясно видеть всё, что делается вокруг. Я не знаю, станешь ты злой или доброй, но ты должна всегда быть справедливой. «Справедливость» – напиши это на своём знамени.
От жизни, от её реальностей никуда не спрячешься. Не раз захочется тебе и разлениться, и пожалеть себя, и побаловать. Себя надо любить, но никогда не позволяй себе расхлябанности. Ни в поведении, ни в морали, ни в духовном отношении. Всю жизнь следи за собой. Помнишь, как я воспитывал тебя, маленькую? А ты обижалась, почему это тебе нельзя то, что можно всем? Ты должна быть всегда подтянутой, точной, верной своему слову. Всю жизнь ты обязана будешь оставаться здоровой и – не удивляйся – красивой. Встала – причешись, вымойся, убери постель и комнату. Уходя, ты должна оставить дом в таком состоянии, будто ты уходишь навсегда. А вдруг ты вернёшься с кем-нибудь? А вдруг – и в самом деле не вернёшься, и сюда войдут чужие люди? Тебе не должно быть стыдно за то, как ты живёшь.
Научись твёрдо и жёстко, даже жестоко отстаивать наши национальные интересы, где бы ты ни находилась. Ищи таких людей, они есть, учись у них. Это все ценности, принципы жизни белых медведей, которые водятся только в очень суровом климате. Я назвал бы это одним словом – воздержанность.
И последнее, что я хотел сказать тебе. Сегодня у тебя всё впереди, и ты можешь выбрать себе любую дорогу, любую профессию. Но кем бы ты ни стала – тебе не удастся забыть, что ты – белый медведь. К чему я это говорю? Теперь страна управляется словом. Приходящим в каждый дом вовремя. Человек включает радио. Ему говорят: «Доброе утро. Сегодня двенадцатое число. Начинаем наши передачи». Включает телевизор. Там то же самое. И человек не бросается к окну – он уверен: всё в порядке, мир не перевернулся.
Запомни – словом…
И если ты выберешь эту дорогу – она будет самая долгая и трудная. Как и положено белому медведю, который один в полярную ночь пешком проходит тысячи километров…
Научись спокойно воспринимать разочарования, научись без сожаления узнавать о потерях – они необходимы. Мир меняется каждую секунду, никогда не страшись перемен.
Потому что мужество делает ничтожными даже удары Судьбы…
Это, пожалуй, главное, что я хотел тебе сказать. Вот так, моя единственная дочка…
Мудрость, справедливость, воздержанность и мужество. Не забудь. И не грусти…
Знаешь, как подкрадывается белый медведь по белым торосам к своей добыче – жирному тюленю? Я однажды видел, правда, в бинокль. Он тихонько себе ползёт, ползёт, ползёт, а правой передней лапой всё время прикрывает при этом единственную точку, которая может его выдать, – свой чёрный блестящий нос!
Счастья тебе! И Удачи…
Целую, твой папа
Часть II
Цветок волшебный
Роман в новеллах
Зубы растут
Когда я впервые её разглядела, глаза у неё были сиреневые, брови чуть нарисованные, а зубов не было совсем.
Медсестра положила мне на руку лёгонькую спелёнатую матрёшку, посмотрела отчуждённым взором и ушла – разбирайся, мол, сама – твой ребёнок!
Матрёшка полежала-полежала, открыла глаза – я ещё подумала, почему это они сиреневые, так ведь не бывает, – и стала на меня смотреть. А я на неё.
Она тогда ещё не понимала ничего. Я, в общем, тоже.
Матрёшка решительно открыла ротик. Я заглянула. Оказалось, зубов там нет. Я наклонилась над ней. Она поймала сосок и сжала его очень больно. И только когда захлебнулась молоком, закашлялась и пискнула – я поняла, что она тоже человек.
Потом глаза у неё поголубели, брови стали совсем нарисованные, а зубки выросли один за другим. Из безымянной спелёнатой матрёшки она превратилась в зеленоглазую Лёльку, мою дочь.
Больше всего её волнует самое начало: откуда берутся люди? Что они рождаются – это уже известно.
– Мама, а вот как рождаются люди?
Надо отвечать. Сначала я осторожно разведываю:
– А что, разве у вас в детском саду дети об этом не говорят?
– Да говорят, конечно, но они ведь и сами-то ничего не знают.
Это меня немного успокаивает, и я начинаю объяснять:
– Вот, видишь, стоят три матрёшки. Самая старшая – Тоня, моя мама. Я, средняя матрёшка, родилась из Тони. А ты, младшая матрёшка, из меня. Поняла?
– Поняла.
Потом походила-походила и спрашивает:
– Мам, а папа – какая матрёшка?
Однажды мы гуляли по старому кладбищу, и Лёлька впервые сообразила, что есть не только начало, но и конец, что люди умирают.
Мы долго бродили среди потонувших в траве могил, она лихо гонялась за кузнечиками, но вдруг её что-то смутило. Она огляделась и показала на тёмный полусгнивший крест:
– Мам, а это что?
– Могилы. Здесь лежат люди, которые умерли.
– Но их надо вынуть! – страстно сказала она.
– Не имеет смысла. Теперь там одни косточки.
«Косточки, косточки…» – она скакала на одной ноге по дорожке, но это не мешало ей думать.
Потом вдруг круто повернулась и кинулась ко мне:
– А ты не умрёшь?
– Все умрут. Сначала Тоня, старшая матрёшка, потом я, а потом и ты…
– Я хочу, чтобы ты пожила много-много. Поживи… восемь лет!
– Это не так уж и много.
– Ну тогда шесть!
Она рассеянно побегала ещё, потом подошла ко мне, прижалась и тихо прошептала:
– Я хочу, чтобы ты жила всегда… – И расплакалась.
Мы сели на чёрный обломок гранита. Что я могла ей сказать? Я чувствовала, что должна её утешить – перед ней впервые раскрылась та бездна, в которую мы все уже не раз заглядывали с тихим страхом. А утешить было нечем.
– Ладно, Лёлька, – сказала я, – ты не плачь, как-нибудь выкрутимся!
Она думала об этом неотступно, несколько дней, и всё просила меня пока не умирать. Очевидно, искала выход.
И вот однажды утром я услышала:
– Мама, я буду художником!
– Почему?
– А художники бессмертны! Нам вчера Софья Александровна сказала.
«Ну что ж, неплохой выход», – подумала я и купила ей краски.
Она рисует часами. Рисует розовых кошек, синих собак, бабушек, клоунов, портрет матери (почему-то с сиреневыми глазами), портрет отца (симпатичный такой парень с рыжей бородой и лиловым ухом).
А зубы, которые совсем недавно выросли, стали выпадать. Выпасть выпали, а расти не растут. У петербургских детей зимой зубы не растут – солнышка мало. У меня тоже так вот не росли. «Где ж у тебя зубки-то? – издевались взрослые. – Да… Теперь ты старушка, беззубая…»
С тех пор в мире не изменилось ничего. Даже самые умные из взрослых не удерживаются и задают моей дочери всё тот же идиотский вопрос: «Где ж у тебя зубки-то?»
К нам в гости часто приходит один мой знакомый художник. Он высок, надменен и очень красив. Он говорит Лёльке: «Олечка, вы…», а когда прощается, то целует руку не только мне, но и ей. Каждый раз дочь, потрясённая таким обращением, смотрит на меня – учится, как в таком случае быть. Я-то знаю, что, кроме разговоров о Ренуаре и старых мастерах, художник любит смотреть хоккей по телевизору, и поэтому мне, конечно, проще. Но Лёлька каждый раз к его приходу требует из шкафа розовое кружевное платье.
Она приносит ему свои рисунки молча. Он берет листы, откидывается в кресле, ноги выдвигая на середину комнаты, и задумчиво бормочет:
– Ну что ж, недурно, недурно… Правда, чувствуется влияние Эрмитажа… Гм… золотое сечение. Но в общем можете, Оленька, можете…
Лёлька стоит перед ним как натянутая струна, какое-то между ними устанавливается молчаливое взаимопонимание, и я тихонько выхожу из комнаты.
Однажды так вот вышла, а вернувшись через несколько минут, застала странную картину: Лёлька, скрученная в три погибели (мне даже сначала показалось – связанная), была притиснута к дивану рядом с художником. Одной рукой он с трудом удерживал её в таком положении. Другая рука тоже была занята – в ней был журнал вверх ногами. Невозмутимо и рассеянно он в этот журнал поглядывал.
– Господи, что у вас произошло? – ахнула я.
Оба молчали. Художник всё ещё пытался придать себе безразличный вид. Журнал в его руке вздрагивал.
На запястье виднелись синие следы от зубов. Кровь яркими каплями выступала прямо на глазах.
– Она меня укусила, и мне пришлось её обездвижить, – наконец холодно произнёс он.
– Ольга! Что с тобой? Гостя? Кусать?
Лёлька молча мерцала потемневшими глазами. Такой взгляд я видела у неё впервые. Вдруг она извернулась, распрямилась как пружина и выпалила:
– А чего он сказал, что у меня зубов нету? «Где ж у вас, Олечка, зубки-то?» – передразнила она его. Слёзы уже кипели у неё в горле. – А вот теперь он знает, где у меня зубы! – Тут выдержка оставила её, она кинулась ко мне на шею и горько разревелась.
Я вытерла ей слёзы и увела её спать. Натягивая пижаму, она всё ещё всхлипывала.
– Ну ладно, ладно, – говорила я, – хватит реветь. Не такой уж он мерзавец, чтобы его кусать. Вот ты бы, например, вышла за такого замуж?
– Вышла бы, – сказала она печально. – А где я такого возьму, когда вырасту?
– Ну, например, у него будет сын. Такой же высокий, сильный… Ну, в общем, совсем такой же…
– Так пусть он сначала женится, – ехидно сказала дочь. – Он же сам себе сына не родит, ему ведь жена должна родить! – блеснула она эрудицией.
Наутро я, моя свекровь и Лёлька обсуждали события вчерашнего вечера.
– В моё время детей воспитывали иначе, – гордо сказала бабушка Валя. – У нас на Пасху гостей бывало человек по сто. Целые копчёные окорока на столы ставили, и гости всё съедали. И ни один не уходил укушенный.
– Да, дорогая, напрасно ты его укусила, – рассеянно улыбнулась я, расчёсывая волосы перед зеркалом. – Такой мужчина тебе ещё не по зубам.
– Но они же у меня вырастут, мамочка! Ты же сама говорила: «Солнышко пригреет – зубки и вырастут!»
– Кто его знает… – задумывается бабушка и тут же спохватывается: – Конечно, если ты каждое утро будешь есть сырую морковку, то уж… тогда уж без сомнения вырастут!
И вдруг загадочно улыбается нам, сверкая ослепительными новыми зубами.
Подарочек
Этот рассказ я начну так: к сожалению, мой муж не любит дарить подарки. Вернее – не умеет. Чужие мужья умеют, а мой – нет.
– Ну, ясно, – небрежно сказал муж, – все женщины-писательницы обязательно пишут про своих мужей. Наверно, поэтому они так однообразны. Вот если бы они писали про своих разных хороших знакомых… Вот тогда читателям было бы интересно!
Но я всё равно начну так: увы, мой муж не умеет и не любит дарить подарки.
Сначала я обижалась. Потом это прошло. Даже если подарить ему сразу плавки и роскошное пляжное полотенце, он всё равно не обрадуется, ни о чём не догадается, и нужно брать его за руку, вести в магазин и между прочим так сообщать: «Знаешь, мне так хочется эту (совершенно ненужную мне) элегантную брошку, и не потом, а сейчас!» Он удивится и скажет: «Ну хорошо. Ну давай купим, всё равно деньги-то все у тебя!» И тогда нужно дать ему денег, а потом поцеловать прямо перед продавщицей и обрадованно прощебетать: «Спасибо, мой дорогой! Какой ты щедрый!» – только тогда он догадается, что подарил мне брошку. А научить его дарить так, как это умеют делать другие, мне не удастся уже никогда…
Правильное воспитание человек должен получать в детстве. В начале жизни нужно понять: хочешь получить что-то от мира – так сначала дай ему что-нибудь… Ведь мир – это зеркало. Улыбнись ему – и он улыбнётся тебе в ответ, а скроишь кислую физиономию…
Поэтому я и сказала однажды своей маленькой дочке:
– Хочешь, я научу тебя дарить подарки?
– Хочу. А как?
– А очень просто. Вот смотри: я дарю тебе эту вот целую шоколадину!
Лёлька была ещё так мала, что жадности своей скрыть не сумела. Она протянула ручки и быстро сказала:
– Дай!
– Да нет, не так… Ты мне скажи: «Спасибо!»
– Спасибо. Дай!
– На. Это я подарила тебе подарочек. Поняла?
Понять-то она поняла. Но желания дарить самой не появилось у неё и через три шоколадины. Не прорезалось даже после того, как я привезла ей из Москвы шагающую куклу с неё ростом.
* * *
Время шло. А что делать – я не знала.
Осенью мы с Лёлечкой уехали в Одессу. Ловить ускользающее лето.
Я сидела на веранде. Виноградные листья нежно светились на солнце. На песчаную дорожку передо мной сами падали грецкие орехи. А петербургская тоска, унылость и дожди были так далеко…
Посередине дорожки лежала краюшка хлеба, над которой хозяйский Тобик трудился всё утро, а потом всё-таки бросил. Видимо, решил поберечь зубы.
Лёлечка задумчиво вышла из виноградника. Боже, как она была хороша! Маленькая, пузатенькая, в белом сарафанчике, вся перемазанная виноградным соком.
Она увидела хлеб и остановилась. Подняла, бережно почистила о свой сарафанчик и, ни в чём не сомневаясь, потянула ко рту. Как вдруг новая, захватывающая мысль засветилась в её глазах. Она прижала краюшку к груди и побежала прямо ко мне на веранду:
– Мама, мамочка! На! Это же тебе подарочек!
Я осторожно взяла в руки этот первый результат моего правильного воспитания. Машинально сказала: «Спасибо». Из конуры меня с интересом разглядывал хозяйский Тобик.
– Ешь, мамочка, ешь! Это же тебе подарочек! – и, счастливая, бросилась меня обнимать.
А уж на пляже дочь развернулась… Она несла мне все ракушки, камушки и окурки, которые ей удавалось раздобыть в песке. Когда она, пыхтя, выкопала своим зелёным совочком пробку от шампанского, счастью не было предела. Общему. Потому что в своё ликование ей удалось втянуть всех, кто лежал рядом. Ей тоже старались что-нибудь подарить. Она тащила мне пуговицы, розовых варёных креветок и подтаявшие шоколадные конфеты.
Я складывала всё в большую пляжную сумку и благодарила, благодарила, благодарила. А Лёлечку было уже не остановить. И откуда у маленького ребёнка столько сил? Ведь жара-то – с боку на бок повернуться лень.
Мы выкупались в бирюзовых морских волнах. Стало легче. Дочь опять куда-то скрылась. А когда снова появилась передо мной – из кулачка у неё свисало что-то сверкающее, какой-то непонятный мокрый блестящий хвостик…
– Что это?
– Подарочек, – беззаботно сказала она, сунула мне это что-то в руку и унеслась за новой добычей.
На ладони у меня лежали золотые часики на золотом браслете. Вымазанные мокрым песком.
Я ахнула.
– Вернись! Где ты их взяла?
– Там… – неопределённо махнула она рукой в сторону моря.
На пляже никто никаких часов не терял. Целая делегация потрясённых свидетелей отправилась в милицию. В милиции оказалось только одно заявление отдыхающей из Воркуты о том, что у неё на нашем пляже украли золотые часы. Полгода тому назад.
С гражданкой созвонились. Приметы часов не совпадали совершенно. У гражданки даже никакого браслета не было, только ремешок.
– Ну что ж, – пожал плечами начальник отделения милиции, – что тут скажешь – дары моря! У нас в Одессе это бывает…
Подарочек достался мне.
И вот я снова сижу на той же веранде с золотыми отремонтированными часиками на руке. Которые очень идут к моей загорелой коже. И смотрю на закат сквозь виноградные листья.
Ну а что я теперь скажу своему мужу?
Муж-то, может, ещё и поверит, но вот уж свекровь – никогда. Отпустил жену с ребёнком на юг, молодец!
Я вздохнула и поймала откровенно-иронический взгляд Тобика. Он сидел в своей конуре, как Диоген в бочке. Тоже мне, философ!
– Глупая ты собака! Ну что ты понимаешь в воспитании?
Велосипедная история
Мы купили Лёльке первый приличный детский двухколёсный велосипед за год до того, как она смогла на него взобраться. Зимой он пылился в комнате свекрови, а весной все увидели, что ребёнок вырос и уже может.
Но ребёнок хоть и вырос, на самом деле ничего не мог, потому что, как тонко заметила бабушка Валя, два колеса – это вам не три.
Всё самое захватывающее – как именно папа на даче научил её кататься – я пропустила. Я работала. И получила ребёнка, уже «владеющего машиной». В белом платьице, в белых носочках она скромно стояла возле голубого велосипеда и ждала.
Я выкатила из сарая свой, повидавший многое, и мы молча вышли на дорогу. Дорога была асфальтированная и длинная.
Дочь обогнала меня через пятнадцать метров. Шикарно виляя задним колесом, она стремительно понеслась вперёд, не оглядываясь, а когда велосипед въезжал в лужу, поднимала колени к ушам, как кузнечик.
Я поднажала. Она быстро завертела ногами и опять оказалась впереди. М-да…
Километра через два мне стало жарко. Видимо, от того, что в этом году я села на велосипед впервые.
Справа от нашей дороги сочно зазеленел старинный Павловский парк. Очень он мне понравился в эту минуту. Мы свернули на просёлочную дорогу и поехали рядом. Когда едешь рядом – удобно петь.
– Солнце на спицах – синева над головой! – начала Лёля.
– Ветер нам в лица – обгоняет шар земной! – ответила я.
Мы лихо пели, а тонкие сосны и толстые липы подъезжали нам навстречу, неудержимо вырастали на наших глазах.
– Сядешь – и просто нажимаешь на педаль! – грянули мы и с этими словами внеслись в самую заброшенную часть парка.
Гуляющие поспешно заскакали по газонам в разные стороны. Что-то они, по-моему, кричали нам вслед…
И ахнуть мы не успели, как перед нами открылся спуск в глубокий овраг. Тормозить было поздно. Далеко впереди, посредине крутого и довольно кривого склона, торчал вкопанный в землю столбик для автомобилей, чтобы они сюда не сворачивали.
– Ай! – только и успела крикнуть я, как ветер завыл у меня в ушах. «Держись!» я крикнуть даже не успела.
Взлетев на другую сторону оврага, мой велосипед остановился, дрожа, как неукротимый мустанг. За спиной слышался вопль родного ребёнка.
Я обернулась, не слезая. Раскинув руки и закрыв глаза, родной ребёнок в белом платьице валялся внизу на дороге. Голубой велосипедик тихо лежал рядом, остаточно вращая задним колесом. Руль у него был свернут набок. Столбик для автомашин остался на своём месте.
– А-а-а! – вопил ребёнок.
Мне даже страшно было к ней подходить. Бросив своего мустанга, я побежала вниз.
– A-a-a…
He сразу стало ясно, что ребёнок вопит от страха, а не встаёт принципиально.
– О-о-о! Зачем ты повезла меня по просёлочной дороге? А-а-а! Папа катал меня только по ровной дорожке! Я никогда больше не поеду по такой дороге! Я буду ездить только по ровной дорожке! А-а-а… О-о-о!
– Встань! – приказала я.
Но она даже не села.
– Встань, возьми велосипед и спустись ещё раз!
Она так удивилась, что даже замолчала. Я и сама удивилась.
Всё-таки через десять минут Лёлька себя превозмогла. Мы завернули велосипедику руль на место, и я, стоя на обрыве и собрав всё своё мужество, пустила её вниз навстречу автомобильному столбику.
Когда она победно въехала на противоположный склон, кое-как разминувшись со столбиком, это был другой ребёнок. Как будто в ней загорелась лампочка: глаза блистали, а щеки светились изнутри розовым светом.
– Я упала, – рассказывала она потом всем подряд, – а когда встала, то плюнула так (тьфу!), залезла обратно и съехала ещё раз! Сама съехала! По просёлочной дороге… Мама, отпусти меня в парк одну!
Я опять собрала теперь уже последнее мужество и через несколько дней отпустила. Моя мама перестала со мной разговаривать.
Вернулась Лёля тихая, затаённая. Минут двадцать она хранила в себе что-то необыкновенное. Потом позвала меня за сарай и повисла у меня на шее, замирая от счастья. Видно было, что в её жизни произошло потрясающее событие.
– Я видела белочек… Они на ёлке. Они знаешь как бегают? Кругами, по ёлке, друг за дружкой! И пальцами так шуршат…
Потом отпустила меня, тряхнула волосами лихо и гордо, совсем как моя мама в молодости, и засмеялась:
– Знаешь, мне прямо всем встречным хотелось хвастаться, что я уже сама еду! Одна!
Почему луна идёт за мной
– Мама, почему луна идёт за мной, когда я иду?
Вечер. У меня сидит человек, который пришёл по делу, и мне некогда отвечать на бесконечные Лёлькины вопросы.
– Извини, дорогая, – говорю я. – Сейчас мне просто некогда. Пойди помой руки, скоро будем пить чай.
Лёлька уходит безропотно, вежливость её всегда обезоруживает.
– Бабушка, – слышим мы через пять минут из комнаты свекрови, – а почему луна идёт за мной, когда я иду?
– Это обман зрения, деточка.
– Нет, бабушка, это не обман. Я оглянусь – а она уже тут. Я опять оглянусь – а она уже вон тут. Она сама идёт за мной!
– С ума сойти! – поражается бабушка. – Я барышней была – и то об этом не задумывалась. Мне такие вопросы даже сейчас в голову не приходят… Тебе же только пять лет! Нет, в моё время дети о таких вещах не спрашивали.
Проходит полчаса. Дверь тихо приоткрывается, и Лёлька опять осторожно входит к нам. На её халатике сверкает моя самая блестящая брошка.
Человек, который пришёл по делу, всё ещё сидит, и уходить ему не хочется. Мне тоже не очень хочется, чтобы он уходил.
– Ах, какая у тебя брошка! – крайне восторженно замечает он. Лёлька честно верит в этот восторг и, засияв, влезает ему на колени.
– Правда похоже на люстру? Люстры – это в театре такие бывают, красивые-красивые, – объясняет дочь.
– А ты руки мыла? – спрашиваю я.
– Мыла, – врёт она мне прямо в глаза и, почувствовав, что нельзя упускать ни минуты, выпаливает в лицо моему собеседнику: – А почему луна идёт за мной, когда я иду?
– Луна?.. – он тихонько гладит Лёльку по волосам. – Луна – это волчье солнышко, у неё свои законы. Вот когда вырастешь и будешь такая же высокая и красивая, как мама, поедешь ты на поезде куда-нибудь в тёплые страны, – говорит он печально и смотрит на меня. – И луна поедет за тобой. Так и побежит за поездом. И никакие тучи её не проглотят. Ты будешь ехать, а она будет всё смотреть на тебя и смотреть…
Лёлька становится очень серьёзной, задумывается, тихо сползает с его колен и молча сама уходит.
– Папа, – слышим мы через минуту, – а почему луна идёт за мной, когда я иду?
Папа, который целый вечер всё что-то приколачивает, а у него это что-то всё время падает, говорит с Лёлькой долго и подробно, только нам ничего не слышно. Наконец, она врывается, торжествующая, и заявляет:
– А папа объяснил мне, почему луна идёт за мной! Он снял с ёлки шарики и всё объяснил.
– Ну и почему же она идёт за тобой?
– Он мне объяснил… но только я не знаю… – вздыхает Лёлька и смотрит на меня ошеломленно.
* * *
А ведь в самом деле: идёшь – и луна идёт за тобой… Сама! Почему?
Самая первая любовь
Печёнкин сидел на первой парте и, как говорили наши учителя, «вертел головой назад». Потому что сзади сидела я.
Когда я была на первой парте, то головой назад вертела я. Поэтому меня отсадили к Лариске Ксендзовой, отличнице. Я-то тоже была отличницей, но ещё я была выскочкой, а Ксендзова – тихая, она должна была на меня влиять.
– А у меня косы длиннее твоих! – сказала она сразу.
– А у меня зато толще!
– А зато ты не знаешь, что такое ямб и хорей!
Мы помолчали. Я не знала, что такое ямб и хорей.
Мне узнать было не у кого. И мне стало нестерпимо стыдно.
– Невежда несчастная, несчастная ты тупица! – с наслаждением прошипела Лариска и перестала меня замечать. Она здорово это умела – не замечать.
А Печёнкин всё равно вертел головой назад.
На русском ему сделали замечание. Он встал, а когда садился, то как-то опять растерянно оглянулся на меня. Класс заинтересованно захихикал, а Лариска тихо, но внятно сказала: «Раз!»
Сёмка Водотынский, который сидел впереди, написал записку: «Печёнкин, не верти головой, а то Ксендзова считает!» Но пока там передавали, записка попала на учительский стол и до Печенкина не дошла.
А на перемене Широчкин, столкнувшись со мной, сказал:
– Гы-ы! – И подтянул штаны локтями.
– Дурак ты, и больше ты никто! – небрежно бросила я.
– Ага, дурак, – согласился он, – а почему ты покраснела?
– А ты штаны подтяни, двоечник несчастный!
– Я вот дам тебе сейчас по вывеске! – нервно сказал Широчкин.
– Дай. Свою будешь в кармане носить, – ответила я.
Папа говорил, что человек должен всегда держать себя в руках, и вообще надо иметь мужество. Тогда все тебя будут бояться. Широчкин меня боялся.
И так было изо дня в день.
Я просто не могла не смотреть на Печёнкина. Но только когда он не видел. Но стоило ему взглянуть на меня, как я сразу же почему-то делала вид, что вообще тут не при чём.
Я уже наизусть знала, как он поднимает руку, аккуратно ставя локоть на парту (я-то всегда руку тянула так, что учителям казалось, будто я вылезу сейчас из своего передника). Наизусть знала, как у доски он сначала отыскивает взглядом меня, а уж потом слушает вопрос, который ему надо повторять. Разговаривать с ним мы совсем не могли, только краснели, то вместе, то по очереди. А Ксендзова, когда ей уже нечем было крыть, презрительно кривила красивые губы и бросала мне в лицо: «А тебя зато Печёнкин любит!» И я замолкала под тяжестью какой-то непонятной вины.
В июне пришла весна. На Колыме весна всегда приходит в июне, а снег выпадает к первому сентября. Школа кончилась, и мы занимались чем попало.
Я ловила рыбу, потому что это мне запрещали родители, и дралась с мальчишками с нашего рудника, потому что они меня дразнили «длинноногая».
Они знали, что я могу вынести всё, но этого оскорбления не прощу. Собирались по несколько человек, подкарауливали меня и кричали: «Длинноногая идёт!» А когда я бросалась на них – били меня. Но я всё равно каждый раз бросалась и приходила домой в синяках. И тогда папа говорил, что вот люди, некоторые, на ошибках учатся, а некоторые – нет.
Печёнкин ходил за мной часто, но издали, смотрел только, и всё.
А рыбу мне запретили ловить потому, что берег Колымы с нашей стороны обваливался. Река его подмывала, и он бухался в воду. А напротив берег намывался, и река поэтому не только текла в длину, но и понемножку двигалась вбок. Когда в воду обвалился клуб, папа взял с меня честное слово, что на берег я не пойду.
Я, конечно, была честным человеком и два дня не ходила, а потом как-то забыла про честное слово и пошла… У меня в затоне под корягой стоял самодельный перемёт с двумя крючками, и, может быть, на крючке уже болтался таймень, кто его знает, надо же было проверить!
А таймень и правда попался, только маленький. Я даже сначала подумала, что он головастик, а потом сообразила, что у нас вечная мерзлота, лягушки-то не водятся.
Прозрачная и холодная река билась и шумела впереди на перекате, а внизу в затоне вода крутилась чёрная и глубокая. Я сидела на берегу и смотрела на своего тайменя, когда кто-то заорал прямо у меня над ухом: «Длинноногая!»
Я оглянулась и увидела, что земля за мной расползается, как старая материя, и быстро-быстро змеится трещина, и всё расширяется, расширяется, расширяется…
– Да прыгай же ты! – крикнул кто-то, но прыгать было уже поздно. Земля под ногами оседала всё ниже, берег вырастал вверх и уже слышался тяжёлый подземный гул…
Я только успела вцепиться в чьи-то пальцы, как земля сама ушла у меня из-под ног и ухнула в воду.
Всё это было совсем неожиданно и поэтому не очень страшно. Я даже не успела вспомнить, что плавать-то я не умею. И только когда оказалась наверху, почувствовала вдруг, что ноги у меня ничего не соображают, и обняла какую-то лиственницу. И близко-близко увидела Печёнкина…
– Господи… – прошептал он совсем бледными губами.
Внизу текла мрачная Колыма, где-то рядом опять ухнул в воду подмытый кусок берега. Я чувствовала щекой кору лиственницы, мягкие её иголочки и не могла произнести ни слова.
– Г-ы-ы… – вдруг сказал кто-то. – Стоите, да?
Широчкин. Он подтянул штаны локтями и снова растянул свой красный широкий рот:
– Надо же… Стоят! Гы-ы-ы! – и залился, чувствуя свою безнаказанность. Ему было весело, и он был прав.
Мы с Печёнкиным наклонили головы, повернулись и медленно разошлись в разные стороны.
* * *
Я давно уже знаю, что такое ямб и хорей. И давно не дерусь с мальчишками. Но если я когда-нибудь встречу Широчкина!..
А недавно на трамвайной остановке, в Петербурге… Я стояла и куталась в плащ, а воротник был какой-то маленький, и, конечно, с Невы дул ветер…
– Длинноногая, это же ты! – вдруг сказал кто-то. И первый протянул мне руку, улыбаясь неудержимо.
Широчкин. Загорелый, господи, какой высокий…
– Широчкин… Ты с ума сошёл! – почему-то сказала я. – Ты откуда взялся?
– Из Средней Азии, – ответил он просто.
В тот вечер я не уехала на Петроградскую на своём трамвае. Мы бродили по Невскому. Выяснилось, что я никогда не знала его имени. Теперь спрашивать было неудобно.
В кафе-мороженое мы не попали, поздно. В ресторан я не захотела. И мы уехали на трамвае в Стрельну, в парк.
– Вот, этому парку двести лет, – рассказывала я.
– Ага, а почему ты блондинка?
– А кем ты работаешь? – спросила я вместо ответа.
Он мне не сказал, а когда я стала настаивать, рассердился:
– Ну что ты, маленькая, что ли?
«Наверно это как-то связано с войной», – подумала я.
Толстые одинаковые липы важно стояли по сторонам. Мы остановились, потому что дальше было море. Залив. Розовый, светлее неба.
– Белая ночь, надо же… – сказал он и положил мне руку на плечо.
– А у тебя есть дети? – спросила я.
– Нет, я не женат. А у тебя?
– У меня есть всё, что полагается иметь в моем возрасте, – ответила я, как мне показалось, уклончиво.
Он молчал. Смотрел вдаль, на море.
– А ты помнишь, как мы с тобой дрались? – наконец повернулся он ко мне.
– Не помню… – притихла я. Действительно, я этого не помню.
– А помнишь, тебя ещё звали Лисичка-сестричка?
– Нет.
– Эх, ты. Всё забыла. А что Печёнкин был в тебя влюблён, тоже не помнишь?
Я почувствовала, что надо сказать: «Забыла».
– Какой Печёнкин?
Он посмотрел на меня недоверчиво, но ему очень хотелось в это поверить, и поэтому он поверил.
– Ну ладно, это я понимаю… но… но как я-то по тебе с ума сходил, тоже забыла?
Забыла! Да я и не знала…
До города мы добирались на последнем трамвае. Вагон был совсем пустой. Вагоновожатая смотрела, по-моему, больше на нас, чем на дорогу. Я пряталась в сирень, которую он наломал мне в парке, а ему спрятаться было некуда.
Трамвай несся в молоке белой ночи как будто в безвоздушном пространстве. В зеркальце нас нагло разглядывала, поджав губы, эта вагоновожатая, но мы не разошлись в разные стороны. Мы улыбнулись ей взрослой улыбкой и вышли из вагона вместе.
Вешалка оборвана
У меня оборвалась вешалка. Обыкновенная. От старого пальто.
– У вас вешалка оборвана! – как-то радостно сообщила мне утром тётя Фиса, наша гардеробщица. Я ей не нравилась. – Прогуляла, наверно, вечером, не пришила…
Чего-то я пробормотала, мне было стыдно. Ну как же ведь, женщина, а вешалка оборвана. Конечно, стыдно.
– Вешалка у вас оборвалась! – крикнул мне мрачный гардеробщик в столовой, роняя на пол моё пальто.
Я уже знала, что она оборвалась.
Когда я после обеда подала ему номерок, он швырнул на барьер моё несчастное пальто, а потом высокомерно отвернулся.
– Мадам, у вас оборвана вешалочка, – деликатно улыбнулся мне гардеробщик в парикмахерской и развёл руками. Он снимал с себя ответственность.
Я не взглянула на него.
В троллейбусе мне хотелось толкаться, но было пусто.
А дома муж, помогая мне раздеться, удивился:
– Лапочка, ты знаешь… но у тебя…
– Что? Вешалка оборвана? – невинно спросила я. – Да?
– У тебя… у тебя сегодня прелестная причёска, – сказал он, ловко зацепляя пальто за воротник, и вздохнул.
В тот вечер я не пришила вешалку. Я забыла.
Утром всё началось сначала. Изощрялась тётя Фиса, просто презирал меня мрачный гардеробщик в столовой. В парикмахерскую я не ходила, но зато в поликлинике мне сообщили как новость, что вешалка у меня оборвана.
Оттуда я пошла в Эрмитаж. С несчастным лицом я подала гардеробщице своё пальто и стала ждать. Она повесила его молча, а потом дала мне мой номерок.
Я шла по гулким залам дворца и думала о гардеробщице. Почему она мне ничего не сказала? Я думала о ней, стоя у Ван Гога, думала, сжимая номерок в руке, у Венеры Таврической и только у какого-то Аполлона, кажется, о ней забыла.
Потом спустилась вниз и подала номерок. Гардеробщица мне улыбнулась и подала пальто. Я так удивилась, что никак не могла попасть в рукава.
Вышла на набережную Невы. Конечно, лил дождь. Я шла по Дворцовому мосту и всё думала: «Почему она мне ничего не сказала?»
А дома муж, снимая с меня пальто, изумился:
– Ой, ты что, вешалку пришила?!
Господи, как мне теперь найти эту гардеробщицу? Я ведь даже лица её не запомнила…
Дорогая моя, любимая Олечка
Ремонт мы делали с моей задушевной подругой и с мужем, которого я, как оказалось, люблю всё равно, несмотря ни на что.
Все двери мы выкрасили в белый цвет, ванну в голубой, а прихожую сделали розовой. Задача была такая: за два выходных дня превратить нашу неуютную запущенную квартиру, которая свидетельствовала, что жизнь не удалась, в жилище счастливых людей.
Моя подруга Женька считала, что оставаться красивой обязана только я, потому что на меня смотрит любимый человек. Поэтому она бестрепетно натянула на себя старый тренировочный костюм, а голову повязала наволочкой.
Мужу моему она велела забивать гвозди и чинить вентилятор, так как мужчины должны делать только мужскую работу, и нельзя, пользуясь равноправием, заставлять их мыть пол и стирать занавески. А то в один прекрасный день рискуешь обнаружить, что он у тебя и на мужчину не похож.
Таким образом, муж чинил на кухне вентилятор, я, оставаясь красивой, тут же варила борщ и жарила котлеты, а ремонт делала Женька. Её энтузиазма одинокой современной женщины хватало на троих. Если бы она не отвезла к себе на дачу мою свекровь, вся эта затея вообще была бы немыслима. Мы ещё успевали, пока она не видела, целоваться, прилипая к свежепокрашенным дверям.
Понятно, что тут было не до Лёльки, и хотя она рвалась нам помогать, мы на эти два дня закинули её к моей маме.
Гром среди ясного неба раздался, как всегда, некстати.
Я в большой комнате держала картину, которую очень долго прибивал муж (потому что нас никто не видел), как вдруг Женька вылетела из другой комнаты так внезапно, что картина обрушилась…
Но она не обратила на это никакого внимания.
– На-ка почитай! – она протянула мне тщательно сложенный обрывок тетрадного листа. – Почитай…
«Дорогая моя, любимая Олечка! Приходи сегодня к школе в 18.00. Пламенно жду! Л. И.»
А внизу лиловая свёкла, пронзённая стрелой. И сегодняшнее число…
Ну вот. Всё. Оказывается, наш ребёнок вырос. Занятая работой и своими личными проблемами сверх меры, я всё проглядела. «Любимая Олечка…» Так может писать только человек, который уже объяснился. «Моя любимая Олечка…» Что же делать? Такой искренний, такой понятный мне, всегда родной ребёнок вдруг превратился в загадочного сфинкса… Как? Когда? Господи…
Недавно мы с ней гуляли вечером перед сном, и она сказала грустно:
– Вот… У тебя есть всё-таки муж. А у меня-то и нет никого…
Я удивилась: как «никого»? А мы? А бабушка Тоня, моя мама? Есть, наконец, подруга Ирочка! Ну, в крайнем случае, бабушка Валя… Хорошо бы, конечно, дружить и с мальчиком каким-нибудь, но…
Она посмотрела на меня тогда с такой пугающей, такой взрослой иронией… И ничего больше не сказала.
– Ребята, что же делать?
Муж был занят. Он держал картину, которая стояла на полу. Женька села на корточки и принялась энергично и сосредоточенно красить плинтус.
– Но… Но получается, что она теперь от меня всё скрывает!
Старый серый плинтус под Женькиной кисточкой становился празднично-лакированным, коричневым.
«Пламенно жду!» В отчаянии я взглянула на мужа. Он подошёл ко мне, перечитал записку и улыбнулся. Обнял меня за плечи и, не стесняясь Женьки, бережно поцеловал. Потом нагнулся к ней, осторожно вынул у неё из рук кисточку и опустил в банку с краской.
– Давайте, девочки, давайте… Отмывайтесь, переодевайтесь и бегом к школе, – сказал муж почти спокойным голосом. – А то уже пятнадцать минут осталось.
Всё-таки иногда он, оказывается, знает, что мне надо делать!
* * *
У школы в восемнадцать ноль-ноль не было никого. Ни Лёльки, ни этого Л. И. Мы осторожно выглядывали из-за угла, обходили школу сзади, выглядывали из-за другого угла… Независимо, под руку прогуливались перед фасадом, благоухая растворителем, которым Женька отмывалась, пополам с дорогими духами, которые мы вылили на неё сверху. Вокруг было тихо, пустынно, и только в подвале мяукала какая-то кошка.
* * *
К понедельнику наша квартира изменилась так, что, войдя в неё, хотелось улыбаться и, может быть, петь.
Вернувшись с работы, я зажгла свет в прихожей и увидела на полу целое стадо разнообразных кроссовок и башмаков. Посчитала – четырнадцать.
Из глубины квартиры слышались хохот, ломкие мальчишечьи голоса, девчоночий писк. И голос дочери, объясняющий, гордый. Похоже, она организовала экскурсию по нашей квартире для половины своего класса. Раньше, кроме Ирочки, у нас никто не бывал.
Но который же из них этот Л. И.? Я прислушалась.
– Зараза!
– Ну куда ты лезешь, пусти!
И наконец, Лёлькин голос с незнакомыми мне усмиряющими интонациями. (Впрочем, нет, знакомыми. У меня у самой такие интонации.)
– Ну хватит, сосиски глупые. Вы же сейчас прилипнете! Там же всё покрашено… Это что – погодите, скоро у нас ещё и Вельвет будет!
Два года обещала я ей сшить Вельвета. Диванную подушку из лоскутков в виде пухлого, строгого и очень смешного гномика. Видели мы с ней однажды такого у знакомых, в гостях. Её поразило, что этот вельветовый человечек в колпачке набекрень, оказывается, нужен для того, чтобы охранять дом.
От моего присутствия Лёлиным гостям сразу стало неуютно. Скромно поздоровавшись и опустив глаза, они босиком, по одному просочились в прихожую, поодевали свои обувки и исчезли. Я не успела их даже толком разглядеть. А уж установить, кто из них этот Л. И., и вовсе не удалось.
– Ну как? Понравилось им? – спросила я дочь.
– Мамочка! Ну конечно!
* * *
Но открывать свою душу и рассказывать мне про этого Л. И. она, похоже, и не собиралась.
Я терзалась, но вела себя педагогично. А потом однажды не выдержала и поступила так, как поступала со мною моя мама, а с ней, может быть, моя бабушка.
Я просто возмутилась, что Лёлька мне не доверяет.
– Что ты, я тебе доверяю! – удивилась она.
– Но у меня есть основания думать иначе! – обиделась я.
– Какие основания?
И тогда пришлось признаваться, что мы прочли записку, которую во время ремонта Женька нашла под Лёлькиной кроватью.
– У меня полные карманы таких записок, – спокойно ответила дочь.
– А почему же ты не пришла к школе в восемнадцать ноль-ноль? – спросила я, уже выдавая все свои карты.
– Что я, дура что ли?
Пожалуй, не дура. Но кто же из мальчишек писал ей «Дорогая моя, любимая Олечка»?
– Что ты, мамочка, наши мальчишки разве могут так написать? От них только и дождёшься «Я вот сейчас тебе ка-а-а-к врежу!».
Мне стало совсем страшно. Если это не мальчишки, то кто же?
– Даша Королёва. Она меня с первого класса ненавидит. С тех пор, как Блин сказал, что я на русалку похожа. В этом году он, правда, сказал, что больше на селёдку, но она всё равно ненавидит. И на каждом уроке пишет мне эти записки и подбрасывает. Думает, я не знаю. Это чтобы я волновалась и оглядывалась: кто же это в меня так влюбился?
* * *
Муж, узнав всё, хохотал долго. А потом вдруг сказал:
– Слушай, давай мы ей к дню рождения подарим хороший кожаный портфель, а? (Наверное, сам о таком мечтает. Он всегда старается дарить другим то, о чём мечтает сам.) Лёлька в последнее время ходила в школу с яркой тряпочной сумкой-диснейкой, портфель у неё давно разорвался.
– А ты знаешь, зачем ей портфель?
– Книжки носить.
– Нет. Лупить мальчишек по головам. Так вот, кожаный портфель, как я недавно у неё выяснила, оружие слишком гуманное. А в сумку в эту положишь, допустим, пенал. Деревянный… Понимаешь?
Он понял сразу.
День рождения у них с Лёлькой в один день, и я предложила портфель кожаный купить ему. Но оказалось, что ему нужен не портфель.
– А мне, может быть, ты сошьёшь этого… как его… Вельвета? – тихо попросил муж. – А? Из лоскутков…
Здравствуй! Как тебя зовут?
Тёмный петербургский двор, мощённый булыжником. Со всех сторон стены с окнами.
– Мальчик, как тебя зовут?
– Вовочка…
– А меня Аннушка. Давай дружить?
– Давай!
Куда мы удрали тогда с этим Вовочкой – страшно подумать! На остановку…
Не оглядываясь, вышли мы из тёмного двора и потопали через улицу, крепко держась за руки. А вокруг светило солнце, катились машины и разливалось сплошное счастье.
В руках у Вовочки был мячик. Загадочный. Невиданный. Шлёп – красный! Шлёп – синий!
Мячик-то был просто двухцветный. Но тогда осознать это мне было не под силу.
А теперь мир упростился, и я знаю, что бывают двухцветные мячики. Но зато сегодня никак мне не представить – как это я на улице подойду к человеку, который мне понравился, и скажу:
– Здравствуй! Как тебя зовут? Давай дружить!
Мир усложнился.
* * *
Вот как всё это выглядит теперь.
Московский вокзал. Метро. Уже очень поздно. Я еду из дома ночевать к подруге после длинного и никому не нужного скандала, и на душе у меня пусто и отвратительно.
Мне осталось только вздохнуть, шагнуть на эскалатор и – вниз, под землю, с человеческим водопадом.
Но вдруг я спотыкаюсь, если можно так сказать, о взгляд. Человек на меня смотрит. Я не понимаю, о чём он думает. Только вижу, как он весь восхищённо протягивается мне навстречу. Высокий, тонкий. На лбу шрам.
Мне осталось ещё два шага. Шаг.
– Постойте… Вы очень торопитесь?
Надо сказать: «Да, тороплюсь». Высоко поднять голову, ступить на эскалатор и съехать торжественно вниз, но я вдруг честно говорю:
– Нет. А что? – И останавливаюсь.
Так не полагается, и поэтому он не знает, как быть.
Я тоже не знаю. Мы стоим и смотрим друг на друга молча. Как айсберги. А толпа нас обтекает. С каждой секундой он нравится мне всё больше и больше.
– Что вы на меня так смотрите? – теряется он.
– Ладно, не буду, – говорю я, но не отворачиваюсь.
Наконец, он придумал, что сказать:
– Вы не могли бы мне помочь?
Господи, меня хлебом не корми – дай кому-нибудь помочь!
– Понимаете… Я ничего не буду вам объяснять. Надо позвонить одному человеку, а потом… поехать в одно место. Это можно?
(Всё я понимаю. Ты это придумал потому, что не знаешь, как меня задержать. Ведь не можешь ты мне сказать: «Я совсем один, мне так тошно… Пойдём со мной!» А я не могу доверчивым движением взять тебя за руку и пойти. Так не полагается. И поэтому ты бездарно врёшь про «одного человека в одном месте».)
– Ну, если это так необходимо… – говорю я очень серьёзно, неожиданно для себя.
– Тогда подержите, пожалуйста, мой портфель. Он лёгкий.
– Зачем?
– А чтобы вы не ушли, пока я буду звонить.
Что его, пятнадцать раз обманывали, что ли?
* * *
В такси можно опомниться и слегка собраться с мыслями. Нет, всё-таки какой бред: ночью, неизвестно с кем, неизвестно куда я еду и, честно говоря, не знаю зачем.
– А вы, собственно, кто? – спрашивает меня мой спутник.
– Я – наш человек, – говорю я таинственно и серьёзно. Хочется просто назвать своё имя, но я всё-таки повторяю: – Наш человек.
– А… Понятно. (Ни черта тебе не понятно.) А под каким флагом вы выступаете?
(Под каким, действительно, флагом я выступаю? Ну почему ты задаёшь мне такие идиотские вопросы?)
– Да под тем же самым, – лихо отвечаю я.
– Да?
– Да.
Представляю, как забавно шофёру слушать наш разговор, но он профессионально молчит.
Нет, мир всё-таки здорово усложнился.
* * *
Садовая. Старые дома. Подворотня в духе Достоевского. Под аркой в стене – ниша. В нише – дверь.
Вообще-то ещё можно сбежать…
Ключ повернулся в замке, дверь скрипнула.
– Только ты ничего не бойся.
– А я и вообще ничего не боюсь.
– Ну тогда делай два шага и стой.
Шагнула. Стою. Мрак.
Дверь захлопнулась. Он мягко прошёл мимо меня и повернул выключатель.
Оказывается, мы посреди кухни. И оказывается, мы на «ты».
– Проходи.
* * *
Мебель расставлена с математической аккуратностью, по комнате хоть на велосипеде катайся. Окна – на уровне земли, в окне – железная решётка. Не выскочишь. Н-да…
– Садись. Сейчас мы с тобой выпьем. – И, поймав мой взгляд, успокаивает: – Двадцать восемь грамм, не больше.
– Понимаешь, – говорю я, – но я просто не пью. Это один из самых крупных моих недостатков.
– Это ничего. Сейчас выпьешь.
Портвейн колыхается у меня перед глазами в тёмно-синей фарфоровой чашке, запах вина бьёт в нос. Господи, ну что же мне делать, если я действительно не пью?
– А ты чашку держишь, как пиалу. – Он пьёт залпом такую же синюю чашку, секунду остолбенело молчит, а потом ловит обратно нить своей мысли: – У нас так держат пиалу.
– Где – у вас?
– В Баку. Я – наш человек только наполовину. А наполовину – мусульманин. Я там родился.
А я там никогда не была, и от этого ему меня просто жалко.
– Ты не видела Баку?! У нас его называют Баки-джан. Я не знаю, как это сказать по-русски, дословно это «ветер – душа».
Глаза у него глубоко-чёрные, без зрачка. И смотрит он на меня растроганно и чуть удивлённо: вот, мол, что я тебе сказал! И вдруг спохватывается, напускает на себя строгость и опять резко, порывисто, с досадой:
– Почему же ты не выпила? Пей!
– Нет, спасибо. Ты съешь вот эту солонку соли – тогда я выпью. (Отличный способ, ещё никто ни разу не съел.)
– Какая дура!..
Я молчу так гордо, что ему становится не по себе.
– Ладно, ты не обижайся. Я вообще-то мастер оскорблять людей. И очень тяжёлый человек.
(Подумаешь, оригинал! Видел бы ты, что я, такая хорошая, устроила в собственном доме два часа тому назад…)
– Ну да, оскорбил – и сразу взвился в собственных глазах.
– Куда? – не понял он.
– Вверх.
– А тебе не кажется, что ты слишком остроумная?
– Нет. А что?
– Возникаешь много. У нас бы тебе паранджу на морду – и всё. Чтобы не возникала.
(А что? Может быть, это и выход? И я, может быть, сейчас не тут бы сидела, а дома?)
Я железно молчу.
А он вдруг совсем иначе, умоляющим тоном:
– Ну выпей! Я же не знаю, как с тобой говорить. Я же тебя совсем не знаю…
(А я тебя, что ли, знаю?)
Нет, мир безнадёжно усложнился.
* * *
Уже перестали ходить трамваи. Тишина. Мы сидим друг против друга (между нами – круглый стол) и всё бьёмся над выяснением, как он выражается, основных параметров.
– Ну а всё-таки, кто же ты? – настаивает он.
– А ты кто?
– Я? – он задумался. – Профессия, что ли?
– Ну хотя бы.
– Инженер по радиоэлектронике. Член профсоюза. А почему ты не пьёшь?
Жуткий вопрос. Я не знаю, почему все пьют, а я не пью. Ну мне просто невкусно, зачем же я буду это пить? И потом, голова-то мне на плечах нужна постоянно, а не время от времени… А поскольку паранджу на морду мне ещё надевать не пробовали, то и заставить меня пить было некому. Но я понимаю, что правду говорить бесполезно.
– Почки. Врачи запретили… А ты, значит, член профсоюза. Ну скажи мне, член профсоюза, а вообще-то, кто ты такой? Что ты любишь?
– Люблю платить членские взносы.
– Ну ладно, а собак ты любишь?
С детства я уверена, что если человек любит собак, то он, во всяком случае, не сволочь.
– Что ты понимаешь в собаках, девочка?
– Я тебе не девочка. Я замужняя женщина. А с собаками я работаю.
– Кем?
– Инструктором-дрессировщиком служебных собак.
– Да? – смеётся он. – Какая редкая профессия! А у меня зато есть собака. Вест. Чемпион города среди догов. Видишь решётки на окнах? Пришлось поставить, а то летом кошку во дворе увидит – и прямо в окно.
– А где он?
– На даче. Ну выпей пожалуйста…
Водку он уже выпил. Теперь высокая тёмная бутылка с вином постепенно светлеет, темнота в ней уже на донышке.
– Слушай, я же безудержно пьян! Как же это вышло? – удивляется он. – Какая антиобщественная тишина!.. А ты… я не могу тебя понять… Я говорю пойдём – ты и пошла. Я вот тебе доверился, выпил, а ты не пьёшь и всё время хочешь войти туда, куда я и сам-то вхожу… босиком! Слушай, а что же тебе нужно?
Действительно, что мне нужно? Понимания? Тепла человеческого? Не могу же я ему сейчас сказать: «Давай дружить!»
– А тебе что нужно?
Он смотрит на меня обречённо. На лице ясно написано: «Разве ты, дура, когда-нибудь сможешь это понять?»
Надо уходить.
Наступил уже тот глухой час ночи, когда только машины скорой помощи выползают из переулков, шурша колёсами, а на улицах нет никого.
– Ладно, я пойду.
– Никуда ты не пойдёшь.
– Но мне нужно идти.
– Как же ты пойдёшь одна? Ночь, никого нет. Ты ведь женщина.
– Я же сказала тебе, что вообще ничего не боюсь.
– Да, пожалуй, если у тебя хватило юмора сюда прийти… – размышляет он. – Тогда сделаем так: я вот сейчас поднимусь, допью двадцать восемь грамм и отвезу тебя на такси.
Он решительно встаёт, но ясно, что ему не дойти даже до дверей.
– Вот, видишь… Придётся тебе остаться. Ложись на тахту, раздевайся до разумных пределов и спи.
Раздеваться я всё-таки не буду. А спать хочется.
Квакнул выключатель. Темно. Он сидит в кресле напротив. Он молчит, но я чувствую, что его мучает неотвязная мысль.
– Можно тебе задать вопрос? – наконец говорит он как-то неуверенно.
– Можно.
– Ты меня извини, я всё-таки должен спросить… У тебя сегодня в плане не было кому-нибудь отдаться?
(Ну вот, всё правильно. Если не хочешь, чтобы тебе дали по носу, не подставляй его. Вот что бывает, когда начинаешь упрощать мир обратно.)
– В плане не было. – Голос у меня не ледяной, а скорее каменный.
– Ну тогда хорошо, – обрадовался он. – Я так, на всякий случай спросил… Я ведь тебя не знаю… Я не хотел тебя обидеть. Извини. Понимаешь… ты мне дико нравишься. Но… Я всё равно не умею так вот просто…
Он встаёт и, чуть покачиваясь, как-то очень легко впервые подходит ко мне. Похоже, что ему хочется пожать мне руку. Но вместо этого он теряет равновесие и сваливается рядом со мною на тахту.
– Вот. Извини. Я могу уйти, – говорит он устало, роняет голову и мгновенно засыпает.
Но вдруг с трудом открывает глаза, с неуверенной нежностью гладит меня по щеке лёгкой рукой и шепчет прямо в ухо:
– Слушай, слушай… какая же ты славная… У тебя есть враги?
– Есть.
– Пойдём их зарежем? Завтра… – Он впервые смеётся открыто и радостно. Потом легко вздыхает, берёт меня за руку и засыпает уже совсем.
А мне не уснуть. Окно стало серое, решётка на нём теперь нарисована чёрной тушью. А за решёткой – тёмный петербургский двор, мощённый булыжником. Со всех сторон стены с окнами.
Я тихонько поднимаюсь, нахожу свои туфли.
Он лежит, запрокинув голову. Шея нежная, беззащитная. Под горлом вздрагивает пульс. Ишь ты, паранджу на морду – и всё…
