Читать онлайн Василий Макарович бесплатно
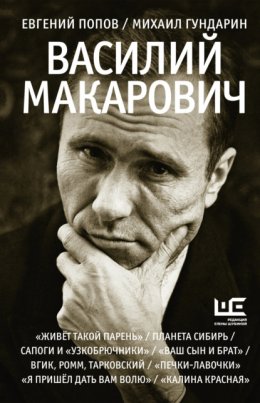
© Гундарин М.В., Попов Е.А.
© ООО «Издательство АСТ»
Художественное оформление – Елена Лазарева
Фото В.М.Шукшина на переплёте – Анатолий Ковтун
* * *
Предуведомление
Может возникнуть резонный вопрос: зачем ещё одна книга про Василия Шукшина? Если книг о нём и без того предостаточно, и среди них есть – замечательные. Тем более, что некоторым совсем молодым россиянам его имя сейчас почти ничего не говорит: у них свои «гуру» из отечественных или зарубежных классиков монетизированной литературы, куда Шукшин – не вписывается.
Порой кажется, что Шукшин сегодня – невзирая на все фестивали, фильмы, диссертации и памятники – становится уходящей натурой. Легендарная оболочка есть – а что под ней осталось?
Одно время думали, что всё: ушла советская власть, ушёл быт, ушли люди, этот быт населявшие, отчего и мир Шукшина от нас как-то отдалился. А потом оказалось – ничего подобного! Наши люди – не изменились.
Вот мы и хотим разобраться, каков Шукшин – сейчас, в нашей очередной «новой жизни», в 20-х годах XXI века. Каким он был при жизни (ведь людей, общавшихся с ним, остаётся всё меньше и меньше). Кто подсказал простому сибирскому Василию, что главное – не какой царь нынче правит Россией и какое в ней общественно-политическое устройство, а – Любовь. В немыслимых условиях любовь – к Родине, матери, женщине, землякам. Ведь только так может выжить страна и люди, её населяющие.
Таинственным образом, простыми словами и картинами он сумел задеть те Божьи струны тёмной российской души, которые существуют даже у самого отъявленного злодея нашей страны, той страны, где вечно пляшут и поют, сажают, выпускают, убивают, рожают, режут, молятся, возносят, ниспровергают, каются и грешат снова.
Где огромные просторы для многих ограничены тесным пространством тюремной камеры или блочной квартиры, где не зарекаются ни от сумы, ни от тюрьмы, а земное человеческое существование никогда не было комфортным и предсказуемым.
Где любое начальство – враг по определению, и следовало убить царя, чтобы на семьдесят лет погрузиться в обыденный ад колхозов, коммуналок, партсобраний, доносов и всенародного ликования по указанным всё тем же начальством поводам вроде упорного освоения нищей страною космоса или успехов построения социализма в так называемых «братских странах», которые сейчас кроют Россию почём зря.
Где женщина из хранительницы домашнего очага стала тёмной тенью обабившегося советского мужика, той самой тенью, что посягает на существование разлагающегося оригинала, замещая его, пытаясь превзойти его неизвестно в чём – то ли во власти, то ли в пьянстве и разврате, то ли в стремлении к тому навязываемому всем нам прогрессу, куда она летит, как бабочка на свет дачной лампочки Ильича.
Сегодня Россия осталась один на один со всем остальным, враждебным или равнодушным, миром, и многих русских беспокоит: а выстоим ли? Найдём ли то, что позволит нам остаться независимыми, честными и гордыми?
Так у кого же, как не у Василия Макаровича, искать в это время совета и поддержки? Ведь про тех, кто спит и видит расчленение и уничтожение России, у него тоже сказано – например, в пророческой притче «До третьих петухов». Он и это предугадал.
Вот почему его судьба, его способность выжить и состояться с каждым годом всё важнее и важнее для понимания того, «что с нами происходит». С душой русского человека, да и самой Россией.
Впрочем, мы приступаем к делу.
Авторы
Часть первая
Начало
Хроника
1929, 25 июля – в семье Макара Леонтьевича Шукшина и Марии Сергеевны Поповой родился сын Василий.
1933, 28 апреля – отец Шукшина расстрелян в Барнауле.
1936, март – мать Шукшина выходит замуж за Павла Николаевича Куксина.
1941, июль – отчим Василия уходит на фронт.
1942, май – Павел Куксин пропал без вести в боях под Москвой.
1944, сентябрь – Василий, закончив семь классов школы, поступает на учёбу в Бийский автомобильный техникум. Техникум, проучившись два с половиной года, не закончил.
1947, апрель – покидает Сростки. Работает чернорабочим на предприятиях Подмосковья и соседних областей.
1949, август – призван во флот.
1951, июль – приезжает на побывку в Сростки.
1952, декабрь – признан врачами негодным к военной службе со снятием с учёта. Возвращается в Сростки.
1953, 31 августа – получает аттестат зрелости. Октябрь – устраивается на работу директором вечерней школы в Сростках.
Глава первая
Планета Сибирь
Е.П.: В мире нет ничего случайного. И – родись Шукшин не в Сибири, – это был бы совсем другой писатель и кинематографист.
М.Г.: Не просто в Сибири – но на Алтае, а это особый регион. И Сибирь, и вроде не совсем Сибирь. Некоторые исследователи сегодня утверждают, что как раз Алтай Шукшин любил, а Сибирь в целом, так сказать, оценивал объективно – видел и плохое, и хорошее:
Образ Сибири в его произведениях моделируется согласно традиционной для русской литературы системы негативных представлений: «это Сибирь-матушка, она “шуток не понимает”»; о судьбе переселенцев в Сибирь: «Там небось и пропали, сердешные… <…> ни слуху ни духу». Идеальные смыслы делегированы Алтаю: «Трудно понять, но как где скажут “Алтай”, так вздрогнешь, сердце лизнёт до боли мгновенное горячее чувство… <…> Дороже у меня ничего нет». У Шукшина Сибирь как бы перетягивает на себя негативные коннотации, а Алтай, малая родина, – позитивные, глубоко личные, максимально ценные.[1]
Е.П.: Шукшин и Алтай оценивал объективно, судя по персонажам. Но Сибирь действительно сама по себе, отдельный регион. Как отдельными регионами в России являются средняя полоса, Кавказ, Юг. Вы много лет прожили на Алтае и, надеюсь, согласитесь, что мой Красноярский край и ваш Алтай – это скорее подрегионы особого региона. Сибиряк – он и в Енисейске сибиряк, и в Абакане, и в Барнауле.
М.Г.: Мало того, я житель Алтая потомственный – моя мать Галина Александровна родилась в 1941 году в деревне Озерки, это от шукшинских Сросток, если напрямик, километров 70. Так что они с Василием Макаровичем успели побыть недальними соседями, ведь 70 километров для Сибири – это полная ерунда. Более того, в начале семидесятых моя бабушка по матери переехала ещё ближе к Сросткам – в Лесное, а это километров 20, если по реке Катуни. В «Калине красной» мать Егора Прокудина живёт в деревне Сосновка, что в 19 километрах от села Ясное, и герой называет себя «здешним». Так что и я отчасти для жителей Сросток был «здешним» – ведь в деревне я обычно проводил всё лето. Часто бывали мы с моей бабушкой Анной Фёдоровной и в Бийске, через который в те времена много раз проезжал Шукшин. Поэтому я, маленький, даже мог его видеть.
Е.П.: Мою мать тоже звали Галина Александровна, только она 1918 года рождения. Её предки попали в Сибирь во второй половине XIX века. Крестьянами до этого были в окрестностях Таганрога и Мариуполя, в тех местах, где сейчас бушует «специальная военная операция». Поселились в селе Емельяново, где нынче красноярский аэропорт. А «отцовские» в Сибирь попали чуть ли не во времена Ермака. Один из пра-пра-пра, священник, взял в жёны местную «ясашную татарку» – так русские тогда именовали коренное население Сибири. Так что и я, можно сказать, из коренных, однажды даже записал себя при переписи населения кетом – есть такой небольшой народ, живущий на севере Енисея в районе Туруханска…
М.Г.: А что касается того, сибиряки ли жители Алтая… Конечно, сибиряки. По всем параметрам, включая мировосприятие и самооценку. Но сибиряки – особые, как и красноярцы, омичи, кемеровчане… Само слово «сибиряк» – это ведь нечто усреднённое. Конечно, есть общие черты, но хватает и региональных различий. По-разному в каждую из областей Сибири попадал народ, разными делами в них занимался.
Жители Алтая – крестьяне прежде всего, в основном потомки столыпинских переселенцев начала прошлого века и тех, кто рванул на новые земли ещё раньше, после отмены крепостного права. В середине XX века в край попало немало рабочих и научно-технической интеллигенции: эвакуация. Многие тут и остались, пополнив галерею характеров, описываемых Шукшиным. Ну и плюс некоторое количество потомков русских первопроходцев – казаков, горных рабочих. А также коренные жители – ойроты, теленгинцы. Так что Шукшин – «крестьянский» сибиряк. И как крестьянин, он к вольным, шалым людям и к горожанам всегда относился с неким подозрением. Таких на Алтае изначально было меньше, чем, например, в соседнем шахтёрском Кемерове или Новосибирске – до которого от Сросток по прямой, строго на север, всего-то километров 400.
Е.П.: То есть всё равно Шукшин – сибиряк. Всякий, кто его читает, не может не отметить огромное влияние на всё, о чём он пишет, «Сибирского мифа», в сути которого неплохо бы для начала разобраться.
Один из ключей к трактовке этого мифа вот в чём: Сибирь – это одновременно и земля свободы (здесь не было крепостного права, пригляд начальства был не таким строгим, как по ту сторону Урала), и земля ссылки-каторги.
Об этом Шукшин писал и в предисловии к двум моим рассказам, напечатанным в «Новом мире» (1976 г., № 3), после чего я, извините великодушно, проснулся знаменитым:
Сибирь… Огромная, прекрасная, суровая часть России, и она продолжает осваиваться. Обывателю там ещё неудобно, человеку энергичному, угловатому – вольнее, ибо всяких клеточек меньше, не так гнетёт мнение «княгини Марьи Алексевны» – она туда ещё не приехала.
За эту «Марью Алексеевну» цензура сей его пассаж из предисловия выкинула, и он был опубликован только через десять лет, когда благополучно (надеюсь и сплёвываю через левое плечо) закончились мои – жизненные и литературные – советские приключения, а Шукшина уже не было на этом свете.
В районе нынешней Саяно-Шушенской ГЭС имелась до затопления деревня, где жил некий Федька, который, когда ему вздумается, выплывал на моторке «под банкой» на середину Енисея, глушил мотор, растягивал гармонь и начинал орать частушки, изобилующие «ненормативной лексикой». Енисей там раньше был бешеный, впереди – порог-водопад. Федька вместе с лодкой падал в пучину – и всегда ухитрялся выгребать. Смертельный этот трюк он проделывал множество раз и оставался живым до самой своей мирной смерти от водки.
Сибирь и есть те самые, по ироническому народному определению, «места не столь отдалённые», где к тому же «вечно пляшут и поют», где пословица «от сумы да от тюрьмы не зарекайся» является не пожеланием, а руководством к действию, и где «отсидевший» вовсе не является изгоем общества, как, например, в крупных российских городах, где подобная энергичная публика, помыкавшись на воле, чаще всего отправлялась обратно за решётку.
М.Г.: Как писал один сибирский «сепаратист» (по крайней мере, в этом его обвиняло ГПУ) Леонид Мартынов, обращаясь к власть имущим:
- Но посылали вы
- Сюда лишь только тех,
- Кто с ног до головы
- Укутан в тёмный грех.
У учёных есть такое понятие: «штрафная колонизация». И знаменитая работа Николая Ядринцева «Сибирь как колония» тоже во многом про это. Но ещё больше – про отношение центральной власти к Сибири как к гигантскому ресурсу.
А вот что писал Ядринцев в восьмидесятых годах позапрошлого века про особый тип сибиряка:
Нам остаётся ещё указать на одну черту местного характера, отмечаемую путешественниками и этнографами. Этою чертою, отличающею русское население на Востоке, признаю́т «наклонность к простору, воле и равенству». Нельзя сказать также, чтобы это воспитание индивидуальной жизни прошло бесплодно. Оно закалило местный характер, приучило к труду, самостоятельности и самодеятельности.[2]
Ядринцев, один из первых сибирских публицистов и общественных деятелей, входил, вместе со своим учителем Григорием Потаниным, в разгромленную властями группу «сибирских областников».
Судьба его весьма примечательна. Коренной сибиряк, родился в 1842 году в Омске, отец – купец, мать – бывшая крепостная, а сам он – интеллигент с тонкой душевной организацией. Учился в Санкт-Петербургском университете, был в ссылке на Севере, потом вернулся в Сибирь, изъездил её вдоль и поперёк, писал очерки, издал знаменитую в своё время книгу с говорящим названием «Русская община в тюрьме и ссылке», издавал и свою газету… За сбор коллекции сибирских трав и минералов получил Золотую медаль Русского географического общества. Предпринял экспедицию в Монголию, где отыскал столицу Чингисхана, о чём с большим успехом рассказывал на лекциях в Париже. А умер – от несчастной любви: отравился в 52 года! Произошло это в столице Алтая, Барнауле; там Ядринцев и похоронен.
Сколько несоединимого, казалось бы, в одном человеке! Вспоминают, что он изысканно одевался, носил всегда свежие изящные перчатки и использовал духи. Галстуки менял каждый день, а то и два-три раза в день, из нагрудного карманчика его пиджака кокетливо высовывался кончик шёлкового платка. При всём том, кстати, и выпить крепко любил. Настоящий сибиряк, что тут скажешь.
Но главным трудом Ядринцева стала именно «Сибирь как колония», вызвавшая резкое неудовольствие тогдашнего начальства. Царское правительство публициста-вольнодумца преследовало, да и при советской власти его не печатали, хотя и называли улицы его именем. Сегодня идеи Ядринцева и других «сибирских областников» поднимают на щит те, кто считает, что Сибирь серьёзно отличается от России, а сибиряк – от жителя среднерусских равнин, и это должно быть как-то учтено в общегосударственной политике (чего не было никогда – и вряд ли будет, увы).
Е.П.: Жаль, если не будет. Впрочем, все государства терпеть не могут своих сепаратистов.
Уже для Ядринцева было несомненно, что первоначально русское население Сибири формировалось и пополнялось двумя категориями людей: теми, кто был настолько социально активен, что не мог сидеть на своём клочке земли, «под барином», и рвался к чему-то большему, и теми, кому «сибирский транзит» был любезно предоставлен государством – опять же, за их чрезмерную активность.
Третьим составляющим элементом народа Сибири, как вы видите на опыте моей родословной, стали местные жители. В большинстве своём они охотно ассимилировались с пришельцами – культурно, религиозно и лично. Оттого у сибиряков сплошь и рядом просвечивает в лицах нечто иноземное, а обладатель ФИО «Иван Иванович Иванов» частенько оказывается, например, стопроцентным якутом.
- …он пожирает
- Очами чудные красы.
- Тунгуски чёрные власы
- Кругом повиты оргуланом;
- Он, разукрашенный маржаном,
- На стройном девственном челе
- Горит, как радуга во мгле.
- В её устах не дышат розы,
- Но дикий огненный ургуй
- Манит любовь и поцелуй.
Это стихотворение сибирского поэта по фамилии, что характерно, Баульдауф тоже приведено Ядринцевым.
М.Г.: А вот цитата из его «Сибири как колонии» – ну прямо как сегодня написано:
В настоящее время много говорят о вывозе сибирских богатств, о сбыте их вне её пределов путём улучшения путей сообщения, но не мешает подумать и о том, к чему послужит этот вывоз при нерациональных и хищнических способах эксплуатации – к чему, как не к окончательному расхищению, истреблению и истощению последних запасов и произведений природы. Истощение это замечается на каждом шагу: это видно в выгорании лесов, в истреблении зверя, в вывозе сырья и в истощении почвы.
Тут всё китайцев обвиняют, что они сибирский лес рубят и вывозят, а если верить Ядринцеву, для грабежа Сибири никаких китайцев не надо, столичные деятели справляются запросто.
Так во все времена и было. Поэтому желающих поговорить о большей самостоятельности Сибири всегда хватало. Между прочим, идеи Ядринцева и Потанина не пропали даром: их последователи активно трудились на ниве культуры и просвещения всё начало XX века, один из идейных «областников» даже возглавил независимое сибирское правительство после революции. Но был быстренько свергнут Колчаком, установившим диктатуру. А мечта о независимой Сибири, казалось, была так близка к осуществлению!
Е.П.: Так и после революции идеи областничества не пропали: Леонид Мартынов вместе с группой товарищей за них и загремел. Правда, отделался ссылкой; времена были ещё сравнительно вегетарианские. Но как интересно: в 1927 году молодые омские поэты создают тайную литературную группу «Памир», главной задачей которой заявлена борьба с «партийным руководством литературной Сибирью», а политическим идеалом – независимая Сибирь. Почему «Памир»? Название группы предложил Мартынов: вершины Памира мыслились как граница при развитии Сибири на Юг, выходе на прямые контакты с Азией. Пусть, мол, Россия общается с Китаем и Индией – через нас, сибиряков!
В те годы написано его знаменитое стихотворение, которое среди сибиряков популярно и до сих пор; я его помню с юности:
- Не упрекай сибиряка,
- Что он угрюм и носит нож —
- Ведь он на русского похож,
- Как барс похож на барсука.
- Не заставляй меня скучать
- И об искусстве говорить —
- Я не привык из рюмок пить,
- Я буду думать и молчать.
- Мой враг сидит в конце стола,
- От гнева стал лицом он сер.
- Какой он к чёрту кавалер —
- Он даже не видал седла!
- Я у него покой украл?
- Не запрещает наш закон —
- Чужую нежность брать в полон
- И увозить через Урал.
М.Г.: Бог весть, знал ли это стихотворение Шукшин… Но его Разин ведь как раз прикидывает: не податься ли в Сибирь, чтобы спастись там от царских слуг и повторить судьбу Ермака? Процитирую Шукшина:
Сибирь для Разина – это Ермак, его спасительный путь, туда он ушёл от петли. Иногда и ему приходила мысль о Сибири, но додумать до конца эту мысль он ни разу не додумал: далеко она где-то, Сибирь-то.[3]
Это как раз про Разина, в его духе – и нож за поясом, и украденные – взятые в полон – девицы…
И для Шукшина Сибирь становится, особенно под занавес жизни, местом, куда неплохо бы вернуться в конце концов (хотя и едва ли реально). А в начале жизни – наоборот, надо оттуда вырваться.
Е.П.: Он и мне это говорил: мол, тебе надо уезжать из Красноярска. Три пути-дороженьки – выбирай любую: или посадят за длинный язык, или сопьёшься, или, что хуже всего, станешь комсомольским писателем, будешь сочинять романы о том, как это замечательно – ГЭС в тайге строить. Мне кажется, что он и к бегству молодёжи из деревни относился очень и очень хладнокровно, как к чему-то естественному и неизбежному. Они хорошие, это их потом город портит.
М.Г.: Одно дело – уехать, другое – проделать обратный путь. Но важно то, что в принципе обратный путь возможен, что – есть куда возвращаться. Об этом же писал и сам Шукшин в поздней статье «Слово о малой родине» (1974):
Я живу с чувством, что когда-нибудь я вернусь на родину навсегда. Может быть, мне это нужно, думаю я, чтобы постоянно ощущать в себе житейский «запас прочности»: всегда есть куда вернуться, если станет невмоготу. Одно дело жить и бороться, когда есть куда вернуться, другое дело, когда отступать некуда. Я думаю, что русского человека во многом выручает сознание этого вот – есть ещё куда отступать, есть где отдышаться, собраться с духом. И какая-то огромная мощь чудится мне там, на родине, какая-то животворная сила, которой надо коснуться, чтобы обрести утраченный напор в крови. Видно, та жизнеспособность, та стойкость духа, какую принесли туда наши предки, живёт там с людьми и поныне, и не зря верится, что родной воздух, родная речь, песня, знакомая с детства, ласковое слово матери врачуют душу.[4]
В книге «Геопоэтика В.М.Шукшина», написанной земляками Василия Макаровича – барнаульскими литературоведами Татьяной Богумил, Александром Куляпиным и Еленой Худенко, – про этот обратный путь и мотив возвращения в текстах Шукшина тоже говорится:
Блуждания главного героя второй книги романа «Любавины» Ивана (Владимир – Калуга – Подмосковье) заканчиваются тюрьмой «за драку с поножовщиной». После чего он (из Москвы) едет в родную Баклань, чтобы начать новую жизнь. Примерно тот же путь проходит Ольга Фонякина («Там, вдали»). Название большого города, в котором разворачивается действие первой половины повести, в тексте не указано, но расположен он в европейской части страны. Мечтая о возвращении на родину, Ольга чётко обозначает маршрут: «А потом поедем. Будут мелькать деревеньки, маленькие полустанки… Будут поля, леса… Урал проедем. Потом пойдёт наша Сибирь…»[5]
Хотя возвращение в деревню было одной из болезненных для него тем. Как он прошёлся в «Энергичных людях» по писателю, который призывает всех ехать в деревню, а сам и не думает покидать своё уютное городское гнёздышко! И сколько горечи в рассказе «Выбираю деревню на жительство», где персонаж идёт на городской вокзал, чтобы потолковать с деревенскими мужиками, мол, где бы мне лучше поселиться…
Е.П.: …причём понятно, что никогда никуда он из города не выедет.
Так ведь и сам Шукшин писал в рабочих заметках: «Не могу жить в деревне. Но бывать там люблю – сердце обжигает». Хотя ведь и бывал последние годы – не слишком часто. Привязан был к кинопроцессу: снимал, ездил по стране с показами своих фильмов…
М.Г: Но скучать по Сибири он не переставал – как по некоему «утраченному раю». Процитирую ещё раз барнаульских литературоведов:
Алтай Шукшина наделён отчётливыми признаками рая: «И прекрасна моя родина – Алтай: как бываю там, так вроде поднимаюсь несколько к небесам. Горы, горы, а простор такой, что душу ломит. Какая-то редкая, первозданная красота».[6]
Про райскую красоту родных мест – и про путь «туда-обратно» – Шукшин писал всё в той же статье о малой родине, уже процитированной нами выше (к слову, при первой публикации в журнале «Смена» в 1974 году статья имела название иное – и весьма характерное: «Признание в любви»):
Редко кому завидую, а завидую моим далёким предкам – их упорству, силе огромной… Я бы сегодня не знал, куда деваться с такой силищей. Представляю, с каким трудом проделали они этот путь – с севера Руси, с Волги, с Дона на Алтай. Я только представляю, а они его прошли. И если бы не наша теперь осторожность насчёт красивостей, я бы позволил себе сказать, что склоняюсь перед их памятью, благодарю их самым дорогим словом, какое только удалось сберечь у сердца: они обрели – себе, и нам, и после нас – прекрасную родину. Красота её, ясность её поднебесная – редкая на земле. Нет, это, пожалуй, легко сказалось: красивого на земле – много, вся земля красивая… Дело не в красоте, дело, наверное, в том, что даёт родина – каждому из нас – в дорогу, если, положим, предстоит путь обратный тому, какой в давние времена проделали наши предки, – с Алтая…[7]
Е.П.: И всё же снова про Алтай! Хотя тут, может быть, просто факт: предки пришли на Алтай, он про это и говорит. Пришли бы в Красноярск – говорил бы про Красноярск.
М.Г.: …но это тогда, следуя нашей же с вами логике, был бы не Шукшин, а какой-нибудь другой писатель.
«Исход» предков на Алтай Шукшин последовательно мифологизировал – и в романе о Степане Разине, и в некоторых рассказах, – но специалисты, конечно, давно разобрались, откуда в Сибирь пришли Шукшины. В 1998 году в Бийске вышла книга Анастасии Пряхиной «Родословная Шукшина», там есть родословное древо вплоть до первой половины XIX века.
Итак – предки писателя родом из села Толкаевка Бузулукского уезда Самарской губернии. Причём обе ветви – и материнская, Поповы, и отцовская, Шукшины. Прибыли они на Алтай с разницей в 30 лет – Шукшины в 1867 году, а Поповы в 1897-м. Через два века после восстания Разина. Считается, что фамилия Шукшин – мордовского происхождения, мордва-мокша. Но всё ещё интереснее: самарские краеведы считают, что, вероятно, в Толкаевке Шукшины и Поповы были близкими соседями, и Шукшины, благополучно устроившись на новом месте, пригласили на Алтай и Поповых.
Е.П.: Но почему переселились Шукшины и Поповы из своего Бузулукского уезда? И почему – именно на Алтай?
М.Г.: Начнём с географии. А то жители Центральной России, особенно москвичи, вечно всё путают.
Есть сегодня два Алтая – Алтайский край и Республика Алтай. Коренных жителей тут живёт не очень много, в основном – приезжие, русские; есть и казахские деревни. Республика Алтай – это горы, вплоть до границы с Монголией и с Китаем. Алтайский край – севернее: на востоке, где граничит с Кемеровской областью, – тайга, на западе, где граничит с Казахстаном, – степи, а в основном – поля, перелески и чудесные предгорья. Сростки – ближе к предгорьям; с легендарной небольшой горы Пикет видны очертания гор настоящих.
Строго с севера на юг, от Новосибирска до самой границы, идёт федеральная трасса. На ней находятся Барнаул и Бийск. Последний до революции был богатым купеческим городом, местные купцы сильно задавались перед барнаульцами – были зажиточнее! В Бийске сохранилось множество архитектуры в стиле сибирский модерн, правда, в основном – в очень плохом состоянии, а во времена детства и юности Шукшина (да даже и моего, в семидесятых) архитектура была посохраннее; в центре, около базара, это был целый ансамбль, несколько кварталов.
Федеральная трасса от Новосибирска до границы называется Чуйский тракт. Это «красивая, стремительная дорога, как след бича, стеганувшего по горам», писал о нём Шукшин. Причём исторически Чуйский тракт – это именно трасса Бийск – горный Кош-Агач. По-настоящему тракт интересен, да и опасен до сих пор – именно в горах.
Прокладывали его ещё до революции, в тяжёлых условиях. Осыпи, пропасти… Активно участвовал в этом другой писатель-сибиряк, Вячеслав Шишков. Был он инженером-дорожником, да не простым инженером – возглавлял все изыскательские работы.
Очень рекомендую посетить в Бийске музей Чуйского тракта – он в старинном здании, как раз в начале пути в Сростки. Есть в Бийске и памятник Чуйскому тракту: один из немногих в мире памятников дороге. На пьедестале – та самая примитивная «трёхтонка»-АМО из народной песни «Есть по Чуйскому тракту дорога, много ездит по ней шоферОв… Был один там отчаянный шОфер, звали Колька его Снегирёв…»
В горах нет железной дороги, она кончается в Бийске, и всё основное передвижение здесь ведётся как раз по Чуйскому тракту и дорогам, от него отходящим.
Село Сростки находится как раз на Чуйском тракте, между Бийском и горами. На север до Бийска – 35 км, до Барнаула – около 200 км. На юг до Горно-Алтайска – 54 км. Мимо Сросток, в общем, не проедешь! И так было всегда. А значит, всегда оно было богатым селом, все торговые потоки шли через Сростки. Старое село, между прочим, особенно по сибирским меркам – 1804 или 1805 год основания! А первое упоминание этого названия в исторических документах вообще относится к 1747 году.
В древности здесь проходил Мунгальский тракт, упоминания о котором содержатся ещё в китайских хрониках тысячелетней давности. Но более-менее современный вид трасса от Бийска стала приобретать только в двадцатые годы (кстати, тех же сросткинцев, как и других окрестных крестьян, обложили личной трудовой и гужевой повинностями).
Незадолго до рождения Шукшина, в 1925 году, автомобили Госторга впервые совершили семь рейсов по всей трассе до Кош-Агача. В 1926 году по тракту прошли первые трактора, появление которых среди местных жителей, как вспоминают, вызвало большой переполох. В годы войны по тракту гоняли гурты скота из Монголии, перевозили вообще все грузы – это Шукшин ещё застал. Дорогу строили в том числе и заключённые, о чём сам Шукшин вспоминал в рассказе «Чужие» – как носил им молоко. По тракту подросток Шукшин отправился в горы, в Онгудай, учиться на бухгалтера, к крёстному Павлу Сергеевичу Попову.
Фильм «Живёт такой парень» – это как раз про Чуйский тракт, здесь его и снимали. Любой старожил укажет места съёмок – ну, насколько они подлинные, это, конечно, вопрос… Например, показывают домик на берегу Катуни, где якобы происходила знаменитая сцена сватовства Кондрата Степановича и тётки Анисьи, хотя всем – и самим гидам тоже, думаю, – известно, что снималась эта сцена – в декорациях на студии.
Изначально село было образовано крестьянами, приписанными к Алтайским горным заводам; на жительство сюда переселилась также часть горно-заводских рабочих, мастеровых и казаков, отбывших срок службы. Но сильнее всего народу в Сростках прибавилось – после отмены крепостного права, когда из европейской России хлынули переселенцы. Земля! Много земли! Вот что их привлекало. Плюс вода (река Катунь) и мягкий климат.
Поэтому вполне правдоподобный сценарий: приехали по чьему-нибудь совету сюда Шукшины, осмотрелись, понравилось – позвали своих знакомцев Поповых. Ну а через какое-то время их потомки породнились. Обычная история!
Е.П.: А вот что писал про Катунь Шукшин в киноповести «Живёт такой парень», воспевающей Чуйский тракт:
И ещё есть река на Алтае – Катунь. Злая, белая от злости, прыгает по камням. Бьёт в их холодную грудь крутой яростной волной, ревёт, рвётся из гор. А то вдруг присмиреет в долине – тихо, слышно, как утка в затоне пьёт за островом. Отдыхает река. Чистая, светлая – каждую песчинку на дне видно, каждый камешек.
Помимо перечисленных вами, сюда бежали ещё и старообрядцы, которые хотели найти место, где бы их не притесняли, где они установили бы свои порядки и законы. Селились высоко в горах; тут до сих пор остались их общины. Целая легенда возникла – о блаженной, райской стране Беловодье.
Незадолго до рождения Шукшина, в 1926 году, Николай Рерих предпринял экспедицию на Алтай в поисках своего варианта Беловодья – таинственной Шамбалы. По мнению Рериха, отсюда, с Алтая, из Сердца Азии, «шли все учения и вся мыслительная мудрость».
М.Г.: Замечу, что поклонники Рериха едут на Алтай до сих пор. Правда, простой народ дал им меткую характеристику – ищущие Шамбалу для местных жителей просто «рерихнутые».
А с поисками Беловодья связано много интересных историй. Мифическая страна свободы, где текут молочные реки в кисельных берегах. Но белёсый цвет воды в Катуни ведь и вправду напоминает молочный! Это не могло не поражать пришельцев из европейской России. А по юго-западной части Алтая, которая после революции по малопонятным причинам была отдана Казахстану, течёт река Бухтарма, похожая по цвету на Катунь, – тоже молочная река!
Так вот Беловодье обрело и реальное содержание: в долинах Бухтармы и Катуни стали селиться семьи старообрядцев, сформировав своеобразную этнографическую группу – так называемых «бухтарминских каменщиков». Селились они на нейтральной территории, вне правового поля соседних государств, между нечёткими границами Российской империи и Китая. Бухтарминские каменщики были зажиточными и вплоть до начала коллективизации представляли замкнутое и локальное общество, со своей самобытной культурой и сильно ограниченными внешними контактами.
Но Беловодье, конечно же, есть миф, вечная народная мечта о граде Китеже, где всё устроено «по справедливости». В старообрядческом рукописном сочинении «Путешественник», распространявшемся в первой четверти XIX века, написано, что в Беловодье нет воровства и других преступлений, нет светского суда, а управляют всем – народ и духовные власти.
Е.П.: А вот что утверждает Алексей Варламов в своей биографии Василия Макаровича:
Шукшин никогда об этом прямо не писал, но можно предположить, что идеалом общественного устройства была для него вольная Русь, Беловодье, которое много веков искали на Алтае предки его земляков. И в этом смысле Василий Макарович был человеком утопического склада мышления, долгое время верившим в то, что народ способен сам, без государства, без чиновничества, без царя, без Церкви, устроить жизнь на разумных началах, если ему не станут мешать. (И, к слову сказать, географический фактор тут играл свою роль: Алтай в силу исключительного природного, климатического положения, удалённости от центра был территорией самодостаточной, нуждавшейся в государстве гораздо меньше, чем зоны рискованного земледелия, голодающие губернии или пограничные с Западом области, без государства прожить неспособные и хорошо отдающие себе в том отчёт.)[8]
М.Г.: Уж не знаю, насколько этот идеал был Шукшиным осознан и сочтён хоть сколько-нибудь реальным – кем-кем, а утопистом-мечтателем Василий Макарович точно не был, несбыточные идеалы его мало занимали…
Но про Алтай в целом – верно. Думаю, во многом справедливо предположение и о Беловодье как о стране крестьянской утопии, которая не могла не привлекать Шукшина просто как потомка многих поколений земледельцев и человека, выросшего на земле.
Е.П.: Есть анекдот про храбрых геологов, покорителей неведомых пространств, которые вдруг обнаружили на таёжной недоступной высоте простого мужичка, сидящего на пеньке. «Мужик, ты как сюда попал?.. Ты что здесь делаешь?» – изумляются они. «Я здесь живу», – скромно отвечает мужичок.
М.Г.: Вот именно: в Сибири люди – живут.
Глава вторая
Мать, сестра, отцы
Е.П.: Самое главное, что надо знать о матери Шукшина: она его очень любила. И он её любил. Всё.
М.Г.: Причём это была в высшей степени деятельная любовь. Мать, например, помогла ему выправить паспорт – что было в то время величайшей сложностью, ведь паспорта крестьяне получили только в 1974 году. Вот выдержка из постановления № 677 Совета министров СССР от 28 августа 1974 г.:
Гражданам, проживающим в сельской местности, которым ранее паспорта не выдавались, при выезде в другую местность на продолжительный срок выдаются паспорта, а при выезде на срок до полутора месяцев, а также в санатории, дома отдыха, на совещания, в командировки или при временном привлечении их на посевные, уборочные и другие работы выдаются исполнительными комитетами сельских, поселковых Советов депутатов трудящихся справки, удостоверяющие их личность и цель выезда.[9]
То есть официального разрешения на то, чтобы покинуть Сростки, Василию Макаровичу пришлось бы ждать – до конца жизни!
Конечно, существовало множество лазеек – легальных, полулегальных и нелегальных вовсе. Было бы желание рискнуть. И поэтому дело прежде всего не в самом факте получения паспорта, а в том, что мать поддержала Василия в его намерении уехать из деревни, и даже сама помогла ему решить вопрос с документами.
Е.П.: Постановляет этот совет! Разрешили, благодетели!
…Да, широка была советская власть! Но это-то как раз не удивительно.
Удивительнее другое: что Мария Сергеевна, мать Шукшина, что-то такое необыкновенное сразу же в Васе почувствовала. Ведь какая мать не хочет, чтобы её сын находился – при ней? Но она, похоже, с его самого раннего детства поняла, что Васю ждёт – большой путь, и на этот путь постоянно сына направляла. Поняла, что масштаб его – не укладывается в рамки родной деревни, и ему не след зарывать свой талант крестьянским трудом в землю, а надо лететь, как в сказке, за леса, за моря. Звучит, пожалуй, чересчур сентиментально, но сентиментальной Мария Сергеевна точно не была. Иначе не выжила бы в сибирской деревне одна, без мужа, с двумя детьми.
М.Г.: Дадим слово ей самой:
Всю жизнь и пласталась, чтобы только детей до ума довести. Меня за это иногда сёстры осуждали. А я каждый день хотела скорее к детям прийти, рассказать им что-нибудь доброе, хорошее. Ещё когда Вася маленький был, то дед, Сергей Фёдорович, бывало, говорил мне: «Береги детей, Мария, а особенно Васю. Он у тебя шибко ноне умный, не по годам.[10]
Угадал старик – если учесть, что, когда говорят в таком смысле об уме, имеют в виду и собственно сообразительность, и талант. Ишь, какой умный – вырастет, художником станет. Или – умный он у тебя, в прокуроры пойдёт.
Е.П.: В прокуроры, говорите? «Поэт в России больше, чем поэт», как мы знаем от Евгения Евтушенко. А писатель, пожалуй, на Руси поважнее будет и министра, и прокурора. Хотя для деревни прокурор ближе, но министр – понятнее. Шукшин писал матери из ВГИКа:
Недавно у нас на курсе был опрос, кто у кого родители… У всех почти писатели, артисты, ответственные работники и т. д., доходит очередь до меня. Спрашивают: кто из родителей есть? Отвечаю: мать. Образование у неё какое? Два класса, отвечаю. Но понимает она у меня не менее министра.[11]
М.Г.: Интересно, правда такой опрос был, про родителей, – или Шукшин просто хотел сделать матери приятное? Я вот совершенно уверен во втором. Василий Макарович был склонен рассказывать о себе и своих делах настоящие легенды…
Е.П.: Причём сочинять – и рассказы, и, предположим, легенды – он, по его собственным словам, научился как раз у матери.
Шукшин писал очень трогательные письма матери всю жизнь. Как правило, приукрашивал положение дел, выбирал слова, осторожничал. Но в этом обидного для матери ничего нет. Взрослые дети вообще о многом умалчивают, сглаживая острые углы, когда общаются с родителями (если они и вправду взрослые), и это, наверное, правильно.
М.Г.: Биография его матери вкратце такова. Мария Сергеевна была сибирячкой в первом поколении. Она родилась в 1909 году уже в Сростках, и было их, детей, в семье семеро. Она – седьмая. Ходила в начальную школу, два там было класса или целых четыре, это теперь уже неважно. Вышла замуж до двадцати, а в двадцать два она – уже мать Василия и Натальи (первенец родился в 1929-м, дочь на два года позже). Дважды овдовела – в 22 года и в 31. Проводила сына из дома в 38, с тех пор виделась с ним не так чтобы часто (пусть и регулярно).
По признанию всех, кто с ней общался, – Мария была сильной натурой. Хохотушкой и даже улыбчивой назвать её было нельзя. На взгляд городских она даже казалась мрачноватой и, чего уж тут греха таить, – грубоватой.
Е.П.: Сильной натурой был и сам Шукшин. Надо полагать, что совсем уж идиллическими его отношения с матерью не были… И вот здесь тону его писем доверять нельзя: письма ведь это литература, а жизнь – совсем другое. Мы увидим, что Василий Макарович одно с другим не путал. Поэтому в смысле взаимоотношений с матерью ранний его отъезд и нечастые визиты, возможно, предотвращали большие ссоры…
М.Г.: Шукшин писал:
Мать любит своё дитя, уважает, ревнует, хочет ему добра – много всякого, но неизменно, всю жизнь – жалеет.[12]
Жалость – простая, бескорыстная, всегда на Руси рифмующаяся с любовью – вот что, думаю, было самым главным для Василия Макаровича. И чего он ни в ком другом не мог бы найти никогда. Интеллектуальное участие, глубокое понимание, общность творческих интересов и так далее – этого хоть отбавляй. Женского внимания ему тоже хватало. А вот жалость к знаменитому писателю, артисту и режиссёру – была только у матери. Как этого не ценить!
Е.П.: Жалость. Да. Помните тот бродячий народный сюжет, где пьяный сын бежит за матерью с горящей головней, а она всё причитает: «Смотри, сынок, руки не обожги»?
Или вот рассказ Шукшина «Материнское сердце», где мать пытается вызволить сына из тюрьмы:
Жалко сына Витьку, ох, жалко. Когда они хворают, дети, тоже очень их жалко, но тут какая-то особая жалость – когда вот так, тут – просишь людей, чтоб помогли, а они отворачиваются, в глаза не смотрят. И временами жутко становится…[13]
Я вот подумал: она схоронила обоих мужей, отношения с которыми, как свидетельствуют многочисленные источники, были не самыми идеальными; осталась одна. Не сделал ли Шукшин матери поистине царский подарок в романе «Любавины»? Там есть Мария Сергеевна Попова (девичья фамилия матери, её имя и отчество). Она в романе – прямо идеальна, красива; внешне и внутренне. И она – любима! Сразу трое мужчин – и каких! – её любят: «природный пахарь» Егор Любавин, коммунист Кузьма Родионов, простодушный силач Федя Байкалов – каждый по-своему. Чего, возможно, не хватало ей в жизни, – Мария Сергеевна получила в книге сына…
М.Г.: А в жизни, к сожалению, Марии Сергеевне повезло меньше.
С отцом Василия и Натальи жизнь её была непростой, да вдобавок ещё и очень-очень краткой. Начиналось-то всё романтично – она сбежала от семьи, не одобрявшей союза с Шукшиными (бывшие земляки, семьи Шукшиных и Поповых, к двадцатым годам XX века основательно рассорились). Собственно, не в восторге была и семья Шукшиных. Но сказано – сделано. Их брак, скрепя сердце, признали и те, и эти.
Что интересно, Макар Леонтьевич Шукшин, будучи женихом, скрывал от невесты свой возраст: он был моложе на четыре года. Боялся, что взрослая девушка не согласится выйти за него, почти подростка. Мария Сергеевна говорила, что Макар Леонтьевич был хорошо развит физически, поэтому выглядел старше своих лет. Ну вот, уговорил…
Шукшин в записях к «Любавиным» писал об этом так:
А потом жили неважно.
Отец был на редкость неразговорчивый. Он мог молчать целыми днями. И неласковый был, не ласкал жену. Другие ласкали, а он нет. Мама плакала. Я, когда подрос и начитался книг, один раз хотел доказать ей, что не в этом же дело – не в ласках. Она рассердилась:
– Такой же, наверное, будешь… Не из породы, а в породушку…
Работать отец умел и любил. По-моему, он только этим и жил – работой. Уезжал на пашню и жил там неделями безвыездно. А когда к нему приезжала мама, он был недоволен.
– Макар, вон баба твоя едет, – говорили ему.
– Ну и что теперь?
– Я ехала к нему, как к доброму, – рассказывала мама. – Все едут, и я еду – жена ведь, не кто-нибудь. А он увидит меня, возьмёт топор и пойдёт в согру дрова рубить. Разве не обидно? Дура была молодая: надо было уйти от него.[14]
При этом он очень любил детей и на жену руки не поднимал. Был, по воспоминаниям, высоким, красивым, медлительным… Похоже, по темпераменту Шукшин пошёл всё же в мать.
В реальности семейная жизнь Марии Шукшиной кончается так: Макара ночью уводят чекисты. В «Любавиных» – другой, жуткий сюжет: красавицу Марью Сергеевну убивает из дикой ревности её муж, Егор.
Е.П.: Что они там прожили, бедные, – года три всего?.. Не успели, поди, даже притереться друг к другу.
А потом всё кончилось – Макар был расстрелян. Всего 22 года ему было…
Пишут, что ни за что. Между прочим, таинственная история. В 1933 году Большой террор ещё не начался; это, скорее, отголоски Гражданской войны, закончившейся всего-то лет десять назад. А шла она в Сибири с таким же ожесточением, как и по всей стране. Если не круче – варнаков и башибузуков здесь было больше, чем в европейской России. Оружие практически у всех было, хотя бы охотничье.
Уж больно тогда коммунисты надоели сибирякам: продразвёрстку заменили продналогом, а хлеб всё равно дочиста отбирают. И в колхозы велят записываться. Почему бы не и пальнуть одного-другого коммуниста, поджечь им чего-нибудь, – думает иной лихой «тёмный» сибиряк. Намёками на это полны «Любавины». Уж больно хорошо, до подробностей, писатель знает быт мужиков, подавшихся в бандиты.
М.Г.: А нам известно со слов Марии Сергеевны – как всё это было на уровне семьи.
Ночью зашли, он выскочил в сенцы, ну а в сенцах на него трое и навалились. Ребята перепугались. Наталья дрожит вся, а Василий губу прикусил аж до крови: мама, куда это батю? А самого как лихоманка бьёт…[15]
Шукшин писал:
А когда взяли отца, она сама же плакала. Всё ждала: отпустят. Не отпустили. Перегнали в Барнаул. Тогда мать и ещё одна молодая баба поехали в Барнаул. Ехали в каких-то товарных вагонах, двое суток ехали. Доехали. Пошли в тюрьму. Передачу приняли.
– Мне её надо было сразу уж всю отдать, а я на два раза разделила, думаю: пусть знает, что я ещё здесь, всё, может, легче будет. А пришла на другой день – не берут. Нет, говорят, такого.[16]
С самого начала Марию Сергеевну преследовали дурные предчувствия. Вот пересказ сна, приснившегося Марии Сергеевне после ареста мужа; тут характерны и ощущения молодой женщины, оставшейся с двумя маленькими детьми:
Только-только его забрали. Весной. Я боялась ночами-то, ох боялась. Залезу с вами на печку и лежу, глазею. А вы – спите себе, только губёнки оттопыриваются. Так я, грешным делом, нарочно будила вас да разговаривала – всё не так страшно. А кого вам было-то!.. Таля, та вовсе грудная была. Ну. А тут – заснула. И слышу, вроде с улицы кто-то постучался. И вижу сама себя: вроде я на печке, с вами лежу – всё как есть. Но уж будто я и не боюсь ничегошеньки, слазию, открыла избную дверь, спрашиваю: «Кто?». А там ишо сеничная дверь, в неё постучались-то. Мне оттуда: «Это мы, отроки. С того света мы». «А чего вы ко мне-то? – это я-то им. – Идите вон к Николаю Погодину, он мужик, ему не так страшно». – «Нет, нам к тебе надо. Ты нас не бойся». Я открыла… Зашли два мальчика в сутаночках. Меня всю так и опахнуло духом каким-то. Приятным! Даже вот не могу назвать, што за дух такой, на што похожий. Сели они на лавочку и говорят: «У тебя есть сестра, у неё померли две девочки от скарлатины…» – «Ну, есть, говорю. И девочки померли – Валя и Нюра». – «Она плачет об их, горюет?» – «Плачет, говорю. Жалко, как же». – «Вот скажи ей, штоб не плакала, а то девочкам от этого хуже. Не надо плакать». – «Ладно, мол, скажу. А почему же хуже-то от этого?» Они мне ничего не сказали, ушли. Я Авдотье-то на другой день рассказала, она заплакала: «Милые мои-то, крошечки мои родные, как же мне не плакать об вас?..» Да и наревелись обои с ей досыта. Как же не плакать – маленькие такие, говорить только начали, таких-то ишо жалчее.[17]
Возможно, это была весточка от Макара. Но тут нюанс в чём: о смерти мужа Мария Сергеевна – не знала. Сообщили ей об этом только в 1956-м. Сердцем чувствовала, что Макара в живых нет, – а подтверждения не имела. Как увидим, поверила она сердцу и была права.
Е.П.: Отцом Василий Макарович мог бы называть и отчима, Павла Куксина, – но этого не случилось. Вообще, семья для Шукшина – это мать, сестра, и только.
М.Г.: Хотя позже он утверждал, что Куксин был – хороший человек. Но в детстве Василий отчима не признавал, сердился на мать за её новое замужество.
Макара арестовали в 1933-м, Мария Сергеевна вышла замуж через три года, 11 марта 1936-го, за Павла Николаевича Куксина из соседнего села. Ему было 35 лет, и был он – что удивительно для деревенского жителя в таком возрасте – холостяком.
Кстати, Куксины – одни из первопоселенцев Сросток, их фамилия известна с начала XIX века.
Е.П.: Тут надо понимать, в каких кошмарных обстоятельствах оказалась Мария Сергеевна после ареста мужа. Это касалось и материального положения, и отношения односельчан.
«Сибулонки» (от Сибирского лагеря особого назначения) – так называли «добрые» сибирские крестьяне жён заключённых многочисленных лагерей тех лет. Деревенский мир «сибулонок» сторонился. Кто-то, конечно, помогал, но в целом семьи посаженных становились изгоями.
Терпеть такое было не в правилах Марии Сергеевны. Она поменяла в документах фамилию детей на свою. Вася Шукшин стал Васей Поповым. (А как Василий Попов снова стал Шукшиным – то отдельная история.) И развелась с Макаром, который мог бы ещё быть жив, несмотря на все её предчувствия и «голос сердца». Но даже живым – помочь ни ей, ни детям он не мог в любом случае. Это, думаю, и стало решающим фактором. Кто-то такое мог бы назвать и предательством… Думаю, и называли, особенно семья Макара – родня Василия по отцу. Но мы знаем: это был вопрос выживания. Выйти снова замуж – едва ли не единственное, что она могла сделать для этого.
М.Г.: Скарлетт О’Хара из «Унесённых ветром» Маргарет Митчелл выходила замуж, чтобы сохранить своё поместье; матери Шукшина нужно было совершить куда большее – сохранить и вывести в люди своих детей.
Е.П.: Да и самой уцелеть. То, что происходило после ареста Макара, Шукшин впоследствии описал в рассказе «Самые первые воспоминания» («Солнечные кольца»):
Нас хотели выгнать из избы. Пришли двое: «Вытряхивайтесь». Мы были молоды и не поняли серьёзность момента. Кроме того, нам некуда было идти. Мама наотрез отказалась «вытряхиваться». Мы с Наташкой промолчали. Один вынул из кармана наган и опять сказал, чтоб мы вытряхивались. Тогда мама взяла в руки безмен и стала на пороге. И сказала: «Иди, иди. Как дам безменом по башке, куда твой наган девается». И не пустила – ушли. А мама потом говорила: «Я знала, что он не станет стрелять. Что он, дурак, что ли?»[18]
Шустрил – местный активист Яша Горячий (Прохоров), «страшный маленький человек с рыжей бородой» (характеристика Шукшина). Василий Макарович позже вспоминал, как Яша нашёл у них в доме на полатях берёзовые чурки из березняка рядом с селом, который было запрещено рубить, а мать говорила: «Ну, смотри, Яша. Не доактивничать бы тебе…». Яша её не тронул – а вот Екатерину Кондратенко, которая отказывалась отдать ему костюм только что арестованного мужа, он избил. И опять вспоминаются соответствующие эпизоды из «Любавиных».
При этом Мария Сергеевна постоянно ждала, что придут и за ней. Об этом вспоминала её дочь Наталья:
После того, как забрали отца, мама всё время ждала прихода тех же людей с той же целью. <…> в старый мешок были уложены нехитрые пожитки. Сверху в этом мешке всегда лежала чугуночка. В этой чугуночке мама варила кашу или затируху (вкрутую замешанное и растёртое в крошки тесто). Помню, сварит мама затируху, выложит в чашку, а чугуночку вымоет и снова уложит в мешок, который всегда стоял в сенцах у двери. Жили всегда в страхе и всегда были готовы к ночному стуку и слову «собирайтесь».[19]
М.Г.: И опять Мария Сергеевна пошла против мнения семьи будущего мужа. Куксины рассуждали просто – столько девок кругом, а Павел, видный жених, выбрал сибулонку с двумя детьми! Видимо, поэтому семья и переехала из Сросток – сначала в райцентр, потом в Бийск. Кстати, по инициативе энергичной Марии Сергеевны. Во-первых, как писала Наталья, «мама узнала, что в Бийске есть годичные курсы кройки и шитья, и ей очень захотелось научиться шить». Ну а во-вторых, в Сростках ей, вероятно, было не вполне комфортно – та же семья Шукшиных ей так до конца и не простила отказа от родного мужа Макара Шукшина (как это было расценено ими). Повторим, что о гибели мужа Мария Сергеевна узнала только в 1956-м.
Потом, уже перед войной, вернулись обратно в Сростки. Отсюда Куксин и ушёл на фронт в 1941-м.
Как жили между собой Мария и Павел? По деревенским меркам, наверное, неплохо; шумных скандалов вроде не наблюдалось. К детям Павел Куксин относился хорошо.
Автор книги о Шукшине, барнаульский журналист и писатель-краевед Сергей Тепляков приводит любопытное свидетельство местных жителей. Софья Матвеевна Пономарёва, соседка Шукшиных, рассказывала, что Мария Сергеевна ревновала мужа, которому по работе (он был заготовителем кож) часто приходилось ездить по округе, устраивала целые сцены:
Приедет он назад. Она начинат его и начинат. Мария Сергеевна: ты там у женщин был. Она ревниста была. Хуу, чо делала: «Собирайся и уходи». Он счас соберётся, к родителям уйдёт, Павел. Ночует там ночь, она пойдёт к нему: «Пойдём, Павел, пойдём». Опеть дружно с ей живут.[20]
Обратите внимание: жена выгоняла мужа из дома к его родителям! Не очень типичная для деревни ситуация.
Однажды Мария Сергеевна, придя с работы домой и застав мужа выпивающим с гостем, другим заготовителем, смела со стола всю посуду. «Она карахтерна была», – вспоминала Софья Матвеевна. Хорошее определение, очень подходящее матери Шукшина!
При этом Куксин о детях не забывал, в том числе – о ершистом пасынке. Наталья вспоминала:
Павел Николаевич работал заготовителем кож, ездил по сёлам на лошади и, возвращаясь, всегда привозил нам сладости. Больше всего мне нравились баночки с леденцами. А Вася демонстративно отказывался от подарков, делая вид, что он от него ничего не возьмёт, так что обе баночки доставались мне. Но когда мы оставались одни, Вася изображал такую просящую мину, что мне становилось его жаль, и я делилась с ним лакомством.[21]
Е.П.: Да, Павел, видно по всему, тоже хороший мужик был, не хуже Макара…
Он ушёл на фронт – в числе первых, в июле 1941-го. Мало из них, того первого призыва, уцелело. Вот и он – пропал без вести под Москвой…
М.Г.: А вот сон, приснившийся Марии Сергеевне перед отправкой отчима Шукшина на фронт:
Как забрали наших мужиков, то их сперва здесь держали, а потом в Бийск вон всех отвезли – в шалоны (эшелоны. – М.Г.) сажать. Согнали их туда – видимо-невидимо! Ну, пока их отправляли партиями, мы там с имя жили – прямо на площади, перед вокзалом-то, больша-ая была площадь. Дня три мы там жили. Лето было, чего же. И вот раз – днём! – прикорнула я, сижмя прямо, на мешок на какой-то голову склонила да и задремала. А он рядом сидел, отчим твой, Павел-то. И только я задремала, вижу сон. Будто бы мы с им на покосе. А покос вроде не колхозный, а свой, единоличный. Балаган такой стоит, таганок возле балагана… Сварила я похлёбку да даю ему попробовать: «На-ко, мол, опробуй, а то тебе всё недосол кажется». Он взял ложку-то, хлебнул, да как бросит ложку-то, и даже заматерился, сердешный. Он редко матерился, покойничек, а тут даже заматерился – обжёгся. И я сразу и проснулась. Проснулась, рассказываю ему, какой сон видела. Он послушал-послушал да загрустил… Аж с лица изменился, помутнел (побледнел). Говорит печально: «Всё, Маня… Неспроста этот сон: обожгусь я там». И – обжёгся: полгода всего и пожил-то после этого – убило.[22]
Конечно, Мария Сергеевна горевала – но надо было жить дальше. И хотя бы в психологическом плане она с детьми себя изгоем на этот раз не чувствовала. Вдова фронтовика – не сибулонка. «На фронт из села ушло 466 человек, а вернулось 230, неполная половина», – такие данные о Сростках приводит Сергей Тепляков. Хотя то, что сообщили о Павле – пропал без вести, – всё же не было однозначным: иногда такие люди возвращались…
Е.П.: Так и из тюрем и лагерей тоже возвращались. Но рассчитывать на это Мария Сергеевна не могла. За пропавшего без вести даже пенсии не полагалось. А вдруг он в плену или у Власова? Так что курсы кройки и шитья Марии Сергеевне явно пригодились.
Нелегко пришлось в военные годы жителям сибирской деревни! Вот характерный штрих к тем временам из воспоминаний Надежды Ядыкиной (Надежда Алексеевна Ядыкина (Куксина) – дальняя родственница писателя (в четвёртом поколении, по линии Поповых), создатель первого школьного музея В.М.Шукшина в селе Сростки, открытого в 1976 году.), сверстницы Васи:
Ранним утром наши мамы выходили на улицу, смотрели, где идёт дымок из трубы, и шли туда с шуфелем (совком) за горящим кизяком, чтобы разжечь свою печь. Ведь спичек-то не было.[23]
Что интересно – даже в послевоенную пору, когда одиноких женщин было куда больше, чем мужиков, к Марии Сергеевне снова приходили сваты! Однако в третий раз замуж она так и не пошла. «Раз, говорит, мне бог дал вдовой жить, буду вдовой. Одна буду растить детей», – вспоминала её сестра Анна Сергеевна Козлова.
Исследователи находят эхо этого сватовства в рассказе Шукшина «Племянник главбуха»: Витька, тринадцатилетний мальчишка, вдруг узнал, что мать собралась замуж, приехал к ней, спросил. Она сначала всё отрицала, а потом «села к столу и заплакала. Плакала, и сама не понимала отчего: от радости ли, что сын помаленьку становится мужчиной, от горя ли, что жизнь, кажется, так и пройдёт… Так и пройдёт». Так и прошла.
А ещё вспомните великолепный фильм Германа Лаврова и Станислава Любшина «Позови меня в даль светлую» (1977) по одноимённой киноповести Шукшина (куда вошёл и процитированный рассказ), где Любшин замечательно играет богатенького провинциального зануду-алкаша, сватаюшегося к вдове (Лидия Федосеева). А её сын, которого эта жалкая личность пытается по-отцовски учить уму-разуму, чинит ему всякие пакости.
М.Г.: Но всё-таки Мария Сергеевна, при всей своей энергичности и стойкости, конечно, была живым, подверженным и настроению, и страхам, и суевериям человеком. Сама признавалась много-много лет спустя: в момент отчаяния, когда осталась одна, без Макара, хотела свести счёты с жизнью, отравившись угарным газом. И ещё – не стала сохранять ребёнка от Куксина, поддалась уговорам и наговорам – мол, своего он будет больше любить, чем твоих… О чём потом, в старости, жалела.
Е.П.: Судить её – не нам.
Для всех нас главное, что она совершила свой личный подвиг – сберегла и воспитала для России такого человека, как Василий Шукшин.
Старшая дочь Шукшина, Екатерина, волею судеб родная внучка знатного советского писателя и партийного функционера Анатолия Софронова, как-то сказала про отца – грубовато, но в общем по делу:
Главной женщиной для Василия Макаровича была его мать… Их всю жизнь связывала пуповина толщиной в руку. Если посмотреть фотографии, камень заплачет, с какой надрывностью они друг друга любили. Жизнь врозь была для него мучением.[24]
Я, когда это прочитал, невольно подумал, что все жёны Шукшина мастью были, пожалуй, в его мать.
М.Г.: Но стоит сказать и о другой женщине из семьи Шукшина – младшей сестре Наталье, Тале, как он её называл.
В раннем детстве она была «баловливая», он, как старший, её сдерживал. Воспитывал. Таля, в отличие от брата, любила отчима. И, как мы уже говорили, в отличие от брата всю жизнь провела недалеко от матери. Закончила Новосибирский физмат, работала учителем в школе. В последние годы жизни много сделала для сохранения памяти о Василии Макаровиче. Наталья оставила интересные воспоминания* о Василии Макаровиче, очень искренние.
Е.П.: Что характерно: Мария Сергеевна так воспитала сына, что о сестре он всегда помнил, заботился о ней. Это тоже ведь одна из тревог любой матери: чтобы дети держались друг друга.
М.Г.: Да, она с вполне законной гордостью рассказывала своему врачу, Людмиле Формель:
Сызмальства сестрёнку баловал, опекал. Когда у Наташи муж умер, всё бросил и на похороны прилетел. А потом завалил письмами, в которых её постоянно успокаивал. Как-то организовал ей и племянникам отдых на Чёрном море, где он и сам по работе находился. Дорогу оплатил и всем знакомым, друзьям наказал на пересадках их встречать и всячески помогать. Очень сильно любит крестников Серёжу и Надю, он им вместо отца родного. Только племянникам позволяет «мешать» во время работы: отставляет все свои дела и с удовольствием выполняет их прихоти. Он и сейчас Наташу поддерживает: деньги на первый взнос за кооперативную квартиру дал.
Е.П.: И вот что интересно: в 1961 году любящий брат писал ей:
Таленька, я люблю в тебе маму – ты от неё много взяла, и сама этого не замечаешь. Я люблю в тебе, что ты русская. Что ближе тебя у меня на земле никого нет.[25]
То есть – и сестру он оценивал как будто через мать. Имевшую, к слову, поистине русский характер, в который входит способность в критические моменты показывать настоящие чудеса. Здесь, наверное, уместно вспомнить и другой «русский характер» – актрису Лидию Николаевну Федосееву-Шукшину, многолетнюю спутницу Василия Макаровича, которая стала самым близким ему человеком ещё в 1964 году, когда его будущее было для многих весьма туманным.
М.Г.: Увы, Наталья в чём-то повторила судьбу матери – овдовела в 30 лет, осталась с двумя детьми. Слава богу, времена были совсем другие, да и Василий имел возможность помогать, и помогал всем, чем мог.
Но, по всем отзывам, Наталья была всё же куда мягче матери, хотя и очень на неё походила внешне. Вот воспоминания ученицы Натальи Макаровны, Надежды Князевой, много лет возглавлявшей библиотеку в Сростках, – и о сестре Шукшина, и о нём самом говорящие много:
Наталья Макаровна пришла к нам в седьмом классе, сразу нам всем понравилась: красивая, обаятельная, милая молодая женщина. Как учитель была замечательная, объясняла доступно, старалась, чтобы до каждого дошло. Очень эмоциональная, не так, как другие, лишь бы рассказать…
Относилась к нам ко всем одинаково, никого не выделяла, справедливая. Душой болела за каждого ученика. Двоих мальчиков, которые жили в интернате, она поселила на квартиру к Марии Сергеевне, чтобы они могли лучше готовиться к экзаменам.
Один раз к нам на классный час приходил Василий Макарович, и мы с раскрытыми ртами слушали о съёмках в кино, о работе режиссёра. Потом он с нами на выпускном вечере ходил на гору. Поднялись от кладбища, прошли через всю гору к Катуни, над Бакланью. Там пели песни, играли, веселились, и он с нами, и Наталья Макаровна во всех играх принимала участие. А потом он нас всех до дому проводил, каждого.
Тогда же пообещал показать, как делают фильм. Потом, в конце июня, а может, в начале июля за нами пришёл автобус киностудии им. Горького, мы сели и поехали в Манжерок, где снимался фильм «Ваш сын и брат». Жили мы в палатке на берегу Катуни, а съёмочная группа – в школе. Целую неделю мы наблюдали за съёмками. К нам часто приходил актёр Ванин, тогда ещё молодой и сильный. Василий Макарович тоже бывал, снабжал нас продуктами… Я до сих пор это всё помню.[26]
Вот ещё воспоминания дочери Натальи Макаровны, то есть племянницы Шукшина:
Она была истинно женщиной, и эмоции захлёстывали её. Если горе – то через сердце, с глубокими шрамами на всю оставшуюся жизнь, если радость, то до детского хлопанья в ладоши и приплясывания. Умела в любой ситуации оставаться сама собой, с чувством юмора, оптимизмом, добродушием…[27]
Е.П.: Между прочим, сестра не одобрила установку грандиозного памятника Шукшину на Пикете. Знаменитая бронзовая скульптура Вячеслава Клыкова, высотой вместе с постаментом – около пяти метров, весом свыше двадцати тонн. Место роскошное – вершина горы, видно всё на много километров. Не понравился пафос. Говорила так:
Зачем его подняли и закрыли от людей? Ведь он с людьми должен быть. Зачем ему эта высота? Он уже на такой высоте, на которую нам не подняться… С любой точки села, с любого места я его вижу. Это невыносимо. Моё сердце просто этого не выдержит…[28]
М.Г.: Наталья Макаровна умерла в 2005 году, ей было 73. Похоронена – на сельском кладбище в Сростках, рядом с матерью. Пусть и вдали от брата, увы…
Но – рядом с местом его рождения. Итак, великий русский писатель, актёр и режиссёр Василий Макарович Шукшин родился в деревне Сростки 25 июля 1929 года…
Глава третья
«Книги он читал шкафами»
М.Г.: Когда пишешь о детстве такого человека, как Василий Шукшин, невольно ищешь проявления величия в самом нежном возрасте. Сказывается житийный канон – ждём чудес уже от младенцев! Судя по воспоминаниям людей, знавших Шукшина в детстве, они тоже пытаются найти в его мальчишеской жизни что-то такое… отличающее Василия от обычного деревенского пацана. Получается – не очень.
Е.П.: Смешно! Подобные «проявления величия» ещё в XVIII веке пародировал великий английский писатель Лоренс Стерн. В его романе «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» некий дядя Тоби предрекает грандиозное будущее своему племяннику, наблюдая за тем, как ребёнок… запускает обыкновенный волчок.
М.Г.: Вот и про Василия Макаровича сейчас нечто подобное можно вычитать – написанное, разумеется, задним числом.
Е.П.: А кстати, стоит ли относить Шукшина именно к «деревенским пацанам»? У меня есть сомнения насчёт применимости к нему канона «босоногое детство моё», воспетого тысячами даровитых и бездарных поэтов-почвенников.
Во-первых, Сростки – это большой населённый пункт, некогда – райцентр, расположенный рядом со вторым по величине городом Алтайского края, Бийском. Во все времена в Сростках жило примерно три тысячи человек. Для Европы и даже европейской России – это вполне городской масштаб! Большие Сростки даже неформально делились на районы, со своими названиями, совсем как в городах, – Баклань, Мордва и др.
Во-вторых, там, конечно, существовал колхоз, но сростинцы занимались отнюдь не только крестьянскими делами. Не будем забывать о Чуйском тракте, проходящем по селу, который давал дополнительные возможности и соблазн заработка. Многих сростинцев магистральная трасса на Юг, в Монголию, действительно кормила – они гоняли скот, потом стали шофёрами или механиками. Отчим Шукшина, Павел Куксин, был заготовителем, то есть скупал у жителей окрестных мест продукцию их личных подсобных хозяйств. Например, телячьи шкуры. То есть был чем-то вроде советского коммивояжёра. Уж никак не крестьянином! Мария Сергеевна Шукшина тоже служила: сначала техничкой в райкоме партии, затем парикмахером.
А что жили в избах, скотину держали, – так подобным образом жили на всех городских окраинах и в маленьких городах по всей стране. Мы жили – в центре старого Красноярска, но в деревянном доме, и держали корову и кур – до самых шестидесятых, когда дом сломали и всех его обитателей расселили в пятиэтажки без лифта. Так было – и в Красноярске, и в Барнауле, и уж тем более в небольшом Бийске. Когда Шукшин мальчиком уехал туда учиться в техникум, он, думаю, сильного внешнего отличия «города» Бийска от «села» Сросток не заметил (другое дело, что с «городскими» он не сошёлся, и внутренне город был всё же иным, чем деревня, – но это отдельная тема). Да что там Красноярск, Барнаул, Бийск? В Москве в те годы так же на окраинах жили! Например, на Преображенке, – об этом мне рассказывал писатель Фридрих Горенштейн.
М.Г.: Про Василия Макаровича правильно пишут: «уехал мальчиком». Именно мальчиком. Даже если бы считать Сростки деревней, то сколько Василий в ней прожил? Всего-то до 15 лет. Да ещё из этих пятнадцати лет – год он с отчимом и матерью провёл в Бийске. Потом уехал в бийский автомобильный техникум, а когда вернулся – сразу же, в 1947 году, покинул родину почти навсегда (возвращался ещё после армии, чуть больше года в родном доме прожил).
Другое дело, что, вне зависимости от биографии, «деревня» для него навсегда осталась – символом, концептом, противостоящим «городу».
Не будем забывать также, что быть подчёркнуто «особым», «отличающимся» – например, «деревенским» человеком в столичной тусовке (и даже демонстративно носить сапоги) – иногда оказывалось даже выгодным. В том числе и при общении с высшим киноначальством, настроенным подозрительно к москвичам-фрондёрам…
Е.П.: Тут вспоминается Сергей Есенин, покинувший родную деревню при первой же возможности, и потом не часто там бывавший, но любивший себя именовать «последним поэтом деревни». При этом – воспевавший сельскую жизнь, можно сказать, гениально! Или Фазиль Искандер с Валентином Распутиным, считающиеся «почвенниками». Особенно последний, родившийся в деревне, но потом бывавший там преимущественно во время летних каникул. Искандер и Распутин ничем не отличались от почти всех советских детей их и нескольких следующих поколений, бывших горожанами максимум во втором поколении, а значит, имевших многочисленную сельскую родню.
Да и мы с вами, Михаил, хоть и городские, но лето проводили в деревне: я – в Красноярском крае, деревня Сухая Емельяновского района, вы – и вовсе рядом со Сростками. Спал на сеновале, косил траву для коровы. Эх, какие шанежки стряпала двоюродная бабушка Настя!
М.Г.: Моя мать уехала из алтайской деревни Озерки (до Сросток – меньше 100 километров, но, в отличии от них, это настоящая глушь) тоже в 16 лет. Поступила в химический техникум, потом в Томский политехнический институт – и никогда о своём отъезде не жалела. Но в воспитательных целях не раз мне указывала на преимущества деревенских характеров – прямоту и безыскусность. На что я, будучи подростком, коварно ей замечал: «Раз деревенские люди такие хорошие, что ж ты среди них не осталась?» Тут она начинала сердиться, воспитательный процесс прерывался, чего мне и было надо. Царствие ей Небесное.
Е.П.: Понимаете, драматическая основа большинства произведений Шукшина – это именно «промежуток», «жизнь между»: между городом и деревней. Тяжело приживаться в городе – но ведь и домой возврата нет! Не трагедия, но драма. Эту драму молодой Шукшин испытал сполна на себе.
М.Г.: В замечательном цикле рассказов «Из детских лет Ивана Попова» (как мы помним, именно Поповым он был записан матерью после ареста отца) внешние контуры жизни юного Василия и его персонажа, предположительно ровесника, совпадают. Так что мы вправе рассматривать этот небольшой цикл, созданный уже зрелым писателем, не как документ, конечно, но как своеобразные лирические мемуары. Хронологически рассказы начинаются с того момента, когда семья героя-рассказчика переезжает ненадолго в Бийск.
Фазиль Искандер создал гораздо более обширный цикл про детство Чика, мы об этом писали в «опыте художественной биографии» «Фазиль», но мне кажется, что Шукшин – куда в большей степени Иван Попов, чем Искандер – Чик.
Кстати, здесь мы видим литературную игру, в которой многие Шукшину почему-то отказывают. А он был мастер этой игры, настоящий виртуоз! В частности, очень любил преобразовывать реальность так, чтобы было «всё как в жизни», но всё-таки иначе. Мы это видим по «Любавиным», где практически все его близкие и односельчане вроде бы те, даже фамилии совпадают, – да не те. Вне зависимости от того, носят они свои подлинные имена, известные Шукшину, или писатель их придумал. Но «Любавины» – ранняя вещь; впоследствии он будет играть ещё искуснее.
В семидесятые годы станет популярным приём, когда автор пишет от первого лица, и даже героя зовут точно так же, как его самого, – но это совсем не он! Ярчайшие примеры – Сергей Довлатов, Эдуард Лимонов. Их герои «Серёжа» и «Эдичка» отнюдь не равны авторам (чего некоторые до сих пор понять не могут). Вот и у Шукшина герой по имени Иван Попов совсем не равен реальному Ивану Попову, шукшинскому родственнику (троюродный брат по матери) и другу.
Настоящий Иван Попов школьнику Шукшину гармошку подарил! А потом стал сибирским художником, профессором в Новосибирске, и Василия Макаровича не раз изображал.
При этом персонаж Иван Попов, повторю, – это во многом альтер эго Шукшина. Сам по себе приём – выдавать свои сочинения за «дневник одного знакомого» – в литературе нередкий, но вот чтобы этот знакомый был реальным человеком, и ты, писатель, словно берёшь напрокат его личность и паспортные данные, – это, согласитесь, весьма оригинально.
Как бы то ни было, цикл рассказов «Из детских лет Ивана Попова» – бесценное свидетельство о детстве Василия с десяти лет. Что было раньше – можно узнать из воспоминаний сестры Шукшина, его деревенских знакомых и ровесников.
Е.П.: Да что было? После ареста отца жили совсем плохо, потом как-то наладилось…
О Шукшине в его ранние школьные годы вспоминают, что он был очень миловидный, кроткий был и совестливый, – но очень уж нервный. Можно сказать и по-другому – очень восприимчивый. В том числе – горячо откликался и на произведения искусства:
Васю трясло мелкой дрожью, он весь был во внимании, ничего не слышал и не видел кругом, кроме происходящего на сцене.[29]
Это его одноклассник Александр Куксин вспоминает, как Вася услышал чтение стихотворения Константина Симонова «Сын артиллериста». Помните такое?
М.Г.: Ну как же. Наизусть
- Был у майора Деева
- Товарищ – майор Петров,
- Дружили ещё с гражданской,
- Ещё с двадцатых годов.
- Вместе рубали белых
- Шашками на скаку,
- Вместе потом служили
- В артиллерийском полку…
Е.П.: А я вот не помню. С детства корчил из себя оппозиционера, хотя им не был… Что мне Симонов? Мне Евтушенку и Вознесенского подавай. «Свежести! Свежести! Хочется свежести! Свадебной снежности и незаслеженности». Или «В век разума и атома мы – акушеры нового. Нам эта участь адова по нраву и по норову»…
М.Г.: …И самую главную коллизию – верно, как раз и взволновавшую юного Василия, – хорошо помню. Дееву нужно послать на смертельно опасное задание сына своего погибшего друга. Жалко. Но долг есть долг.
- Идёшь на такое дело,
- Что трудно прийти назад.
- Как командир, тебя я
- Туда посылать не рад.
- Но как отец… Ответь мне:
- Отец я тебе иль нет?
- – Отец, – сказал ему Лёнька
- И обнял его в ответ.
К счастью, всё кончилось хорошо. Лёнька исполнил долг и выжил. Помню, в детстве, читая, так переживал! А я ведь младше Шукшина почти на 40 лет! Всё равно работало.
Судя по всему, в детстве интересовала Васю и музыка. Про песни народные можем это предполагать, хотя бы судя по его фильмам, да и сам он об этом говорил. А про эстраду даже имеется мемуарное свидетельство. Перед войной кто-то из родни отчима привёз из города граммофон. Большая редкость! Слушали пластинки. Василий, представьте себе, отдавал предпочтение иностранным. Танго «Рио-Рита» и «У водопада», фокстрот в исполнении оркестра Генри Холла…
Е.П.: Ай-я-яй! «Аксёновщина» прямо какая-то! А с другой стороны, есть у Василия Макаровича в миниатюре «Куплеты» из цикла «Выдуманные рассказы» (несмотря на название, по факту документальных, автобиографических) такая запись: «…ходил к бабке Шукшихе (года 4 было) и пел матерные частушки – чтоб покормили»[30]. Вот вам и оркестр Генри Холла…
М.Г.: Известны и два эпизода, связанные с первыми сценическими опытами Василия.
Четвероклассник Шукшин на концерте в честь 1 мая играл Лентяя, у которого от лени подушка приросла к голове: «Он идёт к врачу. И врач начинает отрывать подушку. Перья летят. Все хохочут».
Другой эпизод. Шла война, школьный драмкружок решил поставить военную пьесу, чтобы «обязательно со стрельбой». В каком-то журнале нашли подходящий отрывок. Ролей пять – два красноармейца и три фашиста. Шукшин играть фашиста наотрез отказался! Незадолго перед этим пропал без вести отчим, его можно понять… Тогда Васе поручили произвести «выстрел» за сценой и погасить в финале свет. Выдали настоящее ружьё, но с холостыми зарядами. И вот самый драматичный момент. Немецкий офицер предлагает пленному красноармейцу выступить по радио: сказать, что немцы с ним хорошо обращаются, и призвать других сдаваться. Красноармеец соглашается, но, подойдя к микрофону, начинает говорить совсем другое: «Убивайте, уничтожайте фашистов!». Его пытаются оттащить от микрофона, он не даётся, немец тянется к кобуре и… кобура не расстёгивается! Красноармеец тянет время, крича в микрофон: «Убивайте гадов!». Немец, поняв, что с застёжкой кобуры ему не справиться, идёт врукопашную – подбегает к красноармейцу и даёт ему по лицу. Тот бьёт его в ответ, немец делает несколько шагов назад, сталкивает декорацию из столов и брезента и вместе с ней падает. И в этот самый момент заждавшийся сигнала Василий решает, что уже пора, – и палит из ружья! Бедный красноармеец, оставшись один на разрушенной сцене, от растерянности снова кричит: «Убивайте, уничтожайте фашистов!». Сцена разрушена, публика от смеха плачет и валится со скамеек. Но пьесу-то надо доиграть! Немец всё же расстёгивает кобуру и достаёт пистолет, Василий перезаряжает ружьё, картинка и звук наконец сходятся – выстрел гремит, красноармеец героически погибает. Шукшин гасит лампу, в темноте слышен только хохот и одобрительный топот зрителей…
Е.П.: Тут замечу, что вряд ли этот эпизод был судьбоносным для Шукшина. К тому же, можно подумать, он только и делал, что стихи Симонова и «Рио-Риту» слушал, да в школьной самодеятельности играл! Нет: работал, как и все сельские дети.
С сестрой сидел. Со скотиной «управлялся». Хулиганил понемногу. Да и в колхозное поле работать выходил. Причём сам туда рвался, где хоть что-то платили, – жили-то очень скромно. А чему удивляться – война! Каждый кусок хлеба дорог.
Мать уговорила бригадира, и Василия взяли водовозом на табачную плантацию. Было ему тогда 12 или 13 лет. «Клопик сидит за бочкой, его прямо не видно. Гляжу на него, аж сердце заходится»[31], – вспоминала много лет спустя Мария Сергеевна. Василий никак не мог совладать с быком, на котором нужно было возить воду. А из-за этого и выработки никакой, трудодней мало:
Идёт, идёт по дороге, потом ему почему-то захочется свернуть в сторону. Свернул – бочка набок. Я бил его чем попало. Бил и плакал от злости. Другие ребята по полтора трудодня в день зашибали, я едва трудодень выколачивал с таким быком. Я бил его, а он спокойно стоял и смотрел на меня большими глупыми глазами. Мы ненавидели друг друга.[32]
Однажды порвался хомут, Василий починил его, располосовав на ленты-верёвочки свою рубаху. «Вечером приходит домой, нагишом заходит», – вспоминала его тётка Вера Сергеевна Буркина.[33] Мать его, надо полагать, чуть не прибила – хомут-то хомутом, имущество колхозное, а носить больше нечего! Сама была не рада, что отдала Васеньку на поля. К счастью, бригадир привёз потом два метра ткани на новую рубаху.[34] На этом, в общем, карьера Шукшина-крестьянина и завершилась.
М.Г.: Интересно, что младший земляк Шукшина, Валерий Золотухин, вспоминал, как и его посылали водовозом в детстве подрабатывать, но он тоже учудил: заткнул дыру в бочке – полынью! Вода стала горькой, непригодной для питья. Мужики, мягко говоря, не обрадовались…
А что касается того быка, то немаловажно и то, что случилось дальше:
…забили моего быка. Трое мужиков взяли его и повели на чистую травку – неподалёку от избушки. Бык покорно шёл за ними. А они несли кувалду, ножи, стираную холстину… Я убежал из бригады, чтобы не слышать, как он заревёт. И всё-таки услышал, как он взревел – негромко, глухо, коротко, как вроде сказал: «Ой!». К горлу мне подступил горький комок; я вцепился руками в траву, стиснул зубы и зажмурился. Я видел его глаза… В тот момент, когда он, раскорячив ноги, стоял и смотрел на меня, повергнутого на землю, пожалел он меня тогда, пожалел.
Мяса я не ел – не мог. И было обидно, что не могу как следует наесться – такой «рубон» нечасто бывает.[35]
Не знаю, так ли было всё на самом деле, но здесь чувствительная душа видна вполне. А вместе с тем, удивительным образом, с этой «высокой» эмоцией соединяются ощущения подростка, который не может наесться вдоволь. Тем более, мяса! Но переживания – важнее желудка… Кстати, не эта ли особенность организма приведёт молодого Шукшина к тяжёлой язве?
Процитируем ещё одно описание летнего труда из цикла «Из детских лет Ивана Попова»:
Мы жнём с Сашкой Кречетовым. Сашка старше, ему лет 15–16, он сидит «на машине» – на жнейке (у нас говорили – жатка). Я – гусевым. Гусевым – это вот что: в жнейку впрягалась тройка, пара коней по бокам дышла (водила или водилины), а один, на длинной постромке, впереди, и на нём-то в седле сидел обычно парнишка моих лет, направляя пару тягловых – и, стало быть, машину – точно по срезу жнивья.
Оглушительно, с лязгом, звонко стрекочет машина, машет добела отполированными крыльями (когда смотришь на жнейку издали, кажется, кто-то заблудился в высокой ржи и зовёт руками к себе); сзади стоячей полосой остаётся висеть золотисто-серая пыль. Едешь, и на тебя всё время наплывает сухой, горячий запах спелого зерна, соломы, нагретой травы и пыли – прошлый след, хоть давешняя золотистая полоса и осела, и сзади поднимается и остаётся неподвижно висеть новая.
Жара жарой, но ещё смертельно хочется спать: встали чуть свет, а время к обеду. Я то и дело засыпаю в седле, и тогда не приученный к этой работе мерин сворачивает в хлеб – сбивает стеблями ржи паутов с ног.
Е.П.: Но надо понимать, что Василий в юном возрасте не вкалывал до изнеможения с утра до ночи, а подрабатывал лишь летом. Как это делали и делают все дети всех времён и народов, при капитализме ли, при социализме ли. Городские – курьерами, например, деревенские – в поле. Я тоже лет до десяти ошивался около продовольственного магазина, где меня тётки за копейки нанимали играть роль «ребёнка» (с ребёнком тётке давали сахара в два раза больше нормы). Паспорт получил – грузчиком подрабатывал на макаронной фабрике. И не от хорошей жизни. Тяжёлая, надо сказать, была работа.
М.Г.: Пожалуй, более важными были другие эпизоды детства – например, ночная рыбалка, про которую автобиографический герой Шукшина вспоминает очень охотно, причём – как о первом именно мужском деле:
Как нравилось мне, каким взрослым, несколько удручённым заботами о семье мужиком я себя чувствовал, когда собирались вверх «с ночевой». Надо было не забыть спички, соль, ножик, топор… В носу лодки свалены сети, невод, фуфайки. Есть хлеб, картошка, котелок. Есть ружьё и тугой, тяжёлый патронташ.
– Ну всё?
– Всё вроде…
– Давайте, а то поздно уже. Надо ещё с ночёвкой устроиться. Берись!
Самый хитрый из нас, владелец ружья или лодки, отправляется на корму, остальные, человека два-три, – в бечеву. Впрочем, мне и нравилось больше в бечеве, правда, там горсть смородины на ходу слупишь, там второпях к воде припадёшь горячими губами, там надо вброд через протоку – по пояс… Да ещё сорвёшься с осклизлого валуна да с головой ухнешь… Хорошо именно то, что всё это на ходу, не нарочно, не для удовольствия. А главное, ты, а не тот, на корме, основное-то дело делаешь…[36]
Есть возможность сравнивать: там, в поле, – своего рода развлечение, приключение; здесь – всё серьёзно: инициация, превращение в мужчину.
Е.П.: Были и менее легальные забавы. Пацаны – может, от голода, но, скорее, из озорства – лазили в чужие огороды: за огурцами, за ранетками в сад деда Зозули… «Другой раз подкараулит – всыплет. Не подкараулит – убежали»[37], – вспоминал друг Шукшина Вениамин Зяблицкий.
М.Г.: Ещё один эпизод описывает Сергей Тепляков в книге «Шукшин. Честная биография». Пацаны сделали налёт на пасеку. Причём якобы именно Василий придумал, как таскать рамки из улья, не приближаясь к нему, – в кузне выковали длинную металлическую трость, чтобы доставать их с безопасного расстояния. Он же и всё распланировал: кто открывает ульи, кто тащит рамки, кто караулит… С добычей мальчишки бросились к Катуни, кинули рамки в воду, чтобы пчёлы всплыли, – и начался пир! Но тут одна оставшаяся в рамке пчела укусила Веню Зяблицкого, другая – Василия… Щёки вздулись, глаза заплыли! И больно, и смешно, и мёду хочется… Потом друзья отсиживались на чердаке, ожидая, чтобы опухоль хоть немного сошла.
Е.П.: Судя по этим историям, при всей чувствительности и восприимчивости, характер у подростка был далеко не ангельский. И чем дальше, тем ядрёнее. С материнским норовом «ндрав» подростка сшибался, аж выбивая искру.
Характерен эпизод, когда десятилетний Шукшин, сопротивлявшийся переезду в Бийск, устроил такую штуку: демонстративно закурил, провоцируя отчима на агрессию. Дескать, даст тот мальчишке подзатыльник, он пожалуется матери, а мать отчима прогонит, раз ребёнка бьёт. Однако интересно и развитие ситуации: огорчившийся отчим обещал рассказать всё матери – и тут уж сам ребёнок взмолился этого не делать. Знал, что мать за такое его отстегает и не задумается. Но отчим – не рассказал.
М.Г.: Учился парнишка так себе. К школе никакого особого интереса не испытывал. Немногословный, смотрящий несколько исподлобья, но чувствительный и искренний троечник – вот его обобщённый образ глазами одноклассников и знакомых. Душой компании не был. Хулиганом тоже. Держался немного в стороне.
Но если требовалось – мог и проявить себя! Однажды свою ровесницу, уже упоминавшуюся нами Надежду Ядыкину, Шукшин спас из-под копыт табуна, который гнали по улице на водопой:
И тут мы слышим – гул, скачут, уже близко! Вася перебежал через улицу, толкнул меня в сугроб и сверху закрыл собой.[38]
Е.П.: При этом он много читал. Многие вспоминают, что постоянно ходил с книжкой, даже на поле ездил с ней – и читал во время коротких перерывов в работе. Читающий троечник в советской школе – это отнюдь не парадокс. Ну, не интересна, не нужна ему школьная программа. А к чтению – тянет. Нормально!
Однако с педагогической точки зрения Василий Макарович относился к чтению безобразно: проглатывал буквально всё, что под руку попадалось. Набор был дичайший. Читал, что вытащит с полки, всё подряд, «вплоть до трудов академика Лысенко».
Особенно поразительна история, где фигурирует ученик Шукшин и книжный шкаф, который выставили во время ремонта из класса, и был этот шкаф, если называть вещи своими именами, пытливым школьником взломан. Книги перекочевали к Васе на чердак. В конце концов пропажа обнаружилась. Сначала думали, что плотники извели книги на самокрутки. Плотники всё отрицали, но им никто не верил. Тут бы нашему герою выйти и во всём признаться, но нет – он такого не сделал, и этим – отнюдь не мучился: «Раньше всего другого, что значительно облегчает нашу жизнь, я научился врать», – так вспоминал о своём детстве Шукшин.
М.Г.: В общем, понятно, почему всполошилась мать. Как она сама вспоминала:
Появилась у Васи «болезнь» – увлёкся книгами. Всегда у него под ремень в брюках была книга подоткнута. <…> Читал и по ночам: карасину нальёт, в картошку фитилёчек вставит, под одеялом закроется и почитывает. Ведь, что думаете, – однажды одеяло прожёг. Стал неважно учиться, я тогда и вовсе запретила строго-настрого читать. <…> Так нет – стал из школьного шкапа брать тайно от меня. Ох, и помаялась я с ним, не знала уж, что и делать дальше, как отвадить от чтения-то![39]
С «карасином», кстати, помогал жилец, занимавший полдома, – секретарь райкома (некоторые утверждают, что он даже подарил Василию какую-то лампу типа коптилки – читай, мол, просвещайся).
За чтением не оставалось времени на учёбу. Пошли двойки и тройки… И Мария Сергеевна объявила чтению решительную войну: так, обнаружив тайник на чердаке, книги она просто сожгла! Годы спустя она говорила, что будто бы классный руководитель успокаивал её: «Не надо его ругать, пусть читает, у него – способности». Но, видно, не успокоил.
Но, кроме опасений за успеваемость, появились и довольно курьёзные страхи – о них вспоминает сестра Наталья:
Мама боялась, что он зачитается и «сойдёт с ума».[40]
Некоторые соседи говорили, что Вася может свихнуться от чтения – дескать, такие случаи были…[41]
Е.П.: Я тоже помню этот распространённый среди «простых людей» миф. «Зачитался!» – так определяли они причину психической болезни различных «умников».
М.Г.: Шукшин не сдавался, боролся с запретами как мог. Проявляя порой и «военную хитрость» – об этом рассказывает сестра Наталья:
Все его школьные учебники были без корочек. Когда мы были дома, он в эти корочки от учебников вкладывал художественную книжку, ставил её на стол и читал. Мы видели, что у него, например, «География», а через некоторое время он ставил перед собой «Историю» или «Арифметику».[42]
Но мать у Василия Макаровича, как мы уже знаем, была такова, что подобными методами её было не провести. Сергей Тепляков в своей биографии Шукшина описывает её «ответные меры» на хитрость сына:
Но Мария Сергеевна заметила, что он слишком скоро перелистывает страницы – разве так быстро задачи решаются? «Мама начала немилосердно бороться с моими книгами. Из библиотеки меня выписали, дружкам моим запретили давать мне книги, которые они берут на своё имя…» – вспоминал Шукшин.
<…> Потом Шукшин признавал её правоту: «Я почти ничего не помнил из прочитанной уймы книг, а значит, зря угробил время и отстал в школе».[43]
Помогла делу Анна Павловна Тиссаревская, учительница, из эвакуированных ленинградцев. Она составила список нужных и полезных книг. Василий смирился, вернее, принял новые правила игры. Мать, скрепя сердце, тоже пошла на компромисс – эти книжки хоть не вредные. Чтение продолжалось, но уже, к счастью, без академика Лысенко. (Тиссаревскую много позже разыщут в Питере краеведы, о Шукшине и списке книг она, увы, не вспомнит – мол, много у меня было таких пытливых мальчиков.)
Мемуаристы вспоминают о виденных у Шукшина книгах. «Таинственный остров» и «Дети капитана Гранта» Жюля Верна, проза Лермонтова, «Маленький оборвыш» Джеймса Гринвуда, «Алтайские робинзоны» Анны Киселёвой… Максим Горький, Островский, Некрасов, Достоевский и Гоголь – «толстые книги, такие теперь не издают».
Таковы странности нашей жизни. Фазиль Искандер зачитывается в Абхазии переведённым на русский Шекспиром, Аксёнов читает в Магадане запрещённого Мандельштама, – а сибиряку Василию Шукшину «Маленький оборвыш» Джеймса Гринвуда не мешает поглощать Достоевского, Некрасова и Гоголя.
Е.П.: Кстати, в рассказах из цикла «Из детских лет Ивана Попова» есть поразительный фрагмент, «Гоголь и Райка». Рассказчик вспоминает, как читает зимней ночью вслух «Вия». Сестра заснула. Мать его прерывает – страшно. Страшно и ему самому, но он храбрится. И вот как реальная жизнь поправляет, корректирует вымысел:
– Ты не бойся, сынок, спи. Книжка она и есть книжка, выдумано всё. Кто он такой, Вий?
– Главный чёрт. Я давеча в школе маленько с конца урвал.
– Да нету никаких Виев! Выдумывают, окаянные, – ребятишек пужать. Я никогда не слыхала ни про какого Вия. А то у нас старики не знали бы!..
– Так это же давно было! Может, он помер давно.
– Всё равно старики всё знают. Они от своих отцов слыхали, от дедушек… Тебе же дедушка рассказывает разные истории? – рассказывает. Так и ты будешь своим детишкам, а потом, может, внукам…
Мне смешно от такой необычайной мысли. Мама тоже смеётся.
– Вот чего, – говорит она, – побудьте маленько одни, я схожу сено подберу. Давеча везла да в переулке у старухи Сосниной сбросила навильник. Она подымается рано – увидит, подберёт. А жалко – добрый навильник-то. Посидишь, ничего?
– Посижу, конечно,
– Посиди, я скоренько. Огонь не гаси. С печки не слазь.
Мама торопливо собралась, ещё сказала, чтоб я никого не боялся, и ушла. Я стал думать, что я опять не отдал должок (семнадцать бабок) Кольке Быстрову – чтоб не думать про Вия.
Но дальше происходит такая трагедия, что куда там Гоголю. Их единственная, любимая корова Райка должна вот-вот отелиться. Рассказчик думает и о Гоголе, и о Райке. Реальность и вымысел путаются у него в голове. А ещё через какое-то время кто-то убьёт их корову – ткнёт вилами в живот. Чтение, литература оказываются рядом не только с «враньём», но и со смертью.
Мотив «Гоголь, Райка, вилы» возникает и в «Калине красной», где «откинувшийся» зэк Егор Прокудин рассказывает, с чего началась его «беда».
М.Г.: Книги книгами, но, начиная уже с двенадцати лет, Василий несколько раз уезжал из Сросток. Например, был непродолжительный опыт поездки по Чуйскому тракту в далёкий горный Онгудай – учиться на бухгалтера (а точнее, счетовода) к родственнику матери.
История эта прекрасно описана им в трагикомическом рассказе «Племянник главбуха». Там действует хулиганистый подросток Витька (персонаж более хулиганистый, чем сам Шукшин), которого отправляют на перевоспитание к дяде, а тот сажает его в контору, заставляя заниматься скучнейшими и нелепыми делами, вроде перемножения чисел… Характерно: Витька сильно скучает по матери, однако:
Витька любил мать, но они, к сожалению, не понимали друг друга. Витьке нравилась жизнь вольная. Нравились большие сильные мужики, которые легко поднимали на плечо мешок муки. Очень хотелось быть таким же – ездить на мельницу перегонять косяки лошадей на дальние пастбища, в горы, спать в степи… А мать со слезами (вот ещё не нравилось Витьке, что она часто плакала) умоляла его: «Учись ты ради Христа, учись, сынок! Ты видишь, какая теперь жизнь пошла: учёные шибко уж хорошо живут». Был у них сосед-врач Закревский Вадим Ильич, так этим врачом она все глаза протыкала Витьке: «Смотри, как живёт человек». Витька ненавидел сытого врача и одно время подумывал: не поджечь ли его большой дом?
Ну и Шукшин, уже от себя, признавал, что вся эта бухгалтерия пришлась лично ему, как и его персонажу, поперёк души.
Е.П.: Тем не менее, через пару лет он уже самостоятельно и совершенно добровольно отправится в Бийск, учиться в автомобильный техникум. И на этом его деревенское детство закончится. Ох, как ему (да и другим деревенским паренькам) придётся там непросто!
М.Г.: Читаешь его рассказ о техникуме из цикла про Ивана Попова – и, натурально, сердце кровью обливается. Воспоминания соучеников Шукшина по техникуму (он ушёл туда учиться из Сросток с компанией односельчан) добавляют, как говорит молодёжь, «жести».
Во-первых, их не приняли местные, «городские». Мы говорили, что с точки зрения географической и социальной Сростки никак нельзя считать «настоящей» деревней; в конце концов, сростинцы из техникума ходили домой в Сростки, в бане помыться, – пешком. Рядом! Но подростковая вражда типа «банда на банду» этого всего не учитывает – бывает, бьются насмерть две соседних улицы. Классика жанра: социальная наука разделения на «свой-чужой».
Городские ребята не любили нас, деревенских, смеялись над нами, презирали. Называли «чертями» (кто черти, так это, по-моему, – они) и «рогалями». Что такое «рогаль», я по сей день не знаю и как-то лень узнавать. Наверно, тот же чёрт – рогатый. В четырнадцать лет презрение очень больно и ясно сознаёшь и уже чувствуешь в себе кое-какую силёнку – она порождает неодолимое желание мстить. Потом, когда освоились, мы обижать себя не давали. Помню, Шуя, крепыш парень, подсадистый и хлёсткий, закатал в лоб одному городскому журавлю, и тот летел – только что не курлыкал. Жарёнок в страшную минуту, когда надо было решиться, решился – схватил нож… Тот, кто стоял против него – тоже с ножом, – очень удивился. И это-то – что он только удивился – толкнуло меня к нему с голыми кулаками. Надо было защищаться – мы защищались. Иногда – так вот – безрассудно, иногда с изобретательностью поразительной.
Но это было потом. Тогда мы шли с сундучками в гору, и с нами вместе – налегке – городские. Они тоже шли поступать. Наши сундучки не давали им покоя.
– Чяво там, Ваня? Сальса шматок да мядку туясок?
– Сейчас раскошелитесь, черти! Всё вытряхнем!
– Гроши-то куда запрятали?.. Куркули, в рот вам пароход!
Откуда она бралась, эта злость – такая осмысленная, не четырнадцатилетняя, обидная? Что, они не знали, что в деревне голодно? У них тут хоть карточки какие-то, о них думают, там – ничего, как хочешь, так выживай. Мы молчали, изумлённые, подавленные столь открытой враждебностью. Проклятый сундучок, в котором не было ни «мядку», ни «сальса», обжигал руку – так бы пустил его вниз с горы.[44]
Е.П.: Велик соблазн предположить, что именно тогда у Шукшина и начало складываться противопоставление «деревня-город». Тоже по принципу «свой-чужой». Научили его бийские подростки, хоть спасибо им говори.
Алексей Варламов, автор одной из лучших биографий Шукшина, недавно рассказал мне то, что не успело войти в его книгу: в этом Бийском техникуме русскую литературу преподавал сосланный в мае 1944-го на Алтай член Союза писателей СССР, потрясающий поэт-фронтовик Давид Кугультинов, вся вина которого заключалась в том, что он по национальности – калмык. Вряд ли Шукшин запомнил его. Кугультинова в апреле 1945-го арестовали, он отсидел свою «десятку» в Норильске, но потом стал кумиром калмыцкого народа, калмыцким Пушкиным. Шукшин же техникум через два с половиной года бросил, а вскоре и вовсе Алтай покинул. А вдруг они всё-таки общались – поэт, принятый в союз перед войной, восемнадцати лет, и «книгочей» Шукшин? Мы этого теперь никогда не узна́ем.
М.Г.: А время было суровое – война только что кончилась… Вот что рассказывал соученик Шукшина Александр Борзенков (он же Шуя из процитированного выше рассказа):
В общаге было холодно. Спали на двухъярусных кроватях. Кто-то придумал бросить на второй ярус доски и застелить их тряпьём – получились полати, на которых спали вповалку, чтобы не замёрзнуть. Топили печку, за дровами ходили на Бию, по которой с верховьев к зиме гнали плоты. Разбирать их и таскать брёвна приходилось по колено или по пояс в воде.[45]
Не хватало еды. За еду кололи дрова учителям, убирали снег, топили бани.
Голодные были, как волчата. По карточке 600 граммов хлеба выдавали да в столовой трижды в день – мисочку баланды из гнилой картошки с капустой. А мы ведь росли.[46]
Сергей Тепляков упоминает яркий – словно из кинофильма! – эпизод из той голодной жизни мальчишек:
Как-то раз на реке разбило плот, на котором везли сыр. «Мы, прослышав об этом, – как тараканы, к берегу», – говорит Борзенков. На лодках и плотиках выбрались к месту крушения, цепляли сыр баграми, крючками, палками… Запасов хватило до апреля.[47]
Родные поддерживали их как могли – да откуда у них самих-то было взяться деньгам и даже продуктам! Мария Сергеевна продавала вещи. Пришлось продать даже гармонь, подаренную «настоящим» Иваном Поповым, – за пуд муки.
Не было одежды и обуви. Шукшин среди зимы остался без варежек, в фуфайке с короткими рукавами – и без развалившихся валенок… Александр Борзенков припомнил на этот счёт курьёзный случай:
Вечером, уже поздно, сидим у себя в комнате (у нас самая большая комната была, четырнадцать человек жили, и самая холодная), слышим, в коридоре – тук-тук. Чьи-то каблучки. Не иначе, думаем, дежурная учительница с проверкой. Они нас не забывали. Но вот открывается дверь и входит Василий. Глянули на него – мать честная! К рукавам фуфайки этакие приставки пришиты из красной шерстяной кофты, а на ногах – дамские войлочные боты на высоких каблуках! Мы за животики схватились![48]
Это учительница английского помогла, поделилась чем могла… Ну, что делать – обувь наладили, общими усилиями каблуки обрубили топором. В этих ботах и частях учительской кофты так и проходил Шукшин ту зиму. Вот картина была!
Вопрос: зачем ему было терпеть всё это, когда рядом Сростки, где всё же родной дом и без куска хлеба не останешься?
Е.П.: Что-то вело его, что-то выталкивало из деревенского уюта. Причём и мать в тот раз была против: она хотела, чтобы Василий учился, но в десятилетке, и жил дома.
Но вот что читаем в рассказе «Самолёт» из цикла про Ивана Попова – герой, первый раз попав в город, видит это чудо на аэродроме:
И так он нежданно открылся, этот самолётик, так близко стоял, и никого рядом не было – можно подойти и потрогать… Раньше нам приходилось – редко – видеть самолёт в небе. Когда он летел над селом, выскакивали из всех домов, шумели: «Где?! Где он?» Ах ты, Господи!.. Я так и ахнул. Да все мы слегка ошалели. <…> Он мне, этот самолёт, снился потом. Много раз после приходилось ходить горой, мимо аэродрома, но самолёта там не было – он летал. И теперь он стоит у меня в глазах – большой, лёгкий, красивый… Двукрылый красавец из далёкой-далёкой сказки.[49]
Самолёт тут, понятно, только метафора – полёта, высоты и так далее. Ради такой мечты можно было вытерпеть многое! И Шукшин – терпел.
М.Г.: Ну да. Только не дотерпел – из техникума-то его выгнали. Едва ли он этим был расстроен: учиться здесь ему было неинтересно. Физика-математика не давались (то-то он удивлялся, когда сестра пошла по этой стезе и закончила физмат). На уроках он, по собственному признанию, «петухом пел». В прямом смысле этого слова! С учителями отношения испортил, даже с той, что так помогла ему с одеждой…
Думаю, механиком или шофёром становиться ему расхотелось окончательно, а к городу он за это время присмотрелся – и кое-что в нём понял. Например, то, что прижиться там, или даже «покорить город», – ему, Василию, вполне по силам. Но – не через техникум.
Да и хорошо, может, что не доучился. Стал бы техником-механиком по ремонту и эксплуатации автотранспорта, работал бы, как все, на Чуйском тракте… Хотя в это верится с трудом. Нет: всё равно сбежал бы, рано или поздно.
Глава четвёртая
«На побывку едет молодой моряк»
Е.П.: Шукшин вернулся из техникума не солоно хлебавши – и почти сразу уехал снова. То есть: не столько обратно домой в деревню его тянуло, сколько Бийск, получается, оказался недостаточно велик и хорош для него. Как и стезя механика или шофёра – «тесновата кольчужка». Бог знает, откуда такая тяга к большему у деревенского паренька. Но именно тогда, в момент ухода из дома, она проявилась впервые, и потом – уже не покидала его никогда.
М.Г.: У группы «Калинов мост» из недалёкого от шукшинских мест Новосибирска есть знаменитая песня примерно на эту же тему:
- Не ищи меня мать, ушёл день обнимать.
- Ты прости меня, мать, – пропал ночь обнимать.
- Чья беда, что мы все навсегда уходили из дома.
- Времена, когда мы навсегда уходили из дома…
Но, замечу, что уходили все – по-разному. Вариант ухода молодого Шукшина был довольно радикальным. Он не просто уходил «день и ночь обнимать», но – покидал мать и младшую сестру, оставлял их без кормильца. Конечно, с расчётом на счастливое будущее, но если даже предположить, что он сам твёрдо верил в это будущее, шёл, так сказать, «за звездой», – то его мать и сестрёнка верить в это были не обязаны.
Однако Мария Сергеевна, похоже, действительно верила в сына, отчего и поддержала Василия. Если бы она упёрлась, настаивая на своём (а мы видели, что она умела это делать очень хорошо), – возможно, всё сложилось бы иначе. Более того: если бы она не выхлопотала тогда сыну паспорт, он бы и не смог никуда из Сросток деться.
Е.П.: А может быть, мы напрасно драматизируем? Ушёл из дома в 17 лет… Обычное дело! Двоюродный брат Шукшина, тот самый художник Иван Попов, покинул свой дом так же рано, попал на Дальний Восток, где работал после ремесленного училища на заводе. Я сам в 16 лет объехал во время каникул полстраны, путешествуя то в компании, то в одиночку, как придётся, порой совсем без денег, а в 17 лет направился в Москву, поступил в Геологоразведочный, тоже мать оставил (отца уже не было), и тоже всё было не так просто.
Всё равно Шукшин ушёл бы, пусть на пару лет позже – например, после армии, которая деревенских парней разбрасывала по всему огромному Союзу. Взял бы и завербовался на Север, где рубль был «длинный», о чём знала вся страна. Так делали многие выходцы из деревни, и не больно кто-то из них о своих деревенских родных думал в такой ситуации. Жизнь такова, что в родном гнезде не усидеть.
А вот история с паспортом – и правда удивительная. Тогда ведь у крестьян паспортов не было. Потому и армия, дающая документы, так ценилась.
М.Г.: Большинство исследователей сходится на том, что Мария Сергеевна, тогда работавшая парикмахером (ценный, редкий для села кадр!), как-то сумела обаять секретаря райкома, и тот помог Василию.
Е.П.: И Василий Макарович всю жизнь был благодарен матери за это.
В паспорте, кстати, он был записан как «Шукшин», а не Попов. Тоже не очень понятно, почему Василий сменил детскую фамилию. Вероятно, что «Поповым» он именовался со слов матери, а в метрике так и оставался Шукшиным. Поэтому никакого секрета и глубокого смысла в возвращении отцовской фамилии, возможно, и нет.
Нет, Шукшин – он и есть Шукшин. И именно с ударением на второй слог. По-сибирски-то ударять надо на первый, как и ударяли отродясь Шу́кшиных. Вроде как Па́ньшиных или Ве́кшиных. По-сибирски, а также по-мордовски, замечу, так и положено. Есть легенда, что на последний слог, вроде как на французский манер (Луи Сели́н, Андрей Маки́н, виконт де Бражело́н), Василий Макарович стал «ударяться» уже учась во ВГИКе, оказавшись среди столичной публики. А свои доармейские и армейские университеты проходил как Шу́кшин.
М.Г.: Воспоминания об уходе из дома остались у него на всю жизнь. Причём очень тяжёлые, даже травматические воспоминания:
Больно вспоминать. Мне шёл семнадцатый год, когда я ранним утром, по весне, уходил из дома. Мне ещё хотелось разбежаться и прокатиться на ногах по гладкому, светлому, как стёклышко, ледку, а надо было уходить в огромную неведомую жизнь, где ни одного человека родного или просто знакомого, было грустно и немножко страшно. Мать проводила меня за село, перекрестила на дорогу, села на землю и заплакала. И понимал, ей больно и тоже страшно, но ещё больней, видно, смотреть матери на голодных детей. Ещё там оставалась сестра, она маленькая. А я мог уйти. И ушёл.[50]
Здесь, кстати, Василий Макарович как будто себя оправдывает – мол, уйдя, помог матери. Мы-то сейчас понимаем, что всё было не совсем так. Что он, уже не ребёнок, мог работать, зарабатывать, содержать семью. Семнадцать лет, большой парень, добытчик. Но – ушёл.
Е.П.: Мы понимаем – но не смеем осуждать. Нам, пусть на нас не сердятся традиционные «почвенники», дорог великий писатель земли русской Василий Шукшин, а не сростинский мужичок Василий Попов.
Да и мать пошла на эту жертву, повторим ещё раз, сознательно. Но мало было отпустить сына, нужно было дождаться его, или хотя бы вестей от него. А их не было несколько месяцев. Вот это – испытание для матери! Надо думать, костерила сама себя на чём свет стоит за то, что отпустила своего Васеньку в чужие люди.
Дошло до того, что сестра Василия Макаровича, Наталья, подделала письмо от сына к матери! Увидела у соседки письмо от её сына. Почерк был похож на Васин, да и содержание – подходящее: мол, простите, долго не писал, ждал общежитие, подпись, дата, адрес – город Черемхово. «Я обрадовалась такому письму: оно могло успокоить маму», – объясняла Наталья Макаровна. Она стащила письмо, запечатала его в конверт, на деревяшке для ниток вырезала «штемпель» с названием города и датой, шлёпнула «печать» и отнесла матери: «Она до слёз обрадовалась, читает, руки трясутся». Мария Сергеевна спросила, что за город Черемхово, Наталья соврала, что под Москвой; уже потом выяснила, что он – в Иркутской области… Но мать вроде поверила, успокоилась.
…Только через месяц пришло настоящее письмо от Василия. На штемпеле значилось – «Калуга».
М.Г.: Вполне обоснованный страх Марии Сергеевны насчёт чужих людей. Думаю, и сам Шукшин опасался, что может попасть – на самое дно. Он ведь говорил много лет спустя в одном из интервью:
Послевоенные годы. Кто повзрослее, тот помнит эти голодные годы… У нас, в Сибири, это было страшно. Люди расходились из деревень, попадали на большие дороги. И на больших дорогах ожидало всё этих людей, особенно молодых, несмышлёных, незрелые души… И пошли, значит, тюрьмы, пошли колонии…[51]
Е.П.: Да более того, ведь существует легенда, что и он таки попал в банду!
М.Г.: Такая уж красочная история, что надо её рассказать. Биограф Шукшина Владимир Коробов приводит полученное им в 1978 году письмо казанского профессора Бориса Никитчанова, который, будучи совсем молодым человеком, весной 1946 года повстречал на городском рынке в Казани одного необычного парня из шайки, промышлявшей воровством и грабежами, и тот объяснил ему причины своего нахождения среди преступников:
Я у них учусь играть, да и хороший литературный материал можно получить. Он так и сказал: «литературный материал», а я, помню, сильно поразился таким особенным, «писательским» словам. Но как это он «учится играть»? Видимо, на моём лице было недоумение, и он добавил:
– Да, я писатель, а впрочем, я не знаю ещё, кем буду. У меня, если хочешь знать, ещё и огромный талант артиста.
…Мы присели на кучу битой штукатурки, щепок, щебня. Парнишка стал развивать мысль о необходимости странствий, напомнил о моём земляке – волжанине А.М.Горьком и его «университетах».
– Откуда бы мог узнать так Горький о жизни Челкаша, вот ты скажи? – наседал он на меня. – Этого не напишешь, если сам не соприкоснёшься!
…А потом глянул на меня невыразимо ясными глазами и попросил тихо:
– Дай мне хоть сколько-нибудь, а то они мне не поверят.
Я молча достал три рубля и протянул ему. Он быстро сунул их в карман и зашептал:
– Я отдам тебе их, отдам, но, наверно, не скоро. Ты уж меня не осуждай…
– Кончай, писатель, паровоз уходит! – крикнул громко сухопарый верзила.
Мой знакомец сначала медленно, словно нехотя, стал отворачиваться от меня, а потом как-то быстро встряхнулся, и меня, помню, поразило его лицо – так оно сразу, в мгновение, переменилось. От меня уходил уже другой человек – гораздо взрослее, строже и надменнее того парнишки, который со мной только что разговаривал.
Шпана быстро удалялась, а он приостановился ещё, махнул мне рукой и почти выкрикнул:
– Шукшин моя фамилия, Василий Макарович, не забудь! Может, ещё услышишь…[52]
Е.П.: Как сказал бы Станиславский – «Не верю!». Красиво, но нереалистично. Слишком «литературно», вплоть до последней реплики: «может, ещё услышишь». И по хронологии – не подходит: тут про весну 1946-го, а покинул деревню Шукшин только в 1947 году.
Хотя понятно, откуда возникают подобные истории. Влияние популярнейшей у народа в те годы, не забытой и сейчас «Калины красной»: мол, знал Шукшин тех, с кого Егора Прокудина списал, лично! Потому таким живым, убедительными вышел герой! Но Прокудин в первую очередь всё-таки деревенский мужик, сын, муж, а уголовник – в третью или пятую. В этом его реалистичность. Вот его же коллеги по уголовному миру как раз не очень-то реалистично, почти китчево показаны, какая-то оперетка, «Свадьба в Малиновке», блатной рОман, несмотря на блестящую игру актёров, того же Георгия Буркова.
А главное, Шукшин действительно жил в мире, тесно соприкасавшемся с миром уголовного дна, обменивавшемся с ним персонами. Это мир неквалифицированных рабочих, мир бараков, которые в каком-то смысле ещё хуже лагерных – потому что из тех выпускают, а в этих можно всю жизнь провести… И с трудягами бок о бок жили настоящие уголовники, только что расконвоированные. Жёсткий, иерархичный мир советской армии и военно-морского флота, известный Шукшину тоже не понаслышке. Ну и деревенский мир – откуда уходили в блатные, куда возвращались из лагерей. Вполне достаточный опыт.
М.Г.: Кстати, в Бийской колонии для несовершеннолетних был прекрасный музей Шукшина. Угодившие на малолетку Василия Макаровича сильно ценили. Об этом писали корреспонденты газеты «Алтайская правда»:
Этот музей появился после памятной встречи, которая произошла у писателя с подростками, осуждёнными к лишению свободы, в 1967 году. Многие уверены, что в фильме «Калина красная» передано настроение, которое Шукшин почувствовал, общаясь с теми, кто отбывал наказание. Мальчишки из колонии участвовали в спектаклях по Шукшину. Месяц до чтений и месяц после вся колония разговаривала языком его персонажей. Ребята очень часто были и режиссёрами спектаклей.[53]
Е.П.: Кстати, с «блатными» Шукшин умел себя вести. Владимир Коробов приводит (со слов сценариста Игнатия Пономарёва) случай, когда Василий Макарович бесстрашно, быстро и ловко отшил урку, угрожавшего людям у пивного ларька, похвалявшегося, что он только что из заключения, и вымогавшего нагло кружки с пивом у мужиков. У него это так здорово получилось, что урка – здоровенный детина! – поспешил тут же извиниться и был таков.
М.Г.: Итак, в банду Василий Макарович всё же не попал, а работал в Подмосковье и недалёких от столицы городах, вроде Владимира или Калуги. Вот названия этих славных организаций: «СОЮЗПРОММЕХАНИЗАЦИЯ», ГОРЕМ-5 («Головной ремонтно-восстановительный поезд»)… С мая по август 1948 года трудился на строительстве электростанции на станции Щербинка Московско-Курской железной дороги.
Отсюда, из рабочих бараков, где молодые рабочие из деревень жили вперемежку со вчерашними зеками, он уже стал писать домой (пауза была то ли несколько месяцев, то ли вообще полгода!). Такая жизнь длилась два года. Стоило ли ради этого бросать родную деревню и Алтай!
Мы про этот период от самого Шукшина ничего узнать не сможем, но довольно красочную картину оставил в своих мемуарах Владимир Войнович, работавший неподалёку на аналогичной рабочей позиции несколькими годами позже. Его предприятие относилось к железной дороге, как и несколько шукшинских; по большей части они занимались разборкой старых путей. Думаю, контингент и условия труда были теми же, что и в «шукшинской конторе». На работу, даже на самую чёрную, в Подмосковье нельзя было устроиться человеку без подмосковной прописки. Войновичу, как до него Шукшину, повезло, что их предприятия были приписаны к другим регионам. Вот что он вспоминал:
«Путевой машинной станции ПМС-12 требуются путевые рабочие. Одинокие обеспечиваются общежитием». Я уже тысячи подобных объявлений прочитал и знал, что во всех случаях под одинокими, которые обеспечивались, имелись в виду в Москве москвичи, в области жители Подмосковья… Поехал по указанному адресу: платформа Панки. Там на ржавых, заросших травой запасных путях поезд: с десяток товарных вагонов-«телятников» и два пассажирских. И свершилось чудо, объяснимое тем, что ПМС эта самая была приписана к посёлку Рыбное Рязанской области, а здесь находилась якобы в командировке. В её задачу входил ремонт путей от Казанского вокзала до станции Раменское… Общежитием назывались те самые «телятники». Товарный вагон делился на две половины с тамбуром посередине. Справа и слева узкие клетушки, превращённые в купе с четырьмя полками, плитой, отапливаемой дровами, и полочкой у окна вместо стола. Одно такое купе занимали, естественно, четыре человека, каждый со всем своим имуществом, обычно помещавшимся в одном чемодане.
А вот кто работал в этой самой ПМС – Войнович приводит рассказ одной своей «сослуживицы»:
Я из колхоза убегла. Ну, надоело, ей-бо, надоело. Цельное лето с утра до ночи не разгибамши, карячиси, карячиси, трудодней тебе этих запишут тыщу, а как расчёт, так фигу под нос подведут, ты, говорят, на полевом стане питалась, шти с мясом лопала, кашу пшённую трескала, вот ещё и должная колхозу осталась, скажи спасибо, что не взыскуем. А зимой там же скучища. Клуб нетопленый, парней нет, все разбеглись. Девки с девками потопчутся под патефон, да и по домам, да на печь.[54]
Е.П.: Как-то пренебрежительно и не очень-то умело Войнович здесь, в мемуарах, передаёт сельскую речь! В ранней, практически «деревенской прозе», в повести «Мы здесь живём», напечатанной в 1961 году в «Новом мире», он относился к своим персонажам более бережно.
Шукшин бы так о «коллегах», какими бы они ни были, писать бы не стал. У нас есть тому доказательство – рассказ «Мечты». Изложенная от первого лица история молодого парня из деревни, тоскующего в городе на тяжёлой, скучной, грязной работе (как раз такой, какой был занят Шукшин после отъезда из Сросток) и пытающегося вместе с приятелем, таким же деревенским, найти хоть какую-то отдушину в этой беспросветности. Чтобы отдохнуть от набитого как сельди в бочке в бараках или телячьих вагонах «контингента», они ходят… на кладбище:
Скулила душа, тосковала: работу свою на стройке я ненавидел. Мы были с ним разнорабочими, гоняли нас туда-сюда, обижали часто. Особенно почему-то нехорошо возбуждало всех, что мы – только что из деревни, хоть, как я теперь понимаю, сами они, многие, – в недалёком прошлом – тоже пришли из деревни. Но они никак этого не показывали, и всё время шпыняли нас: «Что, мать-перемать, неохота в колхозе работать?».
Вчерашние деревенские и далеко ещё не городские, застрявшие в промежутке, – излюбленная Шукшиным категория персонажей. Они и мучаются, и сами мучают. Он ведь и сам «застрял», и очень крепко!
М.Г.: От люмпен-пролетарской компании и колоритных соседей он в те два года, которые вынужден был обретаться среди них, пытался избавиться неоднократно. Например, два раза подавал заявления в военное училище. Кстати, в описании этого самого поступления-непоступления в военное училище сам Василий Макарович, как минимум, небрежен – очередной случай его мифотворчества, «жизнестроительства», игры в биографию. В автобиографии 1953 года Шукшин пишет: «В 1947 г. я был зачислен в военное училище, но по собственному желанию был отчислен», а в автобиографии 1966 года – что по дороге в училище потерял документы и «в училище явиться не посмел».
Е.П.: Так или иначе, но, думаю, он служить бы не стал всё равно. Он и срочную вон не дослужил: списали по болезни. Хотя, что характерно, все медосмотры находили его здоровым. Видно, испортил себе желудок ещё до армии, на чёрной пролетарской работе, а на флоте здоровье подорвал окончательно.
Вопрос: почему именно в военное училище он рвался, а не в институт? Ответ: у него ведь не было аттестата о среднем образовании, а в военные брали и таких. Конечно, можно было ради аттестата поучиться в вечерней школе, но, как видно, условия тяжёлой работы сделали это невозможным.
М.Г.: В общем, призыву на срочную службу Шукшин, полагаю, даже обрадовался. Ведь угроза застрять надолго, а то и на всю жизнь в малоквалифицированных работягах становилась реальностью. Так же, как до этого – в колхозниках. Нет: бежать, бежать оттуда!
Убежал. Попал во флот. Служил неплохо. Отмечен начальством. Но… Опять он оказался «дяревней»!
Я долго стыдился, что я из деревни и что деревня моя чёрт знает где – далеко. <…> Служил действительную, как на грех, на флоте, где в то время, не знаю, как теперь, витал душок некоторого пижонства: ребятки все в основном из городов, из больших городов, ну я помалкивал со своей деревней.[55]
Е.П.: И тут «деревня» ни к месту оказалась! Но, по крайней мере, матрос Шукшин за время своей недолгой службы много книжек прочитал. И в отпуск сходил, произведя на всех деревенских девиц – огромное впечатление. Настоящий фурор произвёл! В том числе – на свою будущую жену. Как же, бравый моряк! Из легендарного флотского Крыма!
Хоть и сухопутный крымский моряк, надо заметить, был Василий Макарович, – о чём, естественно, он особо не распространялся. Мария Сергеевна вон до конца жизни была уверена, что её сынок служил на крейсере, плавал по бурным морям, чуть там не погиб. (Это к слову об откровенности его рассказов матери.)
Но должен ведь кто-то и на берегу обеспечивать работу флота. Тем более, что служба радиста Шукшина отмечена благодарностями, он успел стать старшим матросом. Причём служил в секретной радиочасти, где и дисциплина, и требования, надо думать, были ого-го какими. Вахта – шесть часов, после чего двенадцать часов «отдыха», а точнее – политзанятия, учёба, хозяйственные работы, личное время (поспать-то надо), и снова вахта…
А он ведь ещё и «книжки читал» – что надо было умудриться успевать при таком жёстком графике службы. Причём читал не только беллетристику, но и учебники, так как очень хотел сдать экзамен за среднюю школу экстерном, что ему удалось сделать только после окончания службы. Наверстать сразу три класса – задача труднодостижимая. Поэтому – нервничал, мучал себя… Может, и от этого здоровье потерял.
М.Г.: Владимир Коробов пишет о его тогдашних ощущениях очень патетически:
Он чувствовал себя каким-то преступным растратчиком своего прежнего времени, строго судил себя за это и даже не пытался выслушать другой голос, который его вполне извинял, объяснял, что не он в том виноват, а жизнь так неудачно складывалась. Но Шукшин в этот период уже начал делать самого себя, был неумолим к себе и строг сверх меры.[56]
Иван Попов, родственник, друг, давший имя шукшинскому альтер эго, получил от него с флота очень гневное, ругательное письмо. Потом Василий Макарович объяснял двоюродному брату:
Да разозлился вдруг чего-то. Вместе росли, вместе коров пасли, а ты вон уже на художника учишься, а я всё ещё – ни Богу свечка, ни чёрту кочерга. Не столько на тебя, если разобраться, рассердился, сколько на себя…[57]
Что характерно: беспокоился он о других, что ушли далеко, догнать было трудно! А догнать хотелось. И – перегнать.
При этом служба во флоте дала Василию Макаровичу некое право чувствовать себя – настоящим мужчиной, главой семьи. И писать сестре и матери письма, полные очень пафосных нравоучений:
А вообще у меня есть для тебя хороший совет: смелее во всем, везде и всюду. Побеждает тот, кто не думает об отступлении, кто, даже отступая, думает о своём. Итак, спеши, девушка![58]
Е.П.: Увы, и экзамен на аттестат он на флоте не сдал, и срочную свою службу не дослужил. Шукшин был зачислен на службу 1 января 1950 года, служить предстояло четыре года. Получилось – почти в два раза меньше.
Матрос Шукшин с гастритом попал в Главный военно-морской госпиталь Черноморского флота, и через месяц, в декабре 1952 года, был списан со службы.
М.Г.: Интересно, что впоследствии о флоте и флотской службе он не напишет совсем ничего, зато сыграет в кино несколько «морских» ролей. Например, бывшего матроса Стёпку Ревуна в фильме «Алёнка» (1961, реж. Б.Барнет), рыбака Жорку в картине «Какое оно, море?» (1964, реж. Э.Бочаров), морского офицера Николая Ларионова в кинофильме Игоря Шатрова «Мужской разговор» (1968). Будем считать, хоть для них служба ему пригодилась.
Е.П.: На фильме «Какое оно, море?» он встретил Лидию Николаевну Федосееву, которая вскоре стала Шукшиной. Именно тогда завязался этот ярчайший союз, длившийся потом всю отмеренную ему Господом жизнь, до самой его смерти…
Глава пятая
Снова в школу
М.Г.: С флота Шукшин вернулся не в подмосковный барак, но – в материнский дом, в Сростки. Недолго он прожил здесь, чуть больше года, успев, однако, сделать многое: получить аттестат зрелости, к чему так упорно, но безуспешно тянулся во время службы, поработать в школе, жениться и опубликовать первые в жизни статьи.
Е.П.: Можно сказать и иначе: приехал, чуток пожил, и покинул деревню – теперь уже навсегда. Покинул и молодую жену, что вызывает теперь большое осуждение пишущих о нём моралистов. В такой реакции есть своя справедливость. Тем более, что Мария Шумская была, судя по всему, хорошей, любящей женщиной. Василия она никогда после не осуждала ни устно, ни письменно. А имела, можно смело сказать, все права на это. Оставалась, судя по фото, красавицей до самой старости. А вот как её описывают очевидцы в молодости – их свидетельства приводит Тамара Пономарёва:
Мария одевалась лучше всех местных девушек. Если у других на ногах были сапоги из свиной кожи – Шумская щеголяла в хромовых, блестящих. Сверстницы прятали свои ноги под штаны (мода такая тогда в сибирских деревнях была), которые торчали из-под юбки, а Мария гуляла в жёлто-коричневых тонких чулках. Все шили костюмы из толстого материала, называемого шевиотом, – она носила бостоновую юбочку и красивую импортную кофточку.[59]
Непростая девушка! Ну, Шукшин таких непростых и выбирал обычно. Или они его выбирали, что мы увидим из дальнейшего его жизнеописания.
М.Г.: Со своей первой женой Шукшин познакомился ещё в детстве – она приезжала в Сростки к родне. Личное знакомство продолжил во время своего флотского отпуска. Писал потом письма и ей, и сестре Наталье – чтобы та доложила, как ведёт себя Шумская (они вместе учились в Новосибирске). Писал сурово и ревниво:
Ты говорила, что она виновата совсем немножко. Уж лучше бы она была виновата совсем, полностью. А потом, что такое в вашем (девичьем) понятии – немножко? Это – наверно, пройтись до дома, ну, поулыбаться… Вот так немножко. Мы-то тут думаем, что нас там ждут, а там – увы![60]
Да и позже, уже после возвращения со службы, ревновал её – бешено. Об этом вспоминает односельчанка Александра Ивановна Наумова (Карпова):
…он из больницы в полосатом больничном халате ночью пробирался к Шумским. <…> Он к ней никому подходу не давал. Помню, Ваня Баранов был в неё до безумия влюблён, и даже травился из-за неё. Но Шукшин его к ней всё равно не допускал.[61]
Самой Маше Шукшин писал с флота тоже довольно сурово, во всяком случае, назидательно:
Я часто думаю о нас с тобой, и мне ясно, что мысли наши не расходятся. Нужно только не изменять этому образу мыслей, нужно найти силы выстоять в борьбе с житейскими трудностями. Мне будет труднее, Маша, чем тебе. Ты последовательно и спокойно делаешь своё дело.[62]
А перед возвращением домой, на 1952 Новый год прислал ей открытку с таким вот пожеланием: «Будь здорова, но несчастлива». То есть: без него – несчастлива, а с ним, подразумевалось, другое дело!
Е.П.: В одном из интервью Мария Шумская откровенно призналась: здоровой была, а счастливой – нет. Так что сбылось пожелание Шукшина… И ещё, отвечая на вопрос «Вы никогда не жалели, что вышли замуж за Василия Макаровича?», сказала:
Не жалела, конечно. Он у меня вот тут остался – в сердце… Это не проходит. Вот говорят, что нет любви. Есть она – единственная. Единственная… А у него, наверное, не так всё было…[63]
М.Г.: По поводу причин расставания Шукшина и Шумской есть множество разноречивых версий. Конечно, не обошлось без «сама виновата». Дескать, как пел когда-то Окуджава, «всё тенью была – никуда не звала». Не вдохновляла на великие свершения. Хотела обычной, хорошей жизни. Но кто женщину за это осудит!
Между прочим, Шукшин мучился по поводу расставания с ней, во многих его текстах мы находим горькие слова о том, что герой (персонаж) винит себя за причинённую первой жене боль.
Всю жизнь сердце плакало и болело. Не было дня, чтобы он не вспоминал Марью. По первости хотел руки на себя наложить. С годами боль ушла. Уже была семья – по правилам гражданского брака – детишки были. А болело и болело по Марье сердце…
Это – из рассказа «Осенью». Нечто подобное находим и в другом рассказе – «Письмо», в котором Шукшин, кстати, вспоминает о первой встрече с Марией Шумской в подростковом возрасте:
Она была приезжая – это поразило моё воображение. Всегда почему-то поражало. И раньше, и после – всегда приезжие девушки заставляли меня волноваться, выкидывать какие-нибудь штуки, чтобы привлечь к себе их внимание…
Откровенное, между прочим, признание! Многое проясняющее в сложных отношениях Шукшина с женщинами…
Судя по имени главного героя (Иван П.), рассказ предназначался для цикла «Из детских лет Ивана Попова» – но Шукшин не включил его ни в один из прижизненных сборников. Только в 1988 году Лидия Федосеева-Шукшина передала рукопись не публиковавшегося ранее рассказа в газету «Советская Россия». Ещё в «Письме» есть такие строки:
Много лет спустя Мария, моя бывшая жена, глядя на меня грустными, добрыми глазами, сказала, что я разбил её жизнь. Сказала, что желает мне всего хорошего, посоветовала не пить много вина – тогда у меня будет всё в порядке. Мне стало нестерпимо больно – жалко стало Марию и себя тоже. Грустно стало. Я ничего не ответил.
По воспоминаниям ближайшего друга Василия Макаровича, оператора фильмов «Печки-лавочки» и «Калина красная» Анатолия Заболоцкого, которые приводит Тамара Пономарёва, однажды во время съёмок они с Шукшиным проезжали по Чуйскому тракту. Минуя посёлок Майму, Шукшин вдруг тихо и задумчиво, с тайной печалью произнёс:
Здесь живёт моя любовь, моя первая жена. Это единственная женщина, перед которой я виноват.[64]
Так думал сам Василий Макарович – но, как мы знаем, женщин, которые его считали виноватым перед ними, было ох как много…
Е.П.: Одни утверждают, что у Шукшина были четыре жены: первая – Мария Шумская, с которой он формально «расписался» в 1956-м, уже приехав из ВГИКа на каникулы, вторая – сразу после института, начинающая актриса и студентка ВГИКа Лидия Чащина (1964–1967), третья – Виктория Софронова, дочь Анатолия Софронова, драматурга, поэта и партийного функционера, одиозного редактора «Огонька».
Другие резонно замечают, что «официальных жён» у Шукшина было всего лишь две: первая любовь, Мария Шумская, и последняя, Лидия Федосеева-Шукшина, а с Викторией Софроновой и Лидией Чащиной он не регистрировался.
О многочисленных его романах с московскими красавицами и умницами мы упоминать не будем. Всё – недостоверно, зыбко, приблизительно, как в песне «Под окном черёмуха колышется», где имеются слова «жаль, что люди много говорят».
Но надо обратить внимание на то, что, «вспоминая» Шумскую в рассказах, Шукшин постоянно подчёркивает её имя: Мария. Самое значимое для него женское имя. Так звали его мать, уж не говоря о понятных всем символических, евангельских смыслах.
М.Г.: А вот каким был сам Шукшин в период своего возвращения из армии в Сростки, по воспоминаниям Шумской:
Скрытный, малоразговорчивый. И очень такой целеустремлённый. Мы много о книгах говорили. Когда книги читал, брал всё положительное к себе. И полушутя старался походить на «великих». На Джека Лондона, на Ленина, даже и на Сталина («Знаешь, буду носить сапоги, как Сталин»). Когда ходил в библиотеку, всегда брал и художественную литературу, и Маркса, Энгельса, Ленина. Многое брал и стремился быть известным, как они.[65]
А, собственно, на каких основаниях Василий так важничал? На момент начала их отношений с Шумской он ровным счётом никто, человек без среднего образования, недослуживший матрос-сирота… А она, помимо своей красоты и стильности, практически дипломированный педагог!
Е.П.: Любопытно, что фамилию Василия молодая жена не взяла. Осталась Шумской. Потом объясняла это так: мол, сразу поняла, что Василий выйдет в большие люди, и к его знаменитой в будущем фамилии примазываться не желала. Ну, как-то неубедительно, признаться, это лично для меня звучит.
Может, богатая родня была против? Или уже тогда понимала, чувствовала, что брак их – ненадолго?
Есть, например, свидетельство от односельчанки и знакомой, которая утверждала, что они поругались – сразу же после бракосочетания:
После регистрации Вася пришёл домой из загса. Один, без Марии. Рванул на себе рубаху и давай восклицать: «Вот это женитьба! Ну и женился!».[66]
Как ни крути – она сама отказалась ехать с ним в Москву; он предлагал. Если бы согласилась – может, всё по-другому пошло бы. А может, и нет. Но говорить, что он, студент-москвич, бросил деревенскую жену, – на мой взгляд, несправедливо.
М.Г.: Да, уезжал он от Шумской вроде как и не навсегда. Обещал писать. И писал даже. Потом только стали доходить слухи о его студенческих романах… Якобы в столицу даже отправился на разборки его тесть, состоялся у них тяжёлый разговор в общаге…
Но окончательно их отношения были разорваны только ближе к окончанию ВГИКа.
Е.П.: Мария Ивановна Шумская прожила долгую – и достойную – жизнь. Работала учительницей немецкого в сёлах, была замужем (но детей не было). Приезжала на каждые шукшинские чтения в Сростки. Умерла совсем недавно, в 2021 году, в возрасте 90 лет. Но Василия Макаровича помнила – всю жизнь. И вспоминала, повторю, только добром.
М.Г.: Если смотреть на изгибы судьбы Шукшина, то, конечно, эти полтора года в Сростках оказались важны для него отнюдь не женитьбой. А, например, получением документа, открывавшего дорогу к высшему образованию, да и вообще к большой жизни. Не очень просто и не очень гладко, но закончить школу – удалось: 31 августа 1953 года Шукшин получил аттестат зрелости, сдав экзамены за курс средней школы экстерном. В аттестате на четырнадцать предметов всего три пятёрки – по истории СССР, географии и Конституции СССР. Четвёрок – шесть: по литературе, алгебре, естествознанию, всеобщей истории, астрономии, химии. Троек – пять, причём одна из них – по русскому языку; ещё одна – по английскому.
Надо сказать, что готовился он – серьёзно; учебники штудировал и дома, и переплывая на другой берег Катуни, чтобы никто не мешал. Но правда и то, что на великовозрастного экстерна учителя смотрели, мягко говоря, очень доброжелательно. Местный, отслужил, книжки читает, красавец…
Алтайский краевед Василий Гришаев в восьмидесятые годы побеседовал с учителями, принимавшими экзамены у Шукшина. Поставившая ему тройку по русскому Зоя Васильевна Белякова пояснила: это самое большее, что она могла сделать для будущего классика русской литературы: «Я ещё старалась сильно не придираться. Хотелось помочь парню выйти на дорогу».[67] Так что байка о том, что он сделал во вступительном сочинении при поступлении во ВГИК кучу грамматических ошибок, а Михаил Ильич Ромм, которому приглянулся абитуриент, написал поверх сочинения «АТЛИЧНО!», возможно, и не лишена оснований.
А вот что о проблемах уже с языком английским вспоминает другая учительница Шукшина:
Василий Макарович никак не мог сдать английский язык. У нас специалиста не было, а в Бийск он дважды ездил, но никого не нашёл: все в отпуске были. В одну из таких поездок с ним приступ случился, он же с язвой желудка с флота приехал. Мария Сергеевна прямо вся изболелась за сына. Как встретимся, она: «Ой, как же Васе-то помочь? Всё ведь он сдал, кроме английского». Пошла я к директору школы и говорю: «Николай Николаевич, ну что мы парня будем мучить? Он ведь дальше учиться собирается. Из-за английского год потеряет, а ему и так уже двадцать четыре. Что ему английский? Не знал он его и знать не будет. Давайте ему поставим тройку в аттестат, и дело с концом». Николай Николаевич формалист был большой, от буквы ни на шаг, а тут сразу согласился. Да и я была не меньше его щепетильной в этих вопросах, а тут взяла грех на душу. И не каюсь. Дали парню дорогу.[68]
Е.П.: Во всём земляки ему дали дорогу – и в комсомол помогли вступить, и в партию, и директором школы назначили… Василий Макарович «мягкой силой» умел добиваться того, что ему нужно. Тут, с одной стороны, сказывалась вечная нехватка в деревне образованных, толковых, малопьющих мужиков, а с другой – Сталин как раз приказал долго жить, оттепелью повеяло – и сын репрессированного получил шанс сделать карьеру и по педагогической, и по комсомольской линии.
Весьма интересно в свете этого вольное гипотетическое рассуждение Алексея Варламова:
Перед ним наконец-то распахнулись двери готового к подъёму социального лифта: он мог бы пойти и по партийной, и по советской линии, а верхнее образование получить в высшей комсомольской или партийной школе, мог дослужиться до первого секретаря райкома, а то и выше – взяли бы в обком партии в Барнауле (на Алтае начальников с артистической жилкой всегда любили, а после 1956 года на волне хрущёвской оттепели шукшинская трагическая биография обернулась бы ему во благо). Глядишь, позвали бы в свой черёд в Москву, а там, если пофантазировать, пошёл бы ещё дальше (вспомним название шукшинского рассказа «Смелые идут дальше», а уж кто был смелый, если не Шукшин!) – и вот уже не податливый, похожий на говорливого старика Баева из «Бесед при ясной луне» Михал Сергеич Горбачёв, а Василь Макарыч, играя желваками, затеял бы на Руси перестройку, но другую, народную, справедливую, и тогда уж, будьте любезны, так и остался бы честным строителем уважавший быструю езду крепкий мужик Борис Николаевич Ельцин, не наломал бы дров, не узнала бы его порушенная Родина того унижения, которое ей пришлось испытать под конец XX века, не сдала бы своих соотечественников, не легла бы на рельсы вместо обещавшего сделать это президента.[69]
М.Г.: Лихо! Мечта! Но несбыточная. Уже на уровне крайкома (а не обкома, кстати, – Алтай был краем, а не областью) его бы съели… А впрочем, он и в комсомольские секретари района не пошёл, хотя некоторые мемуаристы об этом писали как о свершившемся факте. Отказался! Да ещё и заявил, по некоторым свидетельствам, «всё равно работать не буду». Дерзко!
Е.П.: А вот Василий Белов как раз тогда, в юности, на партийно-советскую стезю уверенно ступил. Осенью 1958 года стал первым секретарём Грязовецкого райкома комсомола Вологодской области, членом КПСС. Это не помешало ему позднее написать замечательный и, на мой взгляд, совершенно антисоветский роман «Кануны» – о том, как большевистская коллективизация разорила Россию. А ещё позже стать народным депутатом СССР, членом Верховного Совета СССР (1989–1991), членом ЦК КПСС… «Широк русский человек!»
М.Г.: Вместо партийной карьеры с сентября 1953 года Шукшин преподавал русский язык и литературу в школе, а с октября стал ещё и директором. Проработал он там один учебный год. Но директором школы Шукшин был своеобразным.
Во-первых, стоит учесть, что это была школа вечерняя (в городах такие называли – «школа рабочей молодежи»), то есть – для взрослых. Учились и балбесы, и люди с суровой биографией, и бунтари, которым обычная школа поперёк горла вставала. Требования к ученикам и учителям были умеренными.
Однако вышестоящие инстанции их контролировали постоянно. В архивах сохранился приказ райотдела образования от 1951 года, ещё до явления Шукшина:
За уклонение от участия в организации работы по ликвидации неграмотности и малограмотности, за недобросовестное отношение к этому серьёзному вопросу директору Сростинской средней школы объявлен выговор с занесением в личное дело.
А осенью 1952-го Сростинский отдел народного образования отмечает, что:
…директора, заведующие школ, учительские коллективы недостаточно занимаются организацией работы по ликвидации неграмотности среди взрослого населения. Так, планы и задания по ликвидации неграмотности и обучению малограмотных из года в год не выполняются ни одной школой. Директора и завшкол не имеют плана обучения неграмотного и малограмотного населения.
Во-вторых, имеются свидетельства, что учитель и директор Шукшин с учениками (ровесниками!) был не прочь и выпить… Благо, среди них были и те, с кем Василий некогда учился в младших классах обычной школы. Так что дистанции, особого пиетета не было и быть не могло.
То-то на вопрос односельчанина Геннадия Кащеева «Где работаешь?» он ответил:
Скажу – засмеёшься. В школе учителем и директором. Подвернулся – попросили поработать.[70]
Добавлю: не пройдёт и десяти лет, как актёр Шукшин сыграет роль учителя в фильме Ю.Победоносцева «Мишка, Серёга и я» (1961).
А вот как сам Шукшин оценивал свою учительскую работу много лет спустя, в статье «Монолог на лестнице»:
Учитель я был, честно говоря, неважнецкий. Без специальности, без образования, без опыта. Но не могу и теперь забыть, как хорошо, благодарно смотрели на меня наработавшиеся за день парни и девушки, когда мне удавалось рассказать им что-нибудь важное, интересное и интересно. Я любил их в такие минуты. И в глубине души не без гордости и счастья верил: вот теперь, в эти минуты, я делаю хорошее настоящее дело. Жалко, мало у нас в жизни таких минут. Из них составляется счастье.[71]
Но учительство – учительством, а на директоре лежали важные административно-хозяйственные функции. Забота об имуществе учебного заведения, например. Впрочем, так как школа вечерняя и дневная располагались в одном здании, имущество их было как бы объединённым, и за него всё же отвечал прежде всего директор школы дневной, Николай Николаевич Жабин.
Интересные факты приводит журналист из Барнаула, биограф Шукшина Сергей Тепляков:
В Государственном архиве Алтайского края хранится паспорт Сростинской средней школы № 32. Там перечислено всё, что имелось в школе в 1950–1954 годах: парты, грифельные доски, рабочие инструменты. Из паспорта можно, например, узнать, что в школе были автомобиль (правда, неисправный), лошадь (в то время как их требовались четыре), а также чучела и скелеты в кабинете биологии…
В контексте шукшинской истории интереснее всего, пожалуй, библиотека. Книг школа имела немало – более 700 томов, больше всего – по разделу русской дореволюционной литературы. Школа выписывала восемь газет: краевые «Алтайская правда» и «Сталинская смена», районку «Боевой клич», центральные «Комсомольская правда», «Правда», «Учительская газета», «Литературная газета», «Пионерская правда». И 23 журнала![72]
Е.П.: Всё же Василий Макарович изрядно преувеличивал, когда на вступительных экзаменах во ВГИКе сводил свою директорскую работу к добыванию дров, во время которой, мол, не до чтения Толстого. Про то, что он ещё и литературу там преподавал (а учителю литературы не читать Толстого – странно), Шукшин перед приёмной комиссией и вовсе благоразумно умолчал… Впрочем, и самого этого разговора, скорее всего, просто не было – но мифы о его поступлении во ВГИК мы ещё обсудим.
А пока стоит заметить, что в вечерней школе учитель Шукшин вёл сначала 13 часов, затем 16 часов (согласно ведомостям о зарплате), преподавал русский и литературу не только в 7-м классе, но и в 5–6-х классах, а ещё иногда замещал учителя немецкого языка даже в дневной школе! Это, конечно, особенно интересно, учитывая отношения Василия Макаровича с иностранными языками… Ну и общественная нагрузка, как без неё – 11 ноября 1953-го он был единогласно избран секретарём учительской комсомольской организации при Сростинской средней школе. Эту должность Шукшин исполнял вплоть до своего отъезда в Москву на учёбу.
М.Г.: Комсомол и партия были бы полезны как минимум для того же поступления. 29 апреля 1954 года его кандидатуру рассмотрели на бюро райкома. Вопросов было всего два: знает ли он Устав КПСС и сколько лет ему было, когда «был взят отец по линии НКВД?». В обсуждении прозвучал и такой комплимент: «По вопросу выпивки – он очень сдержанный и часто сдерживал друзей». Проголосовали единогласно. Шукшин стал кандидатом в члены КПСС.
Хорошо, в общем, Василий себя проявил в Сростках. Когда собрался уезжать – отпускать не хотели. Есть такое свидетельство: Фёдор Доровских, первый секретарь Сростинского райкома партии, когда-то помогший юному Василию с паспортом, сказал его матери: «Если Василию не нравится учительство, мы могли бы подыскать ему другую работу. Вы бы поговорили с ним». Мария Сергеевна ответила: «Как-нибудь выдюжу. Пусть едет, там он больше пользы принесёт, где долю-то ищет».[73]
Е.П.: При этом подозревать его в каком-то скрытом критицизме по отношению к власти и партии мы не имеем никаких оснований. Фиги в кармане у него не было, а было здоровое, прагматическое намерение играть по правилам – и выигрывать. Нормальная такая крестьянская черта. По правилам, которые установлены на данный момент «начальством».
Если мы почитаем его первые опубликованные работы – а это статьи в «районке» – опять же не увидим никаких отклонений от официальной линии. Например, были публикации о вечерней школе. «Учиться никогда не поздно», которая вышла 11 октября 1953 года в газете «Боевой клич». 10 декабря 1953-го в той же газете печатается статья «Больше внимания учащимся вечерних школ». Директор и учитель Шукшин в статьях добросовестно поднимает проблемы работы вечерней школы:
Довольно богатый опыт имеет и наша районная вечерняя школа. За несколько лет работы она многим дала возможность дальнейшего обучения в средних учебных заведениях (очных и заочных). Товарищи, оканчивая 7 классов вечерней школы, поступают в техникумы, училища, школы специального обучения, блестяще выдерживая вступительные экзамены.
М.Г.: Исследователь из Барнаула Дмитрий Марьин проанализировал первые публикации Шукшина. И вот его выводы:
Назидательность, митинговый, пропагандистский стиль, констатация, в общем-то, банальных, но идеологически верных положений, обилие готовых лексических и фразеологических штампов, обычных для советских СМИ («сознательность трудящихся масс», «царской России», «полного торжества коммунизма в СССР», «задача коммунистического воспитания», «рабочим классом и колхозным крестьянством» и т. п.). Здесь очевидно сказался опыт выступления автора на комсомольских собраниях, участие в агитационных мероприятиях, что не могло не отразиться на стилистике статей. Особенно явно указанные черты присутствуют в статье «Учиться никогда не поздно», что практически обезличивает её, лишает авторской индивидуальности. Видно, как в своём первом появлении перед читателями (пусть и малотиражной, но газеты, которую читают соседи, односельчане – т. е. люди, хорошо знавшие автора) будущий писатель ещё невольно или боится, или стесняется своего слова, а потому предпочитает «спрятаться» за обезличенными, но зато бесспорными идеями и готовыми, «проверенными», не могущими вызвать ни у кого сомнения штампами. Таким образом, в обеих статьях, в целом, отсутствует одно из главных свойств языка зрелой публицистики Шукшина – непринуждённость акта коммуникации, понимаемая как естественная речь, лишённая напряжения, неловкости.[74]
Е.П.: Ну, какая такая «непринуждённость акта коммуникации» – в районной газете, да ещё и в 1953 году!
Однако, если хорошо вчитаться, то увидим, что и здесь Василий Макарович не так-то прост. В статье «Больше внимания учащимся вечерних школ» видны уже юмор и ирония, причём своеобразные, шукшинские:
На вопрос: «Почему Вы не учитесь?» товарищи Соколова Р., Дегтярева М. и другие из колхоза «Путь к коммунизму», тяжело вздохнув, отвечают: «Да куда уж нам…». Причём этим «старушкам» по 25 лет.
Некоторые комсомольцы, записавшись в школу, решили, что они выполнили свой долг, что теперь можно со спокойной душой проходить мимо школы… на танцы.
М.Г.: Дмитрий Марьин находит в первых опубликованных опытах Шукшина связь с его последующими работами:
Шукшин настойчиво утверждает незыблемую для него самого истину: культурный уровень человека напрямую зависит от его уровня образования. «Повышение своего общеобразовательного и культурного уровня – это то, что мы называем гражданским долгом перед Родиной» <…> Языковой особенностью зрелой шукшинской публицистики, проявившейся уже в ранних статьях, является диалогичность повествования. <…> Заглавия некоторых статей представляют по форме вопрос, ответ на который содержится в тексте статьи («Как привлечь мастеров?», «Как нам лучше сделать дело», «Как я понимаю рассказ»). В.М.Шукшин в каждом произведении настроен на диалог, на дискуссию, сознательно драматизирует повествование. Нередко в качестве приёма, диалогизирующего монолог, выступает риторический вопрос. <…> В статье «Учиться никогда не поздно» в качестве приёма организации экспрессии Шукшин использует повтор. Главная идея, которую автор хочет донести до сознания читателя, повторяется в тексте трижды: в заглавии статьи «Учиться никогда не поздно», в трансформированном виде в реплике «молодёжи и взрослых» – «Мне поздно учиться» и в предложении «Учиться никогда не поздно – мысль не новая, но столь верная, что её необходимо высказать ещё раз». При этом две последние фразы образуют антитезу (поздно учиться – учиться никогда не поздно), ещё один из характерных для публицистики В.М.Шукшина приём создания экспрессии.[75]
Е.П.: Думаю всё же, что в ранних статьях Василия Макаровича ничего, выделяющего его из числа прочих сотрудников «районки», по сути дела, нет.
А про учительство он, полагаю, и правда размышлял всерьёз уже тогда. В одном из поздних интервью, в беседе с корреспондентом газеты «Советская культура» К.Ляско, он говорит:
Мне обидно видеть, как роль учителя на селе теряет своё значение… Как много значил учитель в селе! К нему шли за советом, старались оградить от лишних хлопот… Горько это сознавать, но своё значение учитель на селе утрачивает. Что происходит?[76]
М.Г.: Ну, это было потом. Предполагаю, что к концу первого и единственного своего учебного года в качестве учителя и директора Шукшин больше размышлял не о проблемах сростинских лоботрясов, уклоняющихся от учёбы, а о скором отъезде на свою собственную учёбу. У него ведь был выбор – не поступить ли, например, в местный, горно-алтайский (а это всего 60 километров от Сросток) пединститут? Имеются сведения, что Василий Макарович ездил в Горно-Алтайск, узнавал, что да как, даже договаривался со знакомыми на предмет временного проживания. Но потом от этой мысли отказался. Опять – «тесновата кольчужка»? Москва ждала?
Е.П.: В нём была какая-то особая русская внутренняя сила, какая-то подспудная энергия, которая не давала ему спокойно существовать, а заставляла жить и действовать. Эта сила, которая увела его сначала из сросткинского дома, а потом и вообще с Алтая, выталкивала его наверх как живое человеческое тело из воды.
…Москва ждала – и дождалась в конце концов.
Часть вторая
Подъём
Хроника
1954, 20 июня – направляет заявление во Всесоюзный государственный институт кинематографии с просьбой допустить его к сдаче экзаменов. 25 августа – зачислен на первый курс ВГИКа в мастерскую М.И.Ромма. Сентябрь – избран секретарём комсомольской организации курса.
1955, ноябрь – принят в члены КПСС.
1956, 16 августа – женится на односельчанке М.И.Шумской. Осень – снимается как актёр в учебном фильме А.Тарковского и А.Гордона «Убийцы».
1957, лето – направлен на режиссёрскую практику на Одесскую киностудию, где приглашён М.Хуциевым на одну из главных ролей в картину «Два Фёдора» (выходит в прокат в 1958 году).
1958, август – в журнале «Смена» опубликован рассказ «Двое на телеге».
1959–1960 – активно снимается в кино («Золотой эшелон», «Простая история», «Алёнка» и др.).
1959, 29 июля – получает на партийном собрании во ВГИКе строгий выговор с занесением в учётную карточку за хулиганство.
1960, лето – осень – снимает дипломный фильм «Из Лебяжьего сообщают». Декабрь – защищает во ВГИКе диплом с оценкой «отлично».
Глава шестая
Покорение ВГИКа
Е.П.: Когда я думаю о том, что́ предпринял Василий Макарович летом 1954 года, решительно рванув в столицу, где у него не было ни кола ни двора, ни друзей, ни знакомых, – меня больше всего удивляет даже не то, как он решился на такую резкую жизненную перемену, не обращая внимания на мнения, желания и надежды начальства и родни (крепко подводя их, по сути дела), а то, почему именно ВГИК возник на его трудном пути наверх? Ведь ВГИК – это учебное заведение, куда стремились тысячи юношей и девушек страны, где конкурс доходил до сотни человек на место!
М.Г.: Есть версия, что всё вообще произошло случайно. У Владимира Коробова читаем беллетризованную версию такой легенды:
Он уверенно, как ему казалось, и поспешно вошёл в тенистый двор на Тверском бульваре, уверенно и быстро разыскал приёмную комиссию и… столь же быстро вышел оттуда, совершенно растерянный и потерянный, чувствуя внезапное полное изнеможение. Присел, не помня себя, на одну из лавочек в сквере. Такого подлого удара судьбы он не ждал. Ну ладно бы – не выдержал экзамены, не прошёл по конкурсу: горько, жалко, но… понятно. А тут…[77]
«Тенистый двор на Тверском бульваре» – это Литинститут, где вы сейчас преподаёте. Речь здесь идёт о том, что Шукшин якобы не знал о творческом конкурсе, который надо проходить обязательно и на который он безнадёжно опоздал. Могло ли быть такое? Сомнительно. Дальше у Коробова ещё интереснее:
Тут… к нему подошёл молодой Евгений Евтушенко, чья поэтическая звезда уже начинала всходить и чья эстрадная популярность была уже не за горами… Молодой Евтушенко разговорился с “простым парнем”, внимательно оглядел нелепый – полусолдатский-полуматросский, составленный частью из собственной форменной одежды и военной, неплохо сохранившейся в нафталине на дне сундука одежды деда – наряд Шукшина и полусерьёзно-полушутя изрёк: «Иди-ка ты, паря, во ВГИК, на режиссёрский. Там сейчас борются с формалистами и космополитами, там такие, как ты, “рабочекрестьяне”, нужны…»[78]
Е.П.: Ай, молодца, Евгений Александрович! Здорово Коробову загнул «паря»!
Не откажу себе в удовольствии привести ещё известную цитату, на этот раз из мемуаров Василия Белова, практически «антипода» Евтушенко, – мол, если бы не казус с Литинститутом,
неизвестно, по какому пути пошёл бы дальше Василий Макарович Шукшин, то ли скользкой тропой всяких эйзенштейнов, то ли каменистым шляхом Шолохова. Так решаются судьбы русской культуры: то гавкающими церберами, то ехидным щебетом столичных пташек.[79]
М.Г.: «Церберы и пташки» – это конечно, красиво, но кто ж поверит в такую наивность Шукшина, якобы поехавшего неизвестно куда? Жизнь уже крепко научила его так не рисковать. Да и не в шукшинском это было характере.
Даже если учесть, что нечто подобное говорил и сам Василий Макарович. Он ведь про себя и не такое ещё рассказывал!
Уже поступив во ВГИК, Шукшин писал своей невесте Марии Шумской (отношения с ней они в то время, напомню, ещё официально не оформили): «Ты знаешь, мои документы были в институте кинематографии». Шукшин, если верить этому письму, пытался – неудачно! – их забрать и передать в некий «исторический». (Историко-архивный?) Но – почему не забрал? Объяснение – удивительное!
Прихожу в приёмную комиссию, а там столпотворение – человек 700 (я не преувеличиваю) стоят друг за другом – сдают документы. К вечеру я дождался своей очереди и спросил: здесь мои документы? Мне коротко бросили: «Здесь. Вы допущены к экзаменам. Следующий!» Ну что мне было делать? Я посмотрел на окружающих меня людей, и вдруг меня взяло зло: кругом ни одного человеческого простого лица – одни маски – маски приличные, вежливые, культурные, московские, утончённые и т. д. и т. п. И я решил побороться с ними.[80]
