Читать онлайн Введение в мифологию бесплатно
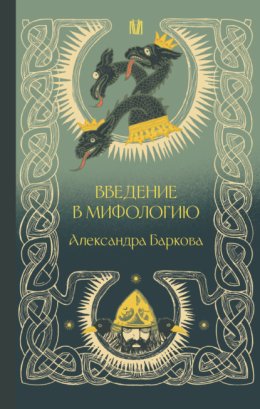
Luigi Zingales
A Capitalism for the People. Recapturing the Lost Genius of American Prosperity
© Издательство Института Гайдара, 2016
Copyright © 2012 by Luigi Zingales
Published by Basic Books, A Member of the Perseus Books Group.
* * *
Моим родителям, воспитавшим во мне веру в справедливость этого мира.
Их пример и идеи дали мне силы бороться за то, чтобы превратить их мечты в реальность.
Пролог
Американцы злятся. Злятся на банкиров, которые спровоцировали финансовый кризис и не заплатили за него. Злятся на неэффективную работу властей, которые порицают банкиров, но сами заслуживают не меньшего порицания за то, что не сумели их остановить. Злятся на экономический строй, который обогащает богатых и игнорирует нужды бедных. Злятся, поскольку идеал «правительства из народа, созданного народом и для народа», может вовсе исчезнуть с лица земли.
Их злость находит выражение во множестве стихийных выступлений: в демонстрациях перед домами представителей власти, в активизме «движения чаепития», в движении Occupy. Эти движения единодушно протестуют против существующего положения дел; однако созданные ими тексты и платформы не предлагают никакой реальной альтернативы. «Движению чаепития» удалось направить гнев народа против правительства; но вот с негодованием по поводу действий банкиров у них ничего не вышло. Движение Occupy утверждает, что борется за интересы 99 % населения; однако оно так и не сумело понять, как именно следует вести эту борьбу.
Что я могу здесь сказать? Теоретически я сам один из «них»: я преподаю финансы в одном из ведущих мировых университетов, мне повезло быть частью того самого 1 %, находящегося на вершине шкалы распределения доходов. Но я тоже злюсь, и я напуган. Злюсь – поскольку место представлений о свободных рынках постепенно заняли деловые интересы, что сильно пошатнуло равновесие американской демократии. Напуган – потому, что американцы, справедливо негодующие в связи с нынешним положением дел, могут выбрать путь, способный положить конец известному нам американскому капитализму. При всех своих недостатках эта капиталистическая система дает большинству людей лучшее, на что они только могут рассчитывать. Эта система – образец, на который равняются борцы за свободу во всем мире.
Полученное мною образование дает мне особое представление об американском капитализме (в том числе и о том, что с ним не так); однако написать эту книгу меня побудила другая составляющая моего личного опыта. Я иммигрировал в США. Я приехал сюда из Италии в 1988 году: я бежал от в корне несправедливой системы. Италия создала понятие «непотизм» и довела до совершенства представление о «клановости»: именно они до сих пор определяют жизнь этой страны. Вы получаете должность благодаря знакомствам, а не знаниям. Американцы узнали о коррупции в итальянской политической системе лишь недавно – после знакомства с Сильвио Берлускони, политиком, получавшим поддержку от глав крупного бизнеса и управлявшим страной на протяжении почти двух десятков лет. И пусть Берлускони даже по итальянским меркам был крайностью, он появился вовсе не случайно: его создала вырождающаяся система. Я уехал в США, потому что понял, что в этой стране меня ждет куда лучшее будущее, чем на родине. Оказавшись в 1988 году в Америке, я не был разочарован; впервые в жизни я испытал пьянящее чувство того, что могу достичь любой цели. Я наконец оказался в стране, где мои мечты определялись лишь моими способностями, но не людьми, которых я знаю.
Неважно, каких политических убеждений вы придерживаетесь – будь вы республиканец-консерватор, или либеральный демократ, или кто-то еще, – рискну предположить, что вы не представляете себе жизни в стране, где действительно нет никакой меритократии, а конкуренция считается страшным грехом. В Италии даже врачи скорой помощи получают повышение в зависимости от политических пристрастий, а не благодаря своим профессиональным заслугам. Молодым людям не рекомендуют получать образование: гораздо чаще им советуют «носить портфель» («fare il portaborse») за власть имущими и тем самым обеспечивать себе покровительство последних. Матери толкают дочерей в объятия могущественных и богатых мужчин, полагая, что это единственный путь к материальному благополучию. Механизмы трудоустройства настолько извращены, что очень часто способные люди выполняют самую черную работу, в то время как посредственности занимают весьма высокие посты. До 1990 года итальянские компании могли открыто и законно заключать соглашения с целью обмана клиентов; такие соглашения заключаются и сегодня, хотя компании уже не заявляют об этом в открытую. В Италии самый простой способ разбогатеть заключается в том, чтобы использовать связи в политической сфере и получить правительственный заказ.
Единственными, кто протестовал против этой системы, были представители радикальных левых кругов, заинтересованные не в изменении системы, а в установлении социализма. В стране, где множество привилегий дается по праву рождения, левые боролись не за равенство стартовых условий, а за устранение любых механизмов отбора, которые они считали дискриминирующими по отношению к бедным слоям населения. Одним из последствий этого стало то, что университеты прекратили проводить отбор среди абитуриентов. Любой человек, вне зависимости от уровня своей школьной успеваемости, мог поступить в любое учебное заведение: таким образом, все вузы вынуждены были принять более низкие стандарты обучения. Непреднамеренным следствием применения такой уравнительной политики стало появление однородной массы практически ничего не знающих выпускников вузов. При выборе сотрудников работодатели оказались вынуждены руководствоваться личными связями – единственным действенным критерием в отсутствие эффективной системы отбора.
Когда я учился в университете в Италии, меня интересовала экономика; я планировал продолжить ее изучение в аспирантуре и стать преподавателем. Будь я средним американским студентом, такая цель означала бы, что мне нужно готовиться к тесту[1] для поступающих в аспирантуру, изучать рейтинги вузов и выбирать лучшие аспирантские программы. В Италии все иначе. Многие люди – в том числе и мой отец – говорили мне, что, раз я хочу преподавать, мне нужно стать помощником какого-нибудь профессора – «таскать за ним портфель»: то есть, прежде всего, бесплатно работать над его исследовательскими проектами и заменять его в часы его консультаций. Вместо этого я решил подать заявление в американский университет. Но даже и этот план, казалось бы, не предвещал мне ничего хорошего: я не смог получить рекомендательное письмо от самого именитого профессора своего университета. Когда я попросил его быть научным руководителем моей курсовой работы, он отказался, сославшись на то, что у него нет времени, – притом, что у меня были отличные оценки; однако у него нашлось время на работу с моим однокурсником, которого поддерживал один влиятельный человек. Когда позднее я обратился к этому же профессору, желая получить от него рекомендательное письмо, его секретарь сообщил мне, что профессор пишет такие письма только для студентов, с которыми работает. Так что мне не повезло. Тем не менее я очень серьезно готовился к вступительным экзаменам и поступил в Массачусетский технологический институт (MIT). Несмотря на столь печальный опыт, я собирался защитить диссертацию в MIT и вернуться в Италию. Как раз тогда, когда меня приняли на работу в Чикагский университет, один итальянский профессор попросил меня отозвать с итальянского общегосударственного конкурса мое заявление на должность доцента в Италии. Я и без того понимал, что это рискованная затея; но я работал ассистентом в Чикаго – так почему бы не попытаться получить в Италии место доцента? Я полагал, что в худшем случае мое заявление просто не станут рассматривать. Но нет. Мне сказали, что на меня напишут кошмарную характеристику, которая навсегда сохранится в моем личном деле. Я полагаю, что действительная причина состояла в том, что у меня – несмотря на мою молодость – характеристика была куда лучше, чем у кандидата из Италии, который работал на нужного профессора (да, в конце концов, мой отец оказался прав). Итальянские профессора не хотели, чтобы я участвовал в конкурсе, и прибегли к вполне явному шантажу.
Я понял, что Италия – не для меня. Шесть лет спустя я получил штатную должность в Чикагском университете. В Италии такой процесс потребовал бы вдвое больше времени. Я смог построить карьеру, не опираясь на личные связи и – что еще лучше – не угождая людям лишь потому, что они старше меня по рангу. Я обязан США не только своей карьерой: я обязан этой стране жизнью. В условиях унижающей и подавляющей итальянской системы я бы просто не выжил.
Вот почему вплоть до финансового кризиса 2008 года я был исключительно далек от американской политической жизни. Несмотря на все свои недостатки, американская система оказалась настолько хороша по сравнению с итальянской, что мне оставалось лишь радоваться тому, как удачно складывается моя жизнь. Я понимал, что мог бы принести куда большую пользу, если бы участвовал в общественной жизни у себя на родине, – ведь проблем там куда больше, а система подчиняет своим правилам даже тех дельных людей, которых она еще не успела разогнать.
Однако вскоре после переезда в США я стал замечать вещи, напомнившие мне происходившее в Италии, – как будто бы я смотрел давно знакомый мне фильм. Первым случаем стало оказание в 1998 году финансовой помощи крупнейшему на тот момент хедж-фонду Long Term Capital Management (LTCM). Фонд был основан талантливыми «количественными аналитиками» и на деле использовал простейшие арбитражные стратегии; но он привлекал так много заемных средств, что, когда часть стратегий не сработала, фонд потерпел крах. Тогда Уоррен Баффетт предложил спасти LTCM – однако таким образом, что подобное спасение стоило бы владельцам фонда всех вложенных ими средств. ФРС не допустила такого развития событий, вмешавшись и приняв меры по спасению фонда, куда более щедрые по отношению к инвесторам и руководителям LTCM; среди последних будто бы случайно оказался бывший вице-председатель ФРС Дэвид Маллинз. В отличие от многих последующих сделок, эта операция ФРС ничего не стоила американским налогоплательщикам. Однако ФРС использовала воздействие убеждением для изменения обычных правил рынка – и, что еще хуже, сделала это ради конкретного человека. Как тогда написала Financial Times, этот случай стал примером коррумпированного капитализма на американский манер.
Затем на сцену вышел Джордж Буш-младший, отпрыск бывшего президента. Во время его правления республиканская партия отвернулась от прорыночных принципов, которых придерживался Рональд Рейган, и постепенно перешла к поддержке крупного бизнеса; так, в 2002 году была введена пошлина на ввоз стали, призванная поддержать американских производителей, а для корпораций были установлены особые условия для репатриации полученной ими прибыли. Одновременно с этим демократы все теснее сотрудничали с представителями крупного бизнеса, запуская «частно-государственные партнерства»: это был способ выманить у правительства деньги для якобы благих целей.
К началу финансового кризиса в 2008 году я понимал, что мне следует принять активное участие в сложившейся ситуации. Австрийский экономист Фридрих Хайек во введении к своей книге 1944 года «Дорога к рабству» отметил: «переезжая из одной страны в другую, можно иногда дважды стать свидетелем одной и той же стадии интеллектуального развития». Я наблюдал за превращением американской финансовой системы в систему коррумпированного капитализма по-итальянски. Отмечу, что положение Америки в некотором смысле куда хуже – ведь американцы, в отличие от итальянцев, не могут возложить всю вину на одного-единственного плохого парня. Берлускони здесь – мы. Через наши пенсионные накопления и инвестиции мы сами владеем компаниями, стремящимися присвоить наши налоговые отчисления и повлиять на нашу политическую жизнь.
Под угрозой оказываются не только наши деньги, но и наша свобода. Клановость подавляет свободу слова, уничтожает мотивацию к учебе и ставит под удар карьерные перспективы. Она в значительной степени лишила мою родную страну потенциала экономического роста. Я не хочу, чтобы она поступила так же с США.
Эта книга – не научное исследование и не новомодный обзор современных тенденций в экономике. Это прежде всего описание проблем американской экономической системы и пылкий призыв к переменам – призыв, идущий от человека, который искренне верит в систему свободного предпринимательства, который любит Америку за то, что она всегда отстаивала: за свободу и стремление к счастью.
Так удачно сложилось, что способность к самореформированию заложена в ДНК этой страны. В отличие от граждан большинства других стран, американцы свято верят в могущество конкуренции. Я покажу в этой книге, что конкуренция есть грандиозный источник добра. Чтобы улучшить экономическую систему, нам нужно больше – а вовсе не меньше – конкуренции. В отличие от множества других стран, для которых популизм синонимичен демагогии и диктаторству, Америка обладает положительной популистской традицией защиты нуждающихся. Я продемонстрирую, что во многом именно благодаря этой популистской традиции американский капитализм оказался лучше других форм капитализма – и продолжает таковым оставаться. «Капитализм для народа» – не оксюморон, но надежда: надежда на то, что сочетание всего лучшего, что только есть в американской популистской традиции, с четкой рыночной ориентацией Америки позволит нам справиться с перерождением нашей системы.
Введение
Вы когда-нибудь получали письмо с угрозой убийства? В Соединенных Штатах такие угрозы – большая редкость, по крайней мере для законопослушных граждан. Однако один мой друг недавно получил такое письмо. Что он сделал не так? До финансового кризиса 2008 года он работал консультантом ныне печально известного страхового гиганта American International Group. Корпорация AIG была настолько довольна его работой над проектом математической модели рисков, что ему предложили заключить договор об отказе от конкуренции: ему пообещали выплатить компенсацию за отказ от перехода в другую компанию и от открытия собственного хедж-фонда. Это стандартная для корпораций практика, позволяющая удерживать талантливых сотрудников. К несчастью для моего друга, выплата по его договору была намечена на конец 2008 года – как раз после предоставления самого большого в финансовой истории кредита, предоставленного государством: правительство США на благоприятных условиях выделило AIG 223 миллиарда долларов, призванные уберечь корпорацию от банкротства. Если вам сложно представить себе размеры этого кредита, вообразите, что каждая семья в стране ссудила AIG 2 000 долларов. Вот почему мало кого удивило негодование общественности, вызванное тем фактом, что, несмотря на катастрофическое положение, корпорация выплатила руководству бонусы и премии на 165 миллионов долларов.
Одним из этих бонусов стала компенсация моего друга за отказ от конкуренции. Он получил несколько угроз убийством еще до скандала – после того как одна из газет сообщила, что он работал на подразделение AIG, занимающееся финансовыми продуктами. После этого он с ужасом ждал момента, когда его имя появится в газетах, в списке получателей премий, вызвавших негодование в обществе. Он вернул деньги компании, хотя вовсе не обязан был так поступать: он надеялся, что этот поступок убережет его и его имя не будет раскрыто. Кроме того, опасаясь за безопасность жены и двух дочерей-подростков, он стал готовить для них план побега.
Что вы думаете об этой истории? Наверняка вы считаете, что нельзя так терроризировать человека, – вне зависимости от того, что он натворил. Однако готов поспорить: если вы чувствуете себя сейчас так же, как и большинство американцев, то в глубине души вы все же думаете, что мой друг получил по заслугам – особенно если я скажу, что он занимался оценкой рисков кредитно-дефолтных свопов, выписанных AIG. Многие из вас сочтут не относящимся к делу то, что в его договоре не было положений об исполнении всех условий этого договора. Ведь, в конце концов, мой друг оказался сотрудником компании, действия которой привели к невиданному доселе разорению экономики. Последствия этой истории – и создавшегося у нас представления о том, что мы имеем дело с нечестной системой, – не исчерпываются благосостоянием конкретного человека или компании. Уважение прав собственности, святое соблюдение договорных обязательств и вера в экономику свободного рынка всегда приносили Америке огромную пользу. Они обеспечили процветание не только счастливчикам, которым повезло родиться в этой стране, но также и миллионам иммигрантов, приехавших сюда со всего мира, привлеченных свободой и перспективами, которые обещала им Америка.
Однако наша вера в свободу рынка была подорвана. За последние десять лет реальные доходы среднестатистической семьи сократились на 7 %[2] Современный мужчина в возрасте от 20 до 30 лет зарабатывает на 19 % меньше (в реальном выражении), чем его отец зарабатывал в этом же возрасте – при условии, что ему повезло и у него вообще есть работа[3]. Количество безработной молодежи сегодня растет. Взглянув на статистику, мы видим, что возможности быстрого взлета неумолимо сокращаются, и тем самым рушится представление об американской мечте. В такой ситуации многие люди задумываются о том, не является ли святое соблюдение договорных обязательств лишь фиговым листком, прикрывающим интересы богачей в ущерб налогоплательщикам. В конце концов, не вмешайся правительство, AIG бы обанкротилась и бонусы, равно как и компенсация по искам кредиторов AIG, составили бы всего по нескольку центов на доллар. Так почему же они должны получать за наш счет полное вознаграждение? Они в любом случае выигрывают, а мы в любом случае проигрываем. Разве в этом заключается суть экономики свободного рынка?
Бо́льшая часть выделенных правительством средств была возвращена; можно было бы предположить, что проблема решилась. Однако осенью 2011 года, спустя три года после операции по спасению от банкротства, тысячи протестующих собрались в нью-йоркском Зукотти-парке (и во многих других парках по всей Америке), чтобы выразить свой гнев. И пусть протестующие не были типичными представителями американского населения в целом, они все же получили определенную поддержку общества. Согласно опросу исследовательского центра Pew, проведенному в декабре 2011 года, американцы скорее разделяли, чем не разделяли, беспокойство протестующих (48 против 30 %) – хотя и не одобряли методов протеста. Некоторые поднятые протестующими вопросы получили даже более широкую поддержку. К примеру, сегодня 61 % американцев полагают, что «экономическая система в стране несправедливым образом поощряет богатые слои населения», а 77 % считают, что «в этой стране горстка богатых людей и корпорации обладают слишком большой властью»[4]. Для поборников капитализма на американский манер это весьма значительные числа.
Исключительность Америки
Большинство знакомых мне экономистов, эмигрировавших из Италии в США – а таких много, – прибыли сюда убежденными левоэкстремистами, а порой даже активными коммунистами. Они приехали в эту страну вопреки своему неприятию американской системы – лишь потому, что здесь лучшие университеты. Но я отметил, что после переезда в США многие из них со временем стали поддерживать идеи свободного рынка. Отчасти они «прозрели» благодаря полученным здесь знаниям в области экономики. Однако я полагаю, что еще более важную роль сыграло то, что они увидели собственными глазами: многие преимущества свободного рынка, которые они изучали в теории, в США действительно применяются на практике. Люди здесь получают вознаграждение в соответствии со своими заслугами, а не благодаря своим политическим связям. Конкуренция дает американцам лучшие продукты по более низким ценам. Низкие барьеры для входа на рынок (для того чтобы начать свое дело, в США нужно в среднем 4 дня, тогда как в Японии – 26, в Италии – 62, а в Индонезии 128[5]) способствуют разработке новых идей и обеспечивают возможности карьерного роста.
В первой главе этой книги я буду говорить о том, что счастливое сочетание исторических, географических, культурных и институциональных факторов сделало американский капитализм отличным от видов капитализма, господствующих в остальном мире. Прежде всего, становление демократии в Америке предшествовало индустриализации (по меньшей мере второй промышленной революции, которая дала нам наиболее крупные и могущественные корпорации). Благодаря этому к концу XIX века – периоду господства корпораций – у американцев уже сложилась демократическая традиция, позволявшая им ограничивать политическое влияние деловых структур. Принятый в 1890 году антитрестовский закон Шермана явился скорее результатом народного протеста против насаждаемой крупными корпорациями коррупции в политике, нежели попыткой исправить перекосы в развитии экономики, вызванные формированием монополий (хотя этот закон часто воспринимают именно так).
Кроме того, американский капитализм развивался в эпоху, когда доля государства в ВВП была минимальной. Как следствие, для предпринимателя единственным способом добиться успеха была победа на рынке: у государства не было ни гроша, и оно мало чем могло помочь. Эта ситуация в корне отличалась от положения появившихся позднее промышленных держав – к примеру, «азиатских тигров» (Гонконг, Сингапур, Южная Корея и Тайвань): для них капитализм стал важным фактором образования государства; их промышленная политика изначально поощряла связи между деловыми и политическими кругами. Капитализм, дающий людям возможность обогатиться за счет их связей в политике, но не за счет успеха на рынке, есть форма капитализма, которую многие считают несправедливой и порочной.
Еще одной отличительной чертой американского капитализма стало то, что он развивался в относительной изоляции от иностранных влияний. Во Франции, Бразилии, даже в Канаде страх того, что американские фирмы станут доминировать в экономике, стал оправданием предоставления местной деловой элите привилегий и защиты – подчас под прикрытием идей патриотизма. Это также способствовало появлению клановости.
Наконец, благотворное воздействие на Соединенные Штаты оказала протестантская этика, воспринимающая богатство как справедливое вознаграждение за тяжелый труд, а не как подарок судьбы и тем более не как грех. В рамках одного исследования, фокусировавшегося на сравнении разных народов, участников попросили выразить степень поддержки утверждения «Нам необходима большая дифференциация доходов: это поощряет нас к действиям» и противоположного ему утверждения «Доход должен распределяться более равномерно». Протестанты в основном поддерживали первое утверждение, тогда как католики и особенно мусульмане выступали в поддержку второго[6].
В силу всех этих причин сформировалась культура, которая верит в возможность и перспективы экономической свободы и открытой конкуренции. Весьма спорное представление о том, что тяжелый труд будет должным образом вознагражден, до сих пор лежит в основе американского представления о жизни. Эта точка зрения снизила негативное воздействие на рынок в США и привела к тому, что в этой стране капитализм популярен и надежен. Обеспеченное капитализмом процветание Америки в различных сферах дало ему широкую поддержку со стороны народных масс.
Кризис доверия к капитализму
Со временем многие описанные мною факторы изменились. Доля государства в ВВП в 1900–2005 годах увеличилась более чем в семь раз, в то время как влияние правительства, благодаря непрерывному росту государственного регулирования, выросло еще более значительно. Деловые круги научились работать с растущим присутствием правительства в экономической сфере и извлекать из него пользу. К примеру, в 2009 году представители деловых кругов не были против введения комплекса мер по стимулированию экономики; наоборот, они стремились извлечь из них максимальную выгоду.
Безусловно, сегодня деловой мир все более искусно вытягивает у правительства деньги. Совсем недавно, в 1980-е годы, конгресс начал определять, кто будет в числе победителей или проигравших, выделяя средства конкретным отраслям бизнеса. В пятой главе мы увидим, что с тех пор рост в этих отраслях был колоссальным. Еще более стимулировало этот рост широко распространенное (ложное) представление о том, что государственные средства могут обеспечить рост частного сектора за счет участия в «частно-государственных партнерствах». Все это создало преимущества для интересов деловой сферы по сравнению с интересами рынков. По мере того как деловая элита приобретала все больший контроль над политикой, общественная поддержка системы рыночной экономики стала сокращаться.
Как уже было отмечено выше, основу этой общественной поддержки составляли также связанные с рыночной системой преимущества и ощущение справедливости этой системы. К сожалению – и мы поговорим об этом во второй главе, – и эти преимущества также начали стираться. В последние десять лет медленный экономический рост и сокращение карьерных перспектив разрушили представление о свободном рынке как о сфере, где любой человек способен достичь процветания. Сотни миллионов долларов налогоплательщиков, переданные для исправления катастрофических экономических показателей, в свою очередь, ослабили представления о справедливости системы.
Предательство элиты
Одним из величайших достижений капитализма стало освобождение авторов от политического рабства. Формирование книжного рынка дало интеллектуалам возможность свободно и с выгодой для себя писать не только для богатых покровителей, но и для широкой публики. Эта возможность отлично сработала в случае с интеллектуалами широкого профиля и куда хуже – в случае с узкими специалистами: инженеры-атомщики редко выступают против атомных электростанций, а финансовые экономисты – против производных финансовых инструментов. Отчасти привязанность специалистов к своей области знаний связана с процессом отбора, в результате которого специализацию в конкретной области выбирают лишь те, кто действительно любит свое дело и, как следствие, готов защищать его интересы. Однако подобная тенденция может также быть вызвана тем, что экономисты называют «естественной приверженностью, обусловленной специализацией». В данном контексте термин «приверженность» относится к любой ситуации, в которой человек или компания, занятые регулированием или оценкой работы группы фирм, в конце концов начинают содействовать интересам этих «фирм». Чем более специализированным окажется мой человеческий капитал, тем более узким будет рынок применения моих идей. Будь я инженером-атомщиком, я вряд ли сумел бы заработать на жизнь написанием популярных книг об атомной энергии. Наиболее выгодной сферой применения моих талантов стала бы работа на ядерно-энергетическую компанию. Как следствие, ценность моего человеческого капитала сильно снизилась бы, если бы я выступал против атомных электростанций. Джеффри Виганд, бывший глава отдела исследований и разработок табачной корпорации Brown & Williamson, раскрывший секреты производства табачных изделий, перешел с должности, обеспечивавшей ему заработок в размере 300 000 долларов в год, на должность с заработком в 30 000 долларов.
Чем меньше потенциальных работодателей имеется в той или иной сфере, тем менее свободными и независимыми окажутся технические специалисты. Это четко прослеживается на примере газет и журналов. Wall Street Journal и New York Times дают более объективные советы по паевым инвестиционным фондам, чем более специализированные журналы, так как их спонсирует широкий спектр рекламодателей; в то же время специализированные журналы сильно зависят от малочисленных специализированных рекламодателей и не могут позволить себе отказаться от них[7]. Однако проблема не ограничивается печатными изданиями: она существует во всех сферах деятельности. Наиболее компетентные специалисты в то же время наименее объективны: ведь компетентный специалист – это чаще всего узкий специалист, имеющий малое число потенциальных работодателей, которых он не может предать. Эта проблема создает между простыми людьми и специалистами отчужденность, рождающую недоверие.
Приверженность существовала всегда – на сознательном или на бессознательном уровне. Однако в последние годы возникли тенденции, делающие ее куда более сильной. Первая тенденция – рост специализации знаний. В начале XX века врач вполне мог усвоить все знания в области медицины. Сегодня он едва ли может справиться со статьями и открытиями в своей крайне узкоспециализированной области. Такая предельная специализация способствовала росту влияния деловых кругов на любые суждения – причем в такой мере, что, по словам бывшего издателя British Medical Journal, «в некоторых областях медицины невозможно найти специалиста, у которого не имелось бы конфликта интересов»[8].
Вторая тенденция – растущая концентрация производства. На протяжении многих лет ипотечные гиганты Fannie Mae и Freddie Mac имели возможность переманить на свою сторону, лишить данных или ввести в заблуждение любого исследователя, который бы попытался поставить под вопрос их методы. Они обладали таким богатством и влиянием, что противостоять им было слишком опасно. Точно так же крупные финансовые конгломераты могут обеспечить себе доминирование в интеллектуальных дискуссиях за счет привлечения на свою сторону экспертов и влиять на политическую программу за счет лоббирования.
Чтобы понять, насколько влиятельными могут быть крупные корпорации, вспомним о попытке проведения реформ, предпринятой после финансового кризиса 2008 года. С самого начала крупные банки ясно дали понять, что хотят подчиняться Федеральной резервной системе. Причина была вовсе не в том, что ФРС обладала наилучшими навыками в деле решения проблем, и не в том, что выбор ФРС в качестве регулирующего органа представлялся им наиболее разумным (при контроле банков с целью обеспечения их стабильности и защиты клиентов может возникать конфликт интересов). Нет, причина состояла в том, что ФРС уже находилась под влиянием крупных банков, которые определили состав правления Федерального резервного банка Нью-Йорка и предоставили ФРС множество сведений, необходимых для ее работы. Против этого предложения почти не было возражений: вероятно, потому, что эксперты в банковской сфере, желающие консультировать или работать в финансовых кругах – как в частном, так и в правительственном секторе, – должны сотрудничать с крупными банками или с ФРС (или и с банками, и с ФРС). Спор между лоббистами и сторонниками ФРС и лоббистами и сторонниками крупных банков завершился принятием идеи о том, что, несмотря на серьезные провалы в прошлом (такие как неспособность урегулировать вопрос о стандартах ипотечного кредитования до наступления кризиса), ФРС остается лучшим органом по контролю над деятельностью банков. Принятый в 2010 году закон Додда–Франка передал полномочия в этой сфере ФРС – что, на мой взгляд, вовсе не удивительно.
Время популизма
Если бы нам нужно было перечислить ключевые факторы, позволяющие предугадать появление популистских движений, на самом верху списка оказались бы неравенство доходов, бедственное положение среднего класса и недоверие к элите. Все эти факторы присутствуют в сегодняшней Америке. «Движение чаепития» и Occupy — всего лишь начало. Появление определенных форм популизма неизбежно. Остается единственный вопрос: каковы будут эти формы?
Для большинства популистских движений так или иначе характерно стремление к перераспределению богатства. Однако в случае, если рынки перестают быть законным местом распределения вознаграждений, – иными словами, если все большее количество людей начинает считать систему несправедливой, – популизм становится настоящей угрозой существованию традиционной рыночной экономики. Когда 77 % американцев считают, что в руках горстки богатых людей и нескольких крупных корпораций сосредоточена слишком большая власть, когда избиратели перестают доверять экономической системе, считая ее коррумпированной, – тогда неприкосновенность частной собственности также оказывается под угрозой. Если права собственности не защищены, даже сам факт сохранения системы рыночной экономики вызывает сомнения.
В связи с неопределенностью, во многом связанной с сегодняшней популистской реакцией, деловые круги начали выдвигать требования о предоставлении им особых привилегий и инвестиционных гарантий. Вспомним Программу государственно-частных инвестиций, предложенную в марте 2009 года министром финансов Тимоти Гайтнером: в рамках этой программы крупные частные инвесторы, по сути, получили субсидии в два доллара на каждый инвестированный ими доллар. Подобные привилегии и гарантии подогревают гнев общественности и приводят к возникновению популистской реакции, подпитываемой, прежде всего, ощущением того, что правительство и крупные участники рынка оказывают друг другу содействие за счет налогоплательщиков и мелких вкладчиков. Политики, не желающие быть связанными в общественном представлении с компаниями, которым они пытаются помочь, сами поощряют популистские нападки и даже принимают в них участие. Легитимные инвесторы покидают рынок, не будучи уверенными в том, что они могут рассчитывать на новые контракты и верховенство закона. Что, в свою очередь, оставляет оказавшимся в тяжелом положении фирмам единственный выход – обращение за поддержкой к государству; а это лишь способствует укреплению кланового капитализма. Я наблюдал подобные процессы в Италии: это порочный круг, выбраться из которого непросто.
Однако даже при наличии сильного популистского давления всего этого можно избежать. Как будет показано в седьмой главе, снижение транспортных расходов в конце XIX века способствовало росту глобализации, аналогичному тому, который мы наблюдаем сегодня; многие представители американского среднего класса испытали на себе серьезное давление, а некоторые компании получили огромную власть. Тем не менее целью энергичного популистского движения, возникшего в ответ на эти события, стало вовсе не уничтожение капитализма, но сдерживание непомерной власти корпораций. Вновь созданная Популистская партия не сумела добиться каких-либо значительных результатов на выборах; однако предложенная ею платформа и ее требования оказали важнейшее влияние на многие реформы Теодора Рузвельта (от антитрестовских законов до прозрачности отчетных документов, от борьбы с мошенничеством до меньшей концентрации финансовой системы), позволившие установить новое властное равновесие и обеспечить эффективность капиталистической системы в США. Можем ли мы сегодня направить гнев популистов не на разрушение системы рыночной экономики, но на борьбу с клановым капитализмом и коррумпированными элитами?
Призыв к переменам
Действовать необходимо сейчас – пока США не вступили на южноевропейский путь, приводящий к водворению системы кланового капитализма, или на южноамериканский путь, ведущий к долгосрочному упадку. Необходимо – ни много ни мало – переосмыслить традиционные политические категории. Американский политический спектр традиционно делится на проделовые круги, понимающие суть экономического стимулирования и желающие расти за счет его умелого использования, и антиделовые круги: последние, по словам Черчилля, считают бизнес «хищником, которого нужно убить» или «коровой, которую следует постоянно доить».
По мере ослабления идеологических различий стороны пришли к новому пониманию того, кто именно станет дойной коровой: налогоплательщики. Естественно, обе стороны с восторгом поддерживают тесный союз деловых кругов и правительства. Настоящая линия раздела проходит между теми, кто вошел в этот порочный союз, и теми, кто отказался в нем участвовать. Подавляющее большинство последних придерживаются крайне левых взглядов и продолжают считать бизнес хищником, которого следует убить. Политики и интеллектуалы, выступающие в защиту рынка и при этом понимающие, какой чрезмерной властью обладает крупный бизнес, встречаются куда реже, чем следовало бы. Тем не менее большинство американцев признают, что крупный бизнес и свободный рынок – совершенно разные вещи. По результатам подсчетов Индекса финансового доверия, публикуемого чикагской школой Бута/Келлога (я один из руководителей этого проекта), 53 % американцев согласились с утверждением «Свободный рынок – лучшая система для создания богатства», тогда как 28 % воздержались от оценки этого утверждения, а 19 % не согласились с ним. Аналогичным образом, 51 % американцев согласились с утверждением «Крупный бизнес искажает работу рынков ради собственного блага», тогда как 30 % воздержались от оценки, а 18 % не согласились с утверждением. Иными словами, большинство американцев верят в силу рынка, однако испытывают беспокойство в связи с влиянием на него крупного бизнеса.
Именно для этого большинства я написал свою книгу. Это по большей части молчаливое большинство: оно чаще поддерживает рынок, чем деловую сферу. Кроме того, я обращаюсь к двум недавно возникшим популистским движениям, оказавшимся на противоположных концах политического спектра: к «движению чаепития» и движению Occupy. Неожиданным образом у этих движений много общего. И то и другое антиэлитарно; и то и другое борется с левиафаном («движение чаепития» – с правительством, движение Occupy — с крупным бизнесом, обращающимся за помощью к государству). Многие не понимают, что оба левиафана суть две стороны одной медали. Проблему представляет не крупный бизнес как таковой, но монополистский бизнес, обладающий политическим могуществом; не правительство как таковое, но назойливое и коррумпированное правительство. В чем причина неэффективности агентства Fannie Mae — в том, что это крупный монополист, или в том, что его поддерживает государство? На самом деле и в том и в другом.
Частный сектор зачастую терпит крах потому, что правительство вмешивается в его существование, выделяя ему субсидию или предоставляя монопольное право. Правительство зачастую терпит крах из-за повышенного внимания к частным интересам. Так кого же следует обвинять – правительство или частный сектор? Никого: подобные просчеты – результат работы порочной, клановой системы.
Популистская прорыночная программа
Тем не менее цель этой книги – не только предупредить Америку об угрожающей ей раковой опухоли кланового капитализма, но также составить программу борьбы с этой опухолью, пока она не дала метастазы. Эта программа учитывает капиталистический дух Америки, но к тому же использует лучшие стороны ее популистской традиции.
В начале XX века реакцией Эры прогрессивизма на появление кланового капитализма стало усиление распорядительных полномочий государства. Программа, разработанная мною в главах с восьмой по пятнадцатую, полностью учитывает тот факт, что государство слишком часто оказывается частью проблемы – но вовсе не частью ее решения. Я не всегда выступаю против регулирования (чтобы хорошо работать, рынкам нужны правила); однако я хорошо понимаю, что в большинстве ситуаций правила защищают существующих участников рынка и препятствуют проникновению на рынок новых участников – а это нарушает конкуренцию.
Моя программа концентрируется на власти конкуренции. Только конкуренция противоположных экономических интересов даст нам шанс улучшить всеобщее благосостояние. Только конкуренция противоположных политических интересов позволит нам обрести интеллектуальную свободу.
Отсутствие конкуренции и перекосы, вызванные предоставлением правительственных субсидий, стали причиной всех тех проблем, с которыми сегодня столкнулась экономика – в том числе и сокращения реальных доходов американского среднего класса. Я предлагаю использовать власть конкуренции – не только в экономической, но также в политической, культурной и правовой сфере. Бесправные люди защищены законом от конкуренции алчных юристов; политические и экономические власти создают основу для конкуренции ищущих славы ученых и журналистов.
Однако для того, чтобы конкуренция начала творить чудеса в этих сферах, нужна информация. Характерной чертой XX века были идеологии. Характерной чертой XXI века станет анализ информации. Перефразируя легендарного журналиста Джозефа Пулитцера, скажу, что при наличии информации ни одно преступление, ни один обман, ни одно мошенничество не переживут тщательного анализа.
Тем не менее в условиях слабой правовой защиты конкуренция не работает. Если акционеры недостаточно защищены, конкуренция способствует наиболее коррумпированным, но далеко не лучшим управляющим. Если инвесторы малокомпетентны, конкуренция выбирает самых искусных мошенников, но вовсе не лучших инвестиционных менеджеров. Если клиенты невежественны, конкуренция заставляет компании пользоваться их невежеством, но не повышать собственную эффективность.
По этой причине я признаю значимость правил. Однако я выступаю за немногочисленные и простые правила: они обладают несколькими преимуществами. Такие правила не позволяют действовать ради конкретных интересов, что сокращает возможности лоббирования. Они сводят к минимуму количество профессионалов, необходимых для объяснения правил и работы с ними, что повышает эффективность экономической системы. Избирателям проще их отслеживать, что предотвращает или хотя бы сокращает возможности их использования ради конкретных интересов и способствует саморегулированию. И последнее, но не менее важное, – простые правила неизбежно жестки, а их использование ограничивается случаями, когда они действительно необходимы. Как говорил президент Теодор Рузвельт, «за счет лучших законов нелегко улучшить наше материальное положение; однако за счет дурных законов его легко погубить».
Тем не менее закон – не единственное решение. Нам нужны качественные социальные нормы, способствующие выживанию капиталистической системы в долгосрочной перспективе. Беспринципное поведение подрывает жизнестойкость американского капитализма. Все те из нас, кто верит в свободный рынок, обязаны выступать в поддержку норм, способствующих взаимодействию в экономической сфере и порицающих тех, кто пытается использовать систему ради собственного блага.
Часть I. Проблема
Я помню, что в ночь, когда я впервые приехал в Америку, у меня возникло два отчетливых чувства. Первым было пьянящее ощущение того, что мне все по силам, о котором я писал выше, – ощущение, что я могу достичь любой цели. Однако вместе с ним появился и некоторый страх. До этого я жил в рамках продажной системы и всегда мог винить эту систему в своих промахах – в том числе и в тех, в которых был виноват сам. Теперь у меня больше не было козла отпущения: я превратился в акробата, работающего без страховки, и отныне мог винить во всем лишь себя самого.
Несмотря на некоторые преимущества (я прилетел самолетом, и чемодан у меня был не картонный), я был подобен миллионам иммигрантов, которые выбрали Соединенные Штаты из-за исключительных возможностей, даруемых этой страной. Уникальность Америки связана не с ее размерами, ее красотой или богатством; уникальность Америки, прежде всего, связана со свободой.
Когда горстка недовольных эмигрантов из Британии решила искать свой путь к счастью, она запустила самый успешный социальный эксперимент во всей истории человечества. Отцы-основатели не просто создали правительство из народа и для народа; вопреки всем правительственным ограничениям, они также сумели создать народную экономическую систему, работающую от имени народа и для его блага. В отличие от остального мира, где капитализм слишком часто являет собой продукт богатой элиты, нашедшей возможность для дальнейшего обогащения, американский капитализм выжил и процветает благодаря уникальному стечению обстоятельств: это внимание правительства к интересам простых людей; ряд ценностей, в силу которых накопление благосостояния являет собой моральную ответственность, но не самоцель; и вера в то, что система обеспечивает равные возможности для всех. Неудивительно, что эта страна возможностей привлекала трудолюбивых и талантливых людей со всех концов света. Несмотря на все свои недостатки и ограничения, американский капитализм стал золотым стандартом, по которому оценивается весь остальной мир.
Тем не менее уникальность американского капитализма не следует считать само собой разумеющейся. Лишь когда мы поймем, почему подобный вид капитализма так редко встречается в остальном мире, мы осознаем, как нам с ним повезло – и насколько нам важно его сохранить.
Глава 1. Американское исключение
Ибо всякому мигранту следует понимать, что в такой стране, как Соединенные Штаты Америки… где нет государей, чьи прогнившие дворы используют так называемое божественное право, дарованное от рождения, вопреки всяким заслугам и добродетелям, – что в такой стране таланты, энергия и упорство человека получат неизмеримо большие возможности применения, нежели в монархических государствах, где указанные выше пороки существовали на протяжении веков, а их печальные отголоски не утихли и поныне.
Ф. В. Боген. Немец в Америке (Бостон, 1851)
Чем обусловлена поддержка, которую общество оказывает капитализму? Недавнее исследование показало: в любой стране капитализм вызывает положительные ассоциации с представлением о том, что залогом успеха является тяжелый труд, а не удача, и отрицательные ассоциации с коррумпированностью[9]. Подобные ассоциации имеют большое значение для понимания того, почему общественность поддерживает американскую капиталистическую систему. По результатам другого недавнего исследования лишь 40 % американцев полагают, что различие в доходах объясняется главным образом удачей, а не тяжелым трудом. Сравните этот результат с 75 % бразильцев, 66 % датчан или 54 % немцев, полагающих, что различия в доходах связаны, прежде всего, с везением, и вы начнете понимать, чем отличается отношение американцев к системе рыночной экономики[10].
В чем же особенность Соединенных Штатов?
Некоторые исследователи утверждают, что подобная вера общества в законность капитализма возникла в результате успешной пропагандистской кампании в защиту американской мечты – мифа, на котором стоит американская культура. И действительно, существует мало подтверждений того, что степень социальной мобильности в США выше, чем в других развитых странах. Однако если итоговая статистика не демонстрирует нам различий в экономической открытости американской системы, такие различия, очевидно, присутствуют в сфере распределения доходов – что также оказывает значительное влияние на общественное мнение. Еще до того, как интернет-бум конца 1990-х годов явил миру множество молодых миллиардеров, каждого четвертого миллиардера в США можно было описать как человека, который «сделал себя сам» – для сравнения, в Германии подобную характеристику получил бы лишь каждый десятый миллиардер. На деле в Европе людей, добившихся успеха собственными силами, часто называют «парвеню» (выскочками). Это уничижительное определение предполагает, что такие люди не столь «благородны», как те, кто унаследовал деньги и не был вынужден зарабатывать их в поте лица. Иными словами, в Европе богатство считается скорее привилегией, чем вознаграждением за труды.
Безусловно, миллиардеры, добившиеся всего своим трудом, существуют и за пределами США – однако чаще всего они зарабатывают свои капиталы совершенно иначе, чем богатые американцы. Американские миллиардеры – от Билла Гейтса и Майкла Делла до Уоррена Баффетта и Марка Цукерберга – разбогатели в условиях конкурентного бизнеса, лишь в незначительной степени регулируемого государством, тогда как в большинстве других стран богатые люди часто накапливают состояние в условиях регулируемого государством бизнеса, где успех во многом зависит от наличия правильных связей в правительстве, а не от инициативности или предприимчивости. Вспомним российских олигархов, Сильвио Берлускони или мексиканца Карлоса Слима. Все они обогатились за счет сделок, крайне зависимых от государственных концессий: в сфере энергетики, недвижимости, телекоммуникаций, горной промышленности. И действительно, в большинстве стран мира простейший способ заработать много денег заключается вовсе не в том, чтобы предложить гениальную идею и упорно работать над ее воплощением в жизнь, а в том, чтобы обзавестись союзниками в правительстве. Подобная клановая система неизбежно определяет отношение общества к экономике страны. Когда в рамках недавнего исследования итальянских руководящих работников попросили назвать важнейшие составляющие финансового успеха, на первом месте оказалось «знакомство с влиятельными людьми» (80 % сочли эту составляющую «важной» или «очень важной»)[11]. «Знания и профессиональный опыт» оказались на пятом месте, их опередили такие характеристики, как «лояльность и послушность». Столь разные пути к процветанию свидетельствуют не только о различиях в восприятии. Капитализм в США отличается от своих европейских и азиатских аналогов по причинам, скрытым глубоко в истории, географии, культуре и структуре федерализма.
Исторические факторы
В Америке, в отличие от большинства стран западного мира, становление демократии предшествовало индустриализации. К началу второй промышленной революции, то есть ко второй половине XIX века, в Соединенных Штатах уже на протяжении нескольких десятилетий существовало всеобщее избирательное право (для мужчин), было широко распространено образование. Подобные обстоятельства сформировали общество с большими ожиданиями – общество, не готовое терпеть очевидную несправедливость экономической политики. Неслучайно само понятие антитрестовского законодательства – нацеленного на защиту интересов рынка и при этом отчасти против интересов бизнеса – появилось именно в США, в конце XIX и в начале XX века.
Кроме того, американский капитализм сформировался в период, когда участие правительства в экономике страны было весьма незначительным. В начале XX века, когда складывался современный американский капитализм, доля правительства США в ВВП составляла всего 3 %[12]. После Второй мировой войны, когда позиции современного капитализма в странах Западной Европы укрепились, доля правительства в ВВП этих стран составляла в среднем 30 %. До начала Первой мировой войны Соединенными Штатами управляло крошечное федеральное правительство, сопоставимое по своим размерам с национальными правительствами других стран. Отчасти это было связано с тем, что США в военном плане практически ничто не угрожало; как следствие, правительство тратило на военные цели сравнительно малую часть своего бюджета. Американский федералистский режим облекал властью правительства конкретных штатов, что также ограничивало размеры национального правительства.
При наличии в стране небольшого и сравнительно слабого правительства наиболее эффективный способ заработать состояние – начать успешное частное дело. Однако чем больше и масштабнее становятся расходы правительства, тем больше появляется возможностей заработать за счет привлечения государственных ресурсов. В конце концов открытие своего дела – непростая и весьма рискованная задача. Куда проще и безопаснее заручиться поддержкой правительства или получить правительственный заказ – по меньшей мере если у вас есть соответствующие связи. Как следствие, в странах с крупным и могущественным правительством государство обычно оказывается центром экономической системы – пусть даже система эта более или менее капиталистическая. Подобная ситуация способствует смешению политики и экономики, как на практике, так и в восприятии общественности: чем крупнее доля капиталистов, добившихся процветания благодаря своим политическим связям, тем сильнее представление о том, что такая капиталистическая система несправедлива и порочна.
Еще одно отличительное свойство американского капитализма состоит в том, что он развивался в относительной изоляции от иностранного влияния. Несмотря на то что европейский (и прежде всего британский) капитал сыграл свою роль в экономическом росте Америки XIX – начала XX века, европейская экономика была не более развита, чем американская. Как следствие, европейские капиталисты имели возможность инвестировать в американские компании, однако не могли обеспечить себе лидирующие позиции в американской экономической системе. В результате этого американский капитализм развивался более или менее органично; безусловно, он до сих пор несет на себе отпечаток своих истоков. К примеру, американский Кодекс о банкротстве до сих пор во многом поддерживает заемщиков – ведь Соединенные Штаты возникли и развивались как нация должников.
В странах, обратившихся к капиталистической экономике после Второй мировой войны, все совершенно иначе. В этих странах – расположенных в неподконтрольной СССР континентальной Европе, в некоторых регионах Азии, а также практически на всей территории Латинской Америки – промышленность развивалась в гигантской тени американского могущества. Местные элиты ощущали угрозу возможной экономической колонизации со стороны американских фирм, куда более эффективных и обладающих большим капиталом, чем местные фирмы. Для защиты местных компаний от иностранного владения местные правительства создавали различные формы внутренней комбинированной собственности (от японского кейрецу до корейского чеболя). Подобные формы поощряли тайные сговоры и коррупцию. К тому же за прошедшие десятилетия они доказали свою жизнеспособность: если экономика и политика построены на «связях», а не на экономической эффективности, их крайне сложно изменить – ведь при этом власть имущие должны будут потерять все.
Еще одно объяснение того, что США отдают предпочтение рынку, но не деловой сфере, заключается в том, что Америка в основном избежала прямого влияния марксизма – хотя, возможно, суть американского капитализма представляет собой и причину, и в то же время следствие отсутствия в стране сильных марксистских движений. В любом случае, это отличие от прочих западных режимов оказало значительное влияние на отношение американцев к экономике. В странах, где марксистские движения сильны и значительны, защитники свободного рынка были вынуждены объединять свои силы с крупными представителями бизнеса – пусть даже они и не доверяли последним. Когда страна сталкивается с перспективой национализации (то есть ситуации, в которой контроль над ресурсами получает малочисленная политическая элита), даже основанный на личных связях капитализм – предполагающий, что контроль над ресурсами принадлежит малочисленной деловой элите, – становится привлекательной альтернативой. В конце концов, основанный на связях капитализм хотя бы предполагает наличие частных собственников, которые несут потери в ситуации неэффективной экономики и потому заинтересованы в сохранении конкуренции.
Поскольку многие из этих стран не могли позволить себе противостоять марксизму, они не сумели построить более конкурентный и открытый капитализм. Знамя свободного рынка в конце концов оказалось в полном распоряжении сил, выступающих в поддержку деловых кругов, так как они обладали лучшим оснащением и лучшим финансированием. Даже после снижения популярности идей марксизма подобное смешение сил, выступающих в защиту рынка и в защиту деловых кругов, сохранялось. Спустя десятилетия тесного сотрудничества в борьбе с крупными промышленниками и жизни за счет последних силы, выступающие в защиту свободного рынка, уже не имели возможности отделиться от лагеря, защищающего интересы деловых кругов. Этот сценарий наиболее ярко развивался в Италии, где движение за свободный рынок в буквальном смысле принадлежит одному предпринимателю – Сильвио Берлускони, который к тому же являлся премьер-министром страны на протяжении большей части ее новейшей истории. До того как в 2011 году Берлускони был вынужден уйти в отставку, он практически управлял страной в интересах собственного бизнеса.
Географические факторы
Помимо исторических факторов, в формировании уникального американского капитализма значительную роль сыграли также география и демография. Первоначально европейцы колонизировали большую часть территории обеих Америк в поисках серебра и золота. Испанцы отправляли своих грандов и наместников в Центральную и Южную Америку для контроля добычи драгоценных металлов: тем самым они внедряли европейскую иерархию и европейские институты на новом месте. Северной Америке повезло – европейцы не сразу обнаружили там золото. На тот момент континент представлял собой довольно негостеприимные леса и равнины. Колонистов здесь привлекала не возможность найти золото, но возможность обрести свободу. Приезжая в Америку, иммигранты оставляли позади не только свои семьи, но и деспотизм властей. Они приезжали с желанием создать лучшую систему управления[13].
В этом деле им, помимо прочего, способствовал и тот факт, что Соединенные Штаты были относительно мало заселены. В Старом Свете не хватало земли. Те, кто владел землей, могли получать экономическую ренту; иными словами, они могли жить за счет этой земли, никак не увеличивая ее стоимость. Вот что обеспечивало европейской аристократии процветание и возможности управления государством. Европейские (и прежде всего, континентальные) институты были созданы для укрепления власти аристократов. Европейцы не просто учреждали правительства землевладельцев, действующие от имени землевладельцев и ради их блага; помимо этого, они также строили экономику землевладельцев, действующую от имени землевладельцев и ради их блага. И хотя европейские страны постепенно двигались в направлении создания более демократических институтов, первоначально право голоса в них предоставлялось лишь землевладельцам, а образование было доступно лишь представителям высшего сословия.
Америку отличала конкуренция. Даже при наличии прекрасных новых институтов власти первоначальные тринадцать колоний вполне могли бы превратиться в более косное, европейского образца государство – если бы не открытость американских границ. Открытые границы позволяли людям перемещаться, что ослабляло власть американских правительств над гражданами. В отличие от европейцев, американцы могли сами решать, где они будут жить. Ни один из американских штатов не занимал монопольного положения по отношению к своим гражданам – ибо он постоянно конкурировал с другими штатами. Как следствие, американские штаты все время конкурировали друг с другом в деле совершенствования институтов власти и тем самым привлекали лучших и наиболее талантливых граждан: точно так же бизнес, стремящийся выжить и достичь процветания, должен привлекать клиентов. Важно отметить, что всеобщее право голоса и всеобщее право на образование были раньше введены в западных штатах: тем самым они стремились привлечь рабочих с востока. Таким образом Соединенные Штаты получили не только правительство, действующее от имени народа, но и правительство, действующее ради народного блага.
Такова сила конкуренции, способная даже политическую систему – левиафана – превратить в инструмент, действующий ради блага простых людей. И наоборот, монополия может сделать частные предприятия чудовищем, обладающим разрушительной силой. Кошмарным примером этого в конце XIX века стало Свободное государство Конго. Поскольку Бельгия не слишком интересовалась колонизацией, бельгийский король Леопольд II решил действовать самостоятельно. Свободное государство Конго не было бельгийской колонией: скорее, это была личная собственность короля, который управлял этой страной как своей частной компанией. После урегулирования первоначальных трудностей предприятие начало приносить огромную прибыль: Леопольд II оказался одним из богатейших монархов Европы. К несчастью, он обогащался за счет эксплуатации местных жителей и местной природы. В 1904 году британский консул Роджер Кейсмент опубликовал отчет о жестокостях, имевших место в Свободном государстве Конго[14]. В конце концов под давлением мировой общественности Леопольд продал свое частное государство Бельгии, вследствие чего условия жизни местного населения улучшились. Тем не менее властные институты в Конго до сих пор несут отпечаток тех целей, ради которых они были изначально созданы, – целей самого безжалостного в истории извлечения ресурсов ради обогащения. Эта несчастная судьба до сих пор определяет и культуру Конго. Даже после обретения независимости государство продолжает страдать от жестокости диктаторских режимов.
Культурные факторы
Декларация независимости Америки начинается со слов «Мы, Народ». В отличие от европейских стран, основные документы которых зависели от монархов, якобы получивших право властвовать от самого Бога, Соединенные Штаты Америки получили право на власть от народа. Такой народный, если не популистский, фундамент наилучшим образом определил тенденции, преобладающие в американской культуре.
В Соединенных Штатах институт присяжных и выборных судей всегда способствовал ограничению власти и влияния капитала. Кроме того, сама система прецедентного права, обращающаяся к таким общепринятым ценностям, как справедливость, ограничивает лоббистскую деятельность властей. Крупные предприниматели зачастую легко могут повлиять на процесс законотворчества – однако не могут с той же легкостью изменить само понятие справедливости, к которому апеллируют выбранные народом судьи. По той же причине от стороннего воздействия на законодательные органы лучше защищает именно прецедентное право, а не кодифицированные законы – система, чаще всего применяемая за пределами Британии и бывших британских колоний. Система, помещающая закон в строгие рамки кодекса (такого, как Гражданский кодекс во Франции или других странах континентальной Европы), оставляет судье лишь незначительную свободу действий: его задача состоит в применении кодифицированных норм закона к реальной жизни. Подобная система дает законодателям множество возможностей для лоббирования различных интересов[15]. Тот, кто «имеет влияние» на законодателей, легко может предсказать результаты будущих событий и получить значительные преимущества. Напротив, система прецедентного права предполагает, что законодательные акты устанавливают лишь основные принципы; как следствие, возможности лоббистов оказываются весьма ограниченными.
Еще одним проявлением тяги американцев к популизму, регулирующему власть крупного бизнеса, является институт коллективных исков. Несмотря на то что подобными исками можно злоупотреблять – и ими действительно злоупотребляют, – они не только вынуждают юристов выступать в защиту людей, не облеченных какой-либо властью, но к тому же формируют альтернативное лобби. В странах, не имеющих традиции коллективных исков – к примеру, во Франции или в Италии, – представитель закона оказывается в полной власти представителей финансового мира и неизменно защищает крупные и могущественные корпорации либо власть имущих.
Наконец, несмотря на то что американцы всегда избегали антикапиталистических настроений, им тем не менее свойственны своего рода популистские антифинансовые настроения – а именно протест против излишней концентрации финансовой власти. Наличие процветающей финансовой системы – залог успеха любой рыночной экономики. Широкая доступность финансов обязательна для привлечения талантов: она обеспечивает талантливым людям возможности роста и процветания, привлекает в систему новых специалистов и стимулирует конкуренцию. Однако помимо этого финансовая система также способна распределять власть и прибыль. Старинная поговорка гласит: у кого золото, тот и устанавливает правила – а золото принадлежит банкам. Еще более важен тот факт, что финансовая система, определяющая возможности выхода на рынок, оказывает влияние на прибыльность производственного сектора[16]. Как следствие, несправедливость этой системы оставляет мало надежды на справедливость всей экономики в целом. При этом в рамках финансовой системы всегда имеются значительные возможности для несправедливости или злоупотреблений. Подобные злоупотребления всегда вызывали у американцев весьма болезненную реакцию.
На всем протяжении истории Америки популистские антифинансовые настроения регулярно приводили к принятию решений, неэффективных с точки зрения экономики. Однако в то же время такие настроения позволяли поддерживать жизнеспособность американского демократического капитализма.
Институциональные факторы
Еще одна характерная особенность Соединенных Штатов, обеспечившая этой стране столь счастливую судьбу, – федерализм американского правительства. Роль федерализма оказалась ключевой по двум важным причинам: как я уже отмечал ранее, именно федерализм обеспечил возможность конкуренции между штатами; кроме того, он контролировал рост могущества независимых корпораций. В отдельных штатах власть некоторых крупных корпораций оказалась неограниченной. Угольные шахты определяли жизнь Западной Виргинии, табачное производство главенствовало в Кентукки и Северной Каролине и так далее. Тем не менее ни одна из отраслей промышленности практически не имела возможности подчинить себе большинство штатов. Эксцессов, связанных с проявлениями абсолютной власти, удавалось избежать.
Вспомним уже упоминавшуюся во введении историю сотрудника табачной корпорации Brown & Williamson Джеффа Виганда. Как раз когда он собрался бить тревогу в связи с политикой корпорации, направленной на еще большее увеличение масштабов никотиновой зависимости, компания получила от судьи штата Кентукки запретительный судебный приказ, в соответствии с которым Виганд не имел права рассказывать о своем опыте работы с Brown & Williamson. Табачное производство обладает в Кентукки огромной властью: когда-то в этом секторе было занято более семидесяти пяти тысяч жителей штата. Признание Виганда было опубликовано лишь благодаря тому, что генеральный прокурор Миссисипи – штата, не зависящего от табачной промышленности, – возбудил иск против крупнейших американских табачных компаний[17].
Конечно, зачастую контролю над корпорациями способствовало соперничество – или конкуренция – между штатами. Почти на всем протяжении американской истории в основе предписаний, издававшихся для банков всех штатов, лежала озабоченность властью нью-йоркских банков над всеми прочими банками страны и – шире – страх, что крупные банки выведут вклады из сельской местности и переведут их в крупные города. Чтобы побороть этот страх, штаты ввели ряд ограничений, таких как бесфилиальная банковская деятельность (банки могли иметь только одно отделение), ограничения на открытие филиалов внутри штата (банки из северного Иллинойса не имели права открывать филиалы в южном Иллинойсе) и в других штатах (банки штата Нью-Йорк не имели права открывать филиалы в других штатах). С чисто экономической точки зрения подобные ограничения были совершенно бессмысленны. Они способствовали инвестированию прибыли в том же месте, где такая прибыль была получена, что сильно искажало принципы распределения средств. В свою очередь, препятствование развитию банков делало банки менее диверсифицированными, как следствие – более предрасположенными к банкротству. Тем не менее у новой политики имелись положительные побочные эффекты: дробление банковского сектора позволило сократить его политическое влияние и тем самым создать предпосылки для формирования динамичного рынка ценных бумаг.
Отделение банков, занятых инвестиционной деятельностью, от коммерческих банков, оформленное законом Гласса–Стиголла в рамках «Нового курса», стало продуктом этой многолетней американской традиции. В отличие от многих других законов в банковской сфере, закон Гласса–Стиголла имел экономическое обоснование: он был призван помешать коммерческим банкам, которые передавали своим вкладчикам долговые обязательства компаний, не имевших возможности вернуть взятые у банков кредиты. Тем не менее наиболее важным следствием принятия закона Гласса–Стиголла стала раздробленность банковской системы. Такая раздробленность способствовала возникновению противоположных интересов в различных областях финансового сектора и тем самым ослабила его политическое влияние. В последние три десятилетия эти меры были отменены: прежде всего, произошел постепенный отказ от регулирования банковского сектора.
Счастливый исход
В силу всех этих причин в Соединенных Штатах была построена система капитализма, сумевшая гораздо более полно, чем все прочие, воплотить идеальное видение свободного рынка с его экономическими свободами и открытой конкуренцией. Вот почему представления многих американцев о капитализме напоминают сюжеты Горацио Алджера о быстром обогащении бедняка посредством тяжелого труда: именно такие представления определили американскую мечту. В остальном мире Горацио Алджер практически неизвестен – и представления о социальной мобильности основаны на сюжетах о Золушке, в которых залогом успеха оказывается удача, а вовсе не тяжелый труд. Это различие помогает понять, почему уровень поддержки капитализма в Соединенных Штатах много выше, чем в любой другой стране мира, и, соответственно, почему капитализм имеет в Америке куда более прочную опору.
Американская система далека от совершенства. Для нее тоже характерны злоупотребления в деловой сфере и коррупция в политике. К примеру, мы знаем, что корпорация ITT оказала влияние на американскую политику 1960-х и 1970-х годов в отношении Латинской Америки, включавшую, помимо прочего, поддержку жестоких политических режимов. От себя могу добавить: я живу в штате Иллинойс, два бывших губернатора которого сейчас отбывают срок за коррупцию.
Тем не менее примечательной чертой американской жизни является применяемая здесь система «сдержек и противовесов». Тот факт, что два моих бывших губернатора сейчас сидят в тюрьме, говорит о том, что справедливость может восторжествовать. Президент США Ричард Никсон был вынужден уйти в отставку. И главное: правительство США вполне способно разрушать крупнейшие монополии – как в случае со Standard Oil в 1912 году или с AT&T в 1984 году. Ни одна другая страна не может похвастаться подобными достижениями.
Глава 2. Кто убил Горацио Алджера?
Лучшая страна для нищих.
Название старого учебника по истории Америки[18]
Важнейшая задача любой, даже самой примитивной, экономической системы – распределение ответственности и вознаграждений. В звериных стаях и ответственность (руководство стаей), и вознаграждение (большие возможности спаривания) чаще всего достаются сильнейшему. В человеческих обществах ответственность обычно выражается через род занятий, тогда как деньги и авторитет играют роль вознаграждения. В традиционном обществе важнейшим критерием было право первородства: первенец короля становился следующим королем, первенец землевладельца – следующим землевладельцем; сын владельца компании становился следующим ее директором. Напротив, в большинстве современных обществ существует тенденция к отбору и вознаграждению по заслугам. Более того, исследования подтверждают, что большинство жителей развитых стран согласны: заслуги следует вознаграждать.
Что означает «заслуживающий вознаграждения»?
Конечно, нелегко понять, что такое заслуга. Возьмем знакомую мне среду: американское научное сообщество. Допустим, вам нужно определить, кто из преподавателей лучший. Как вы станете оценивать публикации преподавателей? Что будет для вас важно – количество статей, написанных тем или иным исследователем, или их влиятельность? Как вы определите эту влиятельность – будет ли это лишь число случаев цитирования статьи или вы станете рассматривать значимость цитирующего издания? Будете ли вы одинаково учитывать положительные («Это новаторская статья») и отрицательные отзывы («Эта статья ни на что не годится»)? А что с преподаванием? Как вы его оцените? Станете смотреть на удовлетворенность студентов или используете другие критерии? Если да, то какие? И что делать с прочими аспектами – такими как коллегиальность или «служение» конкретному учебному заведению? Любая система оценивания заслуг должна присваивать различные «веса» всем подобным параметрам; такой процесс неизбежно субъективен. Более того, эта субъективность может вызывать обвинения в несправедливости и фаворитизме.
Мы видим на этом примере, что система оценивания заслуг должна быть эффективной и не допускающей манипулирования; к тому же – и прежде всего, – большинство людей, подпадающих под ее действие, должны считать ее справедливой, или хотя бы не слишком несправедливой. Теперь нам уже должно быть понятно, почему поддержка меритократии часто предполагает поддержку рыночной экономики. Рынками манипулировать куда сложнее, чем, скажем, списком требований для получения постоянной должности профессора, который составляет учебная комиссия, или – если брать шире – решениями государственнических режимов, определяющими, каким именно счастливцам достанутся те или иные потребительские товары. К тому же известно, что рыночная система эффективна. Наконец, если рыночная система не станет слишком уж неравномерно распределять продукцию и не даст повода полагать, что она поощряет удачливых, а вовсе не честно работающих граждан, она будет в целом отвечать имеющимся у большинства людей представлениям о справедливости.
Конечно, не всякий человек лоялен к рыночной системе. Я думаю, некоторые интеллектуалы не приемлют ее, так как она не вознаграждает того, что, по их мнению, заслуживает вознаграждения: Леди Гага зарабатывает куда больше, чем нобелевские лауреаты. Однако в Америке люди в целом принимают эту систему – не только потому, что считают ее достаточно эффективной, но и потому, что она, по их мнению, скорее справедлива. Подобно персонажам Горацио Алджера, они верят, что такие качества, как честность, скромность и способность к усердному труду, заслуживают поощрения.
В чем демократия и меритократия противоречат друг другу
К несчастью, эту радужную картину портит неопровержимый факт: меритократия – принцип, которого сложно придерживаться в рамках любой демократии. Всякая система, вознаграждающая по заслугам, неизбежно раздает более крупные вознаграждения малому количеству людей, тогда как все остальные люди получают лишь потенциальный повод для зависти. Демократия обычно предполагает власть большинства. Как большинство может быть согласно с тем, что меньшинство получит непропорционально большие полномочия и вознаграждения?
Немногим более десяти лет назад яркий пример подобной динамики продемонстрировал нам Чикагский университет – учебное заведение, до сих пор привлекающее сторонников свободного рынка благодаря наследию великого экономиста и сторонника свободного рынка Милтона Фридмана. Кто может выступать в защиту рынка и меритократии более пылко, чем студенты магистерской программы по управлению бизнесом (MBA), выбравшие эту школу, вложившие десятки тысяч долларов и готовые потратить два года жизни для того, чтобы впоследствии пожинать плоды меритократической системы? Тем не менее в 2000 году студенты магистерской программы по управлению бизнесом Чикагского университета поступили вопреки всяким представлениям о меритократии, отказавшись сообщать потенциальным работодателям свои оценки. Причина была ясна: если бы работодатели получили возможность отбирать потенциальных работников на основании их успеваемости, меньшинство студентов получило бы преимущества за счет большинства. Даже наибольшие сторонники меритократии могут выступать против применения ее принципов в том случае, если это угрожает их собственным планам на будущее. Поэтому неудивительно, что в политическом плане позиции меритократии столь неустойчивы.
Тем не менее поддержку меритократической системе перед лицом подобных испытаний обеспечивают два фактора: (a) культура, полагающая законным поощрение приложенных усилий за счет более крупного вознаграждения, и (б) довольно значительное и широко распространенное в рамках данной системы вознаграждение, способное компенсировать вызванное подобным неравенством недовольство общественности. В Америке легко обнаружить упомянутый культурный фактор, ведь эта страна поощряла меритократию с самого момента своего создания. В XVIII веке общественное устройство во всем мире было основано на правах по рождению: Европой и Японией правили аристократы, в Индии доминировала кастовая система, и даже в Англии, где коммерсанты постепенно приобретали вес в экономике и политике, государственная власть была в основном сосредоточена в руках знати. Американская революция явилась восстанием против аристократии и против косности европейского общества; однако, в отличие от Французской революции, проповедовавшей принцип равенства, она отстаивала свободу и стремление к счастью. Иными словами, Соединенные Штаты Америки были основаны на принципе равенства возможностей, но не результатов. Позднейшее экономическое процветание нового государства укрепило веру в то, что поощрения и ответственность следует распределять сообразно заслугам.
Мировоззрение современных американцев несет на себе отпечаток этого наследия. Показатели неравенства доходов в США – одни из наиболее высоких среди развитых стран. Тем не менее недавнее исследование, проведенное благотворительными фондами Pew в двадцати семи развитых странах, показало, что только треть американцев считает сокращение неравенства доходов обязанностью правительства. (Следующей в списке страной с наиболее низким показателем – 44 % – стала Канада; для Португалии же этот показатель составил целых 89 %[19].) Американцы не хотят перераспределения доходов, но хотят, чтобы правительство обеспечило всем равные стартовые условия: более 70 % американцев сообщили, что роль правительства состоит в том, «чтобы обеспечить каждому справедливую возможность улучшить свое материальное положение».
Подобную веру в равные возможности поддерживает и другая вера: в то, что система действительно справедлива. В рамках того же исследования, проведенного фондами Pew, 69 % американцев согласились с утверждением «Ум и профессионализм должны быть вознаграждены» – этот процент много выше, чем во всех остальных странах. В то же время лишь 19 % американцев полагали, что для того, чтобы добиться успеха, важно родиться в зажиточной семье; в Чили так считает 39 % населения, в Испании – 53 %, в целом же средний показатель для всех стран составил 28 %.
В Америке вера в справедливость вознаграждения усердного труда столь повсеместна, что даже студенты Беркли – пожалуй, самого левого учебного заведения в стране – поддерживают эту идею. Экономисты разработали эксперимент под названием «игра в диктатора»: испытуемый получает сумму денег, которую он должен любым способом разделить между собой и анонимным игроком. Проведя эксперимент тысячу раз, исследователи подсчитали, что испытуемые отдавали анонимному игроку в среднем 20 % от полученной ими суммы – вероятно, из альтруистских соображений или из сочувствия. Экономист Памела Джекила недавно изменила условия эксперимента. В одном случае испытуемым – студентам Беркли – было сказано, что анонимные игроки усердно работали; в другом случае испытуемым сказали, что анонимные игроки совершенно ничего не делали. Как выяснилось, студенты куда более охотно вознаграждали усердных работников, чем бездельников. В рамках еще одного эксперимента испытуемых, которые должны были распределять деньги, заставляли до получения денег проделать кропотливую работу (перебрать бобы): в результате такие испытуемые гораздо меньше стремились разделить полученные деньги, чем те, кто не был вынужден усердно работать. Подобные результаты во многом объясняют предпочтения так называемых икорных левых в том, что касается перераспределения доходов: этим потомкам владельцев трастовых фондов не пришлось зарабатывать себе на жизнь, и они обращаются к социализму, желая ослабить свое чувство вины за то, что сами они ни в чем не нуждаются.
Не следует считать, что культура меритократии универсальна. Подобные эксперименты, проведенные в Кении, дали противоположные результаты: испытуемые стремились вознаграждать удачливых, вовсе не усердных работников. Однако американцы, от Беркли до Бостона, верят в то, что большее усердие заслуживает большего вознаграждения, и эта вера оберегает основанный на меритократии капитализм от сил, стремящихся его разрушить.
Тем не менее меритократия не может выжить лишь за счет поддержки со стороны культуры; она также должна распределять достаточно крупные вознаграждения – настолько крупные, чтобы люди могли их заметить. Меритократические системы зарождаются в ситуациях, когда потенциально приносимая ими польза наиболее очевидна. На государственном уровне подобные ситуации обычно возникают в военное время – в особенности если под угрозой оказывается существование всей страны. В 1793 году, когда Французской революции угрожало вторжение в страну армий других европейских государств, якобинское правительство перешло к вознаграждению талантливых – но не родовитых – солдат. Столь простое нововведение позволило Революции победить лучше вооруженные и лучше обученные армии противника. Примерно так же однажды повел себя один мой приятель. Как-то раз он заболел и жена предложила ему вызвать их друга – врача. «Я действительно болен, – ответил мой приятель. – Мне нужен настоящий врач». Когда ваша жизнь в опасности, правильнее всего выбирать не по привязанностям, а по заслугам.
А значит, меритократическая система, стремящаяся заручиться одобрением широких кругов населения, должна распределять довольно крупные вознаграждения – пусть даже они не будут достаточно велики, чтобы спасти от разгрома целую страну. Это непростая задача. К примеру, в политике – сфере, в которой ценности чаще распределяются, чем создаются заново, – предоставляемые меритократией вознаграждения невелики по сравнению с вознаграждениями, которые дает клановость. Когда я назначаю на различные должности своих друзей, – пусть даже не слишком компетентных, – система становится несколько менее эффективной, но я получаю большую власть. Как следствие, в рамках правительства трудно придерживаться принципов меритократии.
То же верно и для ситуации, когда фирме принадлежит определенная монополия. Если положению фирмы на рынке ничто не угрожает, она не слишком заинтересована в том, чтобы нанимать лучших профессионалов; напротив, руководители фирмы концентрируются на бюрократических распрях, стремясь отнять друг у друга большую долю прибыли – в подобной ситуации наем лояльных сотрудников вновь оказывается более выгодным, чем поиск профессионалов. Сравним эту ситуацию с происходящим на конкурентном рынке, где фирмам постоянно угрожают их соперники. Нет смысла бороться за больший кусок пирога, если весь пирог может исчезнуть: большая доля нуля всегда останется нулем. Лучше бороться за сохранение пирога – пусть даже вам достанется меньший его кусок. Вот еще один важный аспект, связывающий меритократию со свободным рынком. Не будь угрозы, исходящей от экономической конкуренции, предприятиям не нужно было бы сохранять эффективность, как следствие – не нужно было бы придерживаться меритократических принципов.
Меритократия может создать эффективный замкнутый круг[20]. Чем чаще граждане видят, как последовательно и справедливо применяется принцип вознаграждения по заслугам, тем больше они стремятся руководствоваться этим принципом. Само принятие ими этого принципа означает, что система будет действовать все более последовательно и справедливо – а это, в свою очередь, обеспечит ей большую поддержку граждан. Напротив, нечестность системы побуждает людей к мошенничеству, что делает саму систему еще более нечестной: это порочный круг.
Эти «круги» указывают на наличие того, что экономисты называют «множественным равновесием» – стабильные ситуации, которые крайне сложно изменить. К примеру, страна со сложившейся традицией меритократии обычно оказывается способна сохранить такую традицию даже при неблагоприятных условиях, тогда как страна, в которой меритократической традиции никогда не было, будет испытывать огромные трудности при ее введении. При наличии равновесия малые отклонения от нормы обычно не дают никаких результатов. Однако если отклонение достаточно велико, экономика может перейти к иному равновесию, которое ей будет также сложно изменить.
Хорошая новость для США состоит в том, что эта страна находится в состоянии меритократического равновесия. Однако в последние годы мы стали свидетелями крупных отклонений – таких как клановый скандал в университете Иллинойса, связанный с тем, что абитуриентов, не соответствовавших критериям поступления в университет, принимали на учебу благодаря их связям с политиками и попечителями университета[21]; или куда более масштабная программа по спасению финансовой системы страны, благодаря которой управляющие банков получили сотни миллионов долларов за то, что обанкротили свои банки. В ситуации, когда справедливость правил оказывается под вопросом, а система распределяет вознаграждения на слишком неравных основаниях, меритократия и свободный рынок могут утратить всякую поддержку. Когда страна доходит до такой точки, возврат к поддержке меритократии практически невозможен. К несчастью, Америка приближается к этой точке.
Существует несколько сил, стремящихся вывести Америку из меритократического равновесия и обеспечить ей равновесие без опоры на меритократию. Вспомним, что меритократия свободного рынка, желающая выжить в демократической стране, должна предлагать гражданам значительные и доступные вознаграждения, опираясь при этом на благоприятствующую ей культуру. В США оба эти аспекта оказались под угрозой: первый – благодаря сокращению вознаграждений, которые рынок обеспечивает большинству людей, второй – благодаря тому, что рынок как средство вознаграждения заслуг оказался лишенным легитимности.
Тайгер Вудс и гринкиперы
Для человека важно не только его положение в абсолютном выражении, но также и его положение относительно окружающих. Существует обширная статистика, демонстрирующая различия в уровне доходов – разрыв между доходами наиболее богатого 1 % населения и доходами всех прочих людей. К несчастью, проблема гораздо шире. Я говорю «к несчастью», ибо, имей мы дело лишь с проявлением алчности корпораций, нам легче было бы справиться с этой ситуацией.
В понимании сути этих различий нам может помочь просмотр игры в гольф. Поля для гольфа весьма далеки от небоскребов, в которых располагаются корпорации; однако и здесь всем платят по-разному. Вознаграждение, получаемое Тайгером Вудсом, разительно отличается от вознаграждения гринкиперов. Мы, экономисты, называем это различие премией за обладание квалификацией. (Архивные сведения о размере призовых за участие в турнирах позволяют нам легко оценить изменения, которые с течением времени претерпела такая надбавка[22]. Размеры вознаграждения гринкиперов узнать не так просто – однако я предполагаю, что в любой момент времени они получают минимальный оклад. Даже если я укажу здесь размер их медианной или средней зарплаты, общая картина никак не изменится.)
В 1948 году премия за победу в самом престижном турнире по гольфу – «Мастерс» – составляла всего 2 500 долларов. В пересчете на доллары США 2008 года это чуть больше 22000 долларов. В 2008 году размер той же первой премии составил 1 350 000 долларов – в шестьдесят раз больше, чем в 1948 году. Конечно, экономика, как и реальная заработная плата, за это время выросли: вот почему наиболее точным показателем будет соотношение размера первой премии с годовой зарплатой гринкипера. В 1948 году первая премия составляла три годовые зарплаты гринкипера; в 2008 году – 103. Что интересно, даже временная структура роста премии «Мастерс» точно соответствует росту заработных плат руководящих работников: последние не слишком менялись в реальном выражении до начала 1980-х годов, а затем начали резко расти[23]. Чем можно объяснить подобный скачкообразный рост премии за обладание квалификацией?
Прежде всего, сравнение премии за победу в турнире с минимальной заработной платой не учитывает того, насколько сложно получить такую премию. В 1948 году турнир «Мастерс» выиграл Клод Хэрмон, клубный профессионал, непостоянно участвовавший в соревнованиях. Сегодня подобная ситуация невозможна. В действительности после него ни один клубный профессионал не выигрывал крупный турнир по гольфу[24]. Турнир «Огаста Нэшнл» (первоначальное название турнира «Мастерс») проводится с 1934 года: изначально это было местное соревнование, таковым оно оставалось на протяжении многих лет. В первые двадцать лет существования турнира победителями становились исключительно американцы; в последующие двадцать лет лишь 14 % победителей были иностранцами. В последующие годы иностранцы побеждали на турнире примерно в 50 % случаев.
Кроме того, рост популярности гольфа также означает, что выиграть турнир «Мастерс» стало сложнее. В период с 1948 по 2008 г. количество полей для гольфа в США увеличилось в четыре раза[25]. Количество полей для гольфа во всем мире увеличилось в 8 раз. Если считать, что количество игроков на одно поле остается более или менее неизменным и что все игроки потенциально могут стать победителями турнира (два крупных допущения), мы можем утверждать, что сегодня выиграть «Мастерс» в 8 раз сложнее, чем в 1948 году. Существуют и иные различия, в значительной мере объясняющие рост премии за обладание квалификацией. Сегодняшнее соотношение между суммой выигрыша игрока в гольф и зарплатой гринкипера составляет не 3 к 103, а 3 к 13. И все-таки, чем объясняется подобный рост?
Отмечу, что изначально турнир «Мастерс» был субсидируемым[26]. Основатель Национального гольф-клуба Огасты вспоминает, что в начале финансовые результаты соревнования были «довольно провальными», поскольку «первоначальные затраты оказались больше сумм, которые удалось собрать для покрытия всех издержек»[27]. Не будь пожертвований членов клуба, профессионалы, участвовавшие в первом турнире, ничего бы не получили за выигрыш[28]. В те времена (и до 1966 года) любой зритель мог прийти на поле в день турнира и купить билет. Однако уже в 1972 году появился лист ожидания – настолько длинный, что в последний раз несколько новых имен было внесено в него в 2000 году. В интернете пропуск на турнир «Мастерс» стоимостью 175 долларов, позволяющий побывать на всех играх турнира, стоит от 1 500 до 5 000 долларов[29]. С 1995 года спрос настолько сильно превышает предложение, что даже билеты на тренировки не продаются, но разыгрываются в лотерею. В то же время благодаря телетрансляции турнир превратился в машину по производству денег. За последние шестьдесят лет общие доходы турнира выросли более чем в шестьдесят раз – хотя сам Национальный гольф-клуб Огасты не прикладывал для этого почти никаких усилий. Все это должно помочь нам понять, почему размер призовых так сильно увеличился: дело не только в том, что сегодня сложнее выиграть турнир, но также и в том, что сама стоимость этого турнира настолько выросла.
Но даже и в этом случае действительно ли одной лишь престижности этого турнира и неденежного вознаграждения (знаменитого зеленого пиджака, который получает победитель) достаточно для того, чтобы самые знаменитые игроки в гольф стремились в нем участвовать? «Если речь идет о крупных турнирах, неважно, играешь ты за пять долларов или за миллион долларов, – отмечает Джеймс Фарик, один из десяти самых высокооплачиваемых гольфистов мира. – Все хотят выиграть „Мастерс“»[30]. Тогда почему Национальный гольф-клуб Огасты увеличил размер премии? Потому что «Мастерс» конкурирует с другими турнирами. Если бы он последовательно платил победителям много меньше, чем другие крупные мировые турниры по гольфу – такие как Чемпионат PGA (Ассоциации профессиональных гольфистов), Открытый чемпионат США или Открытый чемпионат Британии, – он мог бы утратить свой статус. Зачем турниру «Мастерс» рисковать репутацией «самого престижного спортивного события в Америке»[31] ради экономии пары долларов? Это было бы глупо. Неслучайно размеры премии резко выросли в конце 1980-х и в 1990-е годы: именно тогда четыре основных мировых турнира стали претендовать на звание самого богатого турнира по гольфу в мире.
Пример гольфа показателен, поскольку оба явления, приведшие к росту премий в турнирах по гольфу – усиление конкуренции и рост ценности пребывания на верхних строчках рейтингов – примерно в это же время проявились и в корпоративной сфере. В связи с укрупнением мирового рынка компаниям становится все сложнее выживать. В свою очередь, многие руководящие работники, вполне способные заработать себе на жизнь за счет управления посредственной компанией, исключаются из игры.
В то же время сегодня наиболее эффективные компании могут воспользоваться своим превосходством на общемировом рынке. Ценность пребывания в статусе лучшего из лучших невероятно выросла, и компании – подобно Национальному гольф-клубу Огасты – вовсе не планируют рисковать и терять лидирующие позиции ради того, чтобы сэкономить пару долларов на зарплате директоров. Насколько же верно представление о том, что руководящие работники способны изменить ситуацию к лучшему? Великие руководители, типа Стива Джобса, действительно способны на многое. Оценивая изменения прибыльности, связанные со сменой директоров компаний, отметим, что директора, эффективность работы которых относится к высшему квартилю, обеспечивают на 6 процентных пунктов более высокую рентабельность активов, чем директора, эффективность которых относится к низшему квартилю[32]. Подобное различие весьма значимо для крупных корпораций. Даже если корпорации неизвестно, действительно ли директор повышает ее эффективность, члены совета директоров предпочитают не тратить огромные средства на эксперименты и действуют наверняка, щедро оплачивая работу своего директора (именно так ведет себя и Национальный гольф-клуб Огасты).
Объяснить подобный рост неравенства доходов, как в спорте, так и в деловой сфере, можно одним словом: глобализация. Глобализация повышает конкуренцию и прибыльность пребывания в статусе лучшего из лучших, что, в свою очередь, увеличивает неравенство. Глобализация, безусловно, увеличила размеры пирога. Сегодня больше людей смотрит турнир «Мастерс» (и прочие американские соревнования), во всем мире продается все большее количество продукции спонсоров, все больше международных компаний стремится спонсировать телетрансляции турниров. Тем не менее подобные преимущества распределяются крайне неравномерно. Распределение заработков еще более неравномерно. На вершине своей карьеры Тайгер Вудс зарабатывал 12 миллионов долларов в качестве призовых, а размер его вознаграждений достигал 100 миллионов долларов[33]; в то же время призовые второго лучшего в мире гольфиста Фила Микельсона составляли 4 миллиона долларов, а рекламные контракты приносили ему 47 миллионов долларов; третий в списке гольфист в сумме получал уже менее 15 миллионов долларов.
Глобализация способствует тому, что представители местной элиты чувствуют себя все более лишенными привилегий, ведь некоторые блага, прежде доступные им, становятся им не по средствам. К примеру, если бы турнир «Мастерс» проводился ради получения прибыли, билеты на него вполне могли бы стоить больше тысячи долларов каждый; как следствие, многие местные гольфисты-любители, привыкшие к тому, что они могут между делом купить за пару долларов билет на турнир, возмутились бы тем, что больше не могут себе этого позволить. (В случае с «Мастерс» этого не произошло, так как турнир проводится местной ассоциацией гольфистов, ставящей перед собой иные цели.)
То, что произошло в спорте, происходит и в экономике в целом. Чистая выгода от свободной торговли, безусловно, существует; однако она распределяется неравномерно – и в этой ситуации, конечно, есть пострадавшие. Бывших штатных корреспондентов Buffalo Gazette, с трудом зарабатывающих себе на жизнь после потери работы, вряд ли утешит известие о том, что важнейшие обозреватели New York Times из десятка стран объединились в синдикаты и тем самым стали мировыми звездами. Facebook завоевывает мир, принося Марку Цукербергу миллиарды; однако простым программистам все так же нелегко конкурировать с их индийскими коллегами.
РИС. 1. Рост производительности и реального дохода
* Производительность несельскохозяйственного сектора (почасовая производительность за вычетом процентов, прибылей и дивидендов).
** Средняя реальная недельная заработная плата промышленных рабочих Источник: US Bureau of Labor Statistics.
Опережая многих гринкиперов
Отстать в относительном выражении болезненно; но когда подобное происходит в момент быстрого роста абсолютных стандартов, это можно пережить. Неравенство между доходами Тайгера Вудса и его кедди стремительно выросло – однако и кедди в конце концов тоже разбогател. Важен ли для него тот факт, что в относительном выражении он менее богат? Вероятно, нет.
К сожалению, в момент, когда произошел стремительный рост неравенства доходов, реальные доходы большинства американцев перестали расти. Взгляните на рис. 1. Это весьма впечатляющий график экономической зависимости.
Более или менее прямая штриховая линия отображает рост производительности американской экономики (за исключением сельского хозяйства) в период с 1946 по 2009 год. Мы видим, что за последние шестьдесят пять лет производительность увеличилась вчетверо и что на протяжении этого периода рост был скорее постоянным – с незначительным снижением во второй половине 1970-х годов и ускорением роста во второй половине 1990-х. Сплошная линия демонстрирует средний размер реальной заработной платы рабочих. До середины 1970-х обе линии растут параллельно. Однако примерно с 1973 года производительность продолжает расти, тогда как реальные доходы остаются практически неизменными; в действительности, со временем они сокращаются. График показывает рост неравенства и сокращение размеров среднего класса.
Я поясню в восьмой главе, что подобная зависимость отчасти обусловлена восприятием, но не реальностью. Тем не менее, если речь идет о политической поддержке системы рыночной экономики, восприятие играет важную роль. И, к сожалению, такую роль играет не только восприятие. С 1989 по 2009 год медианный доход в стране увеличился на 3 %; при этом, по оценке Бюро переписи населения США, реальный среднедушевой доход беднейших 20 % населения сократился на 1 %.
Смерть Горацио Алджера
Горацио Алджер был весьма посредственным писателем. Тем не менее его воодушевляющие рассказы об обогащении бедняков оказались неразрывно связанными с американским капитализмом. Его книги рисуют путь главного героя от бедности к респектабельности, прославляя американский капитализм и внушая мысль о том, что американская мечта доступна любому. Конечно, это идеалистические рассказы; даже в Америке одной лишь честности недостаточно для того, чтобы добиться успеха; к тому же американский капитализм времен Алджера был далек от совершенства. Однако сюжеты Алджера все же оказались весьма близки к реальности и стали бестселлерами, тогда как Америка снискала славу страны возможностей – места, где капиталистическая система поощряет усердных и честных работников.
На протяжении долгого времени люди верили, что, несмотря на все препоны, однажды они сами – или их дети – сумеют улучшить свое положение. Более того, по результатам исследования, которое недавно провел проект «Экономическая мобильность» фондов Pew, 72 % американцев сегодня полагают, что их материальное положение в ближайшие десять лет улучшится, а 62 % считают, что их дети будут жить лучше, чем они сами[34].
К несчастью, эмпирические данные свидетельствуют о том, что так происходит все реже. Начнем с «внутрипоколенческой мобильности» – вероятности того, что человек сумеет перейти из одного сегмента распределения доходов в другой. В среднем порядка 30 % людей из каждого квинтиля распределения доходов в течение десяти лет переходят в следующий квинтиль. Однако внутрипоколенческая мобильность сокращается, особенно внизу шкалы распределения доходов. По данным Института экономической политики, в 1990-е годы 36 % из тех, кто начал со второго снизу квинтиля распределения доходов, так в нем и остался; в 1980-е годы таких людей было 32 %, в 1970-е – 28 %[35].
Другой вид мобильности – «межпоколенческая мобильность» – свидетельствует о продвижении человека вверх или вниз по общественной лестнице по сравнению с его родителями. В ситуации, когда выходец из семьи с низким достатком сам также имеет низкий доход, межпоколенческая мобильность оказывается низкой. Шокирующие результаты недавнего исследования, проведенного Организацией экономического содействия и развития, показали, что Америка в этом плане гораздо менее мобильна, чем другие страны – члены ОЭСР[36]. Аналогичным образом исследователи из Федерального резервного банка Чикаго сообщили о том, что межпоколенческая мобильность, возросшая в 1950–1980-е годы, в 1990-е начала снижаться и еще больше сократилась на протяжении следующих десяти лет[37].
Выводы
Может показаться, что преимущества меритократического капитализма уже не столь велики и распространены, как прежде, и что подобное изменение способствует ослаблению политической поддержки рыночной экономики. Однако более всего подтачивает систему рыночной экономики ощущение того, что правила применяются ко всем людям по-разному, – того, что система нечестна. Когда мои дети были маленькими, они иногда пытались играть в «Монополию». Эти попытки неизбежно приводили к ссорам. Моя дочь – она на два года младше моего сына – всегда утверждала, что тот жульничает. Сын, вооружившись официальными правилами игры, отстаивал свою невиновность. И он был прав: он действительно не придумывал новых правил игры. Однако и дочь тоже была права: мой сын пользовался ее неосведомленностью и применял лишь выгодные для него правила. Несмотря на юный возраст, моя дочь понимала, что справедливости в игре нет, и использовала единственную доступную ей реакцию: бросала игру.
Ее отчаяние аналогично тем чувствам, которые многие все чаще испытывают в связи с американской системой: игра оказалась мошеннической. Большинство не понимает сути этого мошенничества, еще меньше людей способно его исправить – вот почему некоторые, подобно моей дочери (в том числе и молодежь, собирающаяся в Зукотти-парке и в других парках по всей Америке), полагают, что проще всего закончить игру. Они не понимают, что отказ от системы в целом делает ее трансформацию еще более сложной. Чтобы система вновь стала справедливой, они – точнее, все мы – должны, прежде всего, осознать, что именно пошло не так.
Глава 3. Клановый капитализм по-американски
У нас в компании есть поговорка, определяющая всю нашу деятельность. Вот эта поговорка: конкуренты – наши друзья. Клиенты – наши враги.
Джеймс Рэнделл, бывший президент корпорации Archer Daniels Midland
Капитализм несет с собой неравенство доходов. Общественность обычно мирится с подобным неравенством, пока оно не становится избыточным, пока его можно считать элементом выгодной для всех системы, и – что важнее всего – пока оно оправдано принципами, которые большая часть населения считает «справедливыми». Конкурентная система рыночной экономики отвечает всем трем условиям. Конкуренция ограничивает возможность получения чрезмерной прибыли – и тем самым ограничивает неравенство доходов. Конкуренция предоставляет потребителям возможность воспользоваться преимуществами инноваций. Конкуренция поощряет стремление к эффективности и, как следствие, к меритократии – системе, в рамках которой ответственность несут люди, которые могут принести наибольшую пользу, а поощрение считается справедливым вознаграждением.
Конкуренция дает даже больше: она предоставляет потребителям свободу выбора. Тот факт, что потребитель может отказаться от одного продавца и выбрать другого, не только защищает его от компаний, стремящихся обмануть его и предложить товар по завышенной цене; он также обеспечивает максимально возможное благополучие потребителя. Ради сохранения собственного бизнеса фирмы предлагают клиентам самые выгодные условия.
Когда бизнес приобретает излишнюю власть на рынке и получает возможность беспорядочно повышать цены, потребители могут потребовать защиты у политиков. Однако из ситуации, в которой бизнес имеет власть и в рыночной, и в политической сферах, нет выхода. В таких условиях система уходит от свободного рынка и превращается в социалистическую экономику. В рамках социалистической экономики политическая система контролирует бизнес; в рамках подобного кланового капитализма бизнес контролирует политические процессы. Разница весьма тонка: в обоих случаях отсутствует конкуренция и сокращается свобода. В отсутствие конкуренции экономика становится несправедливой и начинает поощрять инсайдеров, обладающих нужными связями.
Конкуренция – та волшебная составляющая, которая вынуждает капитализм работать на каждого члена общества. Большая часть великолепных результатов, публикуемых экономистами и якобы связанных с преимуществами свободного рынка, получена на основании допущения о том, что рынки работают в условиях конкуренции. Однако экономисты недостаточно концентрируются на том, чтобы добиться присутствия конкуренции в реальной жизни. Проблему представляет не временное преимущество, которое компании обеспечивают себе за счет инноваций, но более постоянная политическая власть, которую они могут получить благодаря своим размерам и влиятельности. Если компания работает на неконкурентном рынке и при этом ею управляет не отчитывающийся ни перед кем директор, мы не можем более считать ее частью свободного рынка, но должны видеть в ней то, что она представляет собой на самом деле: малую централизованную экономическую систему.
Борьба с клановым капитализмом старше, чем эта страна. Она началась в 1773 году в Бостоне: тогда американские колонисты выступили против злоупотреблений британских монополий. На самом деле колонисты, уничтожившие прибывший на трех кораблях груз английского чая, протестовали не против повышения налогов, но против монополии и британского кланового капитализма. Чайный закон 1773 года снизил налоги на импорт чая в Америку. Кроме того, он гарантировал беспошлинный статус Ост-Индской компании – фирме, в политическом плане настолько тесно связанной с британским правительством, что фактически они представляли собой единое целое. Колонисты не были удовлетворены введением подобной привилегии, опасаясь, что правительственные монополии распространятся в том числе и на другие товары. Американская революция действительно стала борьбой за политические права. Однако помимо этого она также стала борьбой за экономическую свободу и против кланового капитализма.
Многим сегодняшним читателям борьба за установление или сохранение конкуренции может показаться заурядным делом. Однако в 1773 году это было нечто совершенно новое. На протяжении всей истории человечества экономическая конкуренция считалась злом, которого следовало избегать любой ценой. К примеру, гильдии в Средние века создавались ради ограничения конкуренции в торговле. Первые современные корпорации (голландская и британская Ост-Индские компании) представляли собой учрежденные указом короля монополии. Преобладавшая на протяжении долгих лет экономическая доктрина – меркантилизм – предполагала, что государство участвует в создании, продвижении и защите монополий, считавшихся лучшим способом организации экономической деятельности. Попробуйте поискать в интернете слово «конкуренция»: даже сегодня это понятие чаще всего будет сопровождаться такими негативными эпитетами, как «ожесточенная», «несправедливая» или «губительная».
В 1776 году Адам Смит опубликовал «Исследование о природе и причинах богатства народов», тем самым начав революцию, значение которой вполне сопоставимо со значением революции, начатой в том же году американскими колониями. Революционная идея Смита заключалась в том, что конкуренция есть сила во благо. Современное определение «экономической конкуренции», приведенное словарем Мерриама – Вебстера, отчасти отражает эту идею: «стремление двух или более сторон, действующих независимо друг от друга, ограничить деятельность третьей стороны за счет предложения наиболее выгодных условий». Представление о том, что конкуренция способствует росту благосостояния, до Смита оставалось совершенно чуждым. Впоследствии – как в теории, так и на практике – было установлено, что подобное представление глубоко верно.
Преимущества конкуренции
Представление Смита о том, что конкуренция заставляет фирмы, стремящиеся к получению прибыли, производить пользующиеся спросом товары по максимально низкой цене, первоначально было чисто интуитивным. После публикации «Исследования о природе и причинах богатства народов» экономисты пытались, применяя научный подход, выяснить, действительно ли рынками управляет то, что Смит назвал «невидимой рукой». Лишь в середине прошлого века Кеннет Эрроу и Жерар Дебрё сумели на основании весьма общих допущений доказать, что интуитивное представление Смита действительно было справедливым: конкурентные рынки обеспечивают эффективное распределение ресурсов (экономисты называют это «первой теоремой благосостояния»). Наиболее важным из упомянутых общих допущений стало допущение того, что субъекты рынка являются «ценополучателями»; иными словами, что они действуют независимо (не сговариваясь между собой) и что их размеры по сравнению с размерами рынка достаточно малы для того, чтобы можно было игнорировать воздействие их собственных действий на рыночные цены. В рамках большинства экономических моделей эти условия принимаются как данность. На деле же они требуют доказательства: это важный момент, к которому я вскоре вернусь.
От конкуренции более всего выигрывают потребители. По состоянию на 1 января 1984 года, когда компания AT&T была разделена на семь независимых региональных холдингов, а рынок междугородней и международной телефонной связи открылся для конкуренции, стоимость одной минуты разговора для звонков из Нью-Йорка в Сан-Франциско (в пересчете на доллары 2011 года) составляла 1,90 доллара, а для звонков из Нью-Йорка в Париж – 3,54 доллара[38]. Сегодня существует небольшая фиксированная абонентская плата, при этом звонки внутри страны стали бесплатными, тогда как звонки в Париж стоят всего 9 центов в минуту[39]. Мобильные телефоны, прежде представлявшие собой роскошь, доступную лишь миллиардерам, сегодня широко распространены даже в бразильских фавелах. Всеми этими фактами повышения благосостояния мы обязаны вовсе не какому-то доброму самаритянину, не щедрому главному плановику и не государственным субсидиям. На деле правительства всего мира сумели заработать миллиарды, выставив на аукцион радиочастотный спектр (и тем самым сэкономив деньги налогоплательщиков).
Помимо прочего, конкуренция приносит общественную пользу: она ограничивает дискриминацию. В рамках конкурентного рынка люди, дискриминирующие других людей и отказывающиеся торговать с ними, лишь ставят себя самих в трудное положение[40]. По этой причине рост конкуренции сокращает масштабы дискриминации. Вспомним о том, что в Америке стены, разделявшие представителей различных рас, начали разрушаться, прежде всего, в высококонкурентном мире спорта. Гендерная дискриминация также сократилась благодаря конкуренции. В период с 1970 по 1995 г. в результате сокращения государственного регулирования банковский сектор стал более конкурентным; тогда же разница в заработной плате для мужчин и женщин в этой сфере значительно сократилась, а количество женщин, занимающих руководящие посты, выросло примерно на 10 % по сравнению с другими отраслями[41].
И последнее, но не менее важное обстоятельство: конкуренция обеспечивает человеку большую свободу. Однажды один мой молодой коллега шел под дождем с другим нашим пожилым коллегой. Последний родился в Европе; он заметил в шутку (хотя некоторые шутки оказываются совсем не смешными, если рассматривать их с позиций власти): «В Европе среди молодых ассистентов принято носить зонт над головой профессора». Мой молодой коллега тут же ответил: «Отчего вы не едете в Европу?» Подобную силу и свободу для выражения своих мыслей дала ему конкуренция – в данном случае конкуренция между университетами, поскольку мы с коллегами из Чикагского университета агрессивно конкурировали с множеством других учебных заведений, стремясь заполучить его на работу. Как следствие, этот молодой ассистент профессора в некоторых отношениях оказался более «авторитетным», чем наш пожилой коллега.
Конкуренция может быть лучшим другом потребителя; однако фирмам она нравится куда меньше. Компании делают все возможное, чтобы препятствовать конкуренции: это обеспечивает им куда большие возможности для зарабатывания денег. На курсе финансов и предпринимательства я говорю студентам, что при создании новой фирмы им следует подумать о создании препятствий для выхода на рынок новых конкурентов. В отсутствие подобных барьеров фирма будет работать на идеально конкурентном рынке: она не будет получать прибыль. Таким образом, совершенно естественно то, что предприниматели и представители делового мира стремятся препятствовать конкуренции. Если это стремление имеет разумные пределы, ситуация остается оправданной с экономической точки зрения. Не имея надежды на получение в будущем определенной власти на рынке, предприниматели не стали бы тратить жизнь на обеспечение успешности своего предприятия, а потребители не получили бы множества важных новых продуктов.
Тем не менее определить, что такое «разумные пределы», непросто. Один из путей к созданию препятствий для новых конкурентов – формирование репутации производителя высококачественных товаров; подобная ситуация не вредит потребителям, даже наоборот – она приносит им пользу. Создание дефектных операционных систем, не позволяющих обеспечить полную совместимость с компьютерными программами конкурентов, – другой способ, не приносящий потребителям никакой пользы. Однако наиболее сложными для преодоления препятствиями остаются препятствия, установленные законом. Государство обладает высшей монополией: монополией на законное применение насилия. Как следствие, побороть поддерживаемые государством монополии оказывается сложнее всего.
Чтобы понять, насколько могущественными и опасными могут быть монополии в ситуации, когда правительство поддерживает и усиливает их власть, рассмотрим пример Ост-Индской компании – фирмы, против которой восстали американские колонисты и которую яростно критиковал Адам Смит.
Ост-Индская компания
Представления Адама Смита основывались на свидетельствах о коррумпированности современных ему корпораций, и прежде всего Ост-Индской компании (ОИК) – сегодня, вероятно, наиболее известен ее беллетризованный образ, созданный в серии фильмов «Пираты Карибского моря». Фильмы о приключениях пиратов не претендуют на историческую точность, однако в целом они довольно точно изображают попытки компании контролировать экспорт и импорт на островах.
ОИК была основана в 1600 году и сразу же получила от британской королевы монополию на торговлю со странами, расположенными к востоку от мыса Доброй Надежды и к западу от Магелланова пролива (в эту зону попадают и страны Карибского бассейна). Первоначально монополия была предоставлена на пятнадцать лет. Однако благодаря своему политическому влиянию (и взяткам) ОИК сумела продлить монополию до 1694 года. В 1694 году английский парламент, под давлением других коммерсантов, снял ограничения на торговлю с Индией, а некоторое время спустя предоставил привилегии конкурирующей компании: «Английской компании, торгующей с Ост-Индиями».
При наличии в отрасли политически и экономически влиятельного лидера обеспечить конкуренцию нелегко. Лидер-монополист, обладающий значительными денежными ресурсами и политическими связями, вполне может целиком выкупить единственного появившегося у него конкурента. Подобный подход оказывается неоправданно дорогим только в ситуации, когда для выхода на рынок не существует никаких преград – как следствие, на рынке имеется множество конкурентов. Вот почему нас не должен удивлять тот факт, что попытка британского парламента создать конкуренцию за счет предоставления привилегий единственному конкуренту ОИК, закончилась провалом. В отсутствие антитрестовского законодательства акционеры ОИК приобрели достаточное количество акций конкурента и тем самым вынудили компанию к слиянию с ОИК; как следствие, ОИК вновь оказалась монополистом. Чтобы скрепить сделку и предотвратить будущие попытки создания конкуренции, ОИК предложила казначейству заем в размере 3,2 миллионов фунтов стерлингов; в обмен на это правительство вновь предоставило компании монополию на торговлю – по легенде, всего на три года. Когда срок монополии снова закончился, ОИК в очередной раз воспользовалась своими связями, дала взятки и продлила свои привилегии: на большинство товаров до 1813 года, а на чай – до 1833 года[42]. То, что монополия, предоставленная первоначально на пятнадцать лет, на деле длилась 233 года, лишний раз напоминает нам о том, насколько опасным может быть сочетание власти в экономической и политической сфере.
Физическая удаленность (в те времена путешествие из Англии в Индию и обратно занимало примерно два года) и отсутствие связи давало управляющим Ост-Индской компании относительную свободу и возможность действовать по собственному усмотрению[43]. Довольно быстро обычным делом стало предоставление капитанам кораблей ОИК до двадцати футов свободного пространства на палубе: они могли разместить там личный груз и впоследствии продать его ради собственной выгоды[44]. Аналогичным образом сотрудники ОИК, получавшие незначительную зарплату, могли обогатиться за счет «комиссий» за поставки ОИК. Подобная система легализованных взяток стала нормой и внесла огромный вклад в формирование культуры коррупции, до сих пор господствующей в Индостане.
Сложно представить себе что-либо более далекое от невидимой руки рынка. Результаты подобной деятельности оказались предсказуемо катастрофическими для всех ее участников, за примечательным исключением нескольких управляющих и сотрудников ОИК. Потребители в Англии были вынуждены платить за чай и специи гораздо больше, чем они платили бы в условиях конкурентного рынка; сотрудники ОИК – если не учитывать получаемые ими комиссии – вынуждены были работать на в высшей степени коррумпированную компанию. Адам Смит сетовал на неэффективность ОИК и подобных ей компаний, отмечая, что «они редко имели успех без исключительных привилегий; часто не имели успеха и с привилегиями. Без исключительных привилегий они обыкновенно расстраивали торговлю. При исключительных привилегиях они и расстраивали, и стесняли ее»[45]. Упомянутое стеснение означало, что прочие компании не имели возможности торговать или были вынуждены вести дела нелегально (а значит, неэффективно).
Политическое влияние ОИК причинило британским гражданам еще больший вред. ОИК и государство оказались столь тесно связаны, что интересы Британской империи были вынуждены подчиниться интересам ОИК. Даже Американская революция отчасти была вызвана влиянием, которое ОИК оказывала на решения британского правительства.
Однако хуже всего пришлось индийцам, вынужденным терпеть безжалостное и жестокое обращение со стороны ОИК. Вероятно, наиболее жутким эпизодом оказался голод, разразившийся в Бенгалии в 1770 году. К 1764 году ОИК стала фактическим правителем Бенгалии и создала на этой территории монополию на торговлю зерном, запретив местным торговцам и перекупщикам «запасать» рис (то есть создавать запасы, призванные защитить население от голода в случае неурожая). Спустя год после случившейся в 1769 году засухи ОИК подняла и без того уже очень высокий налог на землю. В результате каждый третий житель Бенгалии (более 10 миллионов человек) умер от голода[46].
Еще одним постыдным для ОИК эпизодом стала торговля опиумом. В 1813 году ОИК утратила монополию на торговлю с Индией (за исключением чая) и стала агрессивно навязывать Китаю опиум, вывозимый ею из Бенгалии. Несмотря на попытки китайских властей помешать ОИК, к 1820 году компания ежегодно ввозила в Китай девятьсот тонн опиума. Стремясь отстоять право ОИК на продажу опиума в Китай, Британская империя развязала две войны.
Страшная история ОИК демонстрирует нам, что в деле получения прибыли частный бизнес ничем не лучше государственного предприятия. Заручившаяся поддержкой государства частная монополия, подобная ОИК, может оказаться куда более разрушительной, чем государственная компания. Вся история европейской колонизации весьма непривлекательна, однако худшие главы в нее сумели вписать именно две частные компании: ОИК и Свободное государство Конго Леопольда II (о нем я говорил в первой главе). Обе частные монополии были уничтожены в ответ на мировые волнения, вызванные жестоким обращением с местным населением. Если в каких-то частях света слово «торговля» до сих пор обладает негативным значением, ответственность за это несут, прежде всего, именно эти две монополии.
Традиционное представление о монополиях
Наиболее значимое следствие существования монополий – рост цен. Конкуренция вынуждает компании предлагать свою продукцию по цене, близкой к себестоимости. Совершенная и стабильная монополия избавляет от подобной необходимости. К примеру, ОИК при продаже чая в Англии могла установить на него такую цену, которая была ей наиболее выгодна; при этом компания понимала, что более низкая цена повысит спрос на товар, тогда как более высокая цена позволит получить за единицу товара большую прибыль. При выборе оптимального варианта монополист типа ОИК обычно останавливается на цене, превышающей конкурентную. Поэтому можно было бы считать монополию налогом, который потребитель вынужден платить производителю. Однако подобное представление не всегда точно. Предположим, что цена, по которой гипотетическая ОИК продает чай и которая позволяет ОИК максимально увеличить свою прибыль, составляет 10 долларов за фунт – притом, что стоимость производства и транспортировки фунта чая равна всего 3 доллара. Вероятно, многие потребители не захотят (или не смогут) покупать чай за 10 долларов – однако с удовольствием купят его за 5 долларов. Поскольку пять больше трех, компания была бы рада продавать таким клиентам чай по 5 долларов – однако это автоматически приведет к снижению цены, которую готовы платить богатые клиенты. Многие монополисты решают подобную проблему за счет сегментации рынка и дискриминации клиентов. В отсутствие такой возможности они были бы вынуждены прекратить продажу товара экономным потребителям, но сохранить значительную прибыль, которую они получают от богатых клиентов. Отмечу, что потеря прибыли, связанная с тем, что клиент отказывается от приобретения товара, выражается не в потере средств, которые в такой ситуации не переходят от покупателя к продавцу. В данном случае ущерб наносится и потребителю, который хотел купить товар за 5 долларов, и производителю, который мог бы продать за 5 долларов товар, произведенный за 3 доллара. Вот пример того, что экономисты называют «мертвым грузом монополии». Кому достанется разница между 10 долларами, заявленными компанией в качестве цены, и 3 долларами, потраченными на производство товара, зависит от вашего представления о том, кто их более всего «заслужил». Однако потерянные клиенты, безусловно, представляют собой чистый ущерб для компании в целом – ущерб, который можно было бы ограничить за счет патентного законодательства. Вот почему срок действия патента ограничен: создаваемая патентом монополия (которая необходима для поощрения изобретений) неэффективна; продлевать ее на неопределенный срок нецелесообразно с экономической точки зрения.
Описанный выше ущерб возникает не только в случае с монополиями. Он – пусть и в более мягкой форме – имеет место всякий раз при наличии препятствий для конкуренции, в ситуациях, когда фирмы получают на рынке определенную власть над своими клиентами. В США для борьбы с этой проблемой было создано антитрестовское законодательство.
Преимущества антитрестовского законодательства
После принятия в 1890 году антитрестовского закона Шермана целью создания антитрестовского (или антимонопольного) законодательства стало противостояние объединению предприятий в рамках монополий, картелей или трестов: подобные объединения могли нанести ущерб конкуренции. Как часто бывает, причины, приведшие к принятию закона Шермана, были довольно сомнительными. Три месяца спустя после принятия закона сенатор Джон Шерман одобрил введение тарифа Уильяма Маккинли, который ограничивал иностранную торговлю и повышал цены на ввозимые товары, тем самым ставя в невыгодное положение потребителей. Критики утверждали, что закон Шермана стал лишь уловкой, призванной обмануть избирателей и заставить их согласиться на принятие тарифов, крайне невыгодных для потребителя. Независимо от того, что изначально привело к принятию этого закона, на протяжении многих лет и он, и более поздние антитрестовские законы использовались для сокращения власти монополий и ограничения практик, позволявших устанавливать непреодолимые барьеры для выхода на рынок. Верховный суд США пояснил: «Закон [Шермана] был принят не для защиты предприятий от механизмов работы рынка, но для защиты общества от краха рынка. Закон направлен не против конкуренции, и даже не против жестокой конкуренции, но против нечестных действий, нацеленных на устранение конкуренции»[47].
Одной из основных мишеней антитрестовских законов стало слияние конкурентов. Существует множество аргументов в пользу слияний, в том числе тот факт, что они повышают эффективность производства и способствуют росту его масштабов, тем самым обеспечивая экономию; подобная эффективность может иметь значение для потребителей. Кроме того, слияния формируют лучшие компании, способные предложить лучшие товары в масштабах всей страны. Вспомним Starbucks: развиваясь, эта сеть выкупала местные кофейни, часть из которых предлагала более низкие цены на кофе или обеспечивала меньшую скорость обслуживания посетителей в часы пик. Не имея возможности приобретать уже существующие кофейни, сеть Starbucks не стала бы выходить на слишком маленькие рынки, не способные содержать несколько кофеен. У старых кофеен, не знающих конкуренции, не было бы поводов для обновления. В этом случае в проигрыше оказались бы потребители.
Выступая в поддержку слияний, фирмы обычно используют аргумент экономии, обусловленной ростом масштабов производства. Однако эффект масштаба – не панацея: иначе Советский Союз обладал бы самой продуктивной в мире экономикой. Представление о постоянном взаимовлиянии большей конкуренции и большей экономии за счет роста масштабов производства не учитывает прибыли, которую со временем дает конкуренция. Дух капитализма заключен в нескончаемом применении метода проб и ошибок. В отсутствие проб и ошибок крайне сложно добиться нововведений и роста.
Соответственно, цель антитрестовского законодательства состоит в предотвращении излишней консолидации, лишающей потребителя нововведений и приносимой ими выгоды. Антитрестовские меры позволяют поддерживать конкурентность производства – что, однако, связано со значительными издержками. Первая – это частичное уничтожение экономии, обеспеченной за счет масштаба. Вторая и более важная – масштабное вмешательство государства в частный сектор: подобное вмешательство может быть использовано в политических целях.
По этой причине отношение экономистов к антитрестовскому законодательству и его усилению остается двояким. Бывший председатель ФРС Алан Гринспен утверждал, что слияние компаний всегда выгодно для потребителя и что антитрестовское законодательство являет собой пустую трату ресурсов. В статье 1962 года он написал: «Вся система государственного антимонопольного законодательства в США представляет собой не что иное, как смесь экономической бессмыслицы и безграмотности»[48]. К подобным критическим выводам он пришел исходя из разумного предположения о том, что любая монополия, оставленная без защиты правительства, сталкивается с угрозой конкуренции со стороны новых коммерческих структур. По мнению Гринспена, одной лишь угрозы достаточно для того, чтобы потребители получили все преимущества конкуренции – даже в отсутствие действительной конкуренции.
Однако подобная идея верна лишь при соблюдении весьма специфических условий. Будь Гринспен прав,[49] компании не имели бы возможности назначать цены выше конкурентного уровня – даже в случае заключения тайных соглашений (также известных как картели). К сожалению, мы знаем, что это не всегда так. Отличным примером этого, хорошо известным нам благодаря фильму «Информатор», стал ценовой сговор, в который вступила компания Archer Daniels Midland (и ее иностранные конкуренты) в секторе рынка, занятом продажей лизина – аминокислоты, используемой в производстве кормов для животных. Агропромышленная корпорация ADM далеко не впервые вступила в ценовой сговор. В период с 1965 по 1998 год ее пять раз обвиняли в манипуляции ценами в различных секторах рынка – от продажи хлебопекарной муки до сбыта глутамата натрия[50]. Случай с лизином оказался столь примечательным благодаря информатору, который записал на пленку секретные совещания: мы слышим, как представители ADM договариваются с четырьмя иностранными конкурентами о повышении цен на лизин с менее чем 80 центов за фунт до 1,20 доллара. Мы слышим, как начальник отдела по переработке сырья ADM Терри Уилсон на секретном совещании говорит иностранным производителям лизина: «Вы мои друзья. Я хочу быть заодно с вами, а не с [клиентами], потому что от вас зависит, сделаю я деньги или нет»[51]. Кроме того, мы слышим, как президент ADM Джеймс Рэнделл сообщает присутствующим: «У нас в компании есть поговорка, определяющая всю нашу деятельность. Вот эта поговорка: конкуренты – наши друзья. Клиенты – наши враги». Ценовой сговор длился три года; вопреки идее Гринспена угроза выхода на рынок новых компаний не вернула цены на конкурентный уровень. Вот подтверждение преимуществ, обеспеченных за счет усиления антитрестовского законодательства.
Тем не менее наиболее сильным аргументом в поддержку антитрестовского законодательства остается то, о чем вспоминают весьма нечасто: антитрестовские законы снижают политическое влияние фирм. Большинство экономистов (включая Гринспена) согласны с тем, что худшая и наиболее стойкая форма монополии – это монополия, санкционированная государством. Однако способность получить такую санкцию государства прямо пропорциональна размерам фирмы (или картеля): чем крупнее фирма, тем ей проще найти средства на лоббирование собственных интересов и тем большую прибыль она в результате получит. Кроме того, чем крупнее фирма, тем выше вероятность того, что она сумеет использовать власть государства ради собственной выгоды. В силу всех этих причин традиционно упоминаемые расходы монополий на деле оказываются не единственными – и далеко не самыми крупными.
Чужие деньги
Адам Смит писал «Исследование о природе и причинах богатства народов» в 1776 году, имея весьма яркое представление о масштабах хищений и мошенничества в Ост-Индской компании. Для него подобная коррупция стала приговором не только монополиям, но и всем корпорациям, в которых собственность была отделена от управления. И пусть сделанные им выводы оказались чересчур пессимистичными – корпоративная форма за последние два столетия показала себя с крайне выгодной стороны, – его опасения были вполне оправданны; они остаются справедливыми и по сей день.
В конце 1990-х годов многие российские олигархи сумели разбогатеть за счет выкачивания денег из компаний, которыми они управляли. Нефтяные олигархи чаще всего действовали по следующей схеме: они продавали нефть по цене ниже рыночной иностранным торговым компаниям, принадлежавшим им самим. Чтобы получить представление о возможных масштабах подобных манипуляций с отпускными ценами на нефть, обратимся к отчету, демонстрирующему, что в 2000 году некая российская фирма продавала иностранному торговому партнеру нефть всего по 2,20 доллара за баррель – притом, что средняя экспортная цена (за вычетом затрат на экспорт и акцизных сборов) составляла 13,50 долларов[52]. Возможности вывода прибыли на счета торгового партнера, принадлежащего лично владельцам нефтяной компании, – а именно такая схема, вероятнее всего, применялась в этом случае, – увеличивались за счет непрозрачной структуры собственности в российских фирмах.
Конечно, подобные ситуации характерны не только для других стран, но и для Америки: мы можем убедиться в этом на примере корпорации Enron. Корпорация приобрела печальную известность благодаря финансовым махинациям, которые она осуществляла через сложную сеть компаний, сотрудничавших исключительно с Enron. Создатель сети, глава финансовой службы Enron Эндрю Фастоу, имел долю в этих компаниях – при этом он действовал лично или через партнеров. Он получил прибыль от множества сделок, осуществленных Enron.
Тем не менее, несмотря на некоторые вопиющие исключения, подобное неприкрытое воровство в США встречается достаточно редко. Однако в условиях ограниченной конкуренции легко может проявиться коррумпированность руководства, которой опасался Адам Смит. На конкурентном рынке руководители компаний не могут переводить на свой счет значительные средства или выплачивать себе огромную заработную плату. Подобное поведение может поставить под угрозу существование компании. И напротив, фирма, обладающая влиянием на рынке, может заработать больше, чем ей необходимо для оплаты труда работников, и тем самым компенсировать вложенные средства. Полученная ею дополнительная прибыль создает резервные фонды, которыми легко могут воспользоваться руководящие работники.
Рассмотрим случай Рэя Ирани, главного управляющего Occidental Petroleum. В 2010 году он заработал 76 миллионов долларов. Общая сумма его заработков за период с 2000 по 2010 год составила невероятные 857 миллионов долларов. В указанные десять лет дела компании шли очень хорошо – что, правда, во многом было связано с резким ростом мировых цен на нефть. Недовольство акционеров Occidental Petroleum, вызванное размерами заработков управляющего, проявилось на ежегодном собрании акционеров в 2010 году. Продемонстрировав явное отсутствие доверия руководству, 54 % акционеров проголосовали против принятой в компании программы оплаты труда. Однако это ни к чему не привело: в соответствии с правилами Комиссии по ценным бумагам и биржам, подобные голосования акционеров – лишь формальность; это означает, что они не имеют последствий.
Эти огромные премии напоминают вознаграждения, которые назначали сами себе управляющие Ост-Индской компанией. После победы при Плесси чиновник ОИК сэр Роберт Клайв выплатил самому себе 234000 фунтов стерлингов: для тех времен это была ошеломляющая сумма. Таким образом, отсутствие конкуренции вдвойне невыгодно для простых граждан. Оно обеспечивает более высокие цены при меньшей доступности услуг или товаров; кроме того, оно создает неоправданные (как следствие, избыточные) доходы, тем самым ослабляя общественную поддержку экономической системы в целом.
Клановость
Я вырос в Италии и кое-что знаю о непотизме: изначально покровительством властей пользовались «nepoti»[53], племянники, а в действительности – незаконнорожденные дети папы римского (Александра VI), который, будучи католическим священником, не должен был иметь детей.
Нет ничего удивительного в том, что непотизм зародился в Риме, в католической церкви. В прошлом церковь обладала огромной властью на рынке. Если эту власть не обеспечивало послание церкви, она приобреталась силой. Репрессии, нетерпимость по отношению к еретикам и, наконец, инквизиция – все эти меры были направлены на устранение конкуренции. Именно эти меры, препятствовавшие выходу на рынок конкурентов, позволяли папам (и прочим членам церковной иерархии) приобрести огромную власть (которой они к тому же часто злоупотребляли), в том числе и возможность назначать собственных детей и друзей на влиятельные позиции, вне зависимости от их истинных заслуг.
В протестантизме подобной проблемы не было: составляющие его независимые церкви невелики и агрессивно конкурируют друг с другом; как следствие, возможности покровительства в них ограниченны. В протестантской церкви неправильный выбор священника или казначея легко может привести к исчезновению всей общины: здесь практически нет места для ошибки. То же верно и для бизнеса. На действительно конкурентном рынке нет места клановости. «Место» появляется, лишь когда рынок ослабевает, – то есть когда компания начинает доминировать на рынке. А значит, клановость – еще одна составляющая цены, которую приходится платить за монополию.
К несчастью, структура этой цены со временем становится все более сложной. Заняв важную позицию в компании, некомпетентный «племянник» или не слишком умный приятель начинает нанимать на работу сотрудников своего или еще более низкого уровня: он чувствует, что сотрудники, превосходящие его по уму и способностям, станут для него угрозой. Через несколько лет подобного существования компании уже не так легко будет вернуться назад. Человеческий капитал фирмы окажется настолько искаженным, что она больше не сможет участвовать в конкуренции, не заручившись той или иной формой поддержки. Если в будущем существованию такой фирмы будет что-то угрожать, она прибегнет к лоббированию – поскольку не будет способна на участие в конкуренции. Однако чем большую поддержку правительства такая фирма может себе обеспечить, тем шире будут ее возможности по сохранению непотизма, а это, в свою очередь, будет требовать все большей и большей государственной поддержки. Однажды замкнувшись, подобный круг способен погубить даже самую эффективную экономику.
Политизация решений, принимаемых внутри компаний
Фирмы и рынки работают по-разному. Допустим, руководителю фирмы нужно выполнить простую задачу – заказать ксерокопии документов. В условиях рынка ему понадобится единственная информация – рыночная стоимость такой услуги. Если цена ниже, чем реальная ценность таких копий по представлению руководителя, он закажет копии; в ином случае он не станет этого делать. Ему не нужно знать стоимость возможного альтернативного использования сотрудников копировального центра, а также стоимость износа копировального оборудования. Одна-единственная цена избавляет его от множества размышлений. Вот важное преимущество рыночной экономики.
Теперь рассмотрим ту же ситуацию в рамках фирмы. Если руководитель попросит своего помощника сделать ксерокопии, помощник выполнит задачу (или рискует быть уволенным). Фирма не предполагает свободы наемных работников: они выполняют приказы. Кроме того, для работы фирмы цена не имеет значения. С одной стороны, это многое упрощает: не нужно торговаться по поводу стоимости каждой конкретной задачи. С другой стороны, решения, которые принимает руководитель, оказываются гораздо более сложно структурированными. Не зная цены, руководитель должен подумать о том, как можно было бы иначе использовать и время помощника, и копировальную машину. Это возможно лишь при наличии общего плана, в котором на каждую задачу отводится конкретное время, и к тому же каждая задача имеет конкретную стоимость. Иными словами, фирмы представляют собой малые административно-управленческие экономики: социалистические экономики в миниатюре. Эффективность их работы обеспечена существованием в условиях конкуренции (кроме того, конкуренция придает динамичность капиталистической экономике). Тем не менее добившиеся влияния на рынке фирмы все больше и больше напоминают своих социалистических собратьев.
Корпорации обычно куда менее восприимчивы к социалистической системе. До слияния с Exxon в 1998 году Mobil Oil была не просто нефтяной компанией; это была крупная многоотраслевая корпорация. После резкого снижения цен на нефть в середине 1980-х годов Mobil была вынуждена сократить инвестиции во все свои подразделения – не только в добычу нефти (подобное решение было обосновано низкими ценами на нефть), но также и в сеть универмагов Montgomery Ward (вовсе не связанную с нефтью). Кроме того, Mobil также сократила объем капиталов, вкладываемых в нефтехимические комплексы, инвестиционная привлекательность которых должна была вырасти благодаря снижению цен на нефть, – ведь они используют нефть в качестве сырья[54].
Документально доказано, что динамика инвестиций в рамках многоотраслевых корпораций существенно отличается от подобной динамики в рамках фирм, занятых в той же сфере бизнеса, но не являющихся корпорациями. Можно было бы утверждать, что подобные отличия объяснимы – ведь корпорации создаются, прежде всего, как раз для того, чтобы управлять ресурсами иначе, чем в условиях рынка. К примеру, корпорация может финансировать проекты, использующие закрытую информацию и не способные получить достаточное финансирование в условиях рынка без раскрытия значимых коммерческих тайн. Однако интересно то, что, чем более динамика инвестиций корпорации отличается от динамики инвестиций рынка, тем меньшей ценностью обладает такая корпорация[55]. То же, скорее всего, верно и в отношении заработной платы. Один мой студент, изучавший системы оплаты труда в корпорациях и сравнивавший их с системами оплаты аналогичного труда в односегментных фирмах, обнаружил, что, когда одно из подразделений корпорации попадает в сектор производства, выплачивающий высокую заработную плату, все прочие подразделения также повышают заработную плату своим сотрудникам[56].
Подобные тенденции свидетельствуют о противопоставлении эффективности перераспределению (о котором я уже говорил во второй главе). Ради сохранения гармонии фирмы и корпорации стремятся перераспределять ресурсы между имущими и неимущими. Подобное перераспределение, выражающееся в «налогообложении» более успешных подразделений и сотрудников ради поддержания отстающих, снижает стимулы к усердному труду. Более того, работники в такой ситуации пытаются воздействовать на руководителей, обладающих властью и имеющих возможность повлиять на перераспределение, так как хотят заполучить как можно больший кусок пирога.
Экономисты называют такое поведение «погоней за рентой» и отличают его от «погони за прибылью». В поисках прибыли компании или отдельные люди совершают взаимовыгодные операции. В поисках ренты они расходуют ресурсы, стремясь повлиять на то, как именно будет разделен уже существующий пирог. Подобное поведение не только не создает стоимость (обычно оно заключается в том, чтобы отнять что-нибудь у одного человека и отдать другому) – оно разрушает стоимость, так как предполагает напрасную трату времени и усилий. Погоня за рентой – важный пример издержек, связанных с бюрократией: такое поведение заставляет талантливых сотрудников проводить значительную часть своего рабочего времени в попытках повлиять на принятие решений и склонить руководство в свою пользу.
Большинство экономистов не доверяют государству: государственные компании представляют собой высшую форму монополии, как следствие, они крайне неэффективны. Однако приведенные мною примеры демонстрируют, что частные компании, которым не нужно участвовать в конкуренции, также весьма неэффективны. Фирмы представляют собой островки социализма в океане свободного рынка. Чем меньшее влияние на рынок оказывают такие островки, тем больше вся система соответствует идеальным представлениям Адама Смита; чем больше влияние островков, тем больше система стремится к социалистической экономике. Если бы всю экономику контролировала одна крупная фирма, чем капиталистическая система отличалась бы от социалистической?
Современные ост-индские компании
Чтобы невидимая рука рынка работала наиболее эффективно, фирмы должны быть достаточно малы и не иметь возможности манипулировать ценами. Но даже в ситуации манипулирования ценами свободный рынок сохраняет эффективность в ситуации, пока фирмы обладают лишь ограниченным влиянием на рынке. С ростом влияния на рынок отдельных фирм система все больше искажается. Худший сценарий развития событий предполагает, что влияние, которое фирмы оказывают на рынок, выходит за пределы сектора производства, в котором они заняты, и превращается в политическую власть. Ранее в этой главе уже было сказано о том, что государство обладает высшей монополией – монополией на законное применение силы. Результат объединения власти, даруемой подобной монополией, с властью на рынке, приобретенной благодаря экономическому доминированию в том или ином секторе, неизменно оказывается катастрофическим – неважно, получает ли влияние на рынке правительственная компания (как в случае с Fannie Mae и Freddie Mac), или же частная компания одерживает верх над властью правительства (как в случае с Ост-Индской компанией).
Современный пример ОИК и ее негативного воздействия на конкретную страну демонстрирует нам Сильвио Берлускони. Его обещание управлять страной, как фирмой, много раз приносило ему победу на выборах. К несчастью, в конце концов он принялся руководить правительством, как своей личной фирмой. Даже если он и не менял правил ради собственной выгоды, конкуренты выходили из игры, опасаясь репрессий со стороны правительства. Мир не видел подобного коррумпированного взаимодействия правительства и деловой сферы со времен Ост-Индской компании. Берлускони занимал пост премьер-министра в течение восьми из десяти лет в период с 2001 по 2011 год: за этот период ВВП на душу населения в Италии снизился на 4 %, соотношение задолженности к ВВП выросло со 109 до 120 %, в то время как налоги увеличились с 41,2 % ВВП до 43,4 %. За тот же период индекс экономической свободы, рассчитываемый исследовательским центром Heritage Foundation, снизился для Италии с 63 до 60,3, а индекс конкурентоспособности Всемирного экономического форума – с 4,9 до 4,37. Берлускони сумел завладеть знаменем свободного рынка (или, точнее, купить его подобно тому, как обычно покупают деловой бренд) и тем самым, вероятнее всего, лишил свободный рынок привлекательности для целого поколения итальянцев.
К сожалению, Берлускони – не единственный пример современной ОИК. Еще одним примером стала корпорация ADM в период, когда ею управляла семья Андреас. Помимо участия в скандалах, связанных с ценовым сговором, ADM также получала самые крупные корпоративные дотации за всю современную историю США[57]. Анализ стратегий, проведенный либертарианским Институтом Катона, свидетельствует о том, что в 1995 году не менее 43 % годовой прибыли корпорации ADM принесла продукция, которую в значительной мере субсидировало или поддерживало американское правительство[58]. Субсидированная прибыль, которая была получена благодаря дотациям на производство этанола и тарифам на покупку тростникового сахара, благоприятствовавшим продажам высокофруктозного сиропа корпорации, за многие годы принесла ADM миллиарды долларов – за счет клиентов и налогоплательщиков.
Лояльностью правительства ADM обязана политическим связям семьи Андреас. Глава семьи Дуэйн Андреас жертвовал миллионы долларов в поддержку обеих политических партий США; кроме того, он оказывал политикам личную помощь. Он приобрел у Джимми Картера склад арахиса за 1,2 миллиона долларов[59] и продал Бобу Доулу и его жене апартаменты в гостинице Sea View в Бол-Харборе, штат Флорида[60]. Он не скрывал того, что обладает влиянием в политике. В одном интервью он заявил: «Ничто в мире не продается на свободном рынке. Ничто! Речи политиков – единственное место, где вы сумеете обнаружить свободный рынок. Лишь выходцы со Среднего Запада понимают, что это социалистическая страна»[61]. Как справедливо отмечает проведенный Институтом Катона анализ стратегий, «Андреас использовал свое влияние на Вашингтон, чтобы приблизить американскую форму „социализма“ к итальянскому корпоративному этатизму 1930-х годов: чтобы правительство могло грабить население ради блага корпораций, обладающих связями в политике»[62]. Консервативный журнал National Review назвал Андреаса бароном-разбойником наших дней[63].
Кроме всего прочего, ADM обеспечивала себе поддержку СМИ. Компания, не продающая товаров широкого потребления, тем не менее выделяла значительную часть бюджета на телерекламу. Политические ток-шоу постоянно прерывались рекламой ADM. В период с января 1994 по апрель 1995 года ADM потратила 4,7 миллиона долларов на ток-шоу «Встреча с прессой» канала NBC, 4,3 миллиона долларов на «Лицом к нации» на канале CBS и 6,8 миллиона долларов на «Час новостей с Макнилом и Лерером» на канале PBS. Кроме того, она была основным спонсором передачи «На этой неделе с Дэвидом Бринкли» на ABC[64].
Еще один пример современных ОИК – Fannie Mae и Freddie Mac. Консервативная пресса часто характеризовала их как государственные компании, которые политики вынуждают выдавать невозвратные кредиты. Правильнее считать их частными монополиями, использующими собственные политические связи для обогащения за счет налогоплательщиков. Проводимые ими операции настолько масштабны, что эти корпорации можно назвать государствами в государстве. Они настолько важны для американской экономики, что их банкротство недопустимо. Они обладают таким политическим влиянием, что любое изменение сложившейся ситуации оказывается сложнейшей задачей.
Политическая власть крупных финансовых организаций не менее велика. Вспомним попытку Citigroup изменить закон Гласса–Стиголла, четко определивший экономические связи между инвестиционными и коммерческими банками. В 1998 году корпорация Citigroup приобрела страховую компанию Travelers — хотя закон и запрещает банкам осуществлять слияния со страховыми компаниями. В процессе слияния управляющий Travelers Сенди Вейл пояснил, почему компании продолжают действовать, несмотря на то что их действия очевидно противоречат законодательству: «Мы провели множество переговоров [с ФРС и Министерством финансов] и пришли к выводу о том, что это не станет проблемой»[65].
На тот момент министром финансов США был Роберт Рубин, прилагавший значительные усилия для того, чтобы убедить коллег-демократов в необходимости изменения этого закона. Рубин покинул свой пост в Министерстве финансов в июле 1999 года, через день после того, как палата представителей приняла новый вариант закона, поддержанный обеими партиями – 343 голосами против 86. Спустя три месяца, 18 октября 1999 года, Рубин получил в Citigroup должность с годовой зарплатой в 15 миллионов долларов, не предполагающую каких-либо рабочих обязанностей. Сложно не увидеть связи между двумя этими событиями.
И Citigroup, и Рубин действовали в рамках закона. В рамках закона действовал и Берлускони, менявший законодательство ради собственного блага и ради блага собственного бизнеса. Однако законность подобных связей деловой сферы и правительства не меняет дела. При наличии более здоровой конъюнктуры ресурсы частного бизнеса можно использовать для противостояния цепкой хватке правительства; кроме того, государственная власть тоже может быть использована для ограничения злоупотреблений частных монополий. Однако из ситуации, в которой частная монополия контролирует государственную власть, выхода нет.
Выводы
Во введении к этой книге я отметил, что 51 % американцев согласны с утверждением «Крупный бизнес деформирует работу рынков ради собственного блага». Подобное убеждение разделяют не только те, кто не доверяет свободному рынку, но и те, кто согласен, что «свободный рынок – лучшая система в деле формирования материальных ценностей». Большинство американцев осознают разницу между политикой, поддерживающей интересы рынка, и политикой, выступающей в поддержку деловой сферы. Эти направления в политике порой совпадают – например, в сфере защиты прав собственности; однако чаще всего они расходятся. Политика, поддерживающая интересы бизнеса, нацелена на максимальное увеличение прибыли существующих фирм; в то же время политика, поддерживающая рыночные интересы, стремится обеспечить для всех лучшую конъюнктуру рынка.
Адам Смит выступал скорее в защиту рынка, чем деловых кругов; так следует делать всем экономистам, придерживающимся изложенных им принципов. Свободный и конкурентный рынок способствует максимальному процветанию, какое только знала история человечества. Однако для того, чтобы рынки могли работать в полную силу, необходимо, чтобы они предоставляли всем равные возможности и оставались открытыми для новых участников. Невыполнение этих условий превращает свободный рынок в неэффективную монополию; когда же подобная монополия подчиняет себе сферу политики, мы сталкиваемся с клановым капитализмом. На примере Citibank мы видим, что одной из сфер, в которых клановый капитализм за последние десять лет добился огромного влияния, к несчастью, стала финансовая система; а это заслуживает отдельного обсуждения.
Глава 4. Клановость в финансовой сфере
Я, как и вы, искренне верю в то, что институт банков куда страшнее вооруженной армии.
Томас Джефферсон
Деньги – основная составляющая, обеспечивающая конкуренцию в экономической системе. Широкая доступность денег крайне важна для привлечения в систему новых предпринимателей и предоставления им возможностей роста и процветания. Кроме того, деньги – хороший уравнитель: если финансовая система работает должным образом, идеи оказываются куда более значимыми, нежели деньги, а значит, талантливый человек получает шанс соперничать на равных с любым противником, вне зависимости от его состоятельности. В отсутствие подобного доступа к деньгам талантливый человек не имеет возможности самостоятельно начать свое дело и часто вынужден работать на зажиточных людей, лишь увеличивая их благосостояние. Деньги же могут помочь воплощению американской мечты.
Однако в последнее время деньги перестали играть роль смазки для подшипников экономического роста и превратились в песок на его шестернях. Деньги вдруг оказались замешаны во всех несчастьях современности – от мыльного пузыря интернет-бизнеса до скандалов с компаниями Enron и WorldCom; от кризиса субстандартного ипотечного кредитования до невероятной финансовой пирамиды Бернарда Мейдоффа. Более того, получается, что деньги способствуют появлению крайне несправедливых экономических результатов – а вовсе не уравниванию начальных условий. Основатель Countrywide Анджело Модзило – который придумал и развивал субстандартную ипотеку, в значительной мере нарушившую стабильность американской и мировой экономики, и которого журнал Conde Nast Portfolio поставил на второе место в списке худших управляющих всех времен[66] – при выходе в отставку получил 470 миллионов долларов[67].
В этой ситуации сложно винить во всем отсутствие конкуренции – ведь во многих секторах финансовой сферы конкуренция весьма высока, порой даже беспощадна. Кроме того, финансовая сфера исповедует принцип меритократии, по достоинству вознаграждая талантливых работников. Дни, когда управляющие аристократического происхождения и представители американской интеллектуальной элиты закрывали двери храма финансов перед носом у американских итальянцев, евреев и представителей прочих меньшинств, давно прошли. Модзило был сыном мясника из Бронкса и получил степень бакалавра в Фордхемском университете.
Проблему – хотя бы отчасти – составляет растущая политическая гегемония финансового сектора. В этой главе я буду говорить о том, насколько беспристрастность правил, управляющих финансовой сферой, и процесса формулирования таких правил, важна для того, чтобы капитализм начал работать на каждого из нас. Я также объясню, каким образом финансовый сектор, за счет имеющихся у него ресурсов и ловких манипуляций, сумел обратить существующие правила себе во благо. Это нанесло урон не только экономике, но и самому финансовому сектору.
В прошлом Соединенным Штатам удавалось держать финансовый сектор под контролем за счет сочетания законных принципов и интуитивных решений. Однако по мере того, как финансовая система становилась все более сильной, она также приобретала политическое влияние. За последние десять лет наш финансовый сектор стал чересчур концентрированным и чересчур влиятельным.
Как это случилось?
Тот, кто контролирует денежные потоки, решает судьбу коммерческих предприятий. К примеру, в мире венчурного капитала даже контракты, заключенные ради защиты начальных инвесторов, оказываются бесполезными в ситуации, когда у нового проекта заканчиваются деньги и ему требуется новое финансирование: тот, у кого есть средства для новых инвестиций, диктует условия сделки. Подобное преимущество позволяет финансовой сфере устанавливать ограничения на вход новых компаний и выход уже существующих, тем самым влияя на распределение прибыли в экономике. Мы уже видели в предыдущей главе, что обилие новых компаний в конкретном секторе означает слишком большую конкуренцию и слишком маленькую прибыль; тем не менее слишком малое число новых компаний подчас означает, что уже существующие в данном секторе фирмы могут разбогатеть за счет потребителей.
Американцы уже давно знакомы с подобными злоупотреблениями; они создали своего рода популистскую антифинансовую традицию. На протяжении истории Америки эта традиция приводила к принятию множества политических решений, которые не были эффективны в экономическом плане, однако обеспечивали долговечность и благополучие американского демократического капитализма. В 1832 году президент Эндрю Джексон рассматривал законопроект о продлении лицензии Второго банка Соединенных Штатов. Хотя Второй банк был частной компанией, он действовал в качестве расчетной палаты и регулятора банковской системы – подобно современной ФРС[68]. И он получал значительную выгоду от того, что на его счетах хранились средства федерального правительства; Второй банк был наиболее влиятельной организацией в стране. Проводимая им небрежная кредитная политика способствовала повсеместной спекуляции земельными участками, мошенничеству и, в конце концов, созданию «экономического пузыря»[69]. (Звучит знакомо, не правда ли?) Роль Второго банка вызывала беспокойство Джексона, и он потребовал провести расследование, установившее, «что это значимое и влиятельное учреждение, вне всякого сомнения, активно участвовало в попытках оказать финансовое влияние на результаты выборов должностных лиц»[70]. С экономической точки зрения решение Джексона о том, чтобы наложить вето на законопроект о продлении лицензии, оправдать непросто. Оно привело к уничтожению важной расчетной палаты, которая могла бы смягчить банкротство отдельных государственных банков, приведшее к панике 1837 года. Однако ликвидация этого банка позволила Джексону успешно снизить влияние финансового сектора на политику США.
Как я уже отмечал в первой главе, американские штаты долгое время опасались влияния нью-йоркских банков и использовали для ограничения отрасли различные методы – такие как разрешение иметь всего одно отделение банка или запрет банкам из одного штата открывать филиалы в других штатах. В 1933 году эту традицию продолжил закон Гласса–Стиголла, воздвигнувший стену между двумя доступными банкам способами предоставления кредитов населению. Коммерческие банки (выдающие прямые кредиты за счет средств вкладчиков) больше не имели права заниматься инвестиционной деятельностью (помогать клиентам – прежде всего, компаниям – в получении кредитов за счет выпуска от их имени долговых обязательств). Идея заключалась в том, чтобы запретить коммерческим банкам эксплуатировать вкладчиков, которые, как опасались законодатели, могли в результате получить от банков долговые расписки фирм, не имеющих возможности вернуть вкладчикам принадлежащие им деньги[71]. Одним из дополнительных преимуществ закона Гласса–Стиголла – равно как и прочих нормативных актов, регулирующих деятельность банков – стало дробление банковского сектора и снижение политического влияния финансовой сферы. Кроме того, закон также способствовал развитию здоровой конкуренции между коммерческими и инвестиционными банками.
Начиная с 1970-х годов все эти ограничения были постепенно сняты. Прежде всего, были отменены государственные ограничения на открытие филиалов. Эти ограничения были весьма неэффективны; технический прогресс же сделал их совершенно необоснованными. Какой смысл имеет запрет на открытие филиалов, если банки могут установить по всей стране свои банкоматы?[72] Снятие ограничений, безусловно, повысило эффективность банковского сектора и способствовало экономическому росту[73]. Однако этому росту сопутствовала финансовая концентрация. В 1980 году в США было 14434 банков – примерно столько же, сколько в 1934-м. К 1990 году количество банков сократилось до 12347, а к 2000 году – до 8 315. В 2009 году в стране было менее 7100 банков, и их число продолжало сокращаться. Наиболее важным фактом оказался значительный рост концентрации вкладов и кредитов. В 1984 году пятерка крупнейших американских банков контролировала всего 9 % от всех вкладов в банковском секторе. К 2001 году это число выросло до 21 %; к концу 2008 – примерно до 40 %.
Кульминацией процесса отмены государственного регулирования и последующей консолидации стало принятие в 1999 году закона Грэмма–Лича–Блайли, окончательно устранившего введенное законом Гласса–Стиголла разделение между коммерческими и инвестиционными банками. Закон Грэмма–Лича–Блайли огульно обвиняли в том, что он сыграл важную роль в финансовом кризисе 2008 года; в действительности же он не имеет практически никакого отношения к этому кризису. Во время кризиса обанкротились или получили экстренное финансирование, прежде всего, либо чисто инвестиционные банки, ничего не выигравшие от отмены закона Гласса–Стиголла (такие как Lehman Brothers, Bear Stearns или Merrill Lynch), либо чисто коммерческие банки (Wachovia или Washington Mutual). Единственным исключением стала корпорация Citigroup, осуществившая слияние своего коммерческого и инвестиционного отделений еще до принятия закона Грэмма–Лича–Блайли и уже тогда уверенная в том, что законодательство будет изменено.
В действительности закон Грэмма–Лича–Блайли обладал, прежде всего, политическим, а не экономическим влиянием – во всяком случае, если речь идет о прямом влиянии этого закона. В прежней политической ситуации коммерческие банки, инвестиционные банки и страховые компании проводили разную политику – как следствие, их попытки влияния на политиков уравновешивали друг друга. Однако после снятия ограничений интересы основных игроков финансовой сферы оказались на одной линии. Подобное выравнивание обеспечило данной сфере несоразмерное влияние в деле определения политических задач государства. Концентрация банковского сектора лишь усилила это влияние – и, как мы видим на примере изменения законодательства о банкротстве в 2005 году, банки совершенно не стеснялись пользоваться этим влиянием ради собственных целей.
Слишком много власти
После более чем десятилетнего обсуждения конгрессом президент Джордж Буш-младший 20 апреля 2005 года подписал Акт о предотвращении злоупотреблений при банкротстве и о защите прав потребителей, изменивший правила контроля процедуры банкротства, и, в частности, банкротства физических лиц. С самого начала США были страной, поддерживающей должников. После своего создания страна вынуждена была получать крупные займы от Великобритании; как следствие, защита должников входила в интересы государства[74]. Вспомним о полном освобождении от долгов, введенном Законом о банкротстве 1898 года: «Если честный человек терпит полную неудачу в финансовой сфере, общество никак не обогатится, оставив его в столь бедственном положении; напротив, ради всеобщего блага правильно будет соразмерно распределить оставшееся у него имущество среди его кредиторов, а ему самому позволить начать все с начала»[75].
Отчасти благодаря подобной поддержке должников, относительно упростившей процедуру невыплаты задолженности по кредитной карте, процент американцев, объявлявших себя банкротами, оставался высоким даже в периоды экономической экспансии. К примеру, в 2003 году процент взрослых жителей США, заявивших о своем банкротстве, оказался в десять раз выше, чем в Великобритании[76]. Достойной целью реформы 2005 года стало препятствование меркантильному использованию процедуры банкротства со стороны должников, которые сознательно объявляли себя банкротами, дабы избавиться от долгов, хотя могли выплатить по крайней мере частично. Предполагалось, что ограничение подобных процедур банкротства снизит стоимость кредита для всех американцев.
Законодательство о банкротстве должно поддерживать хрупкое равновесие между предотвращением объявлений о банкротстве из меркантильных побуждений (также известных как «стратегический дефолт») и терпимостью к тем, кто не по своей вине не имеет возможности выплатить долги. В условиях конкурентного рынка кредитования сокращение количества стратегических дефолтов принесет пользу всем должникам: оно обеспечит им более дешевый и более доступный кредит. Тем не менее ситуация, в которой сокращение случаев стратегического дефолта достигается за счет того, что все процедуры банкротства (в том числе и не обусловленные меркантильными целями) становятся более болезненными, негативно влияет на благополучие населения. Тюремное заключение должников, не способных расплатиться по долгам, – хороший способ убедиться в том, что их банкротство не было стратегическим; однако такой вариант нежелателен в силу как гуманных, так и экономических соображений. Когда предприниматель знает, что отправится за решетку, если потерпит неудачу и не сумеет выплатить долг, он вряд ли станет брать на себя какой-либо риск; а это негативно повлияет на экономический рост.
Чтобы понять, как именно обеспечивается поддержание этого хрупкого равновесия, необходимо обсудить различные точки зрения. Подобное обсуждение имело место при принятии предыдущих поправок к законодательству о банкротстве: тогда в дискуссии активно участвовали различные профессиональные организации, такие как Национальная конференция судей по делам о банкротстве[77]. Напротив, в обсуждении реформы 2005 года доминировали представители кредитного лобби, а проводилось оно Национальной коалицией потребителей по вопросам банкротства. Как отметил один правовед, «никогда прежде история нашей страны не знала столь хорошо организованной, хорошо структурированной и хорошо финансируемой кампании, проведенной ради того, чтобы изменить баланс сил кредиторов и должников»[78].
До отмены закона Гласса–Стиголла существовало важное препятствие, мешавшее кредиторам объединять усилия ради лоббирования своих интересов: часто их интересы не совпадали. Рассмотрим должника, который взял ссуду на приобретение автомобиля и при этом имеет задолженность по кредитной карте. Получатель кредита на покупку автомобиля хочет, чтобы долг перед ним был выплачен в первую очередь и как можно быстрее; в то же время держатель задолженности по карте не заинтересован в том, чтобы покупатель автомобиля как можно скорее выплатил долг за машину, ведь тогда у него останется меньше денег на выплату долга по кредитной карте. Раньше различные типы займов часто предоставлялись учреждениями различного типа; когда дело доходило до лоббирования, они редко могли найти общий язык. Однако вследствие значительной консолидации банковского сектора всеми кредитными операциями стало заниматься меньшее количество организаций – и им стало легче прийти к общему мнению[79]. Как отметил помощник по правовым вопросам, сотрудничающий с одним из членов Юридического комитета Сената США, «Закон о банкротстве – живой пример того, что не должно иметь места в конгрессе. Вероятно, при наличии двух противостоящих друг другу влиятельных [групп, объединенных общими интересами,] можно прийти к равновесному решению – однако в случае с законом о банкротстве имеет место явное отсутствие равновесия»[80]. В результате был принят закон, полностью переместивший упомянутый выше «баланс сил» на сторону кредиторов.
Реформа имела вполне разумную цель: сокращение злоупотреблений в рамках системы. Однако кредитное лобби, вооруженное этой благой целью, оказалось столь влиятельным, что сумело подчинить себе законодательную повестку дня и подавить всех своих противников. Республиканец Генри Хайд, председатель Юридического комитета палаты представителей конгресса США, вынужден был выступить в защиту прочих членов комитета: «Я такой же капиталист, как и вы; такой же консерватор, как и вы; однако мне не кажется, что при наличии закона, явно потворствующего интересам кредиторов, минимальная гибкость в том, что касается уровня жизни людей, объявивших себя банкротами, станет нарушением моих – или чьих-либо еще – консервативных убеждений»[81].
Тем не менее никогда еще поговорка «Бойся своих желаний!» не была столь уместна. Всего восемь месяцев спустя после принятия закона цены на недвижимость перестали расти, а затем начали падать; как следствие, положение множества домовладельцев ухудшилось. До изменения законодательства о банкротстве домовладельцы, оказавшиеся в бедственном положении, объявляли себя банкротами, что позволяло им избавиться от задолженностей по кредитным картам и увеличивало шансы на сохранение жилья. После принятия нового закона такого варианта у них не было. В соответствии с расчетами, проведенными в рамках недавнего исследования, реформа 2005 года увеличила количество людей, не способных выплатить ипотеку, примерно на полмиллиона; в ситуации, когда должник по ипотеке не может выплатить долг и дом выставляется на аукцион, он теряет порядка 27 % стоимости[82]. Если применить эту потерю стоимости к средней стоимости дома, выставленного на продажу в 2005 году (290000 долларов), мы увидим, что в результате реформы законодательства о банкротстве финансовый сектор потерял примерно 39 миллиардов долларов.
Однако основное негативное воздействие на финансовый сектор оказал весьма странный пункт нового закона, первоначально оставшийся незамеченным. Этот пункт касался усиления прав владельцев производных финансовых инструментов (деривативов) в случае банкротства. Производные финансовые инструменты – это контракты, которые смещают риск наступления определенного события (к примеру, роста цен на нефть) в сторону контрагента. Предположим, что компания Southwest Airlines хочет «закрыть» текущую цену на нефтепродукты. Используя производные финансовые инструменты, она может заплатить за нефтепродукты по сегодняшней цене, но получить их в определенный момент в будущем – и тем самым гарантировать, что в случае повышения цен на нефтепродукты ей не придется платить более высокую цену. Однако Southwest Airlines может поступить так лишь в том случае, если контрагент – финансовая организация, такая как банк Lehman Brothers, – готова подписать подобный договор. Если цены на нефтепродукты снизятся, Southwest Airlines должна будет уплатить Lehman Brothers разницу между прежней и новой рыночной ценой. Если цены повысятся, Lehman будет должна уплатить эту разницу Southwest Airlines. Но предположим, что цены на нефть выросли, а банк Lehman Brothers обанкротился. Что будет с задолженностью Lehman Brothers перед Southwest Airlines?
Логично предположить, что Southwest Airlines ждет та же судьба, что и всех прочих кредиторов Lehman Brothers: они разделят между собой активы обанкротившегося банка. Более выгодное для Southwest Airlines решение учитывает, кто именно является основным держателем производных финансовых инструментов, и предполагает, что такой держатель первым получит выплаты из имеющихся активов. Реформа 2005 года пошла еще дальше. Вместо того чтобы предоставить держателям производных финансовых инструментов возможность получить как можно большую долю имеющихся активов обанкротившейся компании, она дает им право сделать вид, что на самом деле ничего не произошло. Вернемся к нашему примеру: вместо того чтобы выручить разницу между рыночной ценой на нефтепродукты и прежней ценой на них, Southwest Airlines получит право на контракт с новым контрагентом, аналогичный тому, который она уже подписывала с Lehman Brothers. Lehman Brothers обязан покрыть трансакционные издержки на подписание нового контракта, обычно составляющие порядка 0,1–0,2 % от общей стоимости контракта.
Трансакционные издержки могут показаться вам незначительными; однако давайте вернемся к ситуации с Lehman Brothers. На момент банкротства банк Lehman Brothers имел производные финансовые инструменты на условную (номинальную) сумму в размере 35 триллионов долларов. Величина трансакционных издержек составляет 0,15 %; как следствие, повторное заключение этих контрактов обойдется в дополнительные 52,5 миллиарда долларов! Иными словами, после банкротства Lehman Brothers из активов банкрота, помимо первоочередных долгов перед владельцами производных финансовых инструментов, необходимо было также заплатить 52,5 миллиарда долларов за новые контракты[83]. Применение этого правила привело к тому, что размер выплат в пользу всех прочих кредиторов сократился на 52,5 миллиарда долларов. Отчасти именно поэтому выплаты по долговым обязательствам Lehman Brothers, имевшим рейтинг AA до самого момента объявления о банкротстве, составили всего 8,625 цента на доллар[84].
Это невероятно важное изменение прошло совершенно незамеченным: позднее руководитель одного крупного хедж-фонда рассказал мне, что до банкротства Lehman Brothers он даже не представлял себе, как устроено законодательство. После этого банкротства он обратился за пояснениями к своим юристам и был потрясен тем, что от них узнал.
Слишком крупные, чтобы обанкротиться
Крупные банки обладают политическим влиянием еще и потому, что прекращение их деятельности может привести к катастрофическим последствиям для экономики – по меньшей мере так полагают правящие круги. Неважно, правы они при этом или нет. Предположим, что к Земле – как в фильме «Армагеддон» – приближается огромный астероид; существует 5-процентная вероятность того, что он столкнется с планетой и тем самым нанесет Соединенным Штатам материальный ущерб на сумму в 10 триллионов долларов. Допустим, вы – президент США. Дадите ли вы согласие на стратегическую операцию, которая обойдется в 700 миллиардов долларов, но позволит разрушить астероид и предотвратить катастрофу? Если использовать исключительно статистические данные, бездействие (0,05x10000 млрд долларов = 500 млрд долларов) обойдется стране куда дешевле, чем действие.
Однако если вы потратите деньги и остановите астероид, никто не узнает, действительно ли он столкнулся бы с Землей, если бы вы бездействовали, – и вы войдете в историю как президент, сумевший спасти планету. И напротив, если вы ничего не станете предпринимать, то в 5 % случаев вы войдете в историю как президент, сознательно отказавшийся предотвратить катастрофу. Не правда ли, в подобном контексте операция «Армагеддон» выглядит куда более привлекательно? К тому же авиационнокосмическая промышленность с удовольствием получит от вас деньги за выполнение такой операции. Представители этой отрасли попытаются заставить вас действовать – и начнут кампанию по запугиванию общественности. Они станут предупреждать: кто в действительности может сказать наверняка, что вероятность столкновения составляет всего 5 %? Скорее всего, все специалисты так или иначе выиграют, если операция будет проведена: вот почему вам станут говорить о том, что вероятность катастрофы в действительности составляет от 10 до 20 %. Эти цифры свидетельствуют о том, что операция «Армагеддон» будет более чем оправданна как с политической, так и со статистической точки зрения. Личная заинтересованность – лучший способ убедить человека в необходимости совершить тот или иной поступок.
Обстоятельства, заставляющие представителей правящих кругов согласиться с принципом «слишком крупные, чтобы обанкротиться», напоминают обстоятельства из сценария «Армагеддона». Тем не менее важное отличие состоит в том, что решение председателя ФРС об оказании финансовой помощи банкам в действительности увеличивает вероятность катастрофы – ведь подобное молчаливое обещание помощи негативно влияет на стремление банков брать на себя какие-либо риски. Чтобы понять природу подобного влияния, обратимся к еще одному примеру. Возьмем место, где риск – обычное дело: Лас-Вегас, рулеточный стол. Рулетка устроена таким образом, что размер выплаты в случае, если кто-то выигрывает, обратно пропорционален вероятности выигрыша: как следствие, ожидаемый выигрыш для каждой ставки – то есть вероятность выпадения нужного числа и получения выигрыша – одинаков. Если вы ставите 100 долларов на красное и выигрываете, крупье заплатит вам 1 к 1 – вы получите 200 долларов. В силу того, что ваши шансы на выигрыш составляют 18 из 38 (в американской рулетке два нуля), ваш ожидаемый выигрыш равен 94,73 доллара. Успешная ставка на конкретное число принесет вам выигрыш 35 к 1. В этой ситуации вероятность выигрыша гораздо ниже (1 к 38), однако ваш ожидаемый выигрыш остается неизменным: 94,73 доллара.
Теперь представим себе, что вы не делаете ставку лично, но нанимаете агента, чтобы он поставил 100 долларов от вашего имени. Чтобы заставить агента хорошо играть, вы обещаете ему 20 % от выигрыша. Как он будет играть? Если он поставит на красное и выиграет, чистый выигрыш (выплата минус ставка) составит всего 100 долларов, из которых он получит 20 долларов. Если учесть вероятность выпадения красного, его ожидаемый выигрыш равен 9,47 доллара (то есть 18/38 x 20). Если агент поставит на конкретное число и выиграет, чистая прибыль составит 3500 долларов, из них агент получит 700 долларов. С учетом этой вероятности ожидаемый выигрыш агента будет почти вдвое большим: 18,42 доллара (то есть 1/38 x 700). Допустим, игра в рулетку устроена таким образом, что ожидаемый выигрыш для всех ставок одинаков; однако почему же агент получает больше, если делает более рискованную ставку?
Ответ куда проще, чем вам может показаться. Агент получает 20 % от суммы выигрыша – однако ничего не платит в случае проигрыша. Если агент имеет прибыль от выигрыша, ничего не теряет при проигрыше и при этом не стремится специально свести риск к минимуму, он весьма заинтересован в том, чтобы сильно рискнуть. Подобная структура стимулирования типична для Уолл-стрит: теперь мы понимаем, почему руководители идут на чрезмерный риск.
Конечно, если принципал (человек, нанявший агента, чтобы тот делал ставки вместо него) умен, он может решить проблему, ограничив возможности агента и разрешив ему делать лишь конкретные ставки. Например, многие управляющие хедж-фондов по контракту имеют право вкладывать средства лишь в конкретные типы активов. Теперь предположим, что и сам заказчик тоже занял деньги, использующиеся для игры в рулетку. В таком случае он не будет слишком сильно ограничивать своего агента. Если агенту повезет и он выиграет, принципал получит причитающуюся ему прибыль; если агенту не повезет и он проиграет, то потеряет на этом не сам принципал, но его кредитор. Очевидно, что в такой ситуации ограничения в том, что касается риска, должны устанавливать уже кредиторы: вот почему обычно кредитор устанавливает крайне строгие правила относительно того, какого рода инвестиции может делать заемщик.
