Читать онлайн Психологические типы бесплатно
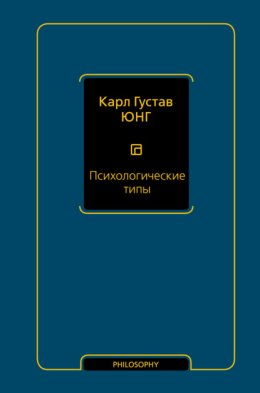
C. G. Jung
PSYCHOLOGISCHE TYPEN
© Walter Verlag AG, Olten, 1971
© Foundation of the Works of C. G. Jung, Zürich, 2007
© Перевод. В. Желнинов, 2024
© Издание на русском языке AST Publishers, 2025
* * *
Предисловие редактора
Книга «Психологические типы» впервые вышла в свет в 1921 году. Она принадлежит к числу наиболее известных произведений К. Г. Юнга. Тот факт, что весь тираж восьмого издания (1950) уже разошелся, свидетельствует о живом интересе читателей к вопросам психологии сознания – а некоторые из них Юнг обозначил и поставил первым, и ныне предложенные им термины широко используются.
В своем фундаментальном труде автор стремится выявить ряд типичных психических структур, описать при их посредстве функционирование психики и тем самым облегчить для любого человека понимание самого себя и других людей на благо взаимодействия. Различия между психическими типами важно изучать потому, что они проявляются в религиозности, в научных, культурных и идеологических спорах, да и в целом играют немаловажную роль в человеческих взаимоотношениях.
Данная работа является краеугольным камнем психологии Юнга и представляет собой важный исторический документ. Поэтому редакция сочла необходимым оставить текст во многом в первоначальном виде. Таким образом заинтересованный читатель получает возможность прослеживать возникновение и развитие идей Юнга.
Последний раздел текста содержит определения наиболее значимых и часто употребляемых психологических понятий у Юнга. Среди прочего автор формулирует и определение «самости», которая в более ранних изданиях той же работы обозначалась понятием «я». Однако термин «самость» приобрел в психологии Юнга столь важное значение, что он посчитал необходимым дать ему самостоятельное определение.
В приложении публикуются лекция «К вопросу об изучении психологических типов», прочитанная на психоаналитическом конгрессе в Мюнхене в 1913 году и послужившая предварительным наброском настоящей книги, а также три другие работы (в извлечениях), частично дополняющие эту лекцию.
Завершает книгу библиография.
Текст нового издания сверен и дополнен, в том числе стараниями автора. Цитаты и ссылки в отдельных случаях корректно изменены. Ранее непереведенные латинские цитаты снабжены переводом.
Редакция выражает признательность за проверку иноязычных цитат профессору Эмилю Абеггу и доктору Марии-Луизе фон Франц, а также благодарит за общую редактуру госпожу Аниелу Яффе и доктора Петера Вальдера.
Май 1960 г.
О переработанном издании
Нумерация абзацев в данном томе собрания сочинений автора была изменена по сравнению с предыдущими изданиями для лучшего соответствия общей редакционной политике. Раздел «Определения» по сугубо лингвистическим причинам отличается от аналогичного раздела в ранних изданиях и имеет собственный алфавитный порядок терминов.
Благодарим госпожу Кристу Ни-Беренгер за сотрудничество в подготовке текста.
Леони Зандер,весна 1992 г.
Предисловие к седьмому швейцарскому изданию
Это новое издание публикуется в неизмененном виде, хотя нельзя отрицать, что сама книга нуждается в некоторых дальнейших дополнениях и улучшениях и привлечении нового материала. В особенности следовало бы расширить довольно сжатое описание типов. Кроме того, желательным видится обзор психологических работ по типологии, написанных уже после появления данной книги. Впрочем, даже текущий объем книги столь велик, что расширять его представляется неразумным. Да и практической пользы в дальнейшем препарировании проблемы типологии не так уж много, ведь по сей день и основные ее элементы еще не изучены должным образом. Критики обычно совершают ошибку, предполагая, будто сами психологические типы являются плодом воображения автора и насильственно «навязываются» эмпирическому материалу. Сталкиваясь с подобными утверждениями, я вынужден отвечать, что моя типология есть результат многолетнего практического опыта, причем этот опыт совершенно недостижим для академического психолога-теоретика. Прежде всего я – врач и практикующий психотерапевт, а потому все мои психологические формулировки проистекают из опыта тяжелой каждодневной врачебной работы. Все, что я намеревался сказать и сказал в данной книге, многократно подтверждено – слово за словом – практикой лечения больных, которые тем самым тоже внесли вклад в эту книгу. Разумеется, такой медицинский опыт доступен лишь тем, кто по роду своих занятий берется за лечение психических расстройств. В этой связи будет неправильно обвинять человека со стороны, которому некоторые мои рассуждения могут показаться странными или который сочтет, что моя типология есть плод идиллически безмятежных размышлений в уединенной тиши кабинета. Однако позвольте усомниться в том, что столь шаткое основание может считаться условием содержательной критики.
К. Г. ЮнгСентябрь 1937 г.
Предисловие к восьмому швейцарскому изданию
Новое издание фактически не претерпело изменений, но в него внесены многочисленные мелкие исправления. Также был составлен новый указатель, и я выражаю глубочайшую признательность госпоже Лене Гурвиц-Эйснер за ее скрупулезность в подготовке текста.
К. Г. ЮнгИюнь 1949 г.
Введение[1]
Эта книга представляет собой плод моей почти двадцатилетней деятельности в области практической психологии. Она произрастала постепенно из мыслей, меня занимавших, складывалась из бесчисленных впечатлений и опыта, усвоенного мною в качестве психиатра и врача-невролога, а также под воздействием моего общения с людьми самых разных социальных кругов, из обмена мнениями в личных беседах с друзьями и противниками и, наконец, из критики моего собственного психологического своеобразия (Eigenart). Нисколько не намереваюсь пугать читателей казуистикой, но, с другой стороны, мне важно связать, исторически и терминологически, абстрагированные от опыта мысли с уже наличествующим знанием. Необходимость установления такой связи диктуется не столько потребностью в историческом обосновании, сколько желанием совместить врачебный опыт узкопрофессиональных рамок с более широкими областями знания, благодаря чему любой образованный человек сможет воспользоваться эмпирическими данными врачебного опыта. Пожалуй, я никогда бы не отважился на такое обобщение – которое по недоразумению легко принять за вторжение в чужие области, – не будь у меня убеждения, что психологическая точка зрения, излагаемая в настоящей книге, обладает широким значением и применением, а потому ее лучше и целесообразнее обсуждать именно в общей связи, а не в форме специальных научных гипотез. Вот почему я сосредоточился на изучении и описании лишь отдельных трудов в данной области, вот почему отказался от перечисления и пересказа всего того, что вообще говорилось по этим вопросам. Даже если не принимать во внимание то обстоятельство, что исчерпывающее изложение доступного материала безусловно превысило бы мои силы, следует признать, что такое изложение не обогатило бы дискуссию вокруг обсуждаемой тематики. Поэтому я без сожаления отверг немало материалов, накопленных мною на протяжении многих лет, и постарался по возможности сосредоточиться на главном. Ради этого пришлось, в частности, пожертвовать одним крайне ценным документом, который служил для меня подспорьем в ходе предварительных изысканий: речь о моей обширной переписке по вопросу о типах с моим другом, доктором медицины Г. Шмидом[2] из Базеля. Этот обмен мыслями на расстоянии способствовал прояснению многих идей, и многое из нашей переписки вошло в книгу, пусть и в значительно измененной форме. Тем не менее эта переписка была подготовительной работой, и ее публикация внесла бы известную сумятицу в восприятие читателей. Однако я считаю своим долгом поблагодарить моего друга за его труды и помощь.
К. Г. ЮнгКюснахт, Цюрих,весна 1920 г.
Вступление
Платон и Аристотель! Это не только две системы, но и два различных типа человеческой натуры, с незапамятных времен, во всех костюмах, более или менее враждебно противостоящие друг другу. На протяжении всего Средневековья вплоть до нынешнего дня тянулась эта вражда, представляя собою существеннейшее содержание истории христианской церкви. Под какими угодно именами, но речь всегда идет о Платоне и Аристотеле. Мечтательные, мистические, платонические натуры создают христианские идеи и соответственные символы, черпая их в недрах своей души. Натуры практические, упорядочивающие, аристотелевские строят из этих идей и символов прочную систему, догматику и культ. В конце концов церковь приемлет в лоно свое оба эти вида натур, причем одни окапываются главным образом в светском духовенстве, другие – в монашестве, но и те и другие продолжают нескончаемую борьбу.
Г. Гейне.Германия, I[3]
1 В практической врачебной работе с нервнобольными мне уже давно бросилось в глаза, что, помимо множества индивидуальных различий в человеческой психологии, налицо также и различия типические, среди которых выделяются прежде всего два отдельных типа: я назвал их типом интровертным и типом экстравертным.
2 В наблюдениях за течением человеческой жизни мы видим, что судьба одного человека обусловлена объектами его внешнего интереса, тогда как судьба другого в большей степени связана с его собственным внутренним «я», с его собственным субъектом. В известной степени все мы склонны трактовать происходящие события с точки зрения собственного типа.
3 Это обстоятельство я намеренно отмечаю с самого начала, чтобы заранее предотвратить возможные недоразумения. Разумеется, оно существенно затрудняет всякую попытку общего описания типов. Следует полагаться, в общем-то, на доброжелательность читателя, если я хочу быть правильно понятым. Было бы куда проще, знай каждый читатель сам, к какой категории, к какому типу он принадлежит. Но определить, каков конкретно тип у человека, нередко чрезвычайно непросто, в особенности если речь идет о нас самих. Суждения о собственной личности обыкновенно предельно расплывчаты. Такое размывание суждений распространено столь широко потому, что каждому выраженному типу свойственна особая склонность к компенсации односторонности этого типа, – склонность биологически целесообразная, диктуемая непрерывным стремлением обрести и поддерживать психическое равновесие. Компенсация же порождает вторичные черты, или вторичные типы, рисующие картину, которая едва поддается истолкованию; подчас человек даже принимается отрицать само существование типов и признает лишь индивидуальные различия.
4 Все перечисленные затруднения необходимо подчеркнуть ради оправдания некоторого своеобразия дальнейшего изложения. Со стороны может показаться, что проще всего было бы описать несколько конкретных случаев и проанализировать их бок о бок. Но каждому человеку присущи оба механизма – экстраверсии и интроверсии; только относительное преобладание того или другого определяет тип. Чтобы придать картине необходимую полноту, пришлось бы ее сильно ретушировать, что обернулось бы в итоге более или менее благочестивым обманом. Вдобавок совокупность психологических реакций человека столь многообразна, что мне вряд ли удалось бы описать ее содержательно и абсолютно верно. По указанной необходимости я вынужден ограничиться изложением принципов, выведенных мною из множества единичных фактов наблюдения. Но уточню, что речь идет не о deductio a priori[4], как может показаться, а о дедуктивном изложении эмпирически приобретенных прозрений. Эти прозрения позволят, как я надеюсь, прояснить суть дилеммы, которая не только в аналитической психологии, но и в других областях науки, а прежде всего в личных отношениях между людьми, вела и продолжает вести к недоразумениям и раздорам. Прозрения показывают, что существование двух различных типов есть давно известный факт, который в той или другой форме отмечался знатоками человеческой природы и подвергался рассмотрению глубокими мыслителями – в частности, Гёте, чьей могучей интуицией данный факт представал общим принципом систолы и диастолы[5]. Имена и понятия, под которыми скрывались механизмы интроверсии и экстраверсии, крайне разнообразны, причем все они приспособлены к точке зрения того или иного наблюдателя. Но, несмотря на различие формулировок, мы постоянно видим общий основополагающий принцип, а именно: в одном случае движение интереса направлено на объект, а в другом – оно отвращается от объекта и направляется к субъекту, на собственные психические процессы. В первом случае объект выступает словно магнит для наклонностей субъекта, в значительной мере определяет поведение субъекта и даже отчуждает того от самого себя, так изменяет его качества через усвоение объекта, что можно счесть, будто объект имеет некое важное, предельное значение для субъекта, выступает абсолютным предопределением и особым смыслом жизни, будто субъект должен полностью предаться объекту. Во втором случае, наоборот, субъект является и остается центром всякого интереса. Можно сказать, вся жизненная энергия будто направлена в сторону субъекта и потому мешает объекту приобретать сколько-нибудь значительное влияние. Выглядит так, словно энергия уходит от объекта, словно уже субъект – тот самый магнит, который притягивает к себе объект.
5 Не так-то просто охарактеризовать такое двойственное отношение к объекту и описать его удовлетворительно, избежав при этом опасности парадоксальных формулировок, способных скорее затемнить, нежели разъяснить интересующий нас вопрос. В самых общих чертах можно сказать, что интровертная точка зрения всегда стремится поставить «я» и субъективный психологический процесс над объектом – или, по крайней мере, утвердить их по отношению к объекту. Такая установка наделяет субъекта ценностью, превосходящей ценность объекта, и объект, следовательно, становится второстепенным; более того, порой он воспринимается как внешний объективный знак для субъективного содержания, как воплощение идеи, зато последняя видится существенной. Если объект воплощает какое-либо чувство, то главным признается переживание чувства, а не сам объект как таковой. Экстравертная точка зрения, напротив, ставит субъекта в подчинение объекту, причем объект наделяется преобладающей ценностью. Субъект второстепенен, субъективный процесс подчас трактуется как помеха или как своего рода придаток объективных событий. Ясно, что психология, исходящая из этих противоположных точек зрения, должна разделиться на два противоположных направления: одна рассматривает все на свете по собственной ситуации, тогда как другая опирается на объективные события.
6 Эти противоположные установки сами по себе суть взаимодополняющие механизмы: в одном случае имеем диастолическое расширение и захват объекта, в другом же – систолическое сосредоточение и отделение энергии от захваченного объекта. Каждому человеку присущи оба механизма, которые служат выражением его естественного жизненного ритма, и наверняка не случайно Гёте образно передал этот ритм как сердечную деятельность. Ритмическое чередование обеих форм психической деятельности должно, полагаю, соответствовать нормальному течению жизни. Но внешние затруднения, в условиях которых мы живем, а также еще более значимые особенности нашего индивидуального психического устройства редко допускают плавное распределение потока психической энергии. Внешние обстоятельства и внутренние предрасположенности часто благоприятствуют работе одного механизма в ущерб работе другого. Разумеется, один механизм в результате начинает возвышаться над другим, и, если такое состояние по определенным причинам затягивается, складывается тип, то есть привычная установка, когда один механизм постоянно господствует, пусть другой не подавлен целиком и остается безусловной принадлежностью всего психического хозяйства (Lebenstätigkeit). Поэтому невозможен какой-либо чистый тип – в том смысле, чтобы господствовал исключительно один механизм при полной атрофии другого. Типическая установка всегда подразумевает лишь относительное преобладание того или иного механизма.
7 Признание типов интроверсии и экстраверсии позволяет, в первую очередь, различать две обширные группы психологических индивидуумов. Но такое объединение носит поверхностный и общий характер, допускает лишь самое широкое различение. Более внимательное изучение индивидуальной психологии представителей любой из этих групп тотчас выявляет немалые различия между отдельными личностями в составе одной и той же группы. Поэтому придется сделать следующий шаг в нашем исследовании, если мы предполагаем установить характер отличий между индивидуумами одной и той же группы. Опыт убедил меня в том, что отдельных людей возможно распределять не только по широким признакам экстраверсии и интроверсии, но и по основным психическим функциям. Внешние обстоятельства и внутренняя предрасположенность вызывают преобладание в конкретном человеке экстраверсии или интроверсии, а также способствуют преобладанию у индивидуума одной из основных функций над прочими. Опираясь на опыт, основными психологическими функциями – такими, которые существенно отличаются от всех прочих, – я признаю мышление, чувство, ощущение и интуицию. Если одна из этих функций привычно господствует над другими, то формируется соответствующий тип. Поэтому я различаю мыслительный, чувствующий, ощущающий и интуитивный типы. Каждый из этих типов, кроме того, может быть интровертным или экстравертным, в зависимости от отношения к объекту, о чем говорилось выше. В своей предшествующей работе о психологических типах[6] я не проводил это различение, но отождествлял мыслительный тип с интровертным, а чувствующий – с экстравертным. При более глубоком изучении вопроса это отождествление оказалось несостоятельным. Во избежание недоразумений попрошу читателя не упускать из виду указанное различие. Ради ясности, необходимой для понимания столь сложных вопросов, последний раздел настоящей книги посвящен определению психологических понятий, мною употребляемых.
I.
Проблема типов в истории античной и средневековой мысли
1. Психология в Античности: Тертуллиан и Ориген
8 Психология существует с тех самых пор, как существует известный нам мир, однако объективная психология возникла лишь недавно. О науке былых времен можно сказать, что субъективной психологии в ней тем больше, чем меньше психологии объективной. Поэтому сочинения древних полны психологии, но содержат очень мало того, что можно признать объективной психологией. В немалой мере это объясняется своеобразием людских отношений в Античности и в Средние века. Древние имели склонность, если можно так выразиться, оценивать человека почти исключительно с биологической точки зрения; ярче всего это проявляется в их привычках и в античном своде законов. В Средние века – если допустить, что тогда вообще задумывались о человеческой ценности – прибегали к метафизической оценке окружающих, исходя из мысли о непреходящей ценности человеческой души. Такую метафизическую оценку можно рассматривать как компенсацию за античное мнение, но эта средневековая оценка столь же неблагоприятна, как и биологическая, для личностного восприятия, которое единственное способно выступать основанием объективной психологии.
9 Немало найдется тех, кто думает, будто психологию можно написать ex cathedra[7], но в наши дни все-таки преобладает убеждение, что объективная психология должна прежде всего опираться на наблюдение и опыт. Такая основа и вправду идеальна, будь она возможной. Вот только идеал и цель науки заключаются не в том, чтобы давать по возможности точное описание фактов (наука не в состоянии соперничать с кинематографическими камерами и фонографами); ее цель состоит в установлении ряда законов, представляющих собой сокращенное выражение множества разнообразных процессов, которые, как считается, имеют между собой нечто общее. Эта цель выходит за пределы эмпирики благодаря научному познанию, которое, несмотря на свою всеобщую и доказанную значимость, всегда останется продуктом субъективной психологической констелляции[8] исследователя. В любых научных теориях и понятиях присутствует много личного и случайного. Да и личностное уравнение[9] бывает не только психофизическим, но и психологическим. Мы видим цвета, но не видим длины световых волн; этот общеизвестный факт психологам следует трактовать как чрезвычайно важный. Воздействие личностного уравнения начинается уже в ходе наблюдения. Мы видим в объекте то, что лучше всего могли бы увидеть. Вот почему обыкновенно замечают «сучок в чужом глазу». Он, конечно, имеется, но наблюдатель пренебрегает бревном в своем глазу, которое ему, безусловно, мешает. В так называемой объективной психологии не следует доверять принципу «чистого наблюдения», разве что мы смотрим сквозь очки хроноскопа, тахистоскопа[10] и прочих «психологических» приборов. Тем самым можно и оградить себя от чрезмерного избытка данных психологического опыта.
10 Но личностное психологическое уравнение проявляет себя гораздо ярче тогда, когда мы излагаем подробно свои наблюдения, не говоря уже о понимании и абстрагировании эмпирического материала! В психологии более чем где-либо неизбежно приходится требовать, чтобы наблюдатель соответствовал объекту наблюдения – в том смысле, чтобы он смотрел не только субъективно, но и объективно. Нельзя, конечно, настаивать на том, чтобы он смотрел только объективно, – это попросту невозможно. Мы должны довольствоваться хотя бы тем, что он не смотрит слишком уж субъективно. Сходство субъективных наблюдений и толкований с объективными фактами доказывает правильность истолкования лишь постольку, поскольку оно не притязает на всеобщую значимость, поскольку оно признается значимым лишь для конкретной стороны объекта. В таком смысле бревно в собственном глазу даже способствует нахождению сучка в глазу ближнего. Но оно вовсе не служит доказательством того, что в глазу у ближнего нет никакого сучка. Расстройство зрения, увы, легко подает повод к всеобщей теории, по которой всякий сучок принимает размер бревна.
11 Признание субъективной обусловленности знания как такового, а в особенности знания психологического, является первым условием для научно обоснованной и беспристрастной оценки психики, отличной от психики наблюдающего субъекта. Но соблюсти это условие возможно лишь тогда, когда наблюдатель в точности знает природу и свойства собственной личности. А это становится ему известным, когда он в значительной мере освободится от уравнительного влияния коллективных мнений и вследствие этого достигнет ясного понимания собственной индивидуальности.
12 Чем дальше в историю мы заглядываем, тем четче видится, что личность мало-помалу исчезает под покровом коллективности. А если наконец обратиться к первобытной психологии, то мы не найдем и следа представлений об индивидуальном. Вместо индивидуальности присутствует лишь зависимость от коллектива, которую Леви-Брюль называл participation mystique[11]. Но коллективная установка мешает познанию и оценке психологии других, ибо коллективно ориентированный разум способен мыслить и чувствовать только посредством проекции. Наше понятие «индивидуум» является сравнительно недавним завоеванием истории духа и культуры. Потому ничуть не удивительно, что ранняя всемогущая коллективная установка почти полностью устранила возможность всякой объективной психологической оценки индивидуальных различий, всякого научного объективирования индивидуальных психологических процессов. Из-за этого недостатка психологического мышления познание сделалось «психологизированным», то есть чрезмерно насытилось проецируемой психологией. Наглядными примерами тому могут послужить первые попытки философского объяснения мироздания. Развитие индивидуальности и последующая психологическая дифференциация человека идут рука об руку с освобождением от психологии в объективной науке.
13 Эти размышления могут разъяснить, почему объективная психология столь скудно представлена в материалах, дошедших до нас из древних времен. Разделение на четыре темперамента, унаследованное нами от античности, едва ли можно признать психологическим типизированием, потому что темпераменты суть всего-навсего психофизические характеристики. Однако отсутствие нужных сведений не означает, что в классической литературе не найти следов воздействия тех психологических пар противоположностей, которые здесь обсуждаются.
14 В философии гностиков выделяются три типа, быть может, соответственно с тремя основными психологическими функциями – мышлением, чувством и ощущением. Мышлению можно сопоставить пневматиков (pneumatikoi), чувству – психиков (psychikoi), а ощущению – гиликов (hylikoi)[12]. Подчиненное положение психика соответствует духу гностицизма, который, в отличие от христианства, настаивал на исключительной ценности познания. Христианские принципы любви и веры очевидно призваны ослаблять познание. В христианстве пневматика поэтому не спешили бы ценить, поскольку он отличался бы лишь владением гнозисом, знанием.
15 На ум приходит еще долголетняя и ожесточенная борьба начальной церкви против учения гностиков (в этой борьбе тоже ощущалось различение типов). При несомненном преобладании практического направления в раннем христианстве человек-интеллектуал неизменно оставался в одиночестве, если только он не следовал своему боевому задору и не отдавался всецело апологетической полемике. Правило веры (Regula fidei[13]) было слишком строгим и не допускало никакого самостоятельного движения. Более того, оно не имело позитивного интеллектуального содержания. В нем заключалось мало мыслей, да и те были чрезвычайно ценными с практической точки зрения, но сковывали мышление. Человек мыслящий куда сильнее страдал от sacrificium intellectus[14], нежели человек чувствующий. Поэтому вполне понятно, что преимущественно интеллектуальные построения гностицизма (ценность которых для нашего современного умственного развития не только не утратилась, но даже значительно возросла), неудержимо привлекали интеллектуалов в лоне церкви. Для таких людей они являлись подлинным мирским соблазном. Особенно досаждал церкви докетизм[15], утверждавший, будто Христос обладал лишь видимостью плоти и что все Его земное существование и страдание тоже было видимостью. Это утверждение выдвигало мышление на передний план в ущерб человеческим чувствам.
16 Мы вправе сказать, что яснее всего олицетворяют борьбу с гнозисом две фигуры, значимые и как отцы церкви, и как самостоятельные личности. Речь идет о Тертуллиане и Оригене, которые жили в конце II века н. э. Шульц говорит о них так:
Один организм способен воспринимать питательное вещество почти без остатка и вполне его усваивать, а другой отторгает его обратно почти без остатка со всеми признаками страстного сопротивления. Столь же противоположно откликались на гнозис Ориген и Тертуллиан. Их реакции не только соответствовали характеру и миросозерцанию каждого, но и были предельно важны для оценки положения гнозиса в духовной жизни и религиозных течениях той эпохи[16].
17 Тертуллиан родился в Карфагене около 160 года н. э. Он был язычником и лет до тридцати пяти предавался чувственной жизни, царившей в его городе, а затем сделался христианином. Он был автором многочисленных сочинений, которые с несомненной ясностью обрисовывают его характер, главным образом нас интересующий. Особенно ярко выступает перед нами его беспримерно благородное рвение, священный огонь в его груди, страстный темперамент и глубокая проникновенность его религиозного понимания. Ради истины, однажды им признанной, он стал фанатиком, поистине односторонним, обладал выраженным боевым духом, был беспощаден к противникам и обретал победу лишь в полном поражении соперников. Его язык разил врага, точно меч, с жестоким мастерством. Он был создателем церковной латыни, что служила людям более тысячи лет. Именно он создал вдобавок терминологию ранней церкви. «Приняв какую-либо точку зрения, он последовательно двигался с нею до крайнего предела, словно гонимый сонмом бесов, даже тогда, когда правота давно забывалась и всякий разумный порядок лежал разбитым у его ног»[17]. Страстность его мышления была столь велика, что он постоянно отчуждал себя от того, чему раньше отдавался всеми фибрами души. Потому-то его этика выглядит до крайности суровой. Он предписывал искать мученичество, а не избегать страданий; не допускал второго брака и требовал, чтобы женщины постоянно скрывали свои лица. Против гнозиса, который есть тяга к мышлению и познанию, он боролся с фанатической беспощадностью, равно как и против философии и науки, в сущности мало отличавшихся от гнозиса. Тертуллиану приписывают тонкое признание: Credo quia absurdum est[18]. Исторически это не совсем верно – он сказал лишь: «Et mortuus est Dei protsus credibile est, quia ineptum est. Et sepultus resurrexit; certum est, quia impossibile est»[19].
18 Вследствие остроты ума он понимал всю ничтожность философских и гностических построений, каковые с презрением отвергал. Взамен того он ссылался на свидетельства своего внутреннего мира, на внутренние факты, составляющие одно целое с его верой. Этим фактам он придавал зримые очертания и стал тем самым творцом умопостигаемых связей, по сей день лежащих в основе католического вероучения. Иррациональное внутреннее переживание обладало для него сущностной и динамической природой; это был для него принцип, основание для противопоставления миру, а также общепризнанным науке и философии. Приведу собственные слова Тертуллиана:
Я прибегаю к новому свидетельству, которое, впрочем, известнее всех сочинений, действеннее любого учения, доступнее любого издания; оно больше, чем весь человек, – хотя оно и составляет всего человека. Откройся нам, душа! Если ты божественна и вечна, как считает большинство философов, ты тем более не солжешь. Если ты не божественна в силу своей смертности (как представляется одному лишь Эпикуру), ты тем более не будешь лгать, – сошла ли ты с неба или возникла из земли, составилась ли из чисел или атомов. Начинаешься ли вместе с телом или входишь в него потом, – каким бы образом ты ни делала человека существом разумным, более всех способным к чувству и знанию. Я взываю к тебе, – но не к той, что изрыгает мудрость, воспитавшись в школах, изощрившись в библиотеках, напитавшись в академиях и аттических портиках. Я обращаюсь к тебе – простой, необразованной, грубой и невоспитанной, какова ты у людей, которые лишь тебя одну и имеют, к той, какова ты на улицах, на площадях и в мастерских ткачей. Мне нужна твоя неискушенность, ибо твоему ничтожному знанию никто не верит[20].
19 Самоизувечение Тертуллиана, совершенное путем sacrificium intellectus, привело его к открытому признанию иррационального внутреннего переживания, истинной основы его веры. Необходимость религиозного процесса, которую ощущал внутри себя, он выразил в непревзойденной формуле: Anima naturaliter Christiana[21]. Из-за sacrificium intellectus для него утратили всякое значение философия и наука, а следовательно, и гнозис. В дальнейшем течении жизни вышеописанные черты его характера стали выступать еще резче. Когда церковь вынужденно осознала необходимость идти на компромиссы в угоду большинству, Тертуллиан возмутился и сделался горячим приверженцем фригийского пророка Монтана – экстатика, призывавшего полностью отвергнуть все мирское и стремиться к безусловной одухотворенности[22]. В ожесточенных памфлетах Тертуллиан критиковал политику папы Каликста I[23] и очутился, таким образом, вместе с Монтаном более или менее extra ecclesiam[24]. По сообщению блаженного Августина, он впоследствии будто бы рассорился с монтанистами и основал собственную секту.
20 Перед нами классический образец интровертного мышления. Неоспоримый и необыкновенно проницательный ум соседствовал в Тертуллиане с очевидной чувственностью. Процесс психологического развития, который мы называем специфически христианским, привел его к жертве, к уничтожению наиболее ценного органа, к той мифической идее, что заключается и в великом символе жертвоприношения Сына Божьего. Самым ценным органом Тертуллиана был интеллект, суливший ясное познание. Вследствие sacrificium intellectus он сошел с пути к чисто интеллектуальному развитию и, по необходимости, вынужден был признать основой своего существа иррациональную динамику собственных душевных глубин. Он наверняка возненавидел гностический мир мысли и его специфически интеллектуальную оценку динамических душевных глубин, потому что таков был тот путь, который пришлось отринуть для того, чтобы признать принцип чувства.
21 Полной противоположностью Тертуллиану является Ориген. Он родился в Александрии около 185 года н. э. Его отец был христианским мучеником, а сам он вырос в совершенно своеобразной духовной атмосфере, в которой переплетались и сливались воедино мысли Востока и Запада. С большой любознательностью он усваивал все, достойное изучения, и воспринимал совокупность неисчерпаемого александрийского мира идей – христианских, иудейских, эллинистических и египетских. Он с успехом выступал в качестве учителя в школе катехизаторов. Языческий философ Порфирий, ученик Плотина, так отзывался о нем: «Войдя в разум и познакомившись с философией, он перешел к образу жизни, согласному с законами. Ориген – эллин, воспитанный на эллинской науке, – споткнулся об это варварское безрассудство, разменял на мелочи и себя, и свои способности к науке»[25].
22 Еще до 211 года состоялось самооскопление Оригена, о внутренних мотивах которого можно лишь догадываться – исторически они неизвестны. Как личность он пользовался большим влиянием, речь его очаровывала. Он был постоянно окружен учениками и целой толпой стенографов, ловивших драгоценные слова, что слетали с уст почитаемого учителя. Ориген известен как автор многочисленных сочинений и отменный наставник. В Антиохии он даже читал лекции по богословию матери императора Маммее[26]. В Кесарии он возглавлял школу. Его преподавательская деятельность многократно прерывалась далекими путешествиями. Он обладал необыкновенной ученостью и изумительной способностью тщательного исследования, отыскивал древние библейские рукописи и приобрел заслуженную известность своим разбором и критикой древних текстов. «Он был великим ученым, единственным истинным ученым в древней церкви», – говорит о нем Гарнак[27]. В противоположность Тертуллиану Ориген не отвергал влияния гностицизма – напротив, он даже ввел это учение, пусть и в смягченной форме, в лоно церкви (по крайней мере, таково было его стремление). Можно даже сказать, что по своему мышлению и основным воззрениям он сам был христианским гностиком. Его отношение к вере и знанию Гарнак определяет следующими психологически важными словами:
Незыблемое, неизменное добро – это божество со всей полнотой своих излучений; временно низведенное в материю небесное добро – это дух человеческий; возвышенная сила, освобождающая его, – это Христос. Евангельская история не есть история Христа, а собрание аллегорических изложений великой истории Бога-мира. У Христа на деле и нет истории; Его появление в этом мире запутанности и затмения составляет Его деяние, а результаты этого деяния – познание духом самого себя. Познание это – сама жизнь. Но оно зависит от воздержания и от подчинения основанным Христом мистериям, в которые человек принимается в общение с praesens numen[28] и которые таинственным образом завершают процесс очищения духа от чувственности. В этом очищении следует принимать и активное участие; поэтому воздержание – главное требование. Таким образом, христианство – спекулятивная философия, освобождающая дух («познание спасения») просвещением и освящением его и направляющая его к достойной жизни[29] (amor et visio[30]).
23 Богословие Оригена, в отличие от богословия Тертуллиана, было по своей сути философским и вполне укладывалось в рамки философии неоплатонизма. В Оригене мы видим мирное и гармоничное слияние и взаимопроникновение двух сил – греческой философии и гностицизма, с одной стороны, и мира христианских идей – с другой. Но такая широкая и дерзкая терпимость и справедливость навлекли на Оригена осуждение церкви. Впрочем, окончательный приговор ему вынесли только после смерти, наступившей от последствий истязаний и пыток: старца Оригена пытали во времена гонения на христиан при императоре Деции. В 399 году папа Анастасий I всенародно предал его анафеме, а в 543 году лжеучение Оригена прокляли на соборе, созванном Юстинианом[31]; это проклятие неизменно подтверждалось на позднейших церковных соборах.
24 Ориген – классический образец экстравертного типа. Его основное внимание направлено на объект, это явствует как из добросовестного изучения объективных фактов и условий, их вызывающих, так и из формулировки верховного принципа – amor et visio Dei. Христианство на пути своего развития встретилось в лице Оригена с таким типом, первоосновой которого является отношение к объектам; символически это отношение искони выражалось в сексуальности, вот почему некоторые нынешние теории все существенные психические функции сводят к сексуальности. Кастрация, следовательно, является надлежащим выражением жертвы, когда расстаются с важнейшей функцией. В высшей степени показательно, что Тертуллиан совершил sacrificium intellectus, тогда как Ориген довольствовался sacrificum phalli[32]: христианский процесс требует полного уничтожения чувственной привязанности к объекту – иными словами, требует пожертвовать наиболее ценной функцией, ценнейшим имуществом, наиболее сильным влечением. С биологической точки зрения жертва приносится во имя спокойствия; психологически же она расторгает старые связи во имя новых возможностей духовного развития.
25 Тертуллиан пожертвовал интеллектом, потому что именно интеллект особенно сильно привязывал его к мирскому. Он боролся с гностицизмом, потому что учение гностиков олицетворяло в его глазах ложный путь в интеллектуальность, подразумевавшую также и чувственность. Соответственно с этим фактом мы видим, что гностицизм разветвился в двух направлениях: гностики одного направления стремились к чрезмерной одухотворенности, а сторонники другого направления погрязли в этическом анархизме, в абсолютном либертинаже[33], который не стыдился ни единой формы разврата, ни даже самой отвратительной извращенности и бесстыдной разнузданности. Бытовало разделение на энкратитов (воздержанных), с одной стороны, и на антитактов и антиномистов (противников порядка и законности) – с другой; последние грешили, так сказать, из принципа и предавались разнузданному распутству умышленно. К их числу принадлежали николаиты, архонтики и прочие, равно как и метко прозванные борбориты[34]. Сколь тесно соприкасались мнимые различия, видно на примере архонтиков, среди которых одна и та же секта распадалась на энкратиков и антиномистов, причем оба направления действовали логично и последовательно. Кто желает узнать возможные этические последствия смелого и широкого интеллектуализма, пусть изучит историю гностических нравов. Тогда sacrificium intellectus как средство станет намного понятнее. Эти люди были последовательны не только в теории, но и на практике и изживали до последних пределов абсурда все измышления своего интеллекта.
26 Ориген пожертвовал чувственной связанностью с миром и ради этой жертвы оскопил самого себя. Для него специфической угрозой был не интеллект, а чувство и ощущение, через которые устанавливалась связь с объектом. Кастрацией он избавил себя от чувственности, присущей гностицизму, и потому без страха предался очарованию гностического мышления. А Тертуллиан пожертвовал интеллектом и отвернулся от гнозиса, но тем самым достиг такой глубины религиозного чувства, какую тщетно искать у Оригена. Шульц говорит о Тертуллиане: «Оригена он превосходил хотя бы в том, что проживал каждое свое слово в сокровеннейших недрах души; его увлекал не рассудок, как другого, а сердечный порыв. С другой стороны, он уступал Оригену в том, что, будучи самым страстным среди всех мыслителей, доходил чуть ли не до отрицания всякого знания, а свою борьбу с гнозисом превращал едва ли не в борьбу с человеческой мыслью вообще»[35].
27 Мы видим здесь, что в процессе развития христианства самая сущность первоначального типа становится своей противоположностью: Тертуллиан, глубокий мыслитель, делается человеком чувства; Ориген же становится ученым и всецело теряет себя в интеллектуальности. Нетрудно, конечно, логически все перевернуть и заявить, что Тертуллиан исходно был человеком чувства, а Ориген – человеком мысли. Но такой разворот вовсе не отменяет сам факт типического различия и отнюдь не объясняет, почему Тертуллиан видел своего опаснейшего врага в области мысли, а Ориген – в области сексуальности. Да, можно сказать, что они оба ошибались, и сослаться в качестве довода на роковую неудачу, к которой в конечном счете свелась жизнь обоих. Но тогда пришлось бы допустить, что каждый пожертвовал тем, что ему было наименее дорого, то есть некоторым образом совершил обманную сделку с судьбой. Тут есть некое основание, которое видится весомым. Ведь известно, что даже среди первобытных людей встречаются хитрецы, которые, подходя к своему фетишу с черной курицей под мышкой, говорят: «Гляди, я приношу тебе в жертву прекрасную черную свинью!» Однако мое мнение таково, что объяснение, которое во что бы то ни стало норовит обесценить какой-либо важный факт, не всегда и не при всех обстоятельствах бывает верным, даже если оно кажется нам вполне «биологическим». Из тех подробностей, что история сохранила для нас в отношении этих двух великих представителей человеческого духа, мы должны заключить следующее: в своей жизни они были предельно честны, их обращение в христианство было истинным, и тут не приходится говорить о хитрой проделке или об обмане.
28 Мы не слишком отвлечемся от следования по выбранному пути, если на примере настоящего случая попробуем вообразить то психологическое значение, какое имеет нарушение естественного потока наших влечений – в данном случае со стороны христианского процесса жертвования. Из сказанного выше очевидно, что обращение является одновременно переходом на иную установку. Это становится ясным и по происхождению того главного мотива, который привел к обращению; еще выясняется, насколько Тертуллиан был прав, заявляя, что душа – naturaliter Christiana. Естественные влечения следуют, как и все в природе, линии наименьшей затраты сил. Но бывает так, что один человек обладает заметными способностями в одной области, а другой человек – в другой. Или же случается, что приспосабливание к окружающей среде в детстве требует то большей сдержанности и вдумчивости, то большего сочувствия и соучастия, смотря по тому, каковы родители ребенка и обстоятельства его жизни. Так автоматически формируется предпочтительная установка, благодаря которой и образуются различные типы. Поскольку каждый человек, будучи относительно устойчивым существом, обладает всеми основными психологическими функциями, то для полного приспосабливания психологически необходимо их равномерно применять. Должна же быть какая-то причина для существования различных способов психологического приспосабливания, и ясно, что недостаточно всего одного пути, потому что объект, воспринятый, например, только мыслью или только чувством, будет постигнут лишь отчасти. При односторонней (типической) установке возникает неполнота психологического приспосабливания, которая на протяжении жизни все возрастает, пока рано или поздно не нарушается сама способность к приспосабливанию, что толкает субъекта на поиски компенсации. Правда, компенсация достигается лишь посредством устранения той установки, что господствовала до сих пор. Эта жертва оборачивается временным накоплением энергии и переполнением каналов, сознательно еще не использованных, но бессознательно уже подготовленных. Неполнота приспосабливания, causa efficiens[36] для процесса обращения, субъективно ощущается как смутная неудовлетворенность. Именно так обстояло дело в самом начале нашего летосчисления. Необычайная потребность в искуплении овладела человечеством и привела к неслыханному доселе расцвету всех возможных и невозможных религиозных культов в Древнем Риме. Там не было недостатка и в ранних сторонниках теории «проживания жизни» (Auslebetheorie[37]), которые вместо биологических доводов ссылались на данные науки тех времен. Они тоже при этом изощрялись в умозрительных догадках о том, почему человеку живется плохо; однако каузализм той эпохи был несколько шире каузализма нашей современной науки: тогда искали причины не только в детстве, но и в космогонии, измышляли самые разнообразные системы в доказательство событий на заре человечества – мол, вот причины невыносимых людских страданий.
29 Жертвы, принесенные Тертуллианом и Оригеном, были, на наш вкус, чрезмерными, но они, безусловно, соответствовали духу времени, духу полной конкретности. В согласии с этим духом гностики принимали собственные видения за саму реальность или, по крайней мере, за нечто, прямо к ней относящееся; потому-то для Тертуллиана реальность внутреннего чувства была объективно значимой. Гностики проецировали субъективное внутреннее восприятие смены установки в виде космогонической системы и верили в объективную реальность ее психологических образов.
30 В своей работе «Метаморфозы и символы либидо»[38] я оставил открытым вопрос об источнике особого направления либидо в христианском вероучении. В той же работе я рассуждал о расщеплении либидо на две половины, направленные друг против друга. Объясняется это односторонностью психологической установки, столь обширной, что компенсация из недр бессознательного становится насущной необходимостью. Гностическое движение в первые века Новой эры особенно ярко обозначило роль бессознательных содержаний в миг получения компенсации. Само христианство знаменует в известном смысле разрушение и жертвоприношение античных культурных ценностей, то есть классической установки. Вряд ли нужно доказывать сегодня, что совершенно безразлично, обсуждаем ли мы текущие события или то, что было 2000 лет назад.
2. Богословские споры в раннехристианской церкви
31 Совсем не исключено, что мы отыщем противопоставление типов и в истории ересей и расколов в столь богатой спорами церкви ранних христиан. Эбиониты, или иудействующие христиане[39] (тождественные, быть может, с первыми христианами вообще), веровали в исключительно человеческую природу Христа и считали его сыном Марии и Иосифа, лишь впоследствии получившим посвящение через Духа Святого. В этом они совершенно противоположны докетистам, и следствия этого противостояния продолжали ощущаться еще долгое время спустя. Конфликт снова вышел на поверхность, пусть в измененной форме, около 320 года вместе с арианской ересью, которую можно назвать доктринальным спором с важными церковно-политическими последствиями. Арий отрицал завет ортодоксальной церкви о том, что Христос τώ Πατρί όµοούσιος (равный Отцу), и заявлял, что правильно считать его τώ Πατρί όµοούσιος (сходным с Отцом). При более внимательном изучении истории великого арианского спора об омоусии и омойусии (единосущие Христа с Богом и подобие Христа Богу) станет ясно, что омойусия носит отпечаток более чувственный, более доступный человеческому восприятию, в отличие от чисто умозрительной и абстрактной точки зрения омоусии. Да и восстание монофизитов (утверждавших абсолютное единство естества Христова) против диофизитской формулы, одобренной на Халкедонском вселенском соборе (о неделимой целости двух естеств в Иисусе, о слиянии человеческого и божественного естества в одном теле), можно, опять-таки, трактовать как противопоставление абстрактного и невообразимого чувственному натурализму диофизитов.
32 Вместе с тем становится поразительно ясным, что в арианском движении и в споре между монофизитами и диофизитами догматические препирательства были важны лишь для тех умов, которые первоначально ими занялись, но отнюдь не для многочисленной массы, которая тоже принимала участие в спорах. Столь щекотливый вопрос даже в те времена не мог служить побудительной силой для масс, ибо те откликались, скорее, на проблемы политической власти, ничего общего не имевшие с богословскими разногласиями. Если различение типов тут вообще имело хоть какое-то значение, то лишь постольку, поскольку оно позволяло вводить в употребление броские призывы, облекавшие грубые инстинкты толпы в красивую обертку. Но отсюда вовсе не следует, что для тех, кто развязал этот спор, вопрос о гомоусии и гомойусии был второстепенным. За этим спором скрывалось историческое и психологическое различие между верованием эбионитов в Христа как сугубого человека с относительной (мнимой) божественностью и верованием докетов в сугубого Бога-Христа, обладающего лишь видимостью плоти. А под этим слоем прятался более глубокий психологический раскол: одна сторона придавала главную ценность и главное значение всему, что воспринимается чувственно и субъектом чего – хотя и не всегда – является человеческое и личностное или, по крайней мере, спроецированное человеческое ощущение; другая же сторона возвышала абстрактное и внечеловеческое, где субъект – это функция, то есть восхваляла объективный естественный процесс, протекающий согласно безличным законам, по ту сторону человеческих ощущений и как их фактическая основа. Первая точка зрения жертвовала единичной функцией в пользу функционального комплекса, воплощенного в человеке, тогда как вторая пренебрегала человеком как неизбежным субъектом в пользу единичной функции. При этом сторонники обеих точек зрения отрицали то, в чем их противники усматривали главную ценность. Чем решительнее приверженцы обоих взглядов отождествляли себя со своими убеждениями, тем сильнее они старались – быть может, с наилучшими намерениями – взаимно навязать друг другу свое мнение, подвергая поруганию ценности противников.
33 Другим проявлением конфликта выступает, насколько можно судить, пелагианский раскол[40] начала V столетия. Тертуллиан глубоко прочувствовал внутренний опыт, по которому человек подвержен греху, даже окрестившись; это ощущение было присуще и Августину, у которого вообще много общего с Тертуллианом и который выдвинул предельно пессимистическое учение о первородном грехе: мы все унаследовали от Адама concupiscentia[41]. Этому первородному греху Августин противопоставлял искупляющую силу Божьей благодати, а заведует средствами искупления созданная попущением Господа церковь. При таком понимании ценность человеческой личности низводится до минимума. Человек, в сущности, оказывается просто-напросто жалким и порочным существом, обреченным сделаться добычей дьявола, если его не спасет Божья благодать при посредстве искупительной силы церкви. Тем самым уничтожалась не только ценность личность, но также нравственная свобода и самоопределение человека, а одновременно возрастали ценность и значимость церкви, что вполне соответствует программе августиновского «Civitas Dei»[42].
34 Против столь гнетущего понимания человеческой участи снова и снова восставали порыв к свободе и ощущение нравственной ценности человека – ощущение, которое было не заглушить надолго даже самым глубоким размышлением и самой строгой логикой. Правоту этого ощущения постарались доказать британский монах Пелагий и его ученик Целестин. Их учение опиралось на признание нравственной свободы человека как данности. Показателем психологического родства пелагианской и диофизитской точек зрения является то обстоятельство, что преследуемых сторонников Пелагия привечал Несторий, митрополит Константинопольский. Несторий настаивал на разделении двух естеств в Христе, в противоположность учению святителя Кирилла Иерусалимского о единосущии Христа как богочеловека (χριστοτόκος). Еще Несторий отказывался считать Деву Марию богородицей (Θεοτόκος) и признавал в ней лишь христородицу (Θεοδόχος). Отчасти обоснованно он видел в почитании Марии как Богоматери следы язычества. От этих прений пошел несторианский спор, который в конце концов привел к расколу и отпадению несторианской церкви.
3. Проблема пресуществления
35 Все эти споры закончились вместе с великими политическими потрясениями – падением Римской империи и гибелью античной цивилизации. Но когда, несколько веков спустя, в мире вновь наступило некоторое спокойствие, характерные психологические различия понемногу начали вновь проявляться, на первых порах робко, а затем все увереннее по мере развития культуры. Правда, треволнения ранних христиан успели забыться; им на смену пришли новые формы, но под теми скрывалась все та же психология.
36 В середине IX века монастырский настоятель Пасхазий Радберт обнародовал свое сочинение, в котором отстаивалось учение о пресуществлении, гласящее, что во время причастия вино и хлеб превращаются в истинную кровь и плоть Христовы. Хорошо известно, что это учение стало догматом, по которому превращение совершается «vere, realiter, substantialiter» (истинно, в действительности, субстанциально), то есть accidentia[43] (хлеб и вино) сохраняют привычный вид, но в сущности своей они становятся подлинными плотью и кровью Христа. Против такой крайней конкретизации символа дерзнул выступить монах по имени Ратрамн из того же монастыря, настоятелем которого был Радберт. А самым решительным противником Радберта оказался Скот Эриугена, великий философ и смелый мыслитель начала Средних веков, который, по словам Газе, автора «Истории церкви», возвышался одиноко над своим временем, и проклятие церкви настигло его лишь несколько столетий спустя, в XIII веке[44]. В бытность настоятелем в Мальмсбери он был убит своими же монахами (ок. 889 г.). Скот Эриугена, для которого истинная философия выступала истинной религией, не был слепым последователем авторитета и положений, раз и навсегда установленных; в отличие от большинства своих современников, он умел мыслить самостоятельно. Разум он ставил выше авторитета, что было, наверное, неразумно, однако обеспечило ему признание у потомков. Даже авторитет отцов церкви, стоявших вне всякой критики, он признавал лишь постольку, поскольку в их сочинениях отыскивались крупицы сокровищ человеческого разума. Он утверждал, что причастие есть не что иное, как воспоминание о последней вечере Иисуса с учениками; с этим толкованием, полагаю, согласится всякий разумный человек. Но при всей ясности и человеческой простоте воззрений мыслителя, притом что он вовсе не умалял смысл и ценность священного обряда, Эриугена не сумел «вжиться» в дух своего времени, не сумел проникнуться желаниями мира вокруг, доказательством чего может послужить гибель от рук собственных товарищей. Он не имел успеха как раз потому, что мыслил последовательно и рационально, зато успех выпал на долю Радберта, который не умел мыслить, но исхитрился «пресуществить» символическое и значимое, сделать его грубым и чувственно осязаемым – именно потому, что чувствовал дух своего времени, жаждавший конкретизации религиозных переживаний.
37 Опять-таки, в этом споре нетрудно разглядеть те основные элементы, с которыми мы уже встречались в спорах, разобранных ранее: с одной стороны, абстрактная точка зрения, отвергающая смешение с конкретным объектом; с другой стороны, конкретизация, направленная на объект.
38 Мы ничуть не намерены осуждать, исходя из интеллектуального посыла, деятельность Радберта и односторонне обесценивать его личность. Да, современному уму препирательства вокруг этого догмата кажутся по-настоящему нелепыми, но отнюдь не следует отнимать у них всякую историческую ценность. В нем, разумеется, в избытке собрались всевозможные человеческие заблуждения, однако это не доказывает eo ipso[45] его малоценности. Прежде чем выносить суждение, нужно тщательно изучить воздействие этого догмата на религиозную жизнь той поры и постараться выяснить, чем наше время косвенно ему обязано. Нельзя упускать из виду, в частности, что именно вера в чудо требует отчуждения психического процесса от чувственного познания, причем отчуждение неизбежно сказывается на характере психического процесса. Направленное мышление становится положительно невозможным, если чувственное ценится слишком высоко. Приобретая чрезмерную ценность, оно мгновенно вторгается в психику, разрывая и разрушая функцию направленного мышления, которая подразумевает исключение всего несовместимого. Это простое рассуждение отражает практический смысл догматов и обрядов: они доказывают свою пользу не только с рассмотренной точки зрения, но и исходя из чисто приспособленческих «биологических» взглядов, не говоря уже о непосредственном, специфически религиозном воздействии на отдельного человека веры в этот догмат. При всем уважении к заслугам Скота Эриугены мы не вправе обесценивать деятельность Радберта. На этом примере следует усвоить, что мышление интроверта и мышление экстраверта нельзя мерить одним мерилом; обе формы мышления по отношению к своим целям принципиально различны. Можно даже сказать, что у человека интровертного мышление рационально, тогда как у экстраверта оно запрограммировано.
39 Эти мои размышления не должны, на чем я особенно настаиваю, служить окончательными выводами относительно индивидуальной психологии обоих фигур. То малое, что мы знаем о личности Скота Эриугены, не позволяет поставить ему верный «типический» диагноз; впрочем, можно предполагать, что он принадлежал к интровертному типу. О Радберте тоже почти ничего неизвестно. Мы лишь знаем, что он утверждал нечто, противоречившее обыденному мышлению; при этом, следуя логике чувства, он осознал потребности своего времени и высказал то, что сумели принять его современники. Этот факт указывает, скорее, на экстравертный тип. Ввиду недостатка иных сведений мы все же вынуждены отказаться от вынесения суждений, тем паче что все могло обстоять совершенно иначе, особенно по отношению к Радберту. В конце концов есть все основания полагать, что он принадлежал к интровертному типу, но мыслил скованно и не поднимался выше своего окружения, обладал логикой, лишенной оригинальности, и был способен выводить только элементарные умозаключения из готовых предпосылок в сочинениях отцов церкви. Напротив, Скот Эриугена мог бы принадлежать к экстравертному типу, будь у нас доказательства, что его окружала среда, сама по себе наделенная common sense[46] и потому воспринимавшая его утверждения как нечто подходящее и желаемое. Но таких доказательств не имеется. С другой стороны, мы знаем, сколь велика была в те времена жажда религиозного чуда. В этих условиях воззрения Скота Эриугены должны были казаться холодными и мертвящими, а вот мнение Радберта, напротив, производило наверняка животворящее впечатление, ибо оно конкретизировало желание каждого человека.
4. Номинализм и реализм
40 Спор о причастии, волновавший умы в IX веке, был первым признаком грядущей схватки, что разъединила людей на много веков и таила в себе исходно необозримые последствия. Речь идет о непримиримом конфликте между номинализмом и реализмом. Под номинализмом понимали мнение, что так называемые универсалии, то есть родовые или общие понятия, например красота, добро, животное, человек, суть не что иное, как nomina (имена), выражаясь иронически, flatus vocis[47]. Анатоль Франс говорит: «Что такое мышление? И как оно происходит? Мы мыслим словами; уже это само по себе – явление чувственное и возвращает нас к природе. Подумайте только: для построения теории об устройстве мироздания метафизик не располагает ничем, кроме усовершенствованного крика обезьян и собак»[48]. Вот крайний номинализм; в такую же крайность впадает Ницше, толкуя разум как «метафизику речи».
41 Реализм, напротив, утверждает существование universalia ante rem[49] и говорит, что общие понятия существуют как бы сами по себе, подобно платоновским идеям. Несмотря на очевидную близость к церковным догматам, номинализм привержен скептицизму, – он стремится отрицать обособленное существование, якобы свойственное абстрактным понятиям. Номинализм представляет собой в некотором роде научный скептицизм внутри самой косной догматики. Его понимание реальности неизбежно совпадает с чувственной реальностью мира, где индивидуальность отдельной вещи реальна в противопоставлении абстрактной идее. Строгий же реализм, наоборот, сосредоточивается на абстракциях, на идеях, на универсалиях, которые предшествуют (ante rem) вещам.
а) Проблема универсалий в античном мире
42 Как показывает ссылка на платоновское учение об идеях, корни конфликта следует искать в далеком прошлом. Несколько ядовитых выпадов у Платона (в частности: «Если не будешь особенно заботиться о словах, то к старости обогатишься умом» и «люди якобы изысканного ума»[50]) обращены к представителям двух родственных философских школ, отвергавших платоновский дух; имеются в виду киники и мегарцы. Вожак первой школы, Антисфен, отнюдь не чуждый сократовскому способу мышления и даже друг Ксенофонта, глубоко враждебно воспринимал прекрасный платоновский мир идей. Он даже составил памфлет против Платона, где непристойно переделал его имя в слово Σάυψν, означающее «подросток» или «мужчина», но в сексуальном отношении, так как слово σάυψν происходит от слова σάυη со значением penis; тем самым Антисфен, прибегая к проверенной временем проекции, исподволь намекал, чьи интересы он защищает, выступая против Платона. Мы видели, что для христианина Оригена такова была своего рода первооснова, олицетворявшая дьявола: пытаясь справиться с бесовским искушением, он оскопил себя, после чего беспрепятственно проник в пышный мир идей. Антисфен жил в дохристианскую эпоху, был язычником, и для него все то, чему фаллос искони служил символом (чувственное ощущение), было близко сердцу; это справедливо не только для самого Антисфена, но и для всей кинической школы, которая провозглашала необходимость возвратиться к природе. Можно выявить, пожалуй, целый ряд причин, по которым конкретное чувство и ощущение выдвигались у Антисфена на передний план: он был пролетарием (Proletarier)[51] и потому возводил свою зависть в добродетель; кроме того, он не был ίδαγενήσ, то есть чистокровным греком, а принадлежал к числу «пришлых». Он и преподавал за стенами Афин, причем, как подобало философу-кинику, щеголял своим пролетарским поведением. Вся его школа состояла из пролетариев или, по крайней мере, из людей «с периферии», что изощрялись в едкой критике традиционных ценностей.
43 Одним из наиболее выдающихся после Антисфена представителей этой школы был Диоген, именовавший себя Kyon («пес»); на его гробнице высечена в паросском мраморе собака. Он отличался горячей любовью к человеку, всем своим естеством стремился понимать людей, однако беспощадно высмеивал все то, что чтили как святыни его современники. Он потешался над страхами зрителей в театре, когда показывали трапезу Фиеста[52] или повествовали о кровосмесительной трагедии Эдипа; мол, в антропофагии нет ничего дурного, ибо человеческая плоть вовсе не занимает особого положения среди мяса других животных, а в кровосмесительной связи нет беды, чему поучительным примером могут послужить наши домашние животные. Мегарская школа во многом была родственной школе киников. Вспомним, что Мегара – неудачливая соперница Афин. На заре своих дней она обещала много, основала Византий и вторую Мегару (Гиблейскую) на Сицилии, но начались внутренние раздоры, из-за которых Мегара быстро дошла до полного упадка, уступив Афинам во всех отношениях. Грубые крестьянские шутки получили в Афинах прозвище «мегарских острот». Именно зависть побежденных, впитанная с молоком матери, объясняет множество характерных черт мегарской философии. Эта философия, как и философия киников, отличалась крайним номинализмом и была прямо противоположной реализму идей у Платона.
44 Другим выдающимся представителем этой школы был Стильпон Мегарский, о котором рассказывают следующую показательную историю: однажды, увидев на Акрополе в Афинах дивное изваяние Паллады – творение Фидия, – он в чисто мегарском духе заявил, что это, дескать, дочь не Зевса, а Фидия. Эта шутка прекрасно передает суть мегарского мышления. Стильпон учил, что родовые понятия лишены реальности и объективной значимости; потому, если кто говорит о «человеке», то он говорит ни о ком, ибо не указывает οὔτε τόνου οὔτε τόνοε (ни того ни другого). Плутарх[53] приписывает Стильпону изречение «ἕτέρου ἑτέρου µή χατηγορεῖςυ», то есть «ничто не может подтвердить сути другого». Приблизительно тому же учил и Антисфен. А старейшим глашатаем такого способа мышления был, по-видимому, Антифон из Рамнунта, софист и современник Сократа; одно из дошедших до нас его изречений гласит: «Познающий некие длинные предметы не может видеть длину глазами, ни познавать ее духом»[54]. Из этого изречения ясно проистекает полное отрицание субстанциальности за родовыми понятиями. Тем самым платоновские идеи лишаются своей первоосновы, ибо для Платона именно идеи обладали незыблемой значимостью, тогда как «действительное» и «множественное» было всего-навсего преходящими их отражениями. Критика киников и мегарцев с точки зрения реализма разлагала родовые понятия на чисто казуистические и описательные nomina, устраняя всякую субстанциальность и сосредоточивая внимание на индивидуальности.
45 Эту очевидную исходную противоположность мнений Гомперц трактует как проблему свойства (Inhärenz) и предикации[55]. Когда, например, говорят о «теплом» или «холодном», то подразумевают «теплые» и «холодные» предметы, к которым слова «теплое» и «холодное» относятся как атрибуты, предикаты, утверждения. Тут имеется в виду нечто воспринимаемое и фактически существующее, некое теплое или холодное тело. Из множества сходных примеров мы выделяем понятия «тепла» и «холода», одновременно связывая их мысленно с чем-то вещным, жизнеподобным. Так «тепло», «холод» и прочее воображаются как овеществленные – из-за отголоска чувственного восприятия в абстракции. Да, очень трудно отделить эту овеществленность от абстракции, поскольку она присуща всякому телу и в этом смысле дана, собственно говоря, априори. Восходя к следующему по степени родовому понятию «температура», мы по-прежнему без труда воспринимаем вещность, которая, даже утратив свою чувственную определенность, сохраняет вообразимость, свойственную любому чувственному восприятию. Поднимаясь далее по списку родовых понятий, мы доходим до «энергии», и на этом уровне овеществленность пропадает, а с нею заодно исчезает, пусть не до конца, и свойство вообразимости. Тут возникает конфликт по поводу «природы» энергии: встает вопрос, является ли «энергия» понятием чисто умопостигаемым и абстрактным или же это нечто «действительное». Ученый номиналист наших дней убежден в том, что «энергия» – лишь имя, лишь «пункт» нашего умственного исчисления, однако в повседневной речи слово «энергия» употребляется как обозначение чего-то вещественного, внося в человеческие умы величайшую теоретико-познавательную путаницу.
46 Вещественность в мире чистой мысли, совершенно естественно проникающая в процесс абстрагирования и убеждающая в «реальности» предиката или абстрактной идеи, ни в коей мере не является искусственным продуктом или произвольным гипостазированием; нет, это естественная и насущная необходимость. Дело вовсе не в том, что абстрактная мысль сначала произвольно гипостазируется и затем переносится в потусторонний, столь же искусственный мир; исторически все обстоит как раз наоборот. Среди первобытных людей, к примеру, imago, или психическое отображение чувственных ощущений, столь сильно и столь ярко окрашено чувственным элементом, что, когда воспроизводится в виде непроизвольных образов воспоминаний, оно порой приобретает свойства галлюцинации. Поэтому первобытный человек, вспоминая свою умершую мать, спонтанно как бы видит и слышит ее дух. Мы сами лишь «думаем» об умерших, тогда как первобытный человек воспринимает их фактически, вследствие крайней чувственности духовных образов. Отсюда объясняются первобытные верования в духов; последние суть не что иное, как то, что мы называем мыслями. Когда дикарь «мыслит», его посещают видения, реальность которых так велика, что он постоянно принимает психическое за действительное. По словам Пауэлла, «путать все на свете – отличительная особенность дикаря, который не отличает объективное от субъективного»[56]. Спенсер и Гиллен говорят: «То, что дикарь испытывает во сне, для него не менее реально, чем наблюдаемое наяву»[57]. Эти замечания вполне подтверждаются моими собственными наблюдениями над психологией негров[58]. Из этого основного факта психического реализма и самостоятельности образа в противоположность самостоятельности чувственных восприятий и проистекает вера в духов; нет нужды усматривать ее источник в потребности со стороны дикаря объяснять мир (эту потребность неправильно приписывают ему европейцы). Для первобытного человека мысль зрима и слышима, а потому носит также и характер откровений. Вот почему колдун, ясновидящий, всегда бывает и главным мыслителем племени, посредником между богами и людьми; отсюда же исходит и магическая сила мысли: вследствие своей реальности она равнозначна поступку. Да и слово, внешняя оболочка мысли, оказывает «реальное» воздействие, вызывая в сознании «реальные» образы-воспоминания. Примитивные суеверия нас удивляют, но только потому, что мы сумели избавить психический образ от чувственности, научились мыслить «абстрактно» – разумеется, с вышеупомянутыми ограничениями. Но всем, кто практикует аналитическую психологию, известно, что даже образованным пациентам-европейцам приходится постоянно напоминать: мысль и дело – вовсе не одно и то же; кому-то приходится это внушать, ибо пациент считает, что достаточно просто подумать о чем-либо, а кому-то другому лишний раз о том повторять, ибо он думает, что нельзя ни о чем помышлять, иначе мысль насильственно повлечет за собой действие.
47 Сколь легко восстанавливается исходная реальность психического образа, видно на примерах сновидений у нормальных людей и тех галлюцинаций, что сопровождают утрату душевного равновесия. Мистики норовят даже заново обрести примитивную реальность imago посредством искусственной интроверсии, необходимой как противовес экстраверсии. Ярким примером здесь может служить инициация магометанского мистика Таваккуль-бега под наставничеством Молла-шаха[59]. Таваккуль-бег рассказывает:
После таких слов он [Молла-шах] велел мне сесть напротив себя, а все мои чувства пребывали в смятении, и распорядился, чтобы я воспроизвел внутри меня его собственный образ; потом он завязал мне глаза и потребовал сосредоточить все душевные силы в моем сердце. Я повиновался, и в мгновение ока сердце мое раскрылось по милости Всевышнего и благодаря духовной поддержке шейха. Я узрел внутри себя нечто, подобное опрокинутому кубку, а когда поставил его верно, все мое естество преисполнилось чувством беспредельного блаженства. Тогда я сказал Учителю: «Из своей клетки, сидя пред тобою, я вижу внутри себя точное отображение, и кажется мне, словно другой Таваккуль-бег сидит перед другим Молла-шахом».
Учитель истолковал это видение как первый признак посвящения. Вскоре последовали другие видения, стоило лишь открыть дорогу к исходному образу реальности.
48 Подлинность предиката задается априори, ибо она от века заложена в человеческом разуме. Лишь последующая критика лишает абстракцию характера реальности. Еще во времена Платона вера в магическую реальность словесного понятия была столь велика, что философы изощрялись в измышлении таких умозаключений, которые посредством абсолютного значения слов вынуждали давать нелепые ответы. Простым примером может послужить enkekalymmenos (покрытый), или загадка, придуманная мегарцем Евбулидом. Текст гласит: «Способен ты узнать своего отца? – Да. – А узнаешь ли ты вот этого покрытого человека? – Нет. – Ты сам себе противоречишь, ведь этот покрытый человек и есть твой отец. Значит, ты можешь и узнать своего отца и вместе с тем его не узнаешь». Заблуждение кроется в том, что опрошенный по наивности предполагает, будто слово «узнавать» всегда подразумевает одну и ту же объективную данность, тогда как на самом деле значение данного слова устанавливается конкретными случаями. На том же принципе основано и лжезаключение keratines (рогатый), гласящее: «Ты имеешь то, чего еще не потерял. Рогов ты не терял. Значит, у тебя есть рога». Тут заблуждение опирается, опять-таки, на наивность опрошенного, который предполагает в предпосылке вопроса фактическую данность. Тем самым возможно с неопровержимостью доказать, что абсолютное значение слов – всего-навсего иллюзия. В результате под угрозой оказывается реальность родовых понятий, имеющих в форме платоновских идей метафизическое бытие и исключительную значимость. Гомперц говорит:
Тогда не относились так недоверчиво к языку, как теперь, когда в словах мы так редко находим адекватное выражение фактов. В те времена, наоборот, господствовала наивная вера, что сфера понятия и сфера применения соответствующего ему слова всегда совпадают[60].
49 В условиях магического абсолютизма слов, по которому предполагалось, что слова отображают объективное поведение вещей, софистическая картина была безусловно уместной. Эта критика убедительно доказывала немощь человеческого языка. Поскольку идеи суть просто nomina (это еще требовалось доказать), нападение на Платона виделось оправданным. Однако родовые понятия перестают быть простыми именами, едва они начинают обозначать сходства или подобия вещей. Тогда встает вопрос о том, объективны эти подобия или нет. Они существуют фактически, а потому, следовательно, и родовые понятия соотносятся с некой реальностью. В них столько же реального, сколько реальности в точных описаниях предметов. Родовое понятие отличается от описания лишь тем, что оно описывает или обозначает подобия предметов. Значит, слабина заключается вовсе не в самом понятии или в идее, а в ее словесном выражении, которое, конечно же, ни при каких обстоятельствах не может в точности воспроизвести саму вещь или ее подобие. Поэтому номиналистические нападки на учение об идеях были, по сути, необоснованными, а раздраженная самооборона Платона была вполне правомерна.
50 Принцип свойства у Антисфена состоит в том, что к одному субъекту нельзя приложить ни многих предикатов, ни даже одного-единственного предиката, отличного от субъекта. Антисфен признавал лишь такие суждения, в которых субъект и предикат были тождественны. Если даже пренебречь тем фактом, что такие тождественные суждения (например, «сладкое сладко») вообще ничего не означают и потому являются бессмысленными, принцип свойства имеет тот порок, что тождественное суждение не имеет ничего общего с предметом: слово «трава» никак не связано с травой в природе. Вдобавок этот принцип изрядно страдает старинным словесным фетишизмом, который наивно предполагал, что слово всегда совпадает с предметом. Если поэтому номиналист говорит реалисту: «Тебе снится, что ты имеешь дело с вещами, а сам между тем сражаешься с словесными химерами», то реалист с тем же правом может ответить номиналисту теми же словами; ведь номиналист тоже орудует не предметами, а словами вместо предметов. Подбери он отдельное слово для каждого отдельного предмета, слова все равно останутся словами и не овеществятся.
51 Но почему, хотя признается, что «энергия» – обычное слово, само это понятие до такой степени реально, что акционерная электрическая компания выплачивает дивиденды от ее использования? Совет директоров компании вряд ли согласится признать ирреальность энергии и прочие ее метафизические свойства. Для них слово «энергия» обозначает совокупность сил, которую никак нельзя отрицать, ибо она изо дня в день неопровержимо доказывает свое наличие. В той мере, в какой нечто реально, а с этим нечто связано некое слово, самому слову тоже придается «реальное» значение. Раз подобие предметов реально, то и родовое понятие, которое определяет это подобие, будет «реальным», причем в степени ни меньше и ни больше, чем у слов, обозначающих единичные предметы. Смещение главной ценности с одной стороны на другую есть плод индивидуальной установки и психологии конкретной эпохи. Гомперц осознавал наличие этих черт у Антисфена и указывал на следующее:
Трезвый рассудок, отвращение от всякой мечтательности, может быть, также сила индивидуального чувства, для которого отдельная личность и отдельное существо являются выражением полной действительности[61].
Прибавим сюда зависть неполноправного гражданина, пролетария, человека, которого судьба не наградила красотой и который может возвыситься, лишь высмеивая ценности других. Это особенно характерно для нашего киника, который постоянно критиковал других и для которого не было ничего святого в имуществе других; он не чурался даже нарушать неприкосновенность чужого очага для того, чтобы навязать кому-нибудь свои советы.
52 Этому критическому, по существу, направлению духа противостоит мир платоновских идей с их вечной природой. Ясно, что психология человека, придумавшего такой мир, должна была полностью отличаться от мышления школы, приверженной критическим и разлагающим суждениям. Мышление Платона опирается на множественность вещей и создает синтетически конструктивные понятия, которые обозначают и выражают общие подобия вещей как истинно сущие. Незримость и внечеловечность этих понятий прямо противоположны конкретике принципа свойства, что стремится свести материал мышления к неповторяемому, индивидуальному, вещественному. Но это невозможно, как невозможно и предельное применение принципа предикации, который норовит возвысить высказывания о многих единичных предметах до положения вечной субстанции, незыблемо существующей по ту сторону тлена. Оба направления суждений имеют право на существование, оба, несомненно, свойственны каждому человеку. По моему мнению, это лучше всего явствует из того факта, что основатель мегарской школы Евклид из Мегары провозглашал «всеединство», стоящего недосягаемо высоко над всем индивидуальным и частным. Он увязывал воедино элеатский принцип «сущего» с «благим», так что для него «сущее» и «благое» были понятиями тождественными. Им противополагалось «несуществующее зло». Это оптимистическое всеединство было, конечно, очередным родовым понятием, только высшего порядка, оно подразумевало «бытие» и вместе с тем противоречило наблюдаемому миру – гораздо сильнее, нежели платоновские идеи. Своей теорией Евклид предлагал компенсацию за критическое разложение конструктивных суждений на одни только словесные высказывания. Его всеединство настолько отдалено от человека, что оно попросту не способно выражать подобия; оно – нисколько не тип, а плод желаемого единства, которое могло бы охватить неупорядоченное обилие единичных вещей. Мечта о единстве возникает у всех, кто придерживается крайнего номинализма, в той мере, в какой они вообще стремятся отринуть прежнюю негативно-критическую позицию. Потому-то нередко среди таких людей встречается некое единомыслие, до нелепости невероятное и произвольное. Фактически совершенно невозможно исходить в мышлении исключительно из принципа свойства. По этому поводу Гомперц очень метко замечает:
Можно думать, что такая попытка будет всегда терпеть неудачу. Но успех ее совершенно исключался в ту эпоху, когда отсутствовали исторический опыт и сколько-нибудь углубленная психология. Здесь была несомненная опасность, что наиболее известные и заметные, но в общем менее важные выгоды оттеснят более существенные, но скрытые. Когда за образец брали животный мир или первобытного человека и хотели обрезать побеги культуры, то при этом касались многого такого, что было плодом долгого развития, продолжавшегося мириады лет[62].
53 Конструктивное суждение, в отличие от свойства, основанное на подобиях, порождает общие идеи, принадлежащие к высочайшим достижениям культуры. Пусть многие эти идеи остались в прошлом, нас с ними все же связывают нити, которые, по выражению Гомперца, едва ли возможно разорвать. Он продолжает:
Как бездушный труп, так и просто неодушевленное может стать предметом жертвенного почитания, например образа, гробницы, знамена. Если же я произвожу над собой насилие и разрываю эту связь, то я грубею, и все мои чувства испытывают потрясение: ведь они покрывают твердый пол голой действительности как бы богатым покровом цветущей жизни. На высокой оценке всего того, что можно назвать приобретенными ценностями, основывается вся утонченность, все украшение жизни и вся грация, облагорожение животных страстей и, наконец, все искусство. Все это киники хотели безжалостно искоренить. Правда, нельзя не согласиться с ними и с их современными последователями, что есть известная граница, за которой мы не должны допускать этого принципа ассоциаций, если не хотим впасть в суеверие и глупость[63].
54 Мы так подробно остановились на проблеме свойства и предикации не только потому, что она возродилась в схоластических номинализме и реализме, но и потому, что она до сих пор еще не разрешена – и вряд ли разрешится. Здесь мы вновь сталкиваемся с конфликтом типов – между абстрактной точкой зрения, где главную ценность имеет сам мыслительный процесс, и между индивидуальным мышлением и чувством, которые, сознательно или бессознательно, определяют ориентацию чувственного объекта. В последнем случае психический процесс является лишь средством выявления личности. Ничего нет удивительного в том, что именно пролетарская философия присвоила себе принцип свойства. При наличии достаточного количества причин для перемещения внимания к индивидуальному чувству мышление и чувство по необходимости становятся негативно-критическими – из-за скудности позитивной, творческой энергии, которая вся направляется на личную цель; это неизбежно ведет к тому, что мышление и чувство сводят все вокруг к конкретным единицам. Над беспорядочным нагромождением частностей воздвигается в лучшем случае некое туманное «всеединство», очевидно вымышленное. Если же внимание придается психическому процессу, то итог умственной деятельности – идея – возвышается над беспорядочным множеством вещей. Идея по возможности обезличивается, а личное ощущение переносится почти целиком в психический процесс и его гипостазирует.
55 Прежде чем продолжать изложение, нам следует задать себе вопросы: вправе ли мы на основании платоновского учения об идеях предполагать, что Платон лично принадлежал к интровертному типу? допустимо ли на основании психологии киников и мегарцев относить Антисфена, Диогена и Стильпона к экстравертному типу? Осмелюсь утверждать, что дать точный ответ решительно невозможно. Да, чрезвычайно тщательно изучив подлинные сочинения Платона, его documents humains[64], удастся, пожалуй, раскрыть, к какому типу он принадлежал, но я не дерзну высказать свое мнение по этому поводу. Если же кто-либо приведет доказательства в пользу того, что Платон принадлежал к экстравертному типу, это ничуть меня не удивит. Что касается остальных, тут судить нельзя – ввиду отрывочности и скудости дошедших до нас сведений. Раз оба типа мышления определяются смещением ценности, мы с тем же правом можем предположить, что у человека, принадлежащего к интровертному типу, личное ощущение по каким-либо причинам способно выдвинуться на передний план и подчинить себе мышление, придав тому негативный критицизм. Для человека, принадлежащего к экстравертному типу, ценность заключается в отношении к объекту как таковому, а не в личном отношении к нему. Если отношение к объекту приоритетно, то психический процесс ему подчиняется, однако если оно направлено на суть объекта, без вторжения личных ощущений, то такое отношение не будет разрушительным. Конфликт между принципами свойства и предикации надо отметить как особый случай, но мы к нему еще вернемся в наших дальнейших исследованиях более подробно. Особенность данного случая заключается в позитивном и негативном воздействии личного ощущения. Там, где тип (родовое понятие) низводит индивидуальность до степени призрака, тип приобретает реальность коллективной идеи. Там же, где ценность индивидуальности преобладает и упраздняет тип, царит разлагающая анархия. Обе позиции являются преувеличенно крайними и несправедливыми, однако дают яркую картину противоположностей, которая по своей отчетливости и благодаря преувеличению выявляет черты, присущие людям как интровертного, так и экстравертного типа (пусть в более мягкой и скрытой форме); так происходит и в тех случаях, когда мы наблюдаем за индивидуумами, у которых личное ощущение не выступает на передний план. Скажем, в целом не безразлично, является ли психический принцип господином или слугой. Господин мыслит и чувствует иначе, нежели слуга. Даже самое широкое отвлечение от личного в пользу общей ценности не может совершенно устранить влияние личного элемента. А поскольку это влияние неоспоримо, мышление и чувство выказывают разрушительные устремления, обусловленные самоутверждением личности в неблагоприятных социальных условиях. Но мы впали бы в крупную ошибку, пожелав по причине личных предрасположенностей свести общие традиционные ценности к потаенным течениям личного свойства. Это псевдопсихология – и она, увы, существует.
б) Проблема универсалий у схоластов
56 Проблема двух противоположных мнений не получила разрешения в Античности по той причине, что tertum non datur[65]. Порфирий как бы передал эту задачу потомкам, так описав ее для грядущего Средневековья: «Mox de generibus et speciebus illud quidem sive subsistant sive in nudis intellectibus posita sint, sive subsistentia corporalia sint an incorpo-ralia, et utrum separata a sensibilibus an in sensibilibus posita et circa haec consistentia, dicere recusabo»[66]. Схоластики подхватили это рассуждение. Начинали они с платоновских воззрений, с universalia ante rem, или общей идеи, как образца всякой единичной, причем полностью обособленного, существующего в «занебесной области»[67] (ἐυ οὐραυίω τόπω). Об этом мудрая Диотима говорит Сократу в беседе о прекрасном:
Прекрасное это предстанет ему не в виде какого-то лица, рук или иной части тела, не в виде какой-то речи или знания, не в чем-то другом, будь то животное, земля, небо или еще что-нибудь, а само по себе, всегда в самом себе единообразное; все же другие разновидности прекрасного причастны к нему таким образом, что они возникают и гибнут, а его не становится ни больше, ни меньше, и никаких воздействий оно не испытывает[68].
57 Этой платоновской форме противопоставлялось, как мы видели, критическое суждение, сводившее родовые понятия к простым словам. Реальное считалось prius, а идеальное – posterius, а обозначалось все как universalia post rem[69]. Промежуточное место между этими двумя воззрениями занимало умеренно реалистическое миропонимание Аристотеля, которое можно охарактеризовать как universalia in re[70], как мнение, что форма (εἶδος) и материя сосуществуют. Аристотелевская точка зрения была конкретизированной попыткой выступить посредником – вполне соответствующей нраву самого Аристотеля. Вопреки трансцендентализму своего учителя Платона, школа которого впоследствии впала в пифагорейский мистицизм, Аристотель твердо стоял на земле – конечно, оставаясь человеком своего времени, когда признавалось конкретным многое из того, что впоследствии было абстрагировано и помещено в инвентарь человеческого духа. Аристотелевское решение проблемы отвечало конкретному характеру античного common sense[71].
58 Эти три формы мышления обнажают и схему распределения мнений в ходе великого средневекового спора об универсалиях, составлявшего сущность схоластики. Вдаваться в подробности этого спора не является моей задачей, даже будь я достаточно для того сведущ. Здесь мы ограничимся лишь коротким описанием для лучшего понимания вопроса. Спор начался в конце XI века с Иоанна Росцеллина[72]. Для него универсалии являлись всего-навсего nomina rerum, именами вещей, или, вспоминая античность, flatus vocis. Он признавал только индивидуальное и был, по меткому замечанию Тейлора, «strongly held by the reality of individuals»[73]. Отсюда с неизбежностью следовало, что и Бога нужно помышлять единично, пусть Он через Троицу обретает три отдельных ипостаси; неудивительно, что в итоге Росцеллин пришел к трибожию. Господствовавший реализм не мог этого допустить, и в 1092 году Суассонский собор осудил учение Росцеллина. Противоположное мнение олицетворял собой Гийом из Шампо, учитель Абеляра[74], сам предельный реалист, но склонный к аристотелевской сдержанности. Согласно Абеляру, Гийом учил, что одна и та же вещь существует во всей своей целостности и одновременно распадается на множество единичных вещей. Между отдельными вещами вообще нет существенных различий, зато имеется многообразие «акциденций». Тем самым фактические различия объяснялись как случайности, – напомню, что в догмате пресуществления хлеб и вино тоже суть «акциденции».
59 На стороне реализма стоял также и Ансельм Кентерберийский, отец схоластики. Истинный платоник, он считал, что универсалии заложены в Божественном Логосе. В том же ключе нужно понимать и психологически важное доказательство бытия Божия, так называемое онтологическое доказательство Ансельма. Это доказательство выводит бытие Всевышнего из идеи Бога. Фихте[75] кратко сформулировал это доказательство следующими словами: «Наличие идеи безусловного в нашем сознании доказывает реальное существование этого безусловного». Ансельм полагал, что умственное представление о Верховном Существе влечет за собой качество бытия (non potest esse in intellectu solo[76]). Далее он делал такой вывод: «Sic ergo vere est aliquid, quo majus cogitari non potest, ut nec cogitari possit non esse, et hoc es tu, Domine Deus Noster»[77]. Логическая несостоятельность онтологического доказательства столь очевидна, что приходится искать психологическое обоснование тех мотивов, по которым мыслитель, подобный Ансельму, мог прибегнуть к такой аргументации. Непосредственным поводом, как кажется, выступила общая психологическая предрасположенность реализма как такового, а именно: имеются люди, даже, в отдельные эпохи, целые группы людей, которые выше прочего ставят идею, так что она оказывается в жизни дороже фактических предметов и их жизненной ценности. Такие люди вряд ли способны допустить, чтобы их наивысшая ценность не существовала на самом деле. Ведь они обладают неоспоримым доказательством действенности идеи: вся их жизнь, мышление и чувства всецело преданы этому убеждению. Незримость идеи ничего не значит в сравнении с ее несомненной действенностью, которая сама по себе творит реальность. У таких людей понятие действительности идеальное, а не чувственное.
60 Современник Ансельма и его противник Гонилон выступил с опровержением: мол, столь распространенное представление об островах Блаженных (восходящее к описанию феаков у Гомера[78]) вовсе не доказывает действительного существования этих островов. Что ж, разумность такого возражения очевидна. На протяжении столетий выдвигались иные, аналогичные или сходные возражения, но это ничуть не помешало онтологическому доказательству сохраниться вплоть до недавних времен; даже в XIX веке оно имело сторонников – в лице Гегеля, Фихте и Лотце[79]. Нельзя приписывать эти противоречия во взглядах некоей порочной логике или упорным заблуждениям с той и другой стороны. Поступать так нелепо. Скорее, налицо глубоко укорененные психологические различия, которые надлежит признать и всегда иметь в виду. Думать, будто существует лишь одна психология или лишь один основной психологический принцип, равносильно подчинению невыносимой тирании лженаучного предрассудка о нормальном человеке. Молва постоянно рассуждает о человеке и его «психологии», причем так, как если бы не имелось на свете ничего, кроме этой «психологии». Точно так же мы рассуждаем о действительности, как если бы существовала одна-единственная действительность. Но действительность есть то, что проявляется в человеческой душе, а вовсе не то, что некоторые признают «действительным», не то, по поводу чего делаются предвзятые обобщения. Даже когда обобщают по всем правилам науки, не следует забывать о том, что наука – не summa всей жизни, что это всего одна из психологических установок, одна из форм человеческого мышления.
61 Онтологическое доказательство не является ни аргументом, ни доказательством; оно представляет собой только психологическую констатацию того факта, что на свете имеются люди, для которых некая идея действенна и действительна, обладает действительностью, соперничающей с реальностью воспринимаемого мира. Сенсуалист отстаивает достоверность своей «реальности», а человек идеи ратует за свою психологическую действительность. Психология должна смириться с существованием этих двух (или нескольких) типов, и не нужно видеть в одном типе принижение другого, не нужно пытаться их совмещать, словно в уверенности, что все «иное» есть функция одного и того же. Отсюда, к слову, не проистекает, что ошибочен испытанный временем научный принцип «Principia explicandi praeter necessitatem non sunt multiplicanda»[80]. Необходимо множество различных психологических объяснений. Помимо приведенных доводов, в пользу такого мнения говорит и следующий знаменательный факт: несмотря на окончательное, казалось бы, опровержение онтологического доказательства Кантом, целый ряд философов после Канта снова привлек это доказательство. В результате мы сегодня так же далеки – или, быть может, еще дальше – от примирения пар противоположностей (идеализм и реализм, спиритуализм и материализм и все побочные вопросы), чем люди раннего Средневековья, когда имелось хотя бы общее мировоззрение.
62 Вряд ли найдутся логические доводы в пользу онтологического доказательства, способные удовлетворить современный интеллект. Само по себе онтологическое доказательство ничего общего с логикой не имеет. В той форме, в какой Ансельм заповедал его истории, онтологическое доказательство есть не что иное, как психологический факт, лишь впоследствии интеллектуализированный или рационализированный (тут, конечно, не обошлось без petitio principii[81] и прочих софизмов). Именно здесь и проявляется несокрушимая значимость этого доказательства: оно продолжает бытовать, а consensus gentium[82] признает его за факт, общепринятый и общераспространенный. Считаться приходится с фактом, а не с софистическими обоснованиями; ошибка онтологического доказательства заключается лишь в том, что оно норовит опираться на логику, тогда как на самом деле он гораздо больше простого логического доказательства. Перед нами психологический факт, проявление и действенность которого столь очевидны, что он попросту не нуждается в доказательствах. По consensus gentium, Ансельм был прав, утверждая, что Бог есть, потому что Он помышляем. Это общеизвестная истина, вывод по тождеству. Логическое обоснование тут предстает совершенно излишним и, кроме того, неправильным; беда в том, что Ансельм стремился навязать идее Бога вещную реальность. Он говорил: «Existit ergo procul dubio aliquid, quo majus cogitari non volet, et in intellectu et in re»[83]. Для схоластов «res» было понятием, равнозначным мысли. Так, Дионисий Ареопагит[84], сочинения которого оказали значительное влияние на ранний период средневековой философии, различал entia rationalia, intellectualia, sensibilia, simpliciter existentia (сущности рациональные, умственные, чувственные и просто существующие). Фома Аквинский называл res тем, что есть в душе (quod est in anima), и тем, что вне души (quod est extra animam)[85]. Такое уравнивание понятий указывает, что воззрениям того времени еще была свойственна примитивная вещность («реальность»), мысли. Учитывая это обстоятельство, нетрудно понять психологию онтологического доказательства. Гипостазирование идеи не является существенным шагом вперед; это непосредственный отголосок примитивной чувственности мысли. Возражение Гонилона психологически неудовлетворительно: идея островов Блаженных встречается часто, как свидетельствует consensus gentium, но она менее действенна, чем идея Бога, которой поэтому и принадлежит более высокая «реальная ценность».
63 Все последующие мыслители, вновь прибегавшие к онтологическому доказательству, впадали в ошибку Ансельма (по крайней мере, по сути). Рассуждения Канта можно считать исчерпывающими, так что мы кратко на них остановимся. Кант говорит:
Понятие абсолютно необходимой сущности есть чистое понятие разума, т. е. лишь идея, объективная реальность которой далеко еще не доказана тем, что разум нуждается в ней… Но безусловная необходимость суждений не есть абсолютная необходимость вещей. В самом деле, абсолютная необходимость суждения есть лишь обусловленная необходимость вещи или предиката в суждении[86].
64 Непосредственно перед этим Кант приводит как пример необходимого суждения тот факт, что треугольник должен иметь три угла. Ссылаясь на это положение, он продолжает:
Приведенное выше положение не утверждает, что три угла безусловно необходимы, а устанавливает, что если дан треугольник, то также необходимо имеются три угла [в нем]. Однако сила иллюзии этой логической необходимости столь велика, что, a priori составив себе понятие о вещи, включающее, по нашему мнению, существование в своем объеме, мы полагаем, будто можно с уверенностью заключить отсюда следующее: так как объекту этого понятия существование присуще необходимо, т. е. при условии, что я полагаю эту вещь как данную (существующую), то ее существование также полагается необходимо (согласно закону тождества), и потому сама эта сущность должна быть безусловно необходимой, так как ее существование мыслится вместе с произвольно принятым нами понятием и при условии, что я полагаю его предмет.
65 Власть иллюзии, на которую намекает Кант, есть не что иное, как первобытная магическая власть слова, тайно проникающая в понятие. Потребовалось длительное развитие, чтобы люди наконец поняли, что слово, или flatus vocis, далеко не всегда обозначает реальность или содействует ее проявлению. Но и частичное признание этого факта не привело к общему признанию и не освободило умы, суеверно подчиненные сформулированным понятиям. Такое «инстинктивное» суеверие явно заключает в себе нечто такое, что не поддается уничтожению, что предъявляет права на существование, и на это обстоятельство до сих пор обращали мало внимания. Сходно, то есть посредством иллюзии, в онтологическое доказательство прокрадывается и паралогизм (ложное умозаключение); Кант поясняет происходящее. Он начинает с упоминания «безусловно необходимых субъектов», представление о которых якобы присуще понятию действительности и от которого поэтому нельзя отмахнуться, не впадая во внутреннее противоречие. В итоге появляется понятие «всереальнейшей сущности».
Вы говорите, что она заключает в себе всю реальность и что вы имеете полное основание допускать такую сущность как возможную… Но всякая реальность включает в себя также и существование; следовательно, существование входит в понятие возможной вещи. Если эта вещь отрицается, то отрицается внутренняя возможность ее, что противоречиво. …В таком случае или ваша мысль есть сама эта вещь, или же вы предполагаете, что существование принадлежит к возможности вещи, и затем уверяете, будто о [ее] существовании вы заключили из [ее] внутренней возможности, а это есть лишь жалкая тавтология…
…Бытие не есть реальный предикат, иными словами, оно не есть понятие о чем-то таком, что могло бы быть прибавлено к понятию вещи. Оно есть только полагание вещи или некоторых определений само по себе. В логическом применении оно есть лишь связка в суждении. Положение Бог есть всемогущее [существо] содержит в себе два понятия, имеющие свои объекты: Бог и всемогущество; словечко есть не составляет здесь дополнительного предиката, а есть лишь то, что предикат полагает по отношению к субъекту. Если я беру субъект (Бог) вместе со всеми его предикатами (к числу которых принадлежит и всемогущество) и говорю Бог есть или есть Бог, то я не прибавляю никакого нового предиката к понятию Бога, а только полагаю субъект сам по себе вместе со всеми его предикатами, и притом как предмет в отношении к моему понятию. Оба они должны иметь совершенно одинаковое содержание, и потому к понятию, выражающему только возможность, ничего не может быть прибавлено, потому что я мыслю его предмет просто как данный (посредством выражения он есть). Таким образом, в действительном содержится не больше, чем в только возможном. Сто действительных талеров не содержат в себе ни на йоту больше, чем сто возможных талеров… мое имущество больше при наличии ста действительных талеров, чем при одном лишь понятии их (т. е. возможности их).
Итак, что бы и сколько бы ни содержало наше понятие предмета, мы, во всяком случае, должны выйти за его пределы, чтобы приписать предмету существование. Для предметов чувств это достигается посредством связи с каким-нибудь из моих восприятий по эмпирическим законам; но что касается объектов чистого мышления, то у нас нет никакого средства познать их существование, потому что его необходимо было бы познавать совершенно a priori, между тем как осознание нами всякого существования (будь то непосредственно восприятиями или посредством выводов, связывающих что-то с восприятием) целиком принадлежит к единству опыта, и, хотя нельзя утверждать, что существование вне области опыта абсолютно невозможно, тем не менее оно [имеет характер] предположения, которое мы ничем обосновать не можем.
66 Столь подробное и пространное изложение основных выводов Канта показалось мне необходимым, поскольку именно тут присутствует самое точное разделение на esse in intellectu и esse in re[87]. Гегель упрекал Канта за попытку сопоставлять идею божества с сотней воображаемых талеров. Но, как совершенно справедливо замечал Кант, логика устраняет всякое содержание, она перестала бы быть логикой, допустив преобладание содержания. С точки зрения логики, нет и не может быть третьего между утверждениями «либо то – либо другое», зато между intellectus и res встает anima, и esse in anima[88] делает онтологическое доказательство целиком несостоятельным. В «Критике практического разума» Кант предпринял попытку оценить с философской точки зрения это esse in anima. Он ввел понятие Бога как постулат практического разума, выводимый через познаваемое априори «необходимое в силу уважения к моральному закону стремление к высшему благу и вытекающее отсюда предположение об объективной реальности»[89].
67 Значит, esse in anima есть психологический факт, по поводу которого нужно лишь установить, встречается ли он в человеческой психологии однократно, многократно или универсально. Данность, именуемая Богом и представляемая как «высшее благо», есть, на что указывает само имя, наивысшая духовная ценность, или, иными словами, понятие, наделяемое (или вбирающее в себя) высочайшее и наиболее общее значение в определении наших поступков и мыслей. На языке аналитической психологии понятие Бога совпадает с конкретным понятийным комплексом, который, согласно нашему определению, сосредоточивает в себе наибольшее количество либидо (психической энергии). Отсюда следует, что фактическое понятие Бога у различных людей должно быть психологически совершенно различным, что и подтверждает опыт. Бог, даже как идея, – не конкретное и незыблемое существо, а уж тем более Он не таков в реальности. Мы знаем, что высшая ценность человеческой души характеризуется по-разному. Есть души ὤν ὁ νεὸς ἡ κοιλία[90], чей «бог – чрево», и есть те, кто почитает деньги, науку, власть, или сексуальность и пр. По предпочтениям высшего блага развивается и вся психология индивидуума – по крайней мере, в главных ее чертах, так что психологическая «теория», построенная исключительно на каком-либо одном основном влечении, будь то сексуальность, например, или жажда власти, способна объяснить лишь второстепенные черты, будучи примененной к человеку иной ориентации.
в) Попытка примирения у Абеляра
68 Будет небезынтересно узнать, каким образом сами схоласты пытались разрешить спор об универсалиях и тем самым создать равновесие между типическими противоположностями, разделенными условием tertium non datur. Эту попытку примирения предпринял Абеляр, несчастный человек, воспылавший любовью к блистательной Элоизе и заплативший за свою страсть утратой мужского естества. Всякому, кто знаком с историей жизни Абеляра, известно, сколь глубока была пропасть между противоположностями в его собственной душе и сколь горячо он желал философски их примирить. Де Ремюза в своей книге[91] называет Абеляра эклектиком, который критиковал и отвергал все выдвинутые теории об универсалиях, но при этом не стеснялся заимствовать из них все истинное и приемлемое. Сочинения Абеляра, в которых говорится об универсалиях, сбивчивы и непонятны, ибо автор постоянно и подробно обсуждает все доводы в пользу и против каждого суждения; даже его ученики не понимали своего наставника, поскольку тот отвергал все уже высказанные точки зрения и старался примирить противоположности. Одни видели в нем номиналиста, другие же – реалиста. Такое недоразумение очень показательно, ведь куда проще мыслить в рамках определенного типа, логически и последовательно в нем оставаясь, нежели мыслить одновременно за два типа, ибо промежуточного выбора нет. При стойком следовании реализму или номинализму приходишь к законченности суждений, ясности и единомыслию. А старания примирить противоположности создают путаницу и ведут к неудовлетворительному исходу, потому что примирение неприемлемо ни для одного из типов. Де Ремюза выбрал из сочинений Абеляра целый ряд почти противоречивых его утверждений по нашему предмету; он восклицает: «Faut-il admettre, en effet, ce vaste et incohérent ensemble de doctrines dans la tête d’un seul homme, et al philosophie d’Abélard est-elle le chaos?»[92].
69 Из номинализма Абеляр вынес убеждение, будто универсалии суть слова в смысле интеллектуальных условностей, выраженных речью; оттуда же он взял мнение, что в действительности любая вещь не есть нечто общее, что она всегда является обособленной, что субстанция – не универсальный, а всегда индивидуальный факт. У реализма Абеляр заимствовал ту истину, что genera и species[93] представляют собой соединения индивидуальных фактов и вещей на почве несомненной схожести. Способ объединения состоял в «концептуализме», под которым подразумевалась функция, постигающая воспринятые индивидуальные объекты, классифицирующая их по схожести на роды и виды и тем сводящая абсолютную множественность к относительному единству. При всей неоспоримой множественности и всем разнообразии отдельных вещей наличие сходств между ними, позволяющее подводить их под одно общее понятие, тоже не подлежит сомнению. Человеку, психологически расположенному к восприятию именно таких сходств, собирательное понятие как бы дается от рождения, оно положительно ему навязывается наряду с фактической данностью чувственных восприятий. А вот тому, кто психологически расположен к восприятию отличительных признаков вещей, сходства предстают через усилие: он видит различия, которые действительность ему навязывает столь же решительно, как сходства – другому типу.
70 Кажется, будто сочувствие к чему-либо есть психологический процесс, который особенно ярко высвечивает именно разнородность объектов; а абстрагирование является, напротив, процессом, призванным отвлекать от фактических различий между отдельными вещами в пользу общих сходств, или оснований идей. Сочетание того и другого порождает функцию, которая лежит в основе понятия концептуализма. Следовательно, последний строится на единственно возможной психологической функции, вообще способной примирить разногласие между номинализмом и реализмом и ввести оба направления в общее русло.
71 Хотя средневековые авторы произносили немало громких слов о душе, психологии как таковой в ту пору не было. Она принадлежит к числу самых юных наук. Существуй же в те времена психология как наука, Абеляр бы наверняка вывел объединяющую формулу esse in anima. Де Ремюза ясно это осознает:
Dans la logique pure, les universaux ne sont que les termes d’un langagede convention. Dans al physique, qui est pour lui plus transcendante qu’expérimentale, qui est sa véritable ontologie, les genres et les espèces se fondent sur al manière dont les êtres sont réellement produits et constitués. Enfin, entre la logique pure et la physique, il y a un milieu et comme une science mitoyenne, qu’on peut appeler une psychologie, où Abélard recherche comment s’engendrent nos concepts, et retrace toute cette généalogie intellectuelle des êtres, tableau ou symbole de leur hiérarchie et de leur existence réelle[94].
72 Универсалии ante rem и post rem продолжали вызывать споры и в последующие столетия, просто они сбросили свое схоластическое облачение и предстали в новых формах. По сути же, это была старая неразрешенная проблема. В попытках ее разрешения мыслители склонялись то к реализму, то к номинализму. Наука XIX века больше тяготела к номинализму, хотя в начале того столетия философия приняла сторону реализма. Но противоположности уже не отстоят так далеко друг от друга, как во времена Абеляра. У нас есть психология, наука-посредница, которая единственная способна объединить идею и вещь, не чиня насилия над ними. Такая возможность заложена в самой природе психологии, но нельзя утверждать, что психология сумела справиться с этой задачей. Потому мы не можем не согласиться со словами де Ремюза:
Abélard a donc triomphé; car, malgré les graves restrictions qu’une critique clairvoyante découvre dans le nominalisme ou le conceptualisme qu’on lui impute, son esprit est bien l’esprit moderne à son origine. Il l’annonce, il le devance, il le promet. La lumière qui blanchit au matin l’horizon est déjà cellede l’astre encore invisible qui doit éclairer le monde[95].
73 Тому, кто отвергает существование психологических типов и тот факт, что истинность одного типа является заблуждением другого, попытка Абеляра примирить противоположности покажется всего-навсего очередным схоластическим хитросплетением. Но коль скоро признано наличие двух типов, эта попытка видится знаменательным достижением. Абеляр ищет промежуточную точку зрения в sermo[96], которое для него – не столько «рассуждение» или «речь», сколько строгое высказывание с определенным значением; это определение, которое для закрепления своего значения требует нескольких слов. Абеляр не говорит о verbum, потому что verbum с точки зрения номиналиста тождественно vox[97], flatus vocis. Великая психологическая заслуга античного и средневекового номинализма состоит именно в том, что номиналисты сумели расторгнуть первобытное магическое или мистическое тождество слова с объектом – расторгнуть настолько, что пострадал даже тип, которому привычно не держаться крепко за вещи, а абстрагировать идеи и ставить их над вещами. Абеляр, обладавший такой широтой кругозора, не мог не обратить внимания на эту ценность номинализма. Для него слово оставалось vox, но вот sermo, по его выражению, обозначало нечто большее: оно вносило устойчивый смысл, описывало общее, идею (мыслимое, воспринятое в вещах). Универсальное обитало в sermo – и только в нем. Теперь становится понятным, почему Абеляра причисляли к номиналистам, хотя и несправедливо, ибо он полагал, что универсальное реальнее vox.
74 Наверняка излагать концептуализм было непросто, поскольку Абеляру приходилось выстраивать свою теорию из противоречий. В одной из сохранившихся оксфордских рукописей[98] находим эпитафию на Абеляра, дающую, как мне кажется, прекрасное представление о парадоксальности его учения:
- Hic docuit voces cum rebus significare,
- Et docuit voces res significando notare;
- Errores generum correxit, ita specierum.
- Hic genus et species in sola voce locavit,
- Et genus et species sermones esse notavit.
- ‹…›
- Sic animal nullumque animal genus esse probatur.
- Sic et homo et nullus homo species vocitatur[99].
75 Противоположности едва ли возможно выразить четче, нежели в парадоксах, если, конечно, выражение направлено на какую-либо конкретную точку зрения – в случае Абеляра, на интеллектуальную. Не будем забывать о том, что различие между номинализмом и реализмом в своей основе было не только логически-интеллектуальным, но и психологическим и сводилось в конечном счете к типическим различиям психологических установок – по отношению и к объекту, и к идее. Тот, кто ориентирован на идею, постигает мир и реагирует с точки зрения идеи. Но тот, кто ориентирован на объект, постигает и реагирует по своим ощущениям. Для него все абстрактное второстепенно, ведь умопостигаемое должно представляться ему не столь существенным, тогда как у первого типа все обстоит как раз наоборот. Тот, кто ориентирован на объект, будет, конечно, номиналистом («имя – только дым и звук»[100]) до тех пор, пока не научится компенсировать свою объектную установку. Когда же это случится, он, имея к тому склонность, сделается до крайности строгим логиком, непревзойденным в скрупулезности, методичности и сухости. Идейно-ориентированный человек логичен по своей природе, потому-то он не в состоянии ни понять, ни оценить учебник логики. Компенсация такого типа превращает его, как мы видели на примере Тертуллиана, в человека страстных чувств, которые, однако, все равно пребывают под властью круга идей. А тот, кто стал логиком в силу компенсации, остается при этом под властью объектов.
76 Это рассуждение показывает нам теневую сторону мышления Абеляра. Попытка примирения страдала односторонностью. Будь конфликт между номинализмом и реализмом всего-навсего логическим и интеллектуальным, трудно было бы понять, почему невозможна любая окончательная формулировка, кроме парадоксальной. Но раз это преимущественно психологический конфликт, односторонняя логически-интеллектуальная формулировка должна неминуемо вести к парадоксу – sic et homo et nullus homo species vocitatur[101]. Логически-интеллектуальное выражение попросту не способно, даже в форме sermo, предоставить ту «промежуточную» формулу, которая была бы справедливой для обоих противоположных психологических установок (а все потому, что оно опирается исключительно на абстракции и пренебрегает конкретной действительностью).
77 Всякая логически-интеллектуальная формулировка, сколь угодно совершенная, отвергает объективные впечатления жизненности и мгновенности. Я полагаю, что она должна учитывать их, иначе вообще не сможет стать формулировкой, и мы утратим наиболее существенное и ценное для экстравертной установки – соотнесенность с объектом. Отсюда следует, что невозможно дойти до какой-либо удовлетворительной объединяющей формулы, полагаясь лишь на одну из этих двух установок. Между тем человек по своей природе не может пребывать в состоянии такой двойственности, даже если допустить, что его дух заявляет иное; ведь эта двойственность – не плод какой-то отвлеченной философии, она проявляет себя повседневно в отношениях человека к самому себе и к миру вокруг. Поскольку речь идет, в сущности, именно об этом, выясняется, что вопрос двойственности никак нельзя разрешить ученым спором номиналистов и реалистов. Тут необходимо посредничество третьей, примиряющей точки зрения. В esse in intellectu действительность недостаточно осязаема, а в esse in re недостаточно духовности. Но идея и вещь находят точку соприкосновения в психике человека, которая создает равновесие между ними. Во что выродится в конце концов идея, если психика не раскроет ее жизненную ценность? С другой стороны, чем окажется вещь, если психика лишит ее силы чувственного впечатления? Что такое реальность, если это не действительность в нас самих, не esse in anima? Живая действительность – не плод фактического, объективного состояния вещей и не плод сформулированных идей; она складывается через слияние того и другого в живом психологическом процессе, в esse in anima. Лишь благодаря специфической жизнедеятельности психики чувственное восприятие достигает той глубины впечатлений, а идея – той действенной силы, что выступают неотъемлемыми составными частями живой действительности.
78 Эту самодеятельность психики нельзя объяснить ни рефлекторной реакцией на чувственное раздражение, ни попыткой осуществления вечных идей; как и всякий жизненный процесс, это постоянный творческий акт. Изо дня в день психика творит действительность. Этой деятельности я не могу дать иного определения, кроме фантазии. В фантазии столько же чувства, сколько и мысли, она одинаково причастна интуиции и ощущению. Нет ни одной другой психической функции, которая не была бы нераздельно слита через фантазию с прочими функциями. Фантазия предстает то в изначальной форме, то как свежайший и дерзновеннейший продукт соединения всех наших способностей. Потому я и считаю фантазию наиболее ярким выражением специфической активности человеческой психики. Это прежде всего творческая деятельность, откуда исходят ответы на все вопросы, на которые ответ вообще возможен; она – мать всех возможностей, и в ней в живом союзе слиты, наравне со всеми психологическими противоположностями, внутренний мир с миром внешним. Фантазия была во все времена и остается тем мостом, который соединяет несовместимые притязания объекта и субъекта, экстраверсии и интроверсии. Только в ней оба механизма соединяются.
79 Постигни Абеляр психологическое различие между двумя точками зрения, он должен был бы, рассуждая последовательно, прибегнуть к фантазии для выведения объединяющей формулы. Но в области науки фантазия находится под тем же запретом, что и чувство. Впрочем, стоит лишь признать конфликт психологическим, тотчас же психологии придется принять не только точку зрения чувства, но и примиряющую точку зрения фантазии. А далее поджидает великое затруднение, поскольку фантазия в большинстве случаев есть плод нашего бессознательного. Да, она содержит и сознательные элементы, но особенно характерно для нее то, что она фактически непроизвольна и противостоит содержаниям сознания. В этом она сродни сновидениям, которые, правда, еще непроизвольнее и отчужденнее от сознания.
80 Отношение человека к своей фантазии во многом обусловливается отношением к бессознательному вообще, а последнее, в свою очередь, во многом обусловлено духом времени. Судя по степени господствующего рационализма, человек бывает более или менее склонен признавать свое бессознательное и его плоды. Христианство, как и всякая прочая замкнутая религиозная форма, отличается несомненной склонностью подавлять бессознательное в индивидууме, тем самым парализуя и фантазию. Вместо нее религия предлагает устойчивые символические формы, призванные вытеснить бессознательные образы. Символические понятия всех религий суть воссоздания бессознательных процессов в типической и обязательной форме. Религиозное учение дает, так сказать, исчерпывающие сведения о «начале и конце» и о мире по ту сторону человеческого сознания. Везде, где удается проследить возникновение какой-либо религии, мы видим, что образы вероучения приходят к основателю в виде откровений, то есть как конкретизированное выражение бессознательных фантазий. Содержания, всплывающие из недр личного бессознательного, провозглашаются общезначимыми, замещают индивидуальные фантазии последователей этого вероучителя. Евангелие от Матфея сохранило сведения о земной жизни Христа, подтверждающие этот вывод: в истории искушения бесами идея царствования, всплывая из недр бессознательного, является основателю религии дьявольским видением, сулит власть над царствами земными. Ошибись Христос, прими Он Свою фантазию конкретно, то есть буквально, на свете стало бы одним сумасшедшим больше, и только. Но Он отверг конкретизм фантазии и вступил в мир как царь, которому подвластны просторы небес. Он не сделался параноиком, что доказывает сам Его успех. Звучащие порой со стороны психиатров рассуждения о патологических элементах в психологии Христа – всего-навсего нелепая рационалистическая болтовня, далекая от понимания подобных процессов в истории человечества.
81 Форма, в которой Христос представил миру содержания Своего бессознательного, была воспринята и объявлена общеобязательной. Вследствие этого все индивидуальные фантазии утратили значимость и ценность – более того, они провозглашались ересью и подвергались преследованию, как доказывают история гностического движения и судьба всех позднейших еретиков. В том же смысле высказывается и пророк Иеремия:
Так говорит Господь Саваоф: не слушайте слов пророков, пророчествующих вам: они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних…
Я слышал, что говорят пророки, Моим именем пророчествующие ложь. Они говорят: «мне снилось, мне снилось».
Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца?
Думают ли они довести народ Мой до забвения имени Моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя Мое из-за Ваала?
Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон; а у которого Мое слово, тот пусть говорит слово Мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном? – говорит Господь[102].
82 На заре христианства епископы ревностно трудились над искоренением деятельности индивидуального бессознательного среди монахов. Особенно ценными сведениями делится архиепископ Афанасий Александрийский в своем жизнеописании святого Антония. Наставляя монастырскую братию, он повествует о призраках и видениях, об опасностях души, одолевающих того, кто в одиночестве предается молитвам и посту. Афанасий предостерегает от дьявольских козней, ибо зло умеет принимать разные обличья с целью довести святых мужей до падения. Дьявол, разумеется, есть не что иное, как внутренний голос самого отшельника, взывающий из недр бессознательного и отвергающий насильственное подавление индивидуальной природы. Приведу ряд цитат из этой труднодоступной книги; они наглядно покажут, сколь систематически бессознательное подавлялось и обесценивалось[103].
Итак, демоны всякому христианину, наипаче же монаху, как скоро увидят, что он трудолюбив и преуспевает, прежде всего предприемлют и покушаются – положить на пути соблазны. Соблазны же их суть лукавые помыслы. Но мы не должны устрашаться таковых внушений. Молитвою, постами и верою в Господа враги немедленно низлагаются. Впрочем, и по низложении они не успокаиваются, но вскоре снова наступают коварно и с хитростью. И когда не могут обольстить сердце явным и нечистым сластолюбием, тогда снова нападают иным образом, и стараются уже устрашить мечтательными привидениями, претворяясь в разные виды и принимая на себя подобие женщин, зверей, пресмыкающихся, великанов, множества воинов. Но и в таком случае не должно приходить в боязнь от этих привидений; потому что они суть ничто, и скоро исчезают, особливо, если кто оградит себя верою и крестным знамением… Они коварны и готовы во все превращаться, принимать на себя всякие виды. Нередко, будучи сами невидимы, представляются они поющими псалмы, припоминают изречения из Писаний. Иногда, если занимаемся чтением, и они немедленно, подобно эху, повторяют то же, что мы читаем; а если спим, пробуждают нас на молитву, и делают это так часто, что не дают почти нам и уснуть. Иногда, приняв на себя монашеской образ, представляются благоговейными собеседниками, чтобы обмануть подобием образа, и обольщенных ими вовлечь уже во что хотят. Но не надобно слушать их, пробуждают ли они на молитву, или советуют вовсе не принимать пищи, или представляются осуждающими и укоряющими нас за то самое, в чем прежде были с нами согласны. Ибо не из благоговения и не ради истины делают это, но чтобы неопытных ввергнуть в отчаяние. Подвижничество представляют они бесполезным, возбуждают в людях отвращение от монашеской жизни, как самой тяжкой и обременительной, и препятствуют вести этот, противный им, образ жизни.
Вот другой рассказ святого Антония.
Однажды явился с многочисленным сопровождением демон весьма высокий ростом, и осмелился сказать: я – Божия сила; я – Промысл; чего хочешь, все дарую тебе. – Тогда дунул я на него, произнеся имя Христово, занес руку ударить его и, как показалось, ударил, – и при имени Христовом тотчас исчез великан этот со всеми его демонами. Однажды, когда я постился, пришел этот коварный в виде монаха, имея у себя призрак хлеба, и давал мне такой совет: ешь, и отдохни после многих трудов; и ты – человек, можешь занемочь. – Но я, уразумев козни его, восстал на молитву, и демон не стерпел сего, скрылся, и исшедши в дверь, исчез, как дым. Много раз в пустыне мечтательно показывал мне враг золото, чтобы только прикоснулся я к нему и взглянул на него; но я отражал врага пением псалмов, и он исчезал. Часто демоны наносили мне удары, но я говорил: ничто не отлучит меня от любви Христовой. И после сего начинали они наносить сильнейшие удары друг другу. Впрочем, не я удерживал и приводил их в бездействие, но Господь… Однажды кто-то в монастыре постучался ко мне в дверь. И вышедши, увидел я какого-то явившегося огромного великана. Потом, когда спросил я: кто ты? – Он отвечал: я – сатана. – После сего на вопрос мой: для чего же ты здесь? – сказал он: почему напрасно порицают меня монахи и все прочие христиане? почему ежечасно проклинают меня? – И на слова мои: а ты для чего смущаешь их? – ответил: не я смущаю их; они сами себя возмущают; а я стал немощен… Нет уже мне и места, не имею ни стрел, ни города. Везде христиане: и пустыня наконец наполняется монахами. Пусть же соблюдают сами себя, и не проклинают меня напрасно. Тогда, подивившись благодати Господней, сказал я ему: всегда ты лжешь, и никогда не говоришь правды; однако же теперь, и против воли, сказал ты это справедливо. Ибо Христос, пришедши, соделал тебя немощным, и низложив, лишил тебя всего. – Услышав имя Спасителя и не терпя палящей силы его, диавол стал невидим.
83 Приведенные цитаты разъясняют, каким образом, благодаря общей вере, возможно отринуть индивидуальное бессознательное, пусть даже оно очевидно провозглашает истину. Особые причины такого поведения таятся в истории духа, но растолковывать их здесь неуместно. Довольствуемся тем фактом, что бессознательное подверглось подавлению и вытеснению. Говоря психологически, это подавление состоит в перенаправлении либидо, то есть психической энергии. Освобожденное либидо служит материалом для построения и развития сознательной установки, а в итоге постепенно складывается новое мировоззрение. Несомненная польза этого процесса укрепляет, конечно же, такую установку. Неудивительно поэтому, что психология нашего времени характеризуется прежде всего негативным отношением к бессознательному.
84 Нетрудно догадаться, почему наука должна исключать из рассмотрения всякое чувство и всякую фантазию. На то она, собственно, и наука. Но как обстоит дело с психологией? Считая себя наукой, она должна поступать сходным образом. Но исчерпает ли она тогда предмет своих исследований? Любая наука в конечном счете стремится сформулировать и выразить свой предмет абстрактно, а потому и психология может и облекает чувства, ощущения и фантазии в абстрактную интеллектуальную форму. Да, тем самым получает подкрепление интеллектуально-абстрактная точка зрения, однако остаются в небрежении прочие возможные психологические воззрения. Они лишь мимоходом затрагиваются научной психологией, которая отказывается видеть в них самостоятельные научные принципы. Наука при всех обстоятельствах – удел одного лишь интеллекта, а остальные психологические функции подчиняются ему как объекты. Интеллект властвует над всем в царстве науки. Вот только стоит науке ступить в область практического применения, как все меняется. Интеллект, былой правитель, становится помощником, инструментом, научно утонченным ремесленным орудием, которое перестало быть самоцелью и превратилось в простое условие. Теперь интеллект и наука вместе становятся на службу творческому замыслу и целеполаганию. Перед нами по-прежнему «психология», но уже не наука; это психология в более широком смысле слова, психологическая деятельность творческой природы, в которой первенство отдается созидающей фантазии. Иначе говоря, в практической психологии руководящая роль выпадает на долю самой жизни – да, налицо порождающая и созидающая фантазия, которая пользуется наукой как вспомогательным средством, но при этом наличествуют и многообразные требования внешней действительности, побуждающей творческую фантазию к деятельности. Несомненно, что наука как самоцель есть высокий идеал, но последовательное движение к нему создает столько же самоцелей, сколько вообще имеется наук и искусств. В результате возникает обильная дифференциация и специализация частных функций, но они вместе с тем отчуждаются от мира и жизни, а разнообразие специальных областей понемногу утрачивает всякую связь между собой. Оскудение и опустошение наблюдается не только в каждой из специальных областей, но и в психике человека, сумевшего благодаря дифференцированию возвыситься (или опуститься) до положения специалиста. Наука должна доказывать свою жизненную пригодность; мало быть госпожой, следует порой становиться и служанкой. Этим она ничуть себя не позорит.
85 Наука позволила нам заглянуть в область психических нерегулярностей и нарушений, за что присущий науке интеллект заслужил наше величайшее уважение, но было бы роковым заблуждением приписывать науке вследствие того абсолютную самоцель, отнимая у нее возможность служить простым орудием. Вступая с интеллектом и наукой в фактическую жизнь, мы тотчас замечаем ограничения, которые преграждают путь в другие, столь же действительные области жизни. Поэтому приходится признавать универсальность нашего идеала за некоторое ограничение и искать spiritus rector[104], который во имя полноты жизни выступает наилучшим ручательством психологической универсальности в сравнении с интеллектом. Восклицая: «Все в чувстве!», Фауст всего-навсего взывает к противоположности интеллекта и впадает, по сути, в другую крайность, не достигая ни полноты жизни, ни полноты собственной психики, когда чувство и мышление объединяются в высшее третье. Это высшее третье, о чем уже говорилось, можно трактовать как практическую цель или как фантазию, созидающую эту цель. Цель полноты не в состоянии постигнуть ни наука как самоцель, ни чувство, лишенное зоркости мышления. Одно должно пользоваться другим как вспомогательным средством, но пропасть между наукой и чувством столь велика, что необходим мост, их связующий. Таким мостом является созидающая фантазия. Она не возникает из этих областей, а является матерью обоих; более того, она носит в себе зародыш грядущего объединения этих противоположностей.
86 Пока психология для нас остается только наукой, мы будем стоять вне жизни, будем служить науке как самоцели. Да, через науку мы постигаем объективное положение дел, но она не считается ни с какими иными целями, кроме своей собственной. Интеллект вынужден томиться в самом себе до тех пор, пока он не пожертвует добровольно своим первенством и не признает ценности иных целей, достойных внимания. Он не решается перешагнуть через самого себя и не желает жертвовать своей всеобщей значимостью, поскольку все прочее для него – не более чем фантазия. Но разве все великое не было вначале фантазией? Интеллект, закоснев в науке как самоцели, тем преграждает себе путь к источнику жизни. Для него фантазия – лишь «сон-желание» (Wunschtraum
