Читать онлайн Живая корейская мифология. Дракон, проглотивший солнце, легенды о волшебных странствиях и демоны-токкэби бесплатно
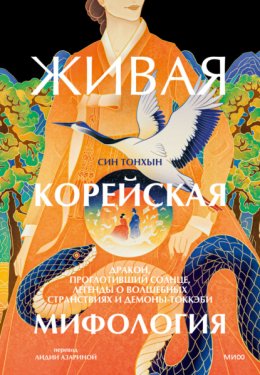
Оригинальное название:
살아있는 한국 신화
На русском языке публикуется впервые
Научный редактор Наталья Чеснокова
This book is published with the support of the Literature Translation Institute of Korea (LTI Korea).
Все права защищены.
Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
살아있는 한국 신화 (THE LIVING KOREAN MYTHOLOGY) by 신동흔 (Dong-Hun Shin)
Copyright © Dong-Hun Shin 2014 All rights reserved.
Originally published in Korea by Hankyoreh En Co., Ltd., Seoul in 2014.
Russian translation edition is published by arrangement with Hankyoreh En Co., Ltd.
Russian translation rights arranged with Imprima Korea Agency (the Republic of Korea)
© Иллюстрации. huaepiphany, 2025
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «МИФ», 2025
* * *
Предисловие
В ПОИСКАХ МИФОВ
Доводилось ли вам слышать эти имена: Чхончжи-ван, Тэбёль-ван, Собёль-ван, Тангым, молодец Канним, Пари, Вонган, Халлаккун, Хван Уян, госпожа Манмак, Пэкчутто, Сочхонгук, Квенегитто, Пэкчо, Какси, Чачхонби, юноша Мун, Камынчжан, Ансингук, Оныль, Мэиль, чиновник Ян, Кунсани, Кванчхон?[1]
Это герои корейских мифов. Многострадальные, участливые боги, веками и тысячелетиями хранившие корейский народ.
Среди читателей этой книги вряд ли найдутся те, кто незнаком с богами и героями мифов Древней Греции: Зевсом, Гераклом, Афиной. Перед нами проходят сонмы богов и героев с выдающимися родословными, от Кроноса и Реи до Энея и Одиссея. Восхищаясь блестящим древнегреческим наследием и попутно бросая взгляд на не менее достойные египетские или китайские мифы, невольно задаешься вопросом: почему в Корее нет столь же богатой мифологии? Как получилось, что на этой земле с ее славной пятитысячелетней историей не найти ни одного мифа о сотворении мира?
Но так ли это на самом деле? Вовсе нет. В Корее есть невероятные, потрясающие мифы о начале времен: о том, как в бесконечном хаосе отделились друг от друга небо и земля; как из небесной энергии и земной росы появился человек; о сыновьях земной женщины, ставших правителями вселенной, – Тэбёль-ване и Собёль-ване… Да только ли истории о творении? Сколько в Корее чудесных мифов – и не счесть. Полные неистощимой фантазии, они повествуют о событиях, поражающих до глубины души. Их называют народными или шаманскими мифами, шаманскими песнопениями понпхури, и это не случайно. Они, словно река, текут в недрах народной памяти из тех далеких времен, когда еще не существовало письменности и истории передавались из уст в уста и запечатлевались в каждом сердце.
О чем же повествуют эти мифы? О принцессе Пари, которая отправилась в Западные земли под западными небесами – на тот свет, чтобы спасти отвергнувший ее мир. О девочке по имени Оныль, носившей в своем маленьком сердце целую вселенную. О Чачхонби, которая ради любви готова была даже сгореть в огне. О верной Манмак, умевшей по запаху одежды опознать своего мужа. О герое Квенегитто, покорившем и суровое море, и бескрайнюю землю. О бесстрашном губернаторе из рода Ян, который даже под угрозой смерти продолжал восставать против несправедливости… Стоит познакомиться с этими живыми народными преданиями, с их героями, чьи истории трогают сердце, – и любые сомнения относительно корейской мифологии сменяются изумлением: оказывается, в Корее есть такое богатство!
Что же такое мифы? Это священные истории, которые бережно хранились и передавались из поколения в поколение. В их героях и сюжетах отражены фундаментальные человеческие ценности. Через мифологических персонажей, воплощавших идеалы и устремления, люди пытались осмыслить бытие и заглянуть за стену, отделяющую земную жизнь от того, что после. Народные мифы, созданные за века тернистого пути, являют собой плоды этих трудов. Они принадлежат гонимым и обездоленным, но тем, кто никогда не опускал рук и шел по жизни с высоко поднятой головой. Я верю, что борьба, отраженная в корейских мифах, является истинным символом народного духа.
По характеру корейские мифы совсем иные, чем западные; отличаются они и от китайских и японских мифов. Их герои чаще всего скромные простолюдины. В корейской мифологии сложно найти роскошное величие, свойственное древнегреческим и древнеримским мифам; ей чужды экзотические вычурные образы – атрибут китайского мифологического наследия. Это не значит, что корейские мифы лишены элементов блеска и могущества, но все же акцент в них делается не на роскоши, а на скромности, не на вычурности, а на простоте, не на устрашении, а на интимности. Это касается не только женских персонажей: Тангым, Пари, Оныль, Чачхонби; простота и скромность отличает и таких борцов, как Сумёнчанчжа, Канним, Кымсан, Ян. Одним словом, во всех этих героях много человеческого.
Человеческий характер мифологических героев – отличительная черта корейских народных преданий. Это не просто умозрительные абстрактные истории – в них отражена реальная жизнь людей. Большинство героев корейских мифов одновременно и боги, и люди. Родившиеся людьми, они прошли через горнило страданий и сделались богами, которым вверены человеческие судьбы. Некоторым удалось преодолеть ограниченность земной природы, но гораздо больше тех, кто вошел в сонм божеств вопреки ей. Почему так произошло? Это связано с представлением о том, что только те, кто сам познал земную юдоль, могут заботиться о людях и направлять их. Разве божественное непременно означает что-то запредельное? Вовсе нет. Оно исходит от согбенной спины старика, оно есть даже в ветхих яслях в конюшне.
Из множества аспектов человеческой жизни: взлетов и падений, радости и горя, веселья и печали – корейские мифы особое внимание уделяют страданиям и невзгодам. Нищета, отверженность, разлука, испытания… Пари, Оныль, Халлаккун, три сына Помувана в земле Кваян, братья Кобуги и Намсэни – все они были брошены и остались одни, словно сироты, всем им пришлось испить горькую чашу. Но кому в этом мире гарантирована безбедная жизнь? Думаю, не будет преувеличением сказать, что корейские мифы – это истории об испытаниях и об их преодолении. Даже в кромешной тьме, где не видно выхода, герои мифов не теряют надежды. Они выстаивают в невзгодах, встречаются с миром лицом к лицу и находят путь. Точнее, распахивают дверь. Так наконец они понимают и воплощают свое предназначение и становятся светом для людей. Вечным светом.
Мы впали в нелепые предрассудки относительно шаманизма, заклеймив его как суеверие. Зная чужое, но не зная своего, мы погрязли в полном невежестве, и наши бесценные мифы оказались в болоте забвения. Но я верю, что боги по-прежнему оберегают нас. Стоит позвать их – они вернутся. Где им еще быть, как не в наших сердцах.
* * *
Найти настоящее лицо корейских народных мифов, истинный облик богов – задача не из легких. От прежних времен не осталось письменных источников, доступны только устные передачи. Живые и динамичные, они в то же время отличаются непостоянством. Отсутствие единого первоисточника привело к огромному разнообразию вариантов одного и того же мифа в разных регионах и у разных исполнителей. Кроме того, в процессе модернизации под воздействием новых культурных трендов старинные истории отошли в тень и потускнели, утратив оригинальный колорит. Печально признавать, но в настоящее время шаманизм значительно искажен и потерял изначальную сущность.
Однако я не теряю надежды, что восстановить подлинный характер народных преданий все еще возможно. Пускай немного поблекшие, но они продолжают жить и по-прежнему исполняются. Несмотря на значительные изменения, неизбежные при устной передаче, каркас историй не разрушен. Их оберегает само понимание того, что это священные истории, с которыми не подобает обращаться излишне произвольно. Через сопоставление и тщательный анализ многочисленных источников можно восстановить исконный облик мифов. Многие исследователи успешно трудятся над этим.
При этом не менее важная задача – определить, что сегодня являем собой мы сами. Необходимо понять, какое значение могут иметь для нас мифологические истории из далекого прошлого. Однако я никогда не испытывал сомнений на этот счет. Убежден, что корейские мифы обладают национальной самобытностью и универсальностью. Поставленные в них проблемы – вопросы, касающиеся человека и жизни, – по сути, одни и те же во все времена. Именно поэтому я очень надеюсь, что мифы помогут современным людям, потерявшим внутреннюю точку опоры, вырваться из водоворота желаний и конфликтов, познать сущность бытия и обрести душевное спокойствие.
Но как бы то ни было, всё это мифы прошлых времен, забытые мифы. Так что тут не обойтись без толкований. Трудно сказать, какой методологии стоит придерживаться при интерпретации мифов, поскольку в этой области четких методов попросту не существует. Я буду исходить из установки, что божественное качественно не отличается от человеческого, и буду искать в человеке его истинный облик – облик восходящего божества. Сопереживая героям и делясь с читателями их поразительными историями, я хотел бы попытаться отыскать божественное начало, заключенное в нас самих. Надеюсь, в этом совместном путешествии нам удастся найти общий язык.
Я отдаю себе отчет, что с этой работой в одиночку мне было бы не справиться. Я благодарен всем замечательным людям, которые помогли воплотиться планам, и в первую очередь моим учителям, открывшим для меня мир литературы, и университетским товарищам. Этой книги не было бы без труда тех, кто собирал и расшифровывал материалы. Я многому учусь у своих студентов, которые всегда трудятся не покладая рук; они придают мне сил. Хочу выразить благодарность сотрудникам издательства «Хангёре синмунса», которым пришлось бороться с моей безграничной ленью. Не могу не упомянуть и тех, кто помог создать дизайн этой книги. Пусть всех их хранит божественная сила.
Сентябрь 2004 года
Часть I. Мифы и боги
Глава 1. Архаические мифы. Дыхание мифов о творении
Ким Сандори (Хамхын) «Чхансега»
- В давние-давние времена
- взял Майтрея[2] в руки два блюда – серебряное и золотое —
- и воззвал к небесам.
- Тогда упали с неба букашки:
- пять на золотое блюдо и пять на серебряное.
- Когда они выросли, золотые букашки превратились в мужчин,
- а серебряные – в женщин.
- Они поженились, и от них и произошли люди.
Как возник мир, в котором мы живем? Как появились люди и заселили эту землю? Вот основные и самые типичные вопросы, на которые отвечают мифы. Недаром их часто называют историями о происхождении мира. Мифологии разных народов через символы и архетипы дают ответы на эти вопросы. Такие мифы называют космогоническими, или мифами о творении. С них и стоит начать наш разговор.
Какие мифы о творении известны в Корее? Назвав «Миф о Тангуне», мы будем правы лишь наполовину. Хотя в нем и говорится о священном творении, речь идет о возникновении страны – первого корейского государства Древний Чосон. Но его появлению и заселению предшествовало рождение мира и людей. Истории, передающие эти события, представляют собой гораздо более архаичные мифы.
В Корее мифы о творении, повествующие о начале времен, имеют устную традицию. Она гораздо древнее письменной и существует несравнимо дольше истории самой страны. Ее появление можно отнести ко времени возникновения языка. Суть устной традиции представляет собой рассказ. Фундаментальные идеи и опыт, которые нельзя было предавать забвению, люди облекали в слова и передавали из уст в уста. Устная традиция весьма вариативна, но в то же время достаточно надежна. Основные мотивы и структура сюжета не слишком подвержены изменениям. Повествование может заключать в себе вековую, тысячелетнюю и даже стотысячелетнюю историю.
Корейские мифы о творении – это в первую очередь «Чхансега» («Песнь о творении») из провинции Хамгёндо, а также «Чхогамчже» («Первичная церемония призвания»)[3] и «Чхончжи-ван понпхури»[4] («Песенный сказ о небесном владыке») c острова Чечжудо. Шаманская песнь «Сирумаль» из округа Хвасон – еще один устный миф, содержание которого связано с историей сотворения мироздания. Помимо этого, космогонические мотивы присутствуют во вступительной части ритуальных шаманских песнопений, таких как «Тангым» из «Чесок понпхури». Другими примерами могут служить «Сен кут»[5] (г. Хамхын), «Самтхэчжа-пхури» (г. Пхеньян), «Песнь о Тангомаги» (г. Каннын). Из многочисленных мифов о творении «Чхогамчже» и «Чхончжи-ван понпхури» и по сей день исполняются в селениях острова Чечжудо.
По сравнению с мифами о принцессе Пари, Тангым или Чхильсоне («Пари-тэги», «Тангым», «Чхильсон-пхури»), мифы о творении встречаются реже, их содержание лаконичнее. Недостаток источников сказывается на последовательности повествования и степени завершенности сюжетов. Ситуация становится понятной, если вспомнить, что боги в корейских мифах о творении не управляют такими аспектами земного бытия, как жизнь и смерть, благополучие и богатство, счастье и радость. Традиционное народное мышление склонно придавать большее значение реальной действительности, вследствие чего развитие получили сюжеты о божествах, имеющих глубинную связь с повседневной жизнью.
Но хотя источники выглядят несколько фрагментарными и хаотичными, каждая строка в них хранит первичные образы космоса и человека. Если отбросить недоверие к устному преданию и погрузиться в него, можно соприкоснуться с древней тайной, сокрытой в архетипических мотивах этих изумительных историй.
МИР ВОЗНИК ИЗ ХАОСА, ЧЕЛОВЕК СПУСТИЛСЯ С НЕБА
Первая часть корейского мифа о творении передает историю появления неба и земли. Любопытно, что это событие описано не как сотворение бытия из небытия, а как разделение уже существовавшего. Согласно мифу, небо и земля вплотную прилегали друг к другу или даже представляли собой общую субстанцию. Что означает подобное состояние неразделенности? Пожалуй, его правомерно назвать хаосом: небо еще не было в полном смысле небом, земля – землей, и на этом этапе рано говорить об их самостоятельном существовании. Пока не установлен космический порядок, не разделены верх и низ, свет и тьма, легкое и тяжелое, ясное и мутное. С разделением неба и земли наконец возникает космос. Момент их разъединения может считаться началом творения.
Источники передают это событие по-разному. В одних говорится, что, когда пришло время, небо и земля разделились сами собой, вследствие чего возник мир и все сущее; другие приписывают это вмешательству некоего огромного божества. Ученые сходятся во мнении, что мотив участия гигантского бога первичен. «В первый год, первый месяц, первый день, первый час шестядисятилетнего цикла небо и земля разделились». Даже если пытаться увидеть в этом пассаже отражение даосской мысли, он представляется довольно скучным. Мотив раскола имеет смысл, если с ним связан определенный нарратив. Вот как рассказывает о рождении вселенной шаманка Ким Ссандори из Хамхына в песне о творении «Чхансега» (Священные песнопения Чосона / под ред. Сон Чинтхэ. Издательство «Хянтхомунхваса», 1930):
Прежде чем возникли небо и земля,
появился Майтрея.
Небо и земля плотно прилегали друг к другу и не расходились.
Майтрея оттянул небо от земли, придав ему форму крышки от горшка,
возвел по четырем сторонам света медные колонны.
В те времена всходили два солнца и две луны.
Снял Майтрея одну луну – и превратил в созвездия на севере и на юге.
Снял одно солнце – и превратил в большую звезду.
Малые звезды отвечали за судьбы народа,
большие покровительствовали королям и министрам.
Итак, бог-исполин по имени Майтрея разделил небо и землю и установил во вселенной порядок. Содержание истории выглядит простым, однако ее смысл глубже, чем может показаться.
Согласно этому мифу, вначале небо и земля были едины. Именно тогда и появился Майтрея. Бог стал первым существом, возникшим вместе с хаосом. Бог-творец, разделивший руками небо и землю, имеет облик исполина. Если рассудить, то это вполне естественно, ведь он пребывал в мире Великого хаоса. Представление о демиурге как исполине встречается в мифах разных стран, и это не случайно.
Интересны также образы неба и земли. Когда Майтрея пытался приподнять небо, оно приняло форму крышки от горшка. Но вот зачем понадобилось воздвигать с четырех сторон колонны? Возможно, причина в том, что небо и земля стремились обрести изначальное единство. С тех пор и по сей день небо шлет земле солнечный свет, дождь и снег, а земля растит деревья и травы, посылая в небо энергию, и в этом можно видеть их тягу друг к другу. Подобный динамизм верха и низа сделал пространство между небом и землей местом невероятных перемен. Место, где каждые сутки день сменяет ночь, чередуются времена года, существует бесконечный круговорот жизни и смерти, – таков мир, в котором мы живем.
История создания вселенной в «Чхансега» впечатляет, но правда и то, что она выглядит несколько шаблонной. Особенно из-за того, что разделение неба и земли и сотворение светил приписывается богу-исполину. Хочется большего драматизма и динамики. Все это можно найти в мифе о творении с острова Чечжудо; там мы встречаем другого бога-великана – Тосумунчжана.
В начале времен взглянул Нефритовый император Тосумунчжан на мир и увидел, что земля и небо слеплены друг с другом, точно рисовая лепешка, и пребывают в полном смешении. С этого момента и начинается история неба и земли. Одной рукой поддерживая небеса, а другой отталкивая землю, Тосумунчжан приоткрыл небо с севера и северо-запада, а землю – c северо-востока. Хвост востока оказался у головы запада, а хвост запада – у головы востока. Небо и земля раскрылись, и в пространстве между ними возникли горы и воды. Из-под горы вышла вода, из-под воды вышла гора – так они и разошлись.
В мире появились тридцать тысяч тридцать три неба: три в вышине, три над землей, три под землей… Небеса были голубыми и ясными, а землю покрывал белый песок. В то время в мире царила кромешная тьма: не было ни солнца, ни луны, ни звезд. Потом стали всходить звезды. Над восточными горами зажглась Утренняя звезда, на западе – Белая земная; на юге – Звезда старика, а на севере – семь звезд Малой Медведицы. Появились великие звезды Вонсон, Чинсон, Моксон, Кансон, Кисон, Кэсон, Тэсон, а в середине неба – звезды Юксон, Соми, Чиннё, Тхагван, Нокти, Пагок, Хвантхо. После того как звезды Чиннё и Кёну встретились на Птичьем мосту и обручились, с неба стала падать роса, а с земли подниматься водяной пар – так инь и ян сообщались друг с другом.
Кто же тогда родился? Это был Панго (Паньгу), мальчик в голубых одеждах. Он имел два глаза на лбу и два на затылке. Увидев это, Тосумунчжан забрал у Панго передние глаза и прилепил их к небу на востоке – так появились два солнца. Забрал два задних глаза и прилепил к небу на западе – так появились две луны. Солнца и луны всходили парами, и потому днем стояла нестерпимая жара, а по ночам землю сковывал ледяной холод.
В те времена появились поднебесный и подземный миры. Призраки жили в темноте, а люди – при свете. У призраков было по четыре глаза, и потому им были видны оба мира: и земной, и потусторонний. Люди же имели только два – они видели друг друга, но не могли видеть призраков. Король Тэбёль завладел красным флагом и стал править миром мертвых, Собёль-ван завладел синим флагом и стал править миром живых. На земле распространились буддизм и даосизм, появились сонмы святых, короли и обычные люди.
Такова история разделения земли и неба и появления небесных светил, представленная в «Чхогамчже». Ее поведал шаман Ко Чханхак из Андокмёна на острове Чечжудо (Чин Сонги. Энциклопедия шаманских песен Чечжудо. Издательство «Минсоквон», 1991). В «Чхогамчже» время, когда небо и земля были едины, описывается как небесно-земное «смешение». Это выражение как нельзя более точно отражает состояние первозданного хаоса, в котором пребывала вселенная на заре своего существования. Из хаоса мир вывел Тосумунчжан, отделив небо от земли. Судя по описанию – одной рукой поднял небо, а другой оттолкнул землю, – Тосумунчжан тоже был богом-исполином.
Под «Нефритовым императором» здесь подразумевается небо. Такое наименование исполина-демиурга отражает представления о том, что источник творения находится на небе, а не на земле. Взгляд на небо как на центр мироздания – универсальная черта корейской мифологии, она встречается не только в мифах, но и в легендах об основании страны. Однако этот миф не умаляет роли земли. Слова о том, что с неба на землю сходила роса, а с земли в небо поднимался водяной пар, благодаря чему осуществлялось их гармоничное событие, подтверждают, что земля считается полноценным партнером неба.
Любопытна история появления Панго. В зависимости от источника, он называется то по имени, то просто «мальчик в голубых одеждах», но речь идет об одном и том же персонаже. Образ бога-творца Панго (кит. Паньгу) широко представлен в восточноазиатской мифологии. Можно предположить, что вышедшее из земных недр некое «голубое существо жизни» позже под влиянием китайской традиции получает новое имя. Поскольку китайский Паньгу – бог-исполин, то и мальчик в голубых одеждах Панго, несомненно, был великаном. Это хорошо видно из сцены превращения его глаз в солнце и луну. Примечательно, что корейский миф описывает происхождение небесных светил от существа сугубо земной природы. Перед нами парадоксальная космология: получается, что свет произошел из подземельной тьмы. В некотором смысле это противоречит логике мироздания, однако, учитывая, что небо и земля изначально представляли собой единое тело, можно предположить существование света в недрах земли. На самом деле так оно и есть, ведь земля заключает в себе бесконечную энергию жизни и великое тепло.
Когда разделенные небо и земля в паре формируют основу вселенной, возникают два параллельных мира. «Тот свет» представляет собой сферу темного и красного, место обитания призраков; «этот свет» – пространство яркого и синего, мир живых людей. Примечательно, что призраки видят противоположный мир, а люди нет. Яркость и жизнь имеют ограничения, таким образом достигается принципиально важное равновесие. Возможно, сами яркость и жизнь не позволяют видеть ничего за их пределами. Управление каждым из миров поручено братьям Тэбёль-вану и Собёль-вану. Историю об этом мы рассмотрим подробнее ниже.
Мир создан, базовая структура сформирована, и в последующем повествовании раскрываются истории новых вещей. В этом отношении примечательна песнь о творении «Чхансега» из Хамхына. В ней говорится о происхождении одежды, воды и огня, появившихся сразу вслед за небом и землей.
У Майтреи не было ни одежды, ни ткани, чтобы ее сшить. Срезал Майтрея плети пуэрарии, растянувшиеся по склонам гор, очистил их и отпарил. Поставил он под небом ткацкий станок, подвесил ремизки в облаках и смастерил себе одеяние. Сделал Майтрея из плетей пуэрарии робу-чансам длиной в один пиль с рукавами в полпиля, с ластовицей в пять ча[6], с воротом в три ча. Смастерил и колпак-коккаль: сперва отмерил ткани один ча и три чхи[7], да оказалось мало; отмерил два ча и три чхи – тоже не хватило; только когда взял Майтрея три ча и три чхи, колпак пришелся впору.
Ел Майтрея сырую пищу. Огня не разводил, глотал твердое зерно мешками и корзинами – нелегко ему приходилось. Вот и решил Майтрея раздобыть огонь и воду. Поймал он кузнечика, стал бить его по ногам и допытывать:
– Отвечай, кузнечик, где добыть огонь и воду?
– Откуда мне знать? Ночью я питаюсь росой, а днем – солнечным светом. Спроси лучше лягушку – она родилась на год раньше меня.
Поймал Майтрея лягушку, стал бить ее по ногам и допытывать:
– Отвечай, знаешь, где добыть огонь и воду?
– Откуда мне знать? Ночью я питаюсь росой, а днем – солнечным светом. Поймай лучше мышь – она родилась на два года раньше меня. У нее и спроси.
Поймал Майтрея мышь, стал бить ее по лапам и допытываться:
– Отвечай, знаешь, где добыть огонь и воду?
– А что ты мне за это дашь? – спросила мышь.
– Отдам тебе во владения все амбары этого мира, – пообещал Майтрея.
Тогда мышь ему сказала:
– Ступай на гору Кымдонсан, возьми там кусок кремня и железа, стукни ими друг о друга – и будет тебе огонь. А на горе Сохасан найдешь ключ – там и добудешь воду.
Так Майтрея узнал, как добыть огонь и воду.
В мифах о творении мотив поиска одежды, огня и воды имеет особое значение. Рассказ о том, как люди стали одеваться и готовить пищу, – это начало повествования о цивилизованной жизни. Можно сказать, так фиксируется переход от первобытности к цивилизации.
Любопытно, как миф обыгрывает эту ситуацию: бог-исполин мастерит одежду на гигантском ткацком станке, достающем до самых небес. Здесь запечатлен грандиозный акт творения, в ходе которого устанавливается новый миропорядок, цивилизационное переустройство – при непосредственной связи с небом – земного бытия, метафорически представленного плетями пуэрарии.
Но важен не только сам акт творения. Заметим, весть о воде и огне приносит земная тварь. Смешно и подумать: бог-исполин ловил и пытал мелких, почти не заметных глазу существ, вроде кузнечика, лягушки и мыши. Наши предки были не лишены чувства юмора. Однако, если вдуматься, можно увидеть здесь глубокий смысл: миф подчеркивает, что земные твари знают этот мир лучше великих богов. Мышление древних людей было ориентировано на землю. Достаточно вспомнить среду обитания мышей, заселяющих все уголки мира, чтобы согласиться: среди прочих существ именно мыши могли быть известны источники огня и воды. В том, что она получает от бога-творца право владения всеми амбарами на свете, отражено представление древних людей, что великие космические дела тесно переплетены с малыми повседневными.
Корейские мифологические источники не содержат конкретных упоминаний о растениях и животных, об их появлении в этом мире. Из мифов можно понять лишь то, что они издревле существовали на земле, как это видно на примере пуэрарии, кузнечика или мыши из предыдущей истории. Отдельных рассказов о происхождении живых существ не встречается; это свидетельствует о том, что интереса к подобным вопросам не было. Исключение представляют только люди.
Корейская мифология знает несколько разных историй о происхождении человека. В одной говорится, что люди появились спонтанно, когда пришло время; в другой – что человека слепил из красной глины бог; третья повествует о спустившихся с неба букашках, которые выросли и превратились в людей. Последний вариант в научных кругах принято рассматривать как уникальный корейский архетипический сюжет. Он также содержится в «Чхансега».
В давние-давние времена взял Майтрея в руки два блюда – серебряное и золотое – и воззвал к небесам.
Тогда упали с неба букашки: пять на золотое блюдо и пять на серебряное.
Когда они выросли, золотые букашки превратились в мужчин, а серебряные – в женщин.
Они поженились, и от них и произошли люди.
В этом внешне простом эпизоде содержится немало заслуживающих внимания моментов. В первую очередь примечательна избранность человека. В отличие от других живых существ, люди появились в мире по воле бога, как результат его деяния. Тот факт, что прапредки людей спустились с небес и светились серебром и золотом, говорит о том, что человек – существо, наделенное высшей энергией. А значит, люди по своей природе связаны с небесными божествами. Будучи потенциально двойником бога, человек заключает в себе божественное начало. Это представление лежит в основе корейского мифологического сознания.
Уникальность данного сюжета состоит в том, что в нем показано не рождение людей сразу в идеальном человеческом облике, а их происхождение от букашек. В этой версии о постепенном превращении насекомых в людей можно видеть отражение эволюционизма, противопоставленного креационизму, согласно которому человек был сотворен по воле бога. В корейской мифологии креационизм и эволюционизм тесно переплетены.
Важен и семантический контекст, связанный с идеей «роста». Согласно мифу, вначале человек являл собой маленькую примитивную форму жизни и только впоследствии вырос и обрел свой настоящий облик. Это представление качественно отличается от идеи о том, что человек изначально был сотворен в идеальной форме. В процессе взросления его питает энергия земли; таким образом, человек не просто проекция небесного бога, а существо, рожденное из гармонии духа земли с духом неба. Вероятно, это первый случай, когда энергии земли и неба соединяются в одном существе, что делает человека особенным. Именно люди идеально подходят для жизни в динамичном мире между стремящимися друг к другу небом и землей. Стоящий ногами на земле, с лицом, обращенным к небу, человек в полной мере является главным героем этого мира.
Стоит обратить внимание на то, что появляется не одна, а сразу пять пар мужчин и женщин. Конечно, это правомерно рассматривать как способ избежать кровосмешения, но можно поискать и другой смысл. По моему мнению, таким образом миф объясняет разнообразие человеческих личностей. Каждый из нас обладает уникальной внешностью, характером, способностями, и предание о десяти первопредках естественным образом объясняет такую многообразность. Видимо, десять представлялось нашим предкам оптимальным числом, чтобы отразить идею разнообразия.
Будучи двойником бога, человек является особым существом. Как мы увидим далее, в корейских мифах многие люди превращаются в богов. Однако даже если этого не происходит, после смерти человек не исчезает. Тело умирает, но душа как вместилище божественного духа продолжает существовать. Место ее обитания – потусторонний мир. Как упоминалось ранее, «тот свет» и «этот свет» составляют пару инь и ян. Называя «тот свет» жилищем человеческой души, я хочу подчеркнуть, что это мир, тесно связанный с людьми. «Этот свет» и «тот свет» представляют собой передний и задний фасад, внешнее и внутреннее пространство человеческого мира.
После появления в мире людей трудно найти следы глубокого вмешательства богов в их жизнь. Кажется, боги совсем не участвуют в земных делах и человек предоставлен самому себе. Может быть, земная юдоль с ее нескончаемым круговоротом суток, времен года, жизни и смерти кажется им опасной? Или же боги слишком заняты устроением собственного мира? Как бы то ни было, совершенно ясно, что пространство бесконечных перемен не самое подходящее место для богов. Зато оно как нельзя лучше подходит для тех, кто родился и вырос в нем.
ЧХОНЧЖИ-ВАН И СУМЁНЧАНЧЖА, ТЭБЁЛЬ-ВАН И СОБЁЛЬ-ВАН: ВНАЧАЛЕ БЫЛА ССОРА
Был ли тот древний мир для людей раем – или наоборот? Ответ уже известен. В те времена на небо всходили два солнца и две луны. Людям приходилось терпеть невзгоды и бороться за выживание.
Вначале днем и ночью мир покрывала тьма, поэтому невозможно было различить стороны света. В то время на юге во Дворце солнца и луны явился мальчик в голубых одеждах с глазами на лбу и на затылке. С небес, из Нефритового дворца, спустился Тосумунчжан, снял с его лба два глаза, благословил восток – и взошли два солнца; снял два глаза с затылка, благословил запад – и взошли две луны. Солнца и луны осветили мир, но сделали его непригодным для жизни: днем люди изнывали от зноя, а ночью замерзали от холода.
В те времена жил на земле безжалостный Сумёнчанчжа. Держал он девять яростных лошадей, девять волов и девять собак. Животные были настолько свирепы, что людям, страдавшим от притеснений Сумёнчанчжи, никак не удавалось найти на него управу.
Однажды поднял Сумёнчанчжа взгляд на небесного короля Чхончжи-вана и заявил:
– Никому на этом свете меня не одолеть!
Его слова возмутили Чхончжи-вана, и король в сопровождении ста тысяч воинов спустился на землю. Он пришел к дому Сумёнчанчжи, сел у ворот на ветку ивы и принялся творить чудеса. Околдованная корова тут же взобралась на крышу и замычала, а из дома вышел котел и стал расхаживать по двору. Однако Сумёнчанчжа ничуть не испугался. Тогда Чхончжи-ван повязал ему на голову свой платок. Почувствовав сильную боль, Сумёнчанчжа закричал слуге:
– Ой, как больно! Скорее разбей мне голову топором!
«Вон какой дерзкий!» – изумился Чхончжи-ван и, сняв с головы Сумёнчанчжи платок, отступил.
На обратном пути Чхончжи-ван зашел в дом старушки Пэкчжу.
– Я у вас переночую, – сказал он хозяйке.
– Мы живем бедно, как мы можем принять таких гостей? – ответила та.
– Об этом не беспокойтесь, – сказал Чхончжи-ван и ступил на порог.
Хозяйка засуетилась: ей нечего было подать гостю на ужин.
– Ступай к Сумёнчанчже, попроси у него риса, – велел ей король.
Старушка Пэкчжу так и сделала. Вернувшись с рисом, она наварила каши и накормила Чхончжи-вана и сто тысяч воинов. После ужина небесный король лег спать. И вдруг посреди ночи слышит он шорох: кто-то расчесывает волосы нефритовым гребнем.
– Это дочь моя, – сказала хозяйка.
Чхончжи-ван позвал девушку и увидел, что она прекрасна, как фея из Лунного дворца. В ту же ночь они стали мужем и женой. На третий день король собрался возвращаться на небо.
– Как же я тут одна останусь? – спрашивает его супруга. – А если дети родятся?
– Ты будешь зваться Пагиван и станешь владычицей мира. А родятся дети – назови их Тэбёль-ван и Собёль-ван. Вот залог, что они встретятся со мной: отдай им эти два тыквенных семечка, пусть посадят в день быка первого лунного месяца. Тогда ко дню быка четвертого месяца вырастут плети, и по ним мои сыновья поднимутся на небо.
Прошло десять месяцев, родила дочь старушки Пэкчжу двух сыновей и назвала их Тэбёль-ван и Собёль-ван. Когда исполнилось братьям семь лет, пришли они к матери и спросили:
– Кто наш отец и где он?
– Ваш отец король Чхончжи-ван из Нефритового дворца.
– Как его найти?
– Возьмите это, – сказала мать и дала сыновьям семена тыквы.
Посадили их братья в день быка первого лунного месяца, и ко дню быка четвертого месяца выросли плети до самого неба. Братья поднялись в Нефритовый дворец, отыскали отца, и тот спросил:
– Как ваши имена и кто ваша мать?
– Нас зовут Тэбёль-ван и Собёль-ван, а наша мать – Пагиван.
В доказательство братья показали отцу гребень, кисть и нить, которые дала им мать.
– Несомненно, вы мои сыновья, – сказал Чхончжи-ван. – Как вам живется на земле?
– В нашем мире два солнца и две луны. Поэтому люди сгорают при солнечном свете и замерзают по ночам, – ответили братья.
Тогда вручил им Чхончжи-ван железный лук в тысячу кын[8] и стрелы и сказал:
– Сбейте с неба одно солнце и одну луну.
Спустились братья на землю и пошли стрелять в небесные светила. Тэбёль-ван оставил одно солнце на небе, а другое сбил стрелой. Раскололось второе солнце и превратилось в мириады звезд на востоке. Вслед за ним Собёль-ван сбил вторую луну, и тогда засияли мириады звезд на западе. Так в мире остались только одно солнце и одна луна. На востоке зажглась Утренняя звезда, на западе – Сумеречная, на юге – Звезда старика, а на севере – семь звезд Большого Ковша. Посередине небосвода – звезды Кёну и Чиннё, новые ночные звезды и двадцать восемь лунных стоянок.
Потом Собёль-ван сказал Тэбёль-вану:
– Пускай один из нас установит порядок в земном мире, а другой – в загробном.
– Хорошо, – согласился тот.
Однако оба брата желали править на земле.
– Давай отгадывать загадки. Кто выиграет, тому достанется мир живых, кто проиграет – отправится в мир мертвых, – предложил Собёль-ван.
– Давай, брат. Тогда ответь, какие деревья сбрасывают листья, а какие нет? – спросил Тэбёль-ван.
– Деревья с полыми стволами сбрасывают листья, а низкорослые – нет.
– Эх ты, горемыка! Не говори того, чего не знаешь. Бамбук и тростник тоже полые внутри, а листьев не роняют. Тогда ответь, отчего на холме трава коротка, а в овраге высока? – снова спросил Тэбёль-ван.
– От весенних дождей земля с холма сползает в овраг, оттого на холме трава коротка, а в овраге высока.
– Эх ты, горемыка! Не говори того, чего не знаешь. Отчего же тогда у человека на голове волосы длинны, а на ногах коротки?
Снова проиграв, Собёль-ван сказал:
– Брат, давай посадим цветы. Чей цветок расцветет пышным цветом, тому править миром живых, а чей зачахнет – миром мертвых.
– Хорошо придумал, – согласился Тэбёль-ван.
Отправились братья к королю преисподней Чибу-вану, набрали цветочных семян и посадили в серебряную, медную и деревянную чаши. У старшего брата цветок расцвел пышным цветом, а у младшего зачах.
– Давай-ка, брат, вздремнем, – предложил Собёль-ван.
– И то верно, – согласился Тэбёль-ван.
Старший брат сразу заснул, а младший закрыл внешний глаз, открыл внутренний, потом поменял местами чаши с цветами и говорит:
– Брат, давай-ка пообедаем.
Проснулся Тэбёль-ван и увидел, что младший брат забрал себе его пышный цветок, а ему подложил чахлый.
– Эх ты, горемыка! Раз так, тебе править миром живых. Наверняка при твоих законах заполонят его воры, предатели и убийцы. Будут мужья бросать своих жен, а жены – мужей и уходить к чужим супругам. А я сотворю законы для загробного мира. И будут они простыми и ясными. Берегись, если загубишь дело!
Старший брат отправился в подземное царство, а младший позвал Сумёнчанчжу и сказал:
– Много зла ты натворил, нет тебе прощения!
Собёль-ван приказал принести на передний двор дубины, а на задний соломорезку – и казнил Сумёнчанчжу. Потом он перемолол его кости и плоть и развеял по ветру. Превратились плоть и кровь злодея в мух и комаров, в клопов-кровососов, которые разлетелись и расползлись по всей земле.
Расправившись с Сумёнчанчжой, Собёль-ван исправил человеческие пороки, разграничил добро и зло и стал царствовать в мире, заботясь о счастье и процветании.
Это отрывок из «Чхончжи-ван понпхури», или «Песни о небесном владыке», c острова Чечжудо[9]. Этот миф исполняется и по сей день и был неоднократно задокументирован. Стержень повествования во всех источниках один и тот же, но детали могут отличаться. Так, Сумёнчанчжа встречается под именами Свимен или Свемен; в одном варианте король Чхончжи-ван надевает на Сумёнчанчжу свой платок, в другом – покрывает его голову железной сеткой. Земную супругу Чхончжи-ван, Пагиван, нередко называют Чхонмён-аги или Чхонмён-пуин. В описании противостояния короля Чхончжи-вана и Сумёнчанчжи, Тэбёль-вана и Собёль-вана также существуют некоторые различия. Приведенный здесь пересказ основан на версии Пак Пончхуна 1930 года (Т. Акиба, Ч. Акаматцу. Исследования корейского шаманизма. Издательство «Окхо-сочжом», 1937). Однако в этом источнике опущен эпизод о состязаниях братьев за право господства на земле. Его я позаимствовал из рассказа Чон Чубёна (Хён Ёнчжун. Энциклопедия шаманизма острова Чечжудо. Издательство «Сингумунхваса», 1980).
В этом мифе описаны несколько этапов противоборства. Сначала говорится о конфликте человека с человеком: могучий Сумёнчанчжа пытается получить господство над людьми. Пользуясь незаурядной силой, он подавляет окружающих и присваивает чужое имущество. Его правомерно считать первым на земле злодеем или прототипом всех злодеев.
Интересна природа силы этого героя. В мифе говорится, что Сумёнчанчжа держал свирепых лошадей, быков и собак, из-за чего люди не осмеливались дать ему отпор. Названные здесь животные с давних времен живут рядом с человеком и служат ему, однако так было не всегда. Вероятно, в начале времен они были дикими и непокорными, как медведи или волки. Возможно, Сумёнчанчжа – первый, кому удалось приручить их. Сделав то, что не сумел никто другой, он мог претендовать на роль властелина мира. Хотя подавление окружающих силой – несомненное зло, описанная здесь ситуация, если разобраться, не может быть оценена однозначно. В мире, представленном в этом мифе, еще нет дифференциации добра и зла; это мир, в котором ценилась сила. Необходимо помнить, что начало размежеванию добра и зла положил Собёль-ван, но случилось это позже.
Бесстрашный Сумёнчанчжа бросает вызов самому благородному существу на небе и земле – богу Чхончжи-вану, которого отождествляют с Нефритовым императором[10]. Получив вызов, Чхончжи-ван решает наказать дерзкого Сумёнчанчжу. Так разворачивается первое противостояние человека и бога, в ходе которого задействуется магия божественной силы. Символически выраженная в образах взобравшейся на крышу коровы и ходячего горшка, она выходит далеко за пределы реальности и существующего порядка вещей. Эта сила неподвластна человеку. Человеческому взгляду не дано проникнуть во все тайны мироздания.
Итак, Сумёнчанчжа оказывается беспомощен перед божественной силой. Однако этот герой не так прост. Он не проявляет страха и не покоряется. Вместо того чтобы молить о пощаде, Сумёнчанчжа зовет слугу и приказывает взять топор и разбить ему голову. Этот парадоксальный ход обнаруживает его гордость и силу воли. Было бы неинтересно, если бы он, будучи представителем человеческого рода, пал ниц перед спустившимся с небес богом.
Столкнувшись с такой неожиданной реакцией со стороны противника, Чхончжи-ван прекращает пытку и отступает. Это выглядит как побег, и смысл его поступка не совсем ясен. Почему Чхончжи-ван просто уходит? Неужели он подавлен мощью духа Сумёнчанчжи? Или решил, что наказание состоялось? А может, благородный бог просто не мог вынести вида человеческой крови? Сложно найти ответ, но на что хотелось бы обратить внимание, так это на воплощенное в этой сцене мифологическое представление об отношениях человека и бога. Мифы утверждают, что существует предел вмешательству богов в дела людей. В корейской мифологии не принято, чтобы боги вторгались в земной мир и убивали человека только из-за того, что чем-то недовольны. На земле все дела вершат сами люди. Пожалуй, это главная идея корейского мифологического миропонимания. Именно на земле должен родиться герой, который покорит Сумёнчанчжу и восстановит покой.
Такой герой рождается в результате союза небесного бога Чхончжи с земной женщиной Пагиван, или Чхонмён-пуин. Тот, вероятно первый, брак бога с человеком, или союз неба и земли, случился естественно, как будто они изначально были одним целым. Между тем описание очень романтично: бог влюбляется, услышав, как женщина расчесывает волосы нефритовым гребнем. Они проводят вместе всего три дня. Все же небо и земля далеки друг от друга. Тем не менее их союз приносит плод – рождаются светозарные близнецы Тэбёль-ван и Собёль-ван. Они не только кровные братья, но и соперники. Плечом к плечу они делают мир пригодным для жизни, сбивая из железного лука одну из двух пар небесных светил, а затем состязаются за право господства на земле.
В большинстве мифологических источников история о небесных светилах является ключевой, при этом ее содержание может различаться. Как мы видели ранее, в «Чхансега» из Хамхына лишние солнце и луну устраняет Майтрея. Так подчеркивается ведущая роль бога-демиурга. С другой стороны, в «Самтхэчжа-пхури» из Пхеньяна говорится, что Майтрея, передавая мир Шакьямуни, спрятал солнце и луну в рукав, а тот пытался их найти. В «Сирумаль» из Хвасона есть история о том, как братья-близнецы Сомун и Хумун, сыновья Танчхильсона из небесной страны и госпожи Мэхвы из подземелья, сев на облако, поднялись по мосту-радуге на небо, где встретились с отцом; после этого они сбили железными стрелами лишние солнце и луну и отправили их во дворцы Чесоккун и Мёнмогун. Сюжет почти полностью идентичен сюжету мифа о Тэбёль-ване и Собёль-ване.
История о солнце и луне действительно впечатляет. Особенно изумляет метод, с помощью которого в мире устанавливается желаемый порядок. Солнце и луна – божественные сущности; казалось бы, им надлежит поклоняться. Вместо этого их сбивают железными стрелами. Стрелы точно поражают цель, и небесные светила разбиваются на куски. В этом эпизоде ощущаются яростный вызов и новаторское мышление. Здесь присутствует принципиально иная установка, чем тоска по утраченному раю. Путем активной борьбы люди вырываются из близкой к антиутопии среды и прокладывают дорогу в новую жизнь. Такова историческая идея, заключенная в корейском мифе о творении.
Разобравшись с небесными светилами, Тэбёль-ван и Собёль-ван вступают в противоборство, чтобы решить, кому из них править земным миром, а кому – загробным. От того, кто встанет во главе каждого из миров, зависит порядок вселенной. Возможно, среди множества состязаний в начале времен это наиболее важное. Именно оно определило судьбу человечества.
Состязание братьев разворачивается в два этапа: разгадывание загадок и выращивание цветов. Учитывая, что на кону стоит судьба мира, такие формы соперничества кажутся не самыми подходящими, однако, если постараться увидеть в них символы, они обретают глубокий смысл. Разгадывание загадок представляет собой состязание в мудрости. Немало ее нужно, чтобы установить в мире надлежащий порядок. Что же касается цветочного состязания, то оно проверяет способность соперников взращивать и приумножать живое. Тот, под чье руководство и опеку попадет земля, должен прежде всего уметь пестовать жизнь.
В обоих состязаниях превосходство остается за Тэбёль-ваном. По сравнению с мудрым и великодушным старшим братом младший предстает ограниченным и небрежным. Однако именно Собёль-вану достается победа. Он одерживает верх уловками и подлостью. Заполучив земной мир, Собёль-ван наказывает злодея Сумёнчанчжу и разграничивает на земле добро и зло. Однако установленный им порядок далек от совершенства. Как и предсказывал Тэбёль-ван, в мире распространяются коварная алчность и сумятица – их порождает сам человек, воплощенный в образе Собёль-вана. Отчасти это происходит из-за выбранного им пути уловок и подлости, отчасти – из-за насилия, к которому он прибегнул. Стерев кости Сумёнчанчжи в порошок, Собёль-ван рассчитывал избавиться от царившего в мире хаоса, однако последовали «побочные эффекты». Превращение праха злодея в кровососущих насекомых прямо свидетельствует об ущербности и несостоятельности правления Собёль-вана.
В истории расправы над Сумёнчанчжой и упорядочивания вселенной показан исторический переход от первобытной жизни к цивилизации. Когда-то миром правил человек, обладавший могучей звериной силой, но его царствование не могло длиться вечно. Мир переходит к тому, у кого есть мудрость и власть. Таким образом, Собёль-вана, положившего начало новой эпохе, можно назвать богом цивилизации и вторым творцом. Но, как уже было сказано, проблема заключалась в том, что его творение было несовершенным. Человеческая цивилизация, покорив природу, ступает на долгий путь распрей и противоречий. Такова историческая правда, выходящая за рамки мифа.
Чрезвычайно важной представляется фигура Тэбёль-вана (или Майтреи). Истинный мудрец, способный проникать в суть вещей и спасать жизни, он не смог взять на себя ответственность за мир живых. Можно об этом сожалеть, однако это не значит, что его роль сведена на нет. Он становится светом для людей в другом, незримом мире, который мы называем загробным. Завершив свой путь в печальной земной юдоли, человек попадает в иной мир, где царит закон, установленный Тэбёль-ваном. Там все просто и ясно. На том свете любая кривизна исправляется и все раны исцеляются.
Передав земной мир брату и удалившись в загробное царство, Тэбёль-ван становится для людей спасителем и источником надежды. Произнесенные им напоследок слова «Берегись, если загубишь дело» можно истолковать как обещание вмешаться, если безумие переполнит землю. Он – будущий спаситель, его второе имя – Майтрея. Из этого мы можем понять, почему в «Чхасега» богу-демиургу дано это имя. Оно связывает творца мира с будущим спасителем.
Любопытно было бы узнать о последующих деяниях Тэбёль-ванаи Собёль-вана как правителей двух миров. Но мифы об этом умалчивают, даже их имена встретить непросто. В некоторых источниках попадаются краткие упоминания вроде «владыка неба Чхончжи-ван», «владычица земли Пагиван», «владыка мира мертвых Тэбёль-ван», «владыка мира живых Собёль-ван», но не более. Возможно, эти боги важнее как символы, чем как акторы. Это значит, что в мифе следует смотреть не на то, кто и как правит вселенной, а на то, в каком состоянии она пребывает. Отец-небо и мать-земля. Свет и тьма в пространстве между ними. Это и есть наш мир – мир удивительной и бесконечной гармонии. Так что боги всегда рядом.
В ПОИСКАХ СЛЕДОВ БОГИНИ ТВОРЕНИЯ
Наполненные необычными символами понпхури о создании мира можно считать прототипами мифов о творении. Однако, знакомясь с источниками, невольно задаешься вопросом: почему все без исключения божества, которым отводятся главные роли в сотворении вселенной, мужского пола? За исключением супруги Чхончжи-вана Пагиван (Чхонмён-пуин), родившей ему сыновей-близнецов, все остальные герои: Майтрея, Тосумунчжан, Сумёнчанчжа, Собёль-ван, Тэбёль-ван, – мужчины. Как это следует трактовать?
Если источники предлагают подобную картину мира, пожалуй, правильнее будет принять ее и постараться понять. Важнее изучать символы и значения, заложенные в тексте, а проблему пола можно оставить за скобками. Однако именно из-за источников я и выношу этот вопрос на обсуждение. Дело в том, что существует сказание о богине творения.
Во время визита на Чечжудо и встреч с местными жителями я столкнулся с одним любопытным фактом. Местный миф-понпхури из шаманского обряда ясно называет Тосумунчжана богом-творцом, разделившим небо и землю; мальчика в голубых одеждах Панго – явившимся из земли первосуществом; Тэбёль-вана и Собёль-вана – установителями порядка во вселенной. Однако среди жителей Чечжудо немногим известны эти имена. Если спросить людей, кто является божеством острова, большинство назовут легендарную Сольмун-тэхальман – великую старуху Сольмун, создательницу горы Халласан и холмов, островов и скал. Существует множество историй о ней (другие варианты ее имени – Сонмун-тэхальман, Сольмён-тухальман). Вот несколько отрывков из книги Хён Ёнчжуна «Легенды острова Чечжудо» (издательство «Сомундан», 1976).
В давние времена жила на свете старуха по имени Сольмун-тэхальман. Усевшись на горе Халласан, поставив одну ногу на остров Квантхаль, а другую – на остров Чигвисом (или Марадо), что напротив уезда Согвиып, она стирала в кратере вулкана Сонсанбон и складывала белье на остров Сосом (Удо).
В старину Сосом не был отдельным островом. Как-то раз старуха Сольмён-тэхальман мочилась, уперевшись одной ногой в пик Сиксанбон, что близ деревни Очжори в волости Сонсанмён, а другой – в пик Ильчхульбон у деревни Сонсанни. Струя ее была так сильна, что рассекла землю. Так с одной стороны суши появились река Тонган и остров Сосом. Моча старухи превратилась в море между тем островом и горой Сонсан. Мощная струя пробила огромную впадину, и теперь там глубокие воды, где живут киты и тюлени. С того самого случая появились сильные течения, из-за которых терпят крушение корабли. Если в тех местах разбивается корабль, волны уносят обломки прочь, так что найти их невозможно.
На острове Чечжудо много холмов. Говорят, это старуха носила в подоле землю и та понемногу сыпалась сквозь дыру.
Старуха была такой огромной, что не могла найти себе подходящей одежды. Она пообещала построить мост до материка, если ей смастерят исподнее. Но для этого требовалось сто корзин шелка (в каждой корзине по пятьдесят мотков). Люди на острове сделали все возможное, чтобы найти нужное количество шелка, но набралось только девяносто девять корзин. Так что одежду для старухи так и не сшили, и мост остался недостроенным. Говорят, что скалистый гребень в море напротив деревень Чочхонни и Синчхонни уезда Чочхонмён – остатки того моста.
Старуха Сонмун решила проверить, есть ли на острове Чечжудо водоем, в который она уйдет с головой. Она прослышала об озере у водопада в районе Йондамдон города Чечжу, но вода в нем едва покрыла ее ступни. Потом ей рассказали об озере Хоннимуль в деревне Сохынни уезда Согвиып, но вода в нем достала ей только до колен. Так Сонмун дошла до озера Мульчжанори на горе Халласан, вошла в него – и утонула. Старуха не знала, что в озере провалилось дно.
Во всех этих историях подчеркивается, что Сольмун-тэхальман – настоящая великанша. Восседающая на горе Халласан, уперевшись обеими ногами в морские острова, она представляется не меньше самого Чечжудо. Примечательно, что Сольмун-тэхальман причастна к акту творения: старуха носит в подоле землю, и та, просыпаясь сквозь дыру, превращается в бесчисленные холмы на острове; старуха мочится – и ее обильная струя отделяет часть суши – остров Сосом. Все это истории о творении и изменении природы. Каждое движение этой гигантской женщины сотрясает и трансформирует окружающий мир.
Следует уточнить, что легенда повествует не столько о первичном создании мира, сколько о видоизменении уже существующего. Деяния Сольмун-тэхальман отличаются от деяний Тосумунчжана, который путем отделения неба от земли положил начало космосу. В фокусе истории о старухе не вселенная целиком, а только единственный остров, сотворение и модификация его природы, что отличает эту легенду от космогонических мифов. Она имеет характер топонимической легенды. Трагический финал – смерть переоценившей свои способности Сольмун-тэхальман в озере – также характерен для легенды, но не для мифа. Эта история дошла до нас иными путями, чем мифы о творении, входившие в состав шаманских ритуалов.
Таковы были мои прежние соображения по поводу старухи Сольмун-тэхальман. Аналогичное мнение распространено и в академических кругах. Но однажды я наткнулся на источник, который заставил меня усомниться. Это была легенда «Сольмун-тэхальман», рассказанная в 1980 году Сон Гичжо из Орадона в городе Чечжу (Библиотека корейского фольклора, 9–2. Академия корееведения, 1981). На просьбу рассказать историю о создании Сольмун горы Халласан Сон Гичжо поведал следующее: «В давние времена небо было прилеплено к земле, но явился большой человек и разделил их. В море он жить не мог, поэтому зачерпнул с одного края землю и сделал остров Чечжудо». Велика вероятность, что под «большим человеком» имеется в виду старуха-великанша.
Выходит, небо и землю разделил не Тосумунчжан, а Сольмун-тэхальман?
Скоро я перестал сомневаться и согласился с этим. У меня зародилась гипотеза относительно истории о создании мира. Не исключено, что изначально существом, разделившим небо и землю, была именно богиня-женщина. Великая мать, воплощение идеи первичного творения, рождает мироздание. Это очень естественное архетипическое представление. В греческой мифологии богиня земли Гея породила великих богов и сделала возможным создание вселенной. Не исключено, что и в корейской мифологии у истоков творения стояла женщина. Но по мере развития истории и культуры все прочнее утверждалась доминирующая мужская роль. Мифологическая система также претерпела изменения, и на место богини-женщины пришел бог-мужчина. И все же, как сказал мифолог Ко Хегён, «вначале была старуха» (Ко Хегён. Вначале была старуха. Издательство «Хангёре», 2010).
В дошедших до наших дней шаманских песнях о творении мира мы не встретим образа богини. Он сохранился в легендах. Но это весьма негативный образ. Не найдя себе места в этом мире, Сольмун стала для людей обузой. Об этом ясно говорит тот факт, что старуха вынудила жителей острова искать пять тысяч мотков шелка, чтобы сшить ей одежду. Не находя себе применения, она бродяжничала, пока однажды не утонула в бездонном озере Мульчжанори. Так богиня творения великая старуха Сольмун исчезла с лица земли.
Подобные сказания не ограничиваются островом Чечжудо. В материковых районах Кореи также можно обнаружить немало следов легенд о гигантской богине творения. Истории о великанше по имени старуха Маго, или Ного, или Кеян, или Кенгу и так далее известны в разных уголках страны. Почти все они рисуют образ гигантской богини, причастной к делу творения мира и матери-природы: она воздвигает горы, прокладывает долины, создает моря и перемещает острова. Добравшись до самых истоков, мы наверняка встретим там и историю сотворения неба и земли.
Следы богини, обычно именуемой Маго, постепенно теряются. Если ее образ и встречается в шаманских мифах, то ему отведена далеко не главная роль. Как мы увидим позже, в мифе «Пари-тэги» Маго-хальми предстает как старуха-прачка, которая испытывает героиню и помогает ей. Этот образ ближе к второстепенному образу волшебного помощника. Однако ее присутствие в мифе – случай исключительный. Образ богини творения незаметно стирается из памяти людей. Взять хотя бы известную в Порёне Кенгу-хальми. Я пытался найти связанные с ее именем места, но даже обрывки сказаний отыскать было непросто. В легендах Маго утратила изначальную божественную сущность и была низведена до уродливого призрака-изгоя. Возможно, превращение Маго в старуху-ведьму Магви является ключевым моментом в истории нашей культуры[11].
Конечно, все это лишь предположения и гипотезы. Существование богинь творения, их статус в мифологии – вопросы, которые надлежит исследовать путем широкого привлечения источников. Над этой задачей уже работают. Однако чрезмерное внимание к полу богов представляется излишним. Бог – изначально космически открытое существо, поэтому не будет ошибкой видеть в Тосумунчжане или Майтрее не мужское, а женское начало. Можно утверждать, что, только выходя за пределы подобных ограничивающих категорий, миф и становится мифом. В те времена, когда небо и земля были одним целым, мужское и женское тоже существовали в единстве.
Глава 2. Мифы как истории о жизни и судьбе
Ким Юсон (Йониль) «Тангым»
- Бросились мать и дочь друг к другу в объятия, обливаясь слезами.
- В это время из каменной пещеры раздался детский плач.
- Заглянула мать в пещеру – и увидела трех младенцев
- и трех белых журавлей.
- Каждый одно крыло на землю подстилал,
- другим дитя укрывал.
- Каждый журавль младенца обнимал.
Как простыми словами объяснить, что такое миф?
Читая лекции по мифологии, я часто спрашиваю об этом моих слушателей и обычно слышу в ответ, что мифы – это истории о богах. Такое мнение вполне правомерно: мифы действительно повествуют о многочисленных божествах. Но если взглянуть глубже, картина меняется. Не все истории о богах являются мифами. Боги также выступают героями народных сказок или романов. Кроме того, не все мифы повествуют о богах – во многих ведущую роль играют люди, а божеств как таковых и нет.
В научных кругах миф обычно определяется как «священная история». Когда-то мифологический сюжет наделялся особой ценностью и сакральностью. Небрежное отношение к мифам расценивалось как акт неуважения. К примеру, если житель Когурё не принимал легенды об основателе государства Чумоне, то он переставал считаться представителем своего народа. Точно так же человек, не признававший существование и божественность Афины или Зевса, не мог стать гражданином Греции. Иногда мифы ценились выше самой жизни. Если люди отрицают божественное, история перестает быть мифом.
Так что же такое божественное? По этому вопросу существует несколько различных точек зрения. Есть мнение, что сфера божественного находится где-то за гранью бытия. При таком подходе оно рассматривается как великая сила, к которой человек не смеет приблизиться. Иначе говоря, божественное и человеческое наделяются качественными различиями. Согласно другому взгляду, божественное существует не где-нибудь в неведомой дали, а совсем близко, даже внутри нас самих. Оно проявляется в необыкновенных способностях человека, в добродетели и т. д. Получается, что божественное и человеческое сообщаются друг с другом.
Мне сложно решить, какой из этих двух подходов справедливее. Божественное – это нечто находящееся и за пределами, и в то же время внутри нас. Если уподобить божественное животворному свету, то это свет, пронизывающий все вокруг. Любую силу или ценность, которая пробуждает и возвышает человеческий дух и помогает ему реализоваться, можно считать божественной.
Однако было бы неверно приписывать это свойство всем положительным явлениями нашего мира. Божественной может считаться только та светлая и глубокая сила, которая непосредственно касается основ существования человека и мироздания и взывает к фундаментальной истине бытия. Истории, несущие в себе подобную силу, истории, к которым относятся с трепетом и которые воспринимают как священные, и являются мифами. Они преодолевают границы пространства и времени и становятся светом для всех людей.
Именно такими видятся мне корейские мифы. Они заставляют нас столкнуться лицом к лицу с самими собой и озаряют возвышенным божественным светом.
ОНЫЛЬ ИЗ ВОНЧХОНГАНА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ БЫТИЯ
Среди богатого наследия острова Чечжудо есть шаманская песня «Вончхонган понпхури». Этот полузабытый миф больше не исполняется, остались только записи семидесятилетней давности. Однако лежащая в его основе история, похожая на сказку, слишком прекрасна, чтобы предавать ее забвению[12]. Это также на удивление архетипический миф.
Изначально Вончхонган было именем китайского пророка. Оно часто встречается в шаманских песнях, например в выражении «гадание Вончхонгана». Однако в этом понпхури так называется далекая таинственная страна, куда отправилась главная героиня. Это пространство, связанное с истоками бытия. Само его название ассоциируется со словом «вончхон» – «исток». Хотя это не более чем предположение, вероятность, что название было выбрано по созвучию, очень велика. Вончхонган в этой истории предстает действительно уникальным местом.
Итак, Вончхонган – это загадочная страна, исток бытия. Туда отправляется юная героиня – девочка по имени Оныль родом из Каннимдыля, выросшая одна в пустынном поле.
Давным-давно в пустынном поле появилась девочка, прекрасная, как нефрит. Нашедшие ее люди спрашивали:
– Кто ты такая? Откуда ты взялась?
– Я из Каннимдыля.
– Как тебя зовут, как твоя фамилия?
– Я не знаю своего имени, не знаю своей фамилии.
– Как ты тут жила до сих пор одна-одинешенька?
– С тех пор как я появилась на свет, ко мне прилетал небесный журавль: одно крыло на землю подстилал, другим от ветра укрывал и волшебные жемчужины дарил. Потому я жила и бед не ведала.
– Сколько же тебе лет?
– Этого я тоже не знаю.
Тогда люди сказали:
– Раз ты не знаешь, сколько тебе лет, будем считать, что ты только сегодня и родилась. Так и станем тебя звать – Оныль, «сегодня».
Прошло время, и девочка отправилась к госпоже Пэк, матери Пагиван.
– Ты ведь Оныль? – спросила женщина.
– Да, верно.
– А ты знаешь, где твои родители?
– Не знаю.
– Они в стране Вончхонган.
– А как туда попасть?
– В краю Белого песка есть высокая башня, в ней сидит юноша и читает книги. Спроси у него – он скажет, – ответила женщина.
Оныль пошла вдоль реки Сочхонган и нашла башню в краю Белого песка. Целый день она простояла у дверей, а когда настал вечер, вошла и промолвила:
– Доброго здоровья! Пустите странницу.
Ей навстречу вышел юноша в голубых одеждах и спросил, кто она такая.
– Я Оныль, – ответила девочка. – А вы кто будете?
– Меня зовут Чансан. Мне велено сидеть здесь и читать книги. Что же привело тебя сюда?
– Мои родители живут в стране Вончхонган. Я ищу туда дорогу.
Услышав это, юноша в голубых одеждах любезно сказал:
– Уже поздно. Переночуй здесь, а на рассвете отправишься в путь. Впереди есть лотосовый пруд, у пруда растет лотосовое дерево. Оно тебе поможет.
Потом Чансан добавил:
– Когда придешь в страну Вончхонган, узнай, отчего я должен день и ночь читать здесь книги. Почему никуда не могу выйти из этой башни.
Когда рассвело, Оныль отправилась в путь. Скоро в самом деле показался лотосовый пруд, а возле него – лотосовое дерево.
– Дерево-дерево, как дойти до страны Вончхонган? – спросила Оныль.
– А зачем тебе туда?
– Меня зовут Оныль, я иду в страну Вончхонган, потому что там мои родители.
– Вот и славно! Тогда исполни мою просьбу. Зимой в моих корнях появляется сок, в первый месяц наливается соками ствол, во второй – ветви, в третий – распускаются цветы. Только расцветают они на самой верхней ветке, а другие остаются голыми. Когда дойдешь до страны Вончхонган, узнай, отчего у меня такая доля.
– Непременно узнаю, – пообещала Оныль.
– На берегу синего моря Чхонсу увидишь большого змея. Спроси у него дорогу.
Простившись с лотосовым деревом, Оныль продолжила путь. Долго ли, коротко ли, она дошла до синего моря Чхонсу. На берегу его лежал большой змей. Девочка поведала ему обо всем, что с ней приключилось, и попросила:
– Укажите мне путь в страну Вончхонган!
– Указать путь – дело нехитрое. Но тогда и ты окажи мне услугу, – ответил змей.
– Какую услугу?
– Другие змеи, имея лишь один камень-самоцвет, становятся драконами и возносятся на небо. У меня же их три, а в дракона я до сих пор не превратился. Узнай в стране Вончхонган, что мне делать.
Оныль пообещала ему помочь, и тогда змей посадил ее на спину, вошел в воду и переплыл море.
– По пути ты встретишь девушку по имени Мэиль. Спроси у нее дорогу.
Оныль простилась с большим змеем и пошла дальше. Она шла и шла, пока не встретила девушку по имени Мэиль. Та сидела в башне и читала книги, точно как юноша Чансан. Оныль поприветствовала ее и задала свой вопрос. Пообещав ей помочь, Мэиль попросила:
– Когда дойдешь до страны Вончхонган, узнай, отчего у меня такая судьба – почему я должна вечно сидеть здесь и читать?
Оныль переночевала в башне, а когда наутро собралась уходить, Мэиль сказала:
– По пути ты встретишь у колодца королевских служанок. Они исполнят твое желание.
Оныль шла все дальше и дальше и наконец увидела у колодца девушек. Они горько плакали.
– Мы родом из небесной страны Окхван. За провинность, за то, что пролили воду, нас сослали на землю. Пока все не вычерпаем, не можем вернуться домой. Да вот ведро прохудилось, а потому, как мы ни стараемся, все напрасно. Помоги нам!
– Если сами небожители не могут справиться, разве это под силу немощному человеку? – удивилась Оныль.
Однако она тут же кое-что придумала. Девочка велела служанкам нарвать травы. Связала ее, заткнула дыру в корзине и замазала сосновой смолой, а потом вознесла горячую мольбу небесам. Совсем скоро вся вода из колодца была вычерпана. Служанки бросились кланяться Оныль, радуясь так, будто она спасла их от смерти.
– Мы проводим тебя!
Небожительницы повели Оныль в страну Вончхонган. Когда вдалеке показался дворец, они благословили Оныль и пошли своей дорогой. Оныль же направилась ко дворцу. Он оказался окружен высокой крепостной стеной. У входа стоял страж.
– Ты кто такая? – спросил он.
– Меня зовут Оныль. Я из мира людей.
– Что привело тебя сюда?
– Здесь мои родители – я пришла увидеться с ними.
– Я не могу тебя впустить, – холодно ответил страж.
У бедняжки земля ушла из-под ног. Убитая горем, она упала перед воротами и разрыдалась:
- Из далекого мира людей, что лежит за миллионы ли,
- через горы и реки, одна-одинешенька,
- в кровь ноги стоптав, пришла Оныль
- в край, где живут ее родители.
- Как ты жесток, суровый страж!
- Там, за воротами, мои отец и мать,
- а я стою здесь и не могу войти.
- Обещала Мэиль, что мое желание сбудется,
- да божества Вончхонгана не ведают жалости.
- Девочка, плакавшая в пустынном поле,
- бедняжка, преодолевшая десять тысяч гор,
- безнадежно стоит у ворот.
- Видели ли меня отец и мать?
- Все ли я сделала, что надлежало?
- Зачем возвращаться в родные земли?
- Лучше здесь умереть.
- Как же мне выполнить все просьбы?
- Как отплатить за полученное добро?
- Жестокосердный страж! Жестокие боги!
- Любезный отец, любезная мать,
- как я стосковалась по вам!
Так стенала бедная Оныль, и ее горькие слезы растопили каменное сердце стража. Он доложил родителям Оныль о случившемся, и те тот же час велели ее впустить. Оныль поверить не могла своему счастью. Когда она предстала перед родителями, отец спросил:
– Кто ты такая и зачем ты здесь?
Оныль поведала обо всем, что с ней случилось: как она жила в поле под опекой журавля, как скиталась в поисках отца и матери.
– Чудесная малышка! Ты и вправду наше дитя! – воскликнули родители. – В тот день, когда ты появилась на свет, Нефритовый император призвал нас охранять страну Вончхонган. Разве могли мы ослушаться повеления свыше? Пришлось повиноваться. Но мы всегда были рядом и оберегали тебя.
Вдоволь наговорившись с дочерью, отец и мать сказали:
– Раз уж ты пришла сюда, не желаешь ли получше познакомиться со страной Вончхонган?
Оныль отперла одну за другой двери в крепостной стене и увидела за ними четыре времени года: весну, лето, осень и зиму.
– А теперь мне пора возвращаться, – сказала девочка.
Перед тем как уйти, она поведала родителям о просьбах ее новых знакомых, и отец с матерью рассказали, как им помочь.
– Если Чансан и Мэиль встретятся, они станут супругами и будут жить долгие годы в довольстве и радости. Лотосовое дерево пусть подарит цветущую ветку первому встречному, тогда на других его ветвях тоже распустятся цветы. У змея должен остаться только один камень-самоцвет – с тремя ему не превратиться в дракона. Пускай отдаст два камня первому встречному. А ты, если будешь иметь цветок лотоса и камни-самоцветы, станешь небесной феей.
На обратном пути Оныль снова проходила мимо башни, где жила Мэиль. Она передала девушке слова родителей.
– Но я не знаю, где искать Чансана, – сказала та.
– Я отведу тебя к нему, – пообещала Оныль.
Они пошли вместе и на берегу моря встретили змея. Услышав предсказание, змей тотчас отдал два камня-самоцвета девочке. В следующее мгновение он обратился в дракона и с шумом взвился в небо.
Оныль открыла лотосовому дереву, как ему исполнить заветное желание. Как только дерево подарило ей свою единственную цветущую ветку, вся его крона покрылась прекрасными благоуханными цветами.
Наконец девочка привела свою спутницу к Чансану. Молодые люди поженились и с тех пор зажили в довольстве и радости.
Один из камней-самоцветов Оныль в знак благодарности отдала госпоже Пэк. Девочка стала божественной феей в небесной стране, ей было доверено запечатлевать Вончхонган во всех концах земли.
Таково содержание «Вончхонган понпхури». В приведенном здесь тексте почти нет сокращений и добавлений. Имена героев – Оныль, Мэиль, Чансан – также взяты из исходного источника. Под большим змеем имеется в виду змееподобный безрогий дракон имуги, который не умеет летать, а под камнем-самоцветом – волшебная жемчужина, но и тут я не стал менять оригинал. Заключительная фраза не совсем понятна. Что значит «запечатлевать Вончхонган»? Возможно, имеется в виду передача миру принципов и сакрального опыта той неведомой страны. В мифологическом контексте это может означать, что Оныль стала богиней Вончхонгана.
Даже тем из корейцев, кто не знает названия «Вончхонган понпхури», эта история не покажется совсем незнакомой. Остается впечатление, будто где-то ее уже слышал. Дело в том, что подобный сюжет встречается в народных сказках. По содержанию миф «Вончхонган понпхури» очень похож на известную сказку «Путешествие за счастьем», герой которой странствует в незнакомом мире в поисках благополучия и, помогая различным существам в их бедах, обретает искомое. По структуре эти два произведения практически идентичны. Особенно это касается сцены со змеем – здесь содержание почти полностью совпадает.
Сложно предположить, какое из них появилось раньше. Оба они архетипичны, поэтому, вполне возможно, были созданы независимо друг от друга. Однако, учитывая древнюю историю и широкую известность в Корее сказки «Путешествие за счастьем», можно допустить, что структура ее сюжета легла в основу «Вончхонган понпхури». В конце концов, важно вовсе не временное первенство, а качественные характеристики. Через архетипические мотивы, полные мифологических символов, «Вончхонган понпхури» поднимает вопросы бытия и судьбы. Это произведение в полной мере обладает характером мифа. Удивительно, как история, возникшая из адаптации народной сказки, переродилась в миф.
Давайте погрузимся в саму историю. Действие в «Вончхонган понпхури» начинается в пустынном поле. Там живет девочка, которая не знает ни своего имени, ни фамилии, ни возраста. Единственный ее друг в этом суровом мире – небесный журавль. При одной мысли о такой участи беззащитного ребенка сердце сжимается от жалости. Юная героиня олицетворяет исконное человеческое одиночество. Такова доля человека – с неутешным плачем быть заброшенным в этот мир и нести на своих плечах все его тяготы.
Злой рок тяготеет не только над Оныль. Сродни ей и Часан с Мэиль, вынужденные в полной изоляции глотать книгу за книгой; и лотосовое дерево с единственной цветущей веткой; и змей, который беспомощно лежит на побережье, взирая на равнодушное небо. Не исключение и придворные служанки из небесной страны, льющие слезы оттого, что не могут вернуться домой. Если подумать, страдания неизбежны для всех существ на этой земле.
Персонажи, которых встретила Оныль, заслуживают отдельного внимания. Чансан и Мэиль – люди, мужчина и женщина, лотосовое дерево – растение, змей – животное, служанки из небесного дворца – небожители. Все они представители различных уровней огромной вселенной. Благодаря встречам со столь непохожими друг на друга существами одинокая Оныль обнаруживает, что каждый в этом мире страдает от одиночества, каждый – пленник своей судьбы. Встречи и общение становятся для героини путеводной нитью, ведущей к избавлению от собственного экзистенциального одиночества.
Однако это открытие не может полностью решить проблему. Необходимо преодолеть разделяющую преграду и войти в самый источник бытия, символом которого является страна Вончхонган. Попасть туда непросто – ее окружает высокая крепостная стена. В минуту отчаяния героине все кажется напрасным: и проделанный путь, и помощь небожителей. Дверь к источнику бытия закрыта. Долгие мучения и поиски вот-вот обратятся в морскую пену. Однако дверь заперта не навечно. Отважное сердце способно преодолеть любые преграды. Плач и стенания Оныль, растрогавшие непреклонного стража, были не чем иным, как выражением ее великих стремлений и отчаянных усилий.
Попав в страну Вончхонган, героиня наконец находит своих родителей. Судя по контексту, отец и мать Оныль, прибывшие туда по велению Небесного императора сразу после рождения дочери, являются жильцами «того света». Мифическая страна Вончхонган не принадлежит земному миру – она находится далеко за его пределами. Вот почему было так сложно добраться туда и еще сложнее переступить ее порог. Там, за границей жизни, за океаном бытия, Оныль встречается с родителями – с теми, кто подарил ей жизнь.
Если вспомнить, с каким трудом Оныль добиралась до своей цели, то сцена в Вончхонгане может несколько обескуражить. Родители и дочь обменялись всего несколькими фразами. Бегло осмотрев страну, Оныль сразу вернулась на землю. Удивительно, как легко она расстается с родителями, которых так долго искала. Для чего же понадобились такие усердные поиски?
Возможно, ответ на этот вопрос найдется в самом мифе. «Разве могли мы ослушаться повеления свыше? Пришлось повиноваться. Но мы всегда были рядом и оберегали тебя», – говорят Оныль родители.
В этих словах и заключен ответ. Оныль осталась одна, без отца и матери. Она верила, что так оно и есть. Родителей не было рядом, для нее это значило, что они покинули ее, а может быть, и хуже того – что их вовсе не существует. Однако все оказалось не совсем так. Отец и мать находились далеко, но не оставили дочь. Они всегда присматривали за ней и оберегали ее. В мифе говорится, что Оныль жила в пустынном поле под опекой журавля. Этот журавль – не обычное существо. Птица, укрывавшая девочку крыльями и дарившая волшебные жемчужины, является символом родительской любви и заботы. Отец и мать всегда были рядом, хотя Оныль не догадывалась об этом. Такой предстает истина.
Пройдя десятки тысяч ли, Оныль встречается с родителями и пускается в столь же долгий обратный путь. В этом путешествии героиня убеждается, что она не одна. Оныль считала себя одинокой, но увидела, что это не так. Чего еще желать после такого открытия? Как ни трудно было отыскать родителей, остаться с ними девочка не могла: быть рядом в этом случае не значило быть вместе. Зная, что их дочь больше не одинока, родители без сожаления отпускают ее.
Проблемы, с которыми обращаются к Оныль другие герои, имеют ту же природу. Изначально каждый из них в полном одиночестве оплакивал свою горькую долю, все они были несчастными разобщенными существами. Но стоило открыться миру, впустить его в себя и стать с ним единым целым – и одиночество отступило. Когда небесные служанки испытали причастность к судьбе Оныль, они смогли вернуться домой. «Собратья» по судьбе Чансан и Мэиль решают идти по жизни вместе и так преодолевают одиночество и тоску. То же самое можно сказать о лотосовом дереве и змее: открыв сердце, отдав то, что им дорого, они сливаются с миром и превращаются в светоносных божественных существ.
Миф утверждает, что эта истина существования находится не за девятью горами. Чансан, Мэиль, лотосовое дерево и змей – все они знают местонахождение страны Вончхонган, но не могут пойти туда сами, так как добровольно замкнулись в себе, отгородившись от мира высокой стеной. Именно Оныль разрушает стену и открывает дверь. Найдя в конце долгого пути источник бытия, она обретает свободу. И в этом новом качестве героиня высвобождает из оков множество других живых существ. Иначе говоря, она открывает им вселенную под названием Вончхонган. Так девочка, скитавшаяся одна в пустынном поле и не имевшая понятия о том, кто она такая, становится космическим существом. Потому ее превращение в божество страны Вончхонган, истока бытия, представляется совершенно закономерным.
Миф описывает Вончхонган как место, где соседствуют четыре сезона. Что это может значить? Весна, лето, осень и зима составляют временной цикл; можно сказать, что Вончхонган, будучи истоком времени, управляет им. Родителям Оныль известны тайны всех существ на земле, и это также связано с природой времени, которому принадлежат и далекое прошлое, и будущее и от которого ничего не скрыто.
Имя героини выбрано не случайно. «Оныль» значит «сегодня». В сегодняшнем дне сходятся вчера и завтра. Что это, как не символ времени? Вся вселенная, с ее прошлым и будущим, заключена в настоящем, поэтому имя Оныль можно также интерпретировать как «вечность». Сейчас она живет одна, но в вечности пребывает в единении со всем миром. Такова Оныль и таковы все мы.
Скажем также пару слов об именах Чансана и Мэиль. Эти персонажи становятся супругами. Имя Мэиль[13] означает «каждый день», Чансан – «постоянно, все время». Иначе говоря, речь идет о моменте и вечности. Кажущиеся противоположностями, они образуют пару и вместе порождают время и формируют существование. Момент обретает значение при встрече с вечностью; вечность наполняется смыслом, воплощаясь в моменте. Возможной же их встречу делает настоящее – сегодня. Это превосходный союз. Он служит для нас огромным утешением. Встреча этих двоих подтверждает, что вечность не где-то далеко, за пределами бытия, – она прямо здесь и сейчас. Наше существование может казаться пеной, исчезающей в потоке времени, но это не так. Существование вечно.
СУДЬБА ТАНГЫМ: КАК ЮНАЯ ДЕВУШКА СТАЛА МАТЕРЬЮ И БОГИНЕЙ
Давайте познакомимся с еще одним персонажем, на чью долю выпали немалые испытания и которому пришлось преодолевать одиночество. Это Тангым – главная героиня шаманских мифов «Тангым-эги» и «Чесок понпхури». Наряду с «Принцессой Пари» (или «Пари-тэги»), это одно из главных корейских народных сказаний. Оно передавалось из уст в уста на территории всей страны, от северных провинций до южного острова Чечжудо. На сегодня известно около ста версий этого мифа. Основные сюжетные линии в них совпадают, но конкретные эпизоды и детали во многом различаются. Это касается даже имени главной героини. Тангым (или Тангым-аги, Тангом-эги, Тангым-какси) встречается также под именами Сочжан-эги (или Сэчжан-эги), Сичжун-эги (или Сечжон-эги), дочь Чесока – Чесокним (или Чесокнимнэ-матталь-эги), Саннам, Чачжимён-эги и т. д. То же самое можно сказать о герое, с которым она связала свою судьбу: его называют Чесокним, Сичжунним, Шакьямуни, Хвачжусын с Золотых гор (или Хвангым-тэса), Чхонэчжун с гор Чхонгымсан, Сонбультхон, монах Чачжан…
При большом количестве источников найти главный очень непросто. Один из способов – выбрать наиболее ранний или архаичный по содержанию, другой – обратить внимание на характер и смысловые элементы самой истории. Я предпочитаю последний. Приведенная ниже история основана на мифе «Тангым», исполненном шаманкой Ким Юсон из Йонгиля провинции Кёнсан-букдо в 1974 году (Чхве Чонъё, Со Тэсок. Шаманские песни восточного побережья. Издательство «Хёнсоль чхульпханса», 1974). В этом мифе, который является частью шаманского кута, полно представлена вся история Тангым – ее путь от невинной девушки до богини чадородия Самсин (Самсин-хальмони)[14].
Давным-давно, в начале времен, в Западные земли под западными небесами спустились пятьдесят три будды. Последний из них решил построить храм на горе Кымгансан в стране Чосон. Он срубил у подножия горы деревья и поставил храм, а под ним – колокольню. Когда однажды у насельников монастыря закончился белый рис для подношений, старший мастер Сичжунним отправился за подаянием в Западные земли под западными небесами в дом Тангым. Он надел конопляную робу и колпак, повесил на шею четки в сто восемь бусин, перекинул через плечи красно-синюю касу, взял в руки посох с шестью кольцами и отправился туда, где и звери не бывали, куда и птицы не летали.
Пришел Сичжунним в дом Тангым о двенадцати стенах и двенадцати воротах и ударил в гонг.
– Наму Амитабха! Пожертвуйте монаху риса!
В это время Тангым сидела за вышиванием. Услышав, что кто-то просит милостыню, девушка кликнула слуг:
– Эй, сторож Октанчхун у главных ворот! Эй, сторож Мэсангым у задних ворот! Посмотрите-ка, кто это пришел!
Выглянул Октанчхун за ворота, увидел монаха и доложил об этом хозяйке. Ни разу в жизни не видевшая монахов, девушка решила выйти и взглянуть на него сама. Ради этого принарядилась: набелила чистое лицо, умастила маслом камелии волосы и завязала их шелковой лентой; надела чогори из золотого шелка, красную юбку в складку, стеганые штаны, носки и кожаные туфли в цветочек. Подбежала она к воротам и украдкой выглянула наружу.
– Красавица, коли желаешь посмотреть на монаха, выйди за ворота. А будешь подглядывать в щель – умрешь и попадешь в ад, – сказал Сичжунним, встретившись с девушкой взглядом.
Тангым открыла ворота и вышла. Она была прекрасна, точно восходящая луна, точно солнце на закате дня.
– Я пришел издалека. В нашем храме закончился белый рис для подношений. Окажи милость! – обратился к ней Сичжунним.
– Я бы и рада помочь, да отец ушел на работу в поднебесный мир, мать – в подземный, девять старших братьев – отправились в деревню, а двери в амбар заперты. Как же я вам милостыню подам?
– Об этом не беспокойся. Я прочту мантру открытия дверей – они сами отворятся.
Сичжунним произнес заклинательную мантру, и тут же все девять дверей в амбар распахнулись сами.
– Эй, Октанчхун! Эй, Мэсангым! Принесите-ка сюда отцовского риса! – велела Тангым. В те времена рис детей и родителей хранился в отдельных горшках.
Услышав это, Сичжунним поспешил наложить заклятие: в родительском горшке поселились синий и желтый драконы, в горшке братьев сели высиживать яйца синий и белый журавли, а в горшке Тангым сплели паутину пауки. Октанчхун не смог взять риса из родительского горшка.
– Оставь, – сказал Сичжунним. – Вон в горшке девицы паук сплел паутину. Ты ее сними, одну мерную чашу зерна зачерпни – мне и довольно.
Тангым пошла в амбар вместе со слугой. А Сичжунним тем временем продырявил свой мешок. Не успели наполнить его зерном, как оно тут же просыпалось на землю.
– Эй, Октанчхун, неси-ка метлу – соберем просыпанный рис. И веялку неси – надо его провеять, – велела Тангым.
– Красавица, в нашем храме мы не принимаем рис, сметенный с земли метлой и провеянный веялкой, – сказал монах.
– Что же делать?
– Ступай на гору, наломай веток, сделай палочки для еды – ими и собери зерно.
Тангым побежала на гору, наломала веток, сделала палочки и стала собирать рисовые зерна. И сама трудилась, и слуги помогали, и Сичжунним в стороне не стоял. Пока они были заняты работой, солнце перекатилось с востока на запад.
– Ой, сыним[15], уже смеркается. Вам пора! – воскликнула Тангым.
– Эх, красавица! Куда же я пойду на ночь глядя? Пусти меня переночевать.
– Эй, Онтанчхун! Эй, Мэсангым! Приготовьте-ка гостю постель в отцовской комнате! – приказала молодая хозяйка.
– Ох, красавица! В отцовской комнате небось дурно пахнет. Разве там уснешь?
– Тогда приготовьте гостю постель в комнате матери! – приказала Тангым.
Но монах и в этот раз остался недоволен:
– В комнате, где мать родила девять сыновей, небось дурно пахнет. Разве там уснешь?
– Ах вы несчастный! Ну тогда идите спать в пондан[16]. Или ложитесь на террасе. Хотите – ступайте на кухню, хотите – во двор.
Монах даже не стал делать вид, что слушает.
– Красавица, не нужно лишних слов. Переночуем в твоей комнате. Поставим ширму: ты ляжешь по одну сторону, я – по другую.
Пришлось Тангым согласиться. Поставила она ширму, сама легла по одну сторону, а гость – по другую. Скоро девушка забылась глубоким сном, разметавшись на постели, а Сичжунним едва дремал. Монах выждал, пока Тангым увидит первый сон, второй, третий, а потом отодвинул ширму и перебрался на другую половину.
Сквозь сон Тангым почувствовала, что ей тяжело дышать. Девушка открыла глаза и увидела, что ее оплели ноги Сичжуннима, а ее голова покоится на его плече.
– Негодяй! – закричала Тангым. – Монаху пристало в горах жить и Будде поклоняться. Где это видано, чтобы монах приходил в чужой дом и творил такое?!
– Ах, красавица! Монах – он и в храме монах, и в миру монах. В доме вашего батюшки, родившего девять сыновей и дочь, должна быть гадательная книга. Найди-ка ее – посмотрим, какая тебя ждет судьба.
Достала Тангым из шкафа книгу гаданий. Смотрит – так и есть, по воле Будды суждено ей стать женой монаха. Убедившись, что такова ее доля, Тангым тут же, не дожидаясь благословения родителей, назвалась супругой Сичжуннима и разделила с ним ложе. Легли они вместе за ширмой на кедровой подушке. Под вечер уснули, ночь проспали, на заре проснулись.
– Ах, мне приснилось, будто из-за одного моего плеча всходит солнце, а из-за другого – луна; будто в рот мне влетели три звезды, а в юбку упали три красные бусины. Растолкуйте этот сон, – сказала Тангым наутро.
– Я расскажу тебе, что это значит. Солнце, восходящее из-за одного плеча, – это моя судьба; луна, восходящая из-за другого плеча, – твоя судьба. Ты увидела три небесные звезды – значит, на тебя взирает с небес богиня чадородия. А три красные бусины сулят трех сыновей-близнецов.
На рассвете Сичжунним надел робу и колпак и ушел. Оставшись одна, Тангым горько заплакала, но тут монах вернулся и сказал:
– Ах, красавица, я совсем запамятовал. Когда сыновья спросят, где их отец, передай им это, чтобы они смогли меня найти.
С этими словами монах дал девушке три тыквенных семечка и бесследно исчез.
После его ухода с Тангым стало происходить что-то небывалое. Ей казалось, будто еда пахнет тухлятиной, вода – илом, а соус – неперебродившими бобами, и все время хотелось кислого.
– Принесите мне диких горных персиков да кислых абрикосов! – приказывала девушка служанкам.
