Читать онлайн Родитель – ребенок: мир отношений бесплатно
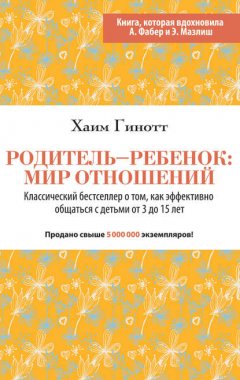
Хаим Гинотт
Родитель – ребенок: мир отношений
©1965 by Dr. Haim G. Ginott
©2003 by Dr. Alice Ginott and Dr. H.Wallace Goddard
©This translation published by arrangement with Three Rivers Press, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Random House, Inc. and with Synopsis Literary Agency.
©Глебова А., перевод на русский язык, 2012
©Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2012
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
©Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)
Памяти младшего брата, который погиб, спасая окруженных товарищей.
Ему был 21 год.
Предисловие
Доктор Хаим Гинотт умер 4 ноября 1974 г. после долгой и мучительной болезни. Ему было всего 55. За несколько недель до смерти он посмотрел на свою первую книгу (эту книгу) и сказал мне: «Элис, вот увидишь, это книга станет классикой». Его предсказание сбылось.
Хаим Гинотт был клиническим психологом, педиатром и руководителем семинаров для родителей. Его книги ( Group Psychotherapy with Children, Between Parent and Child, Between Parent and Teenager, Teacher and Child) способствовали революционным изменениям отношений между взрослыми (родителями и педагогами) и детьми. Книги Гинотта, став бестселлерами, переведены на 30 языков.
Гинотт преподавал психологию в Нью-Йоркском университете ( Graduate School of New York University ) и в Adeldhi University (Long Island, New York) , был первым штатным психологом в телепрограмме «Today» ; писал колонки для газет и журналов.
Принципы коммуникации, о которых он писал в своих книгах, помогли взрослым войти в мир детей, научили сострадать и поощрять, ибо он учил взрослых распознавать детские чувства и отзываться на них.
На семинарах для родителей он рассказывал, как воспитывать, не унижая; как критиковать, не разрушая; как хвалить по существу; как выражать недовольство, не раня. То есть он наставлял родителей реагировать на детское поведение таким образом, чтобы дети учились доверять своему мироощущению и росли уверенными в себе людьми.
Прежде чем стать психологом, Д-р. Хаим Гинотт был школьным учителем. Он – выпускник педагогического колледжа в Иерусалиме ( David Yellin Teachers′ College, Jerusalem ). Свою докторскую степень он получил в Колумбийском университете ( Columbia University Teachers College ).
…Существует притча о мудром раввине, который безвременно скончался. Ему было всего 50. Когда семья вернулась с похорон домой, старший сын сказал: «Мой отец прожил долгую жизнь». Все ужаснулись: «Как ты можешь сказать такое о человеке, который умер в расцвете лет?»
«Но его жизнь была полна; он написал много важных книг и тронул души многих людей», – ответил сын.
В этом и мое утешение,
...
Элис Гинотт
, 2003
Введение
Дай мне руку, дитя.
Пусть мой путь озарится
светом твоей веры в меня.
Ханна Кан, американская поэтесса
(1911–1988)
Ни один родитель не просыпается с мыслью о том, как ему сделать жизнь ребенка несчастной. Ни одна мать, ни один отец не заявляют: «Сегодня я намерен орать на свое дитя, пилить и унижать его всеми возможными способами». Наоборот, многие родители, открыв рано утром глаза, решают: «Этот день будет мирным. Никаких криков, никаких препирательств, никакой вражды». Но, несмотря на благие намерения, нежеланная война повторяется снова.
Родительская миссия – бесконечный сериал малых событий, периодически повторяющихся конфликтов и внезапных кризисов, требующих ответной реакции. А родительская реакция имеет последствия: она воздействует на личность ребенка, она повышает или снижает его самооценку.
Нам хочется верить, что разрушающие детей родительские реакции свойственны исключительно плохим родителям. Но, к несчастью, и любящие доброжелательные родители тоже ругают, стыдят, винят своих чад, угрожают им, высмеивают, пугают и льстиво подкупают их, навешивают на детей ярлыки, наказывают, проповедуют и морализуют.
Почему? Потому что большинство родителей не отдают себе отчета в том, что слова обладают разрушительной силой. Неожиданно для самих себя они повторяют фразы, которые слышали от собственных родителей, говорят детям совсем не то, что имели в виду, причем неприятным для самих себя тоном. Трагедия такого общения заключается не в том, что родители недостаточно заботливы, а в том, что им недостает понимания, – дело не в их личных качествах, а в недостатке знаний.
Родителям следует выработать особый способ общения со своими детьми. Представьте, что почувствовал бы любой из нас, если бы хирург в операционной, пока нам дают наркоз, вещал: «У меня, честно говоря, не очень большой опыт в хирургии, но я искренне люблю своих пациентов и руководствуюсь здравым смыслом». Скорее всего, мы бы впали в состояние паники и поспешили убраться, что не так просто сделать детям. Родители обычно уверены в том, что достаточно любить ребенка и обладать здравым смыслом. Однако родителям, подобно хирургам, необходимо владеть определенным навыками, чтобы обрести достаточную компетенцию, позволяющую им разрешать ежедневные детские проблемы. Опытный хирург прекрасно знает, где и как ему следует воспользоваться скальпелем. Аналогично родителям следует обрести умение пользоваться словами. Ведь слова могут быть острее ножа. Ими можно изувечить, нанести множество хотя и невидимых, но очень болезненных душевных ран.
С чего же нам, задавшимся целью улучшить общение с детьми, следует начинать? С изучения наших собственных ответных реакций.
Как тактично подбирать выражения, это нам давно известно. Еще в детстве мы слышали, как наши родители говорят с гостями и случайными знакомыми. Такой язык щадит чувства человека и не допускает критики его поведения.
Как мы обращаемся с гостьей, забывшей зонтик? Разве мы бежим за ней следом, тараторя: «Да что с тобой происходит? Каждый раз, навещая нас, ты непременно у нас что-нибудь оставляешь – не одно, так другое. И почему ты не такая, как твоя младшая сестра? О, она-то умеет себя вести, приходя в гости. А тебе ведь уже сорок четыре! Неужели ты никогда не научишься? И прошу обратить внимание на то, что я вовсе не твой раб(-а), не обязан(-а) подбирать за тобой! Наверняка ты бы и голову забыла, не сиди она у тебя на плечах!» Нет, гостям мы ничего подобного не говорим. Мы говорим: «Твой зонтик, Элис» – и вовсе не добавляем: «Вечная растяпа».
Родителям следует научиться взаимодействать с детьми так же, как с гостями.
Мы все хотим, чтобы наши дети росли счастливыми и уверенными в себе. Ни один родитель не добивается осознанно того, чтобы ребенок стал пугливым, робким, неуверенным в себе или несносным. Тем не менее по мере взросления многие дети обзаводятся этими нежелательными качествами. Они утрачивают чувство защищенности и перестают уважать себя и других. Нам хочется, чтобы дети были вежливыми, а они становятся грубиянами. Мы стремимся сделать их опрятными, а они неряшливы. Мы мечтаем о том, чтобы дети росли уверенными в себе, а они – сама неуверенность. Мы стараемся, чтобы дети были счастливыми, но они, похоже, не испытывают счастья.
Мы вольны способствовать тому, чтобы ребенок вырос Человеком – человеческим существом, ведающим, что такое страсть, самоотверженность, самоотдача. Вырос личностью, полной жизненных сил и руководствующейся нравственными принципами.
Дабы достичь этих гуманных целей, нам следует научиться быть гуманными. Но одних намерений недостаточно. Родителям нужно освоить определенные навыки. Каким образом приобрести эти навыки и как ими пользоваться – главная тема этой книги. Она поможет родителям сделать вожделенные идеалы частью повседневной жизни.
Хочется надеяться, что эта книга, кроме того, поможет вам разобраться в том, чего вы хотите от своих детей, и выработать методы достижения поставленных целей. Родители постоянно сталкиваются с конкретными проблемами, требующими специфических решений, поэтому им бесполезно давать расхожие советы типа: «Дайте ребенку больше любви», «Проявляйте по отношению к дочери больше внимания» или «Уделяйте сыну больше времени».
Много лет мы работали с родителями и детьми индивидуально, работали и в психотерапевтических группах, а также вели семинары для родителей. Эта книга – плод многолетних усилий и опыта. И это – практическое руководство. Оно содержит конкретные предложения и лучшие из опробованных способы разрешения повседневных конфликтов и психологических проблем, с которыми сталкиваются все родители.
...
Специфика книги – ее ориентация на базовые принципы коммуникации, побуждающие родителей строить отношения с детьми на благородных началах взаимного уважения.
1. Кодекс общения: родители и дети в диалоге друг с другом
Детские вопросы: скрытый смысл
Диалог с детьми – особое искусство со своими правилами и смыслами. Дети не так уж наивны и простодушны в общении. Смысл сказанного ими часто закодирован и требует расшифровки.
Десятилетний Энди спросил отца: «Сколько беспризорных детей в Гарлеме?» Отца – он юрист – порадовало то, что Энди проявляет интерес к социальным проблемам. Он сделал настоящий доклад на эту тему, после чего привел интересующую сына цифру. Но Энди не удовлетворился ответом и продолжал задавать вопросы на ту же тему: «Сколько беспризорных детей в Нью-Йорке? В Америке? В Европе? В мире?»
Наконец отец Энди догадался, что сына волнует не социальный вопрос, а личная проблема. Вопрос Энди продиктован не столько состраданием к брошенным детям, сколько страхом быть брошенным самому. Ему требовались не цифры, не количество покинутых родителями детей, а заверение папы в том, что он его не покинет.
Поэтому отец, осознав, в чем заключается беспокойство Энди, ответил ему так: «Ты боишься, что мы можем однажды покинуть тебя на произвол судьбы, как поступают иногда некоторые родители. Можешь быть уверенным в том, что мы, твои родители, никогда от тебя не уйдем. И если эта тема снова начнет тебя беспокоить – скажи мне. Я помогу тебе перестать тревожиться».
Во время своего первого посещения детского сада, пока мама еще была с нею, пятилетняя Нэнси, увидев рисунки, развешанные на стенах, громко спросила: «Кто нарисовал эти уродливые картинки?» Мама Нэнси ужасно смутилась. Глядя на дочь с укоризной, она поспешила ей выговорить: «Нехорошо называть такие красивые рисунки уродливыми!»
Однако воспитательница прекрасно поняла суть вопроса Нэнси. Она улыбнулась и сказала: «Пока ты у нас, тебе вовсе не обязательно рисовать красивые картинки. Ты можешь рисовать и уродливые, если тебе захочется». Радостная улыбка осветила лицо Нэнси. Ведь она получила ответ на свой скрытый вопрос: «Что здесь ждет девочку, которая не очень хорошо рисует?»
Позже Нэнси подняла с пола зажигалку и спросила грозным голосом: «Кто сломал это?» Ее мать ответила: «Какая тебе разница, кто сломал? Ты все равно никого здесь не знаешь». Не имена были нужны Нэнси. Она пыталась выяснить, что ждет того, кто сломал игрушку. Воспитательница поняла, о чем спрашивает Нэнси, и ответила на ее подспудный вопрос: «Игрушки существуют для того, чтобы ими играть. Иногда они ломаются. И тут ничего не поделаешь».
Нэнси этот ответ, похоже, удовлетворил. Ее талант интервьюера помог ей добыть необходимую информацию. К тому же стало ясно, что эта взрослая тетя – вполне милая. И она не склонна сердиться, даже если рисунок не получается красивым, а игрушка ломается. Нэнси почувствовала: «Мне нечего бояться, я тут в безопасности». Она помахала маме рукой на прощание и подошла к воспитательнице, готовая провести свой первый день в детском саду.
Двенадцатилетняя Кэрол собиралась заплакать. Ее любимая кузина, с которой она провела лето, собиралась домой. К сожалению, реакцию матери Кэрол на печаль дочери нельзя назвать сочувственной и уместной.
...
КЭРОЛ (со слезами на глазах): Сюзи уезжает домой. Я снова буду одна.
МАТЬ: Ты найдешь себе другую подружку.
КЭРОЛ: Мне будет так одиноко.
МАТЬ: Ничего. Ты потерпишь, и все пройдет.
КЭРОЛ: Ах, мама! (Всхлипывает.)
МАТЬ: Послушай, тебе уже двенадцать лет, а ты все еще плакса, как маленькая.
Кэрол бросила на мать уничтожающий взгляд и выбежала из комнаты, хлопнув дверью. У этой сценки вполне мог бы быть более счастливый конец. Чувства ребенка следует принимать всерьез, даже если ситуация сама по себе не кажется такой уж серьезной. Пусть для матери Кэрол расставание с кузиной ее дочки в конце лета – вовсе не трагедия и не стоит слез. Но это вовсе не значит, что она не должна сочувствовать дочери. Матери Кэрол следовало бы сказать себе: «Дочка переживает. Я могу ей помочь, показав свое понимание того, что причиняет ей боль. Каким образом? Отражая чувства дочки, переживая их подобно ей». И тогда мать произнесла бы что-нибудь вроде:
...
«Без Сюзи будет как-то одиноко».
«Нам уже ее не хватает».
«Вам будет трудно друг без друга, ведь вы так привыкли быть вместе».
«Должно быть, без Сюзи наш дом покажется тебе опустелым».
Подобная ответная реакция родителя способствует сближению ребенка с ним.
Когда дети чувствуют, что их понимают, горе и одиночество воспринимаются ими менее остро. Если дети чувствуют, что родители с ними заодно, любовь к родителям усиливается. Родительское сопереживание расстроенному и душевно уязвленному ребенку служит эмоциональной скорой помощью.
Когда мы распознаем состояние ребенка и «озвучиваем» проблему, которая его волнует, ребенок зачастую находит в себе силы, чтобы справиться с реальностью .
Семилетняя Элис строила планы, намереваясь провести день со своей подругой Леей. Вдруг она вспомнила, что сегодня после обеда состоится собрание ее скаутской секции. Элис расплакалась.
...
МАТЬ: Бедняжка, как ты расстроена! Ведь ты так хотела поиграть с Леей после обеда.
ЭЛИС: Да! Ну почему собрание нужно проводить именно сегодня?
Слезы исчезли. Элис позвонила своей подружке Лее и перенесла встречу. Затем стала переодеваться в скаутскую форму, чтобы отправиться на собрание.
Мать Элис, понимая разочарование дочери и сочувствуя ей, помогла дочери принять неизбежные в человеческой жизни конфликты и разочарования. Она выявила переживания Элис и созвучно отразила ее желания. Родительница не стала препарировать ситуацию в поучительной манере, мол: «К чему так расстраиваться? Ты поиграешь с Леей в другой день. Что за трагедия?»
К тому же мать сознательно избегала традиционного в таких случаях родительского резонерства («Но ведь ты не можешь быть в двух местах одновременно»). Не выговаривала и не винила («Как только могла строить планы на среду и договариваться с друзьями, ведь прекрасно знаешь, что по средам у тебя собрание скаутов).
Нижеследующий короткий диалог – наглядный пример того, как отец может снизить накал раздражения сына, признав правомерность чувств сына и его жалоб. Когда отец Дэвида после ночной смены возвратился домой из магазина (ему приходится заниматься домашним хозяйством, потому что жена днем работает), он обнаружил своего восьмилетнего отпрыска в дурном расположении духа.
...
ОТЕЦ: Я вижу, что мальчик не в духе. Вернее, очень рассержен.
ДЭВИД: Да, я рассержен, очень рассержен.
ОТЕЦ: Ах!
ДЭВИД (очень тихо): Я скучал по тебе. Тебя никогда нет дома, когда я возвращаюсь из школы.
ОТЕЦ: Хорошо, что ты сказал мне об этом. Теперь и я знаю причину твоего расстройства и твое желание. Я буду знать, что ты хочешь, чтобы я был дома, когда ты возвращаешься из школы.
Дэвид обнял отца и отправился играть.
Отец Дэвида знал, как изменить настроение сына. Он не стал защищаться, объясняя, почему его не было дома. («Я же должен ходить в магазин. Что ты будешь есть, если я не куплю продукты?») И он не сказал : «С какой стати ты злишься на меня?» Вместо этого он признал правомерность чувств сына и его жалоб .
Многие родители не понимают всей тщетности попыток убеждать детей в том, что их жалобы неправомерны, а их восприятие действительности ошибочно. Это всего лишь способ распалить спор и злость.
...
Однажды двенадцатилетняя Элен вернулась домой после школы в сильном расстройстве.
ЭЛЕН: Я знаю, что вы расстроитесь. Но я получила по тесту «хорошо». Я знаю, как для вас важно, чтобы я получала только «отлично».
МАТЬ: Нет. Меня это вовсе не волнует. Почему ты говоришь так? Я абсолютно не расстроена твоей оценкой. «Хорошо» меня тоже вполне устраивает.
ЭЛЕН: Так почему ты всегда на меня кричишь?
МАТЬ: Когда я на тебя кричала? Ты расстроена, поэтому обвиняешь меня.
Элен расплакалась и выбежала из комнаты.
Даже если мать Элен поняла, что дочь обвиняет ее, чтобы сорвать собственное недовольство полученной оценкой, обнаруживать свое понимание и указывать девочке на это – не лучший способ помочь ей справиться с расстройством. Мать Элен поддержала бы свою дочь, если бы признала правомерность состояния дочери и сказала ей: «Тебе бы хотелось, чтобы получаемые тобой оценки меньше меня беспокоили. Тебе хочется самой решать, какая оценка тебя устраивает. Я тебя понимаю».
Не только дети, но и незнакомые нам люди, с которыми мы сталкиваемся, благодарны нам за доброжелательное выражение понимания их трудностей. Миссис Графтон неохотно посещает свой банк. «Там всегда полно народа, а менеджер ведет себя так, словно делает мне одолжение тем, что находится на своем рабочем месте. Каждый раз, когда я вынуждена обращаться к нему, я внутренне напрягаюсь». Случилось так, что в одну из пятниц ей понадобилась его подпись на чеке. Слыша, как он разговаривает с другими посетителями, стоящими перед ней в очереди, миссис Графтон все больше расстраивалась и нервничала. Но потом она решила попытаться поставить себя на его место и выразить ему понимание, отражая и признавая правомерность его ощущений.
...
«Очередная трудная пятница! Все чего-то требуют от вас. Всем нужно ваше внимание. А ведь сейчас еще даже не полдень. Мне трудно себе представить, как же вам удается дотягивать до конца рабочего дня».
Мужчина буквально расцвел. Она убедилась в том, что и он умеет улыбаться.
«О, да, здесь всегда столпотворение. Каждому хочется, чтобы о нем позаботились в первую очередь. А что я могу сделать для вас?»
И он не только подписал чек, но и сопроводил ее к кассе, чтобы чек обработали как можно быстрее.
Бесплодные словесные перепалки: проповеди и критика дистанцируют и возмущают
Родителей порой приводит в отчаяние диалог с ребенком, потому что окончательно заводит их в тупик. (Примером может служить знаменитый диалог: «Куда идешь?» – «Отсюда». – «Чем ты занимаешься?» – «Ничем».) Родители, пытающиеся увещевать, быстро убеждаются в бесполезности этого занятия. Говоря словами одной матери: «Я могу аргументировать, убеждать и увещевать до посинения. Но мой ребенок меня не слушает. Он реагирует только на мой крик».
Дети зачастую избегают диалогов с родителями. Их возмущают обращенные к ним проповеди, попытки втянуть их в поучительную беседу, критика в их адрес. Они считают таких родителей слишком многословными. Вот восьмилетний Дэвид говорит своей маме: «Почему, когда я задаю тебе короткий вопрос, ты даешь мне такой длинный ответ?» А своим друзьям он признавался: «Я ничего не рассказываю своей маме. Начни я с ней разговор, и у меня не останется времени поиграть».
Заинтересованный наблюдатель, подслушивающий разговор между матерью/отцом и ребенком, с удивлением обратит внимание на то, как мало каждый их них слушает другого. Диалог напоминает скорее два монолога. Один монолог содержит критику и наставления, другой – отрицания и мольбы. Трагедия такой коммуникации заключается не в отсутствии любви, а в недостатке уважения; не в отсутствии ума, а в недостатке умения взаимодействовать друг с другом.
Наш привычный способ взаимодействия не позволяет содержательно общаться с детьми. Дабы дети услышали родителей и родительское беспокойство улеглось, необходимо освоить щадящий способ общения со своими чадами.
Коммуникация с целью контакта: реагировать на чувства ребенка, а не на его поведение
Чтобы по-настоящему общаться с ребенком, нужно его уважать и обладать определенными навыками. Для этого необходимо, чтобы: а) содержание беседы не ущемляло чувство собственного достоинства как ребенка, так и родителей; б) выражение понимания предшествовало советам или наставлениям.
Девятилетний Эрик пришел домой очень расстроенный. Они собирались отправиться всем классом на пикник, который не состоялся из-за дождя. Отец решил применить новый подход. Он воздержался от дежурных замечаний типа: «Какой смысл плакать из-за того, что погода плохая. Дней для удовольствий будет еще предостаточно. Послушай, ведь это не я устроил дождь, так почему ты дуешься на меня?»
Вместо этого отец сказал себе следующее: «Мой сын очень расстроен из-за того, что пикник не состоялся. И делится этим своим переживанием со мной, демонстрируя мне свое недовольство. Он во власти своих эмоций. Я могу ему помочь, показав, что понимаю и уважаю его чувства». Отец сказал Эрику:
...
ОТЕЦ: Ты выглядишь очень расстроенным.
ЭРИК: Да, я расстроен.
ОТЕЦ: Ты очень хотел пойти на пикник?
ЭРИК: Конечно.
ОТЕЦ: Ты все приготовил. И вот этот дождь. Он все испортил.
ЭРИК: Да, так и есть.
Разговор прервался. Пауза. Потом Эрик сказал: «Да ладно. Что тут сделаешь. Будут и другие дни». Похоже, его недовольство и раздражение испарились, и он охотно шел на контакт на протяжении всего дня. А ведь, как правило, стоило Эрику вернуться не в духе, и все в доме разлаживалось. Раньше или позже, но ему удавалось спровоцировать всех членов семьи. И мир в семье не воцарялся до поздней ночи, пока Эрик наконец не засыпал. Так в чем же особенность подхода отца и что в его поведении является залогом успеха?
Дети, захваченные сильными эмоциями, никого не слышат. Они не способны воспринимать ни советы, ни утешения, ни конструктивную критику. Детям хочется, чтобы мы понимали, что с ними происходит, что они чувствуют в данный конкретный момент. Более того, они хотят, чтобы их понимали без всяких откровений с их стороны. Это игра, в которой дети лишь слегка приоткрывают мир своих чувств. И мы должны оказаться в состоянии домыслить остальное.
Когда ребенок сообщает нам: «Учитель на меня накричал», – не следует допытываться, добиваться подробностей. И ни в коем случае не стоит произносить: «Что же ты натворил(-а), чтобы подобного удостоиться? Не может быть, чтобы учитель накричал на тебя без всякой причины. Так что же ты сделал?» Не стоит и фальшиво восклицать: «Ах, как мне тебя жалко!»
Надо суметь поставить себя на место ребенка – разделить с ним его боль, замешательство, гнев – и выразить ему это....
Восьмилетняя Анита вернулась домой к обеду страшно злая: «Я больше не пойду в школу!»
МАТЬ: Ты выглядишь очень расстроенной. Может быть, ты расскажешь мне, в чем дело?
АНИТА: Учительница разорвала мою работу. Я старалась изо всех сил, а она лишь взглянула, и потом взяла и все разорвала.
МАТЬ: Не спросив у тебя разрешения? Ничего удивительного, что ты так разгневана!
Мать Аниты воздержалась от любых дальнейших расспросов и комментариев. Она поняла, что нужна дочери в качестве понимающего и сочувствующего собеседника и что только таким образом ей удастся помочь девочке унять гнев.
Другой пример: девятилетний Джеффри пришел из школы домой с несчастным видом и принялся ныть: «Учительница нас просто замучила».
...
МАТЬ: Ты выглядишь усталым.
ДЖЕФФРИ: Двое мальчишек устроили тарарам в библиотеке. Она не знала, кто именно, поэтому наказала всех. И мы простояли в коридоре почти весь день.
МАТЬ: Целый класс простоял в коридоре весь день, набрав в рот воды? И это вместо занятий! Ничего удивительного, что ты измотан.
ДЖЕФФРИ: Но я ей сказал: «Мисс Джоунс, я верю, что вы в состоянии выяснить, кто же шумел, поэтому вам ни к чему наказывать весь класс».
МАТЬ: Боже правый! Девятилетний малыш пытается помочь своей учительнице уяснить, что нельзя наказывать целый класс за плохое поведение двоих!
ДЖЕФФРИ: А я и не пытался помочь. Но, по крайней мере, она улыбнулась в первый раз за весь день.
МАТЬ: Хоть ты ее не переубедил, но благодаря тебе у нее наверняка изменилось настроение.
Выслушивая сына и уважая его чувства, признавая его мировосприятие, его ощущения и высоко оценивая его стремление урегулировать проблему, мать Джеффри помогла ему изменить настроение и погасить вспышку гнева.
Каким образом мы выясняем, что чувствуют наши дети? Мы смотрим на них и выслушиваем их. К тому же мы призываем на помощь наш собственный эмоциональный опыт. Благодаря опыту мы понимаем, что должен чувствовать ребенок, когда его стыдят публично в присутствии сверстников. Тогда мы строим фразы так, чтобы ребенок уловил – мы хорошо понимаем, что ему пришлось испытать. В данной ситуации вполне может пригодиться одна из следующих формулировок:
...
«Должно быть, тебе было ужасно стыдно».
«Я понимаю, почему тебя это просто взбесило». «Наверно, в этот момент ты ненавидел учительницу».
«Конечно, все это очень ранило твои чувства».
«Воистину, это был для тебя неудачный день!».
К несчастью, родители, пытающиеся пресечь плохое поведение своих детей, не понимают, что, оскорбляя чувства ребенка, они, наоборот, способствуют тому поведению, которое считают нежелательным. Любые попытки исправить поведение следует предварять проявлениями уважения к детским чувствам.
Вот рассказ матери двенадцатилетнего Бена.
...
«Вчера, когда я пришла с работы домой, мой сын Бен даже не дал мне спокойно снять пальто. Он выскочил из своей комнаты и принялся жаловаться на учительницу: «Она задает на дом слишком много. Мне и за год не справиться с таким домашним заданием. Как я могу написать стихотворение к завтрашнему утру? И я еще должен написать рассказ, который не сдал на прошлой неделе. А сегодня она на меня наорала. Должно быть, она меня просто ненавидит!» Я не совладала с собой и на него накричала: «У меня есть начальник, такой же противный, как твоя учительница, но ведь моих жалоб ты не слышишь. Нет ничего удивительного в том, что учительница орет на тебя. Ты никогда не делаешь домашних заданий. Ты просто-напросто заправский лентяй. Перестань жаловаться и принимайся за работу, иначе у тебя снова будут неприятности».
«Что произошло после того, как Вы излили свой гнев?» – спросил я.
«Мой сын ринулся в свою комнату, закрылся на ключ и не вышел к ужину».
«И как Вы себя при этом чувствовали?» – поинтересовался я.
«Ужасно. Весь вечер был испорчен. У всех домашних было подавленное настроение. Атмосфера была гнетущей. Я чувствовала себя виноватой, но не знала, что же мне следует делать».
«Что, как вы думаете, переживал ваш сын?» – спросил я.
«Думаю, он был рассержен на меня и боялся учительницы. Он был угнетен и подавлен. Он считал ситуацию безнадежной. И он был слишком расстроен для того, чтобы сконцентрироваться. Да, я не сильно ему помогла. Но я не могу выносить его жалобы. Он не желает принимать на себя ответственность».
А если бы Бен сумел выразить свои чувства, а не только жаловаться на учительниу – неприятного инциндента удалось бы избежать. Окажись он в состоянии выговорить: «Мам, я боюсь идти завтра в школу. Я должен написать стихотворение и короткий рассказ. Но я слишком расстроен и не могу собраться с мыслями», – и его мама ему бы посочувствовала. Она признала бы затруднительность положения сына. Полученный ею эмоциональный заряд наверняка помог бы ей отреагировать такой, например, фразой: «Гм, ты должен написать стихотворение и рассказ к завтрашнему утру. Ничего себе! Неудивительно, что ты засомневался в своих силах!»
...
К несчастью, ни у нас, ни у наших детей не выработана привычка выражать свои чувства, делиться ими. Зачастую мы даже не отдаем себе отчета в том, что же или как мы чувствуем.
Обычно, когда детям трудно взаимодействовать с окружающими, они раздражаются и считают, что в их затруднениях виноваты другие. Последнее доводит до белого каления их родителей, которые, выйдя из себя, винят во всем своих чад. При этом родители нередко произносят то, о чем потом сожалеют, а проблема остается нерешенной.
Посколько детям трудно адекватно проявлять эмоции, было бы неплохо, если бы родители научились распознавать замаскированные вспышками возмущения детские страхи, отчаяние и беспомощность. Тем самым, вместо того чтобы реагировать на поведение ребенка, родители откликались бы на его расстроенные чувства, помогая ему с собою справиться. Только в ситуации, когда дети встречают понимание, они могут четко думать и правильно действовать – то есть (применительно к вышеописанному стереотипу) сосредоточиваться, удерживать внимание и быть в состоянии слушать.
Сила детских переживаний не ослабнет, если сказать ребенку: «Нехорошо испытывать такие чувства», или когда родители пытаются убедить рационально, что «для подобных чувств у тебя нет никаких оснований». Чувства не исчезают от запретов на них. Зато их интенсивность существенно снижается, а острота и непримиримость ослабевают, когда собеседник относится к сказанному ребенком с симпатией и пониманием.
Впрочем, то же справедливо в отношениях между взрослыми. О чем свидетельствует нижеприведенный открывок из дискуссии, состоявшейся на одном из занятий группы родителей.
...
ВЕДУЩИЙ: Вообразите себе такое утро, когда все идет не так. Телефон трезвонит, ребенок плачет, хлеб в тостере подгорает. Ваш супруг(-а), глядя на тостер, говорит: «Господи! Когда же ты наконец научишься делать тосты?!» Какова ваша реакция?
Родитель А: Я швырну тост ему (ей) в лицо!
Родитель В: Я скажу ему (ей): «Делай себе сам(-а) свои проклятые тосты».
Родитель С: Я думаю, меня все это настолько обидит, что я смогу расплакаться.ВЕДУЩИЙ: Какие чувства вызовут у вас произнесенные супругом(-ой) слова? РОДИТЕЛИ: Гнев, ненависть, обиду.
ВЕДУЩИЙ: Будет ли для вас проблемой приготовить новую порцию тостов? А: Лишь при условии, что мне удастся посыпать их ядом!
ВЕДУЩИЙ: А каким вам покажется ваш день? А: День испорчен, пропал!
ВЕДУЩИЙ: А теперь представьте себе ту же ситуацию: тост сгорел, но супруг(-а), наблюдая происходящее, говорит: «Милая(-ый), ну и утро тебе выдалось! И ребенок, и телефон, а теперь еще и тосты сгорели!»
В: Я думаю, что я бы почувствовал(-а) себя просто замечательно.
С: Меня это так бы обрадовало, что я бы обнял(-а) ее (его) и поцеловал(-а).ВЕДУЩИЙ: Почему? Ведь младенец продолжает плакать, а тост по-прежнему горелый. РОДИТЕЛИ: Это не так уж важно.
ВЕДУЩИЙ: В чем же разница?
А: Ты чувствуешь себя замечательно, потому что тебя не подвергают критике.
ВЕДУЩИЙ: И каким, вы думаете, будет ваш день?
С: Это будет радостный и счастливый день.ВЕДУЩИЙ: Разрешите мне предложить вам третий сценарий. Ваш супруг (супруга) видит сгоревший тост и спокойно вам говорит: «Давай я тебе, дорогой(-ая), покажу, как делать тосты». В: Нет, только не это. Этот сценарий еще хуже первого. Я буду чувствовать себя полной дурой (полным дураком).
ВЕДУЩИЙ: Давайте теперь разбираться, как эти три разных подхода к инциденту с тостом применимы к вашим отношениям с детьми.
A: Я вижу, куда вы клоните. Я всегда говорю своему ребенку: «Ты уже достаточно взрослый, чтобы знать это, ты достаточно взрослый, чтобы понять то». Должно быть, мой ребенок от этого просто осатанел. Ведь у меня обычно получается его довести.
В: Я постоянно говорю свой дочери: «Давай я покажу тебе, как делать то одно, то другое».
В: Я настолько привыкла к выражениям недовольства в мой адрес, что критиковать ребенка для меня обычное дело. При этом я использую в точности те же слова, которыми потчевала меня моя мама, когда я была маленькой. И за это я ее ненавидела. Никогда у меня не получалось сделать хоть что-нибудь «правильно» – она всегда заставляла меня переделывать.ВЕДУЩИЙ: И вот теперь выясняется, что вы говорите своей дочери то же самое? В: Да. И мне это совсем не нравится. И я себе при этом тоже не нравлюсь.
ВЕДУЩИЙ: Давайте разбираться, чему нас учит история со сгоревшим тостом. Так что же помогает превратить проявления злобы в проявления любви?
Б: Тот факт, что, оказывается, кто-то способен тебя понять.
В: И не винить при этом.
А: И этот кто-то обходится без всяких наставлений, как исправить, и поучений, как исправиться.
Данная сценка (из книги H. Ginott «Group psychology with children», McGraw-Hill , 1961) демонстрирует, что слова – это сила, способная генерировать и вражду, и счастье. А мораль тут такова: то, как мы реагируем на событие (словами или проявлениями чувств), может существенным образом изменить атмосферу в доме.
Принципы ведения беседы: понимание и сопереживание
Если ребенок рассказывает вам или просит вас ему рассказать о каком-то происшествии, самое лучшее – реагировать не на событие, но отвечать в контексте задействованных событием отношений .
Флора (6 лет) жалуется на то, что «в последнее время» она получает меньше подарков, чем ее брат. Мать не оспаривает правомерность жалобы. Она также не принимается втолковывать Флоре, что ее брат старше и ему положено больше. И не обещает загладить несправедливость. Она знает, что для детей гораздо важнее подлинность их отношений с родителями, нежели количество подарков и их ценность. И мать спросила Флору: «Тебе хочется знать, люблю ли я тебя так же сильно, как его?» Не добавляя больше ни слова, мать крепко обняла Флору, которая ответила ей улыбкой удивления и довольства. Вот так был положен конец беседе, которая могла бы превратиться в бесконечный обмен аргументами.
...
Многие детские вопросы обнаруживают стремление ребенка получить заверения. И лучшим ответом на эти вопросы будет заверение в нашей непреходящей любви к нему.
Когда ребенок рассказывает вам о событии, порой имеет смысл реагировать не на само событие, а лишь на чувства, его сопровождающие.
Глория (7 лет) пришла домой расстроенной. И принялась рассказывать отцу о том, как ее подружку Дори столкнули с дорожки в большую лужу. Вместо того чтобы расспрашивать о подробностях происшествия и выражать желание наказать обидчиков, отец Глории отреагировал на чувства своей дочки. Он сказал: «Как же все это тебя огорчило. Ты ужасно разозлилась на противных мальчишек, столкнувших Дори в лужу. Ты до сих пор негодуешь».
На все высказывания отца Глория отвечала эмоциональным, сочувственным «Да!». На вопрос отца: «Ты боишься того, что они и с тобой поступят так же?» Глория ответила с решимостью в голосе: «Пусть только попробуют! Я увлеку их с собой. Вот это будет плюх!» И она засмеялась, воображая себе картину. И беседа нашла свой счастливый конец. А ведь общение отца с дочерью могло превратиться в проповедь, в перечень бесполезных советов на тему самозащиты.
Когда ребенок возвращается домой, переполненный бесконечными жалобами – на друга, учителя или на жизнь в целом, – отвечая ему, надо ориентироваться прежде всего на тон, на эмоциональную сторону его речи, вместо того чтобы пытаться проверять факты или восстанавливать картину происшествия.
...
Десятилетний Гарольд пришел домой в состоянии крайнего недовольства и начал жаловаться.
ГАРОЛЬД: Какая гадость жизнь! Учительница назвала меня обманщиком только потому, что я сказал ей, что забыл о домашнем задании. Она на меня наорала. И как! Сказала, что напишет тебе записку.
МАТЬ: У тебя был очень трудный день.
ГАРОЛЬД: Мало сказать!
МАТЬ: Должно быть, тебе было очень неприятно, когда тебя назвали лгуном в присутствии всего класса.
ГАРОЛЬД: Да уж, приятного мало.
МАТЬ: Наверняка ты про себя пожелал учительнице кое-чего!
ГАРОЛЬД: А ты откуда об этом знаешь?
МАТЬ: Мы все обычно так поступаем, когда кто-нибудь нас оскорбляет.
ГАРОЛЬД: Какое облегчение. У меня прямо камень с души свалился.
Дети успокаиваются, делая открытие, что испытываемые ими чувства – нормальное явление, составляющая человеческого бытия. И нет лучшего способа выразить им это, чем понимание.
Когда ребенок заявляет о себе что-то, вовсе не обязательно соглашаться с ним или не соглашаться. Важнее сообщить нечто такое, что вызовет у ребенка ощущение, что его, как ни странно, понимают.
Когда ребенок говорит: «Я слаб(-а) в арифметике», мало проку отвечать ему (или ей): «Да уж, ты не дружишь с цифрами». Также не имеет смысла затевать с ребенком спор, стараясь опровергнуть сказанное им, равно как и давать дешевые, «трафаретные» советы типа: «Если бы ты больше занимался(-ась), у тебя получалось бы лучше». Бездумная и бездушная реакция подобного рода только ранит самолюбие ребенка, а передаваемый ею смысл подрывает его уверенность в себе.
К заявлению ребенка «Я слаб(-а) в арифметике» можно отнестись со всей серьезностью и пониманием. Подходит любая из нижеследующих реакций:
...
«Арифметика – вовсе не легкий предмет».
«Некоторые задачи совсем не просто решить».
«Учитель, конечно, не облегчает жизнь своей критикой». «Математика многих заставит почувствовать себя глупыми».
«Наверняка ты с нетерпением ждешь окончания урока».
«Когда урок кончается, ты, наверно, испытываешь облегчение, чувствуя, что на этот раз пронесло». «Да, экзамены будут нелегким испытанием».
«Ты, должно быть, страшно боишься завалить экзамен».
«Тебя, верно, страшно беспокоит, что же мы тогда про тебя подумаем».
«Ты, может быть, боишься, что мы в тебе разочаруемся».
«Нам прекрасно известно, что некоторые предметы легкими не назовешь».
«Мы верим в то, что ты будешь очень стараться».
Двенадцатилетняя девочка сообщает, что она почти лишается чувств от счастья, когда отец говорит с ней с подобным участием и выражает ей понимание, если она приносит домой плохую отметку. И ее внутренний позыв: отец в меня верит, я должна оправдать его ожидания.
«Я – глупый(-ая)» – такое признание достаточно часто делают родителям сын или дочь, оказавшись не в духе. Уверенные в том, что их дитя не может быть глупым, родители принимаются убеждать ребенка в обратном: что он очень даже сообразительный, совсем как его папа.
...
ЧАРЛЬЗ: Я – просто тупица.
ОТЕЦ: Никакой ты не тупица.
ЧАРЛЬЗ: Конечно, тупица.
ОТЕЦ: А вот и нет. Ты что, забыл, какую сообразительность ты проявил в лагере? Начальник лагеря считал тебя одним из самых умных.
ЧАРЛЬЗ: Откуда ты знаешь, что он считал?
ОТЕЦ: Он мне об этом сказал.
ЧАРЛЬЗ: Ну, просто замечательно! А почему тогда он постоянно обзывал меня дураком?
ОТЕЦ: Это он так, понарошку. Шутки у него такие дурацкие.
ЧАРЛЬЗ: Я – тупой, и знаю об этом наверняка. Посмотри на мои школьные отметки.
ОТЕЦ: Ты просто должен интенсивнее работать.
ЧАРЛЬЗ: Уже работал. Я уже проявлял прилежность, и это не помогло. Просто мне не хватает мозгов.
ОТЕЦ: Ты сообразительный парень, я в этом уверен.
ЧАРЛЬЗ: Я – дурак, и в этом уверен.
ОТЕЦ (повышая голос): Ты не дурак!
ЧАРЛЬЗ: А вот и дурак!
ОТЕЦ: Нет, ты не дурак, идиот этакий!
Если ребенок заявляет, что он тупица, дурак или урод и что он кругом плох – как ни возражай ему, чего ни предпринимай, – представление ребенка о себе немедленно не изменится. Угнездившееся в человеческом сознании представление о себе самом сопротивляется любым прямым попыткам его изменить. Как сказал один ребенок своему отцу: «Папа, я знаю, что ты хочешь сделать как лучше, но я не настолько дурак, чтобы клюнуть на твои заверения в том, что я умен».
Когда ребенок выражает негативное представление о самом себе, от наших возражений и протестов ему мало пользы. Они лишь заставляют его с еще большим упорством настаивать на своем. Лучшая помощь, которую мы в состоянии ему предложить, – демонстрировать серьезность нашего отношения не только к тому, что ребенок о себе заявляет, но и понимание специфического подтекста его заявлений.
Пример:
...
АЙВЕН: Я – дурак.
ОТЕЦ (со всей серьезностью): Ты действительно таковым себя ощущаешь? Ты не считаешь себя в глубине души умным?
АЙВЕН: Нет, не считаю.
ОТЕЦ: Получается, ты глубоко страдаешь – и никто об этом не догадывается?
АЙВЕН: Ну, да.
ОТЕЦ: В школе ты практически все время испытываешь невольный страх. Боишься, что провалишься, что получишь плохую оценку. Когда учитель тебя вызывает, ты очень конфузишься. И даже если ответ тебе известен, ты не можешь его произнести. Ты боишься, что скажешь что-то не то… и учитель будет тебя критиковать, а дети над тобой потешаться. А потому в большинстве случаев ты предпочитаешь ничего не говорить. Наверняка ты помнишь все случаи, когда ты что-то сказал, а тебя подняли на смех. И это сделало тебя дураком в собственных глазах. Уязвленным и разгневанным к тому же. (Вполне вероятно, что после этой фразы ребенок захочет рассказать вам что-нибудь из пережитого им.)
ОТЕЦ: Послушай, сын! На мой взгляд, ты в полном порядке, ты – хороший человек. Просто у тебя сложилось не совсем верное представление о самом себе.
Такая беседа, скорее всего, не изменит представления ребенка о себе в ту же секунду и не сходя с места. Но он может засомневаться в своей проблеме. Ребенок может, скажем, задуматься вот о чем: «Если мой отец понимает меня и считает, что все у меня в порядке, быть может, я не такой уж никчемный». Ощущение близости к отцу, инициированное подобной беседой, может привести к тому, что сын захочет оправдать отцовскую веру в него. И, в конце концов, он, возможно, перестанет считать себя таким уж безнадежным.
Если ребенок говорит: «Мне никогда ни в чем не везет», никакие аргументы и уверения в обратном не изменят его представление о себе. На каждый приводимый нами пример того, как ему однажды повезло, у ребенка заготовлены два развернутых повествования о его неудачах и несчастьях. Истово демонстрировать, насколько глубоко мы разделяем с ребенком его чувства, связанные с высказанным убеждением, – вот, пожалуй, и все, что мы можем сделать:
...
АННАБЕЛЬ: Мне никогда не везет.
МАТЬ: Ты так действительно чувствуешь?
АННАБЕЛЬ: Да.
МАТЬ: То есть когда ты играешь, то думаешь про себя: «Мне не выиграть. Потому что мне никогда не везет».
АННАБЕЛЬ: Да, это именно то, что я думаю.
МАТЬ: И если на уроке ты знаешь правильный ответ, ты думаешь: «Сегодня наверняка учительница меня не спросит».
АННАБЕЛЬ: Да.
МАТЬ: А когда ты не сделала домашнее задание, то пребываешь в полной уверенности, что «а вот сегодня меня обязательно вызовут к доске».
АННАБЕЛЬ: Точно.
МАТЬ: Наверняка ты можешь привести мне множество подобных примеров.
АННАБЕЛЬ: Наверняка… Таких, например, как… (ребенок приводит примеры).
МАТЬ: Мне очень интересно узнать, что для тебя удача или неудача. Когда случится что-нибудь такое, что ты расценишь как неудачу или, наоборот, как удачу, – сообщи мне об этом. И мы обсудим, что же на самом деле происходит.
Такая беседа, возможно, не изменит веру ребенка в то, что он – неудачник. Тем не менее ребенок вдруг почувствует, какой же он счастливчик, раз у него такая понимающая мать.
Рыба плавает, птица летает, а люди испытывают разнообразные, порой противоречивые чувства
Дети могут одновременно любить и ненавидеть. Они испытывают двоякие чувства по отношению к родителям, учителям и всем прочим людям, имеющим над ними власть. Взрослым трудно принять такую присущую жизни амбивалентность. Не принимая ее в себе, они не выносят подобной раздвоенности чувств и в своих детях. По мнению родителей, есть что-то в корне неправильное в таком противоречивом отношении к людям, в особенности к членам семьи.
Мы можем научиться снисходительно относиться к явлению раздвоенности чувств – и в себе, и в своих детях. Во избежание бессмысленных конфликтов дети должны знать о том, что эмоциональная амбивалентность – нормальное явление. Мы вольны помочь ребенку существенно облегчить испытываемое им чувство вины и избавить от беспокойства простым признанием существования противоречивых чувств и озвучиванием проблем:
...
«Похоже, у тебя двоякое отношение к учительнице: ты то ее любишь, то она тебе совсем не нравится».
«Видимо, ты испытываешь два чувства по отношению к своему старшему брату: ты восхищаешься им, и ты же его ругаешь». «В тебе сочетаются два противоположных желания: тебе хочется отправиться в лагерь, но также и оставаться дома».
Спокойная, лишенная критики констатация амбивалентности помогает детям. Поскольку убеждает их в том, что даже такой «коктейль» чувств не является чем-то запредельным, не достойным понимания. По словам одного ребенка: «Если к твоим смешанным чувствам можно отнестись с пониманием, они не такие уж и смешанные». С другой стороны, абсолютно неконструктивны заявления, подобные этому: «Ну и ералаш у тебя в голове! Минуту назад ты превозносил своего друга, а теперь поносишь его. Приведи в мозги в порядок, если, конечно, они у тебя есть».
Тонкое понимание человеческой природы подразумевает понимание того, что там, где есть любовь, возможна и толика ненависти; в восхищении возможна толика зависти; а преданность не исключает проявлений враждебности; успех может сопровождаться тревогой. И мудрость заключается в признании того, что все испытываемые человеком чувства допустимы: и положительные, и отрицательные, и амбивалентные.
Принять такую концепцию внутренне отнюдь не просто. Представления, привитые в детстве, и образование, которое мы, повзрослев, получаем, настраивает нас в пользу иного мнения. Нам объясняли, что отрицательные чувства – «плохие», их недопустимо испытывать, их следует стыдиться. Новый подход исходит из того, что судить можно лишь за поступки, а воображаемые действия не могут быть ни «хорошими», ни «плохими». Лишь поведение можно осуждать или поощрять, но не чувства – судить за чувства нельзя, да и невозможно. Оценка чувств и цензура фантазий чреваты двойным насилием – и над личной свободой, и над психическим здоровьем.
Эмоции – часть нашего генетического наследия. Рыбе свойственно плавать, птицам – летать, а людям – испытывать эмоции. Мы то счастливы, то несчастливы; а иногда мы уверены в том, что имеем право переживать гнев и страх, печаль и радость, вожделение и вину, похоть и презрение, восхищение и отвращение. Лишенные возможности выбора возникающих в нас эмоций, мы обладаем свободой выбора, как и когда их проявлять, при условии, что нам известно, каковы они. И в этом вся суть проблемы.
Многие люди не умеют распознавать свои истинные чувства. Неудивительно. Когда они испытывали настоящую ненависть, а им говорили, что это всего лишь антипатия. Они испытывали страх, а их заверяли в том, что бояться им нечего. Они чувствовали боль, а их поучали, что нужно быть храбрым и улыбаться. Многих из нас научили изображать счастье, не чувствуя себя счастливыми.
Что же предлагается вместо всех этих неискренних заверений? Правда. Эмоциональное образование поможет ребенку прояснить, что он чувствует. Для ребенка важнее знать, какие чувства он переживает, чем понимать, почему он их испытывает. Когда ребенок осознает, что он чувствует, он вряд ли будет страдать от ощущения того, что у него внутри «все перемешано и перепутано».
...
Мы – зеркало детских эмоций: отражая их, мы помогаем детям разобраться в том, что же они чувствуют.
Дети выясняют, на кого они похожи, наблюдая свое отражение в зеркале. Они выясняют свою эмоциональную сущность, воспринимая отражение своих чувств (то есть реакцию на свое поведение) другими людьми. Функция зеркала заключается в отражении образа таким, какой он есть, без приукрашиваний и искажений. Нам совсем не хочется, чтобы зеркало нам говорило: «Ты выглядишь ужасно. Твои глаза налиты кровью, а лицо распухло. Какой ужас. Ты бы сделал с собой что-нибудь». После нескольких сеансов общения со своим отражением в таком зеркале мы станем его избегать, как чумы. От зеркала мы ждем отражения, а не проповеди. Нам может не нравиться отраженный облик, однако мы предпочитаем сами принимать решение о том, к каким косметическим процедурам нам следует прибегнуть.
Также и функция эмоционального зеркала заключается в отражении эмоций такими, каковы они есть, без всяких искажений:
...
«Ты выглядишь очень сердитым».
«Судя по тону твоего голоса, ты этого человека просто ненавидишь».
«Похоже, вся ситуация вызывает у тебя отвращение».
Для ребенка, захваченного чувствами, подобные заявления – главная помощь. Они ясно отражают то, что он или она испытывает. Ясность изображения, как в обычном, так и в эмоциональном зеркале, создает предпосылки для самостоятельного приведения себя в порядок, то есть предпосылки позитивных изменений.
У нас, взрослых, накоплен опыт переживания обид, ярости, страха, неловкости, печали. И для переживания сильных чувств нет лучшего облегчения, чем внимающий и понимающий слушатель. Это верно и для детей. Тактичное общение заменяет критику, нотации и наставления целительным бальзамом человеческого понимания.
Когда наш ребенок находится в состоянии стресса, испытывает страх, смущение или печален, мы нередко бросаемся к нему на помощь, руководствуясь первым побуждением – критиковать и наставлять. При этом наше послание ему, пусть и невольное, вполне конкретно: «Ты слишком посредственен, чтобы знать, что следует делать». Остроту его исходной боли мы дополняем новым оскорблением.
Можно поступать иначе. Посвящая время тому, чтобы понять ребенка и сострадать ему, мы отправляем ему качественно иное послание: «Ты мне важен. Я хочу понять твои чувства». А в основании этого живительного послания лежит заверение: «Умиротворись! И ты сам найдешь лучшее для себя решение».
2. Сила слов: лучшие способы подвигнуть и направить
Неужели похвала вовсе не благо для ребенка?
В психотерапии считается недопустимым говорить ребенку: «Ты очень хороший мальчик», «Ты просто замечательный». Следует избегать суждений и поощряющих оценок. Почему? Потому что такая «помощь» провоцирует беспокойство, потворствует зависимостям, возбуждает стремление защищаться. И не способствует возникновению желания положиться на себя, самостоятельно ориентироваться и самому себя контролировать – то есть не способствуют всем тем качествам, появление которых требует независимости от чужого мнения, внутренней мотивированности и способности давать собственную оценку себе и происходящему.
...
Детям нужна свобода от давления оценочных похвал. Иначе существует опасность того, что другие сделаются для них необходимым источником одобрения.
Приступы непослушания случаются в детьми в самый неподходящий момент.
Утро понедельника после выходных, на которые выпал День благодарения. Семья возвращается в машине домой, из Питсбурга в Нью-Йорк. На заднем сиденье – шестилетний Айвен. Он спокоен, он тих, он ангел, он глубоко погружен в свои мысли. Его мать решила, что ребенок заслужил похвалу. На въезде в тоннель Линкольна мать повернулась к Айвену и сказала: «Какой же ты чудесный мальчик. Ты ведешь себя просто замечательно. Я тобой горжусь».
Буквально через минуту Айвен извлек из подлокотника пепельницу и вывалил ее на своих родителей. Пепел и окурки взметнулись в воздух и зависли на манер атомного гриба. Семья задыхалась, находясь в тоннеле в автомобильном потоке. Мать Айвена была готова его убить. Ее особенно огорчало то, что за секунду до проступка она искренне, от всей души похвалила мальчика. «Разве похвала больше не благо для детей?» – вопрошала она себя.
А несколько недель спустя Айвен по собственному почину раскрыл причины своей выходки. Оказывается, всю дорогу домой он ломал голову над тем, как ему избавиться от младшего братика, мирно почивавшего межу папой и мамой. Вдруг его осенило: если бы машину рассекло вдоль пополам, он и его родители уцелели бы, а младенец – нет. Именно в этот момент мама похвалила Айвена за то, что он очень хороший. Ее слова отозвались в нем ощущением вины, и ему отчаянно захотелось продемонстрировать, что он похвалы не заслуживает. Мальчик огляделся вокруг и увидел пепельницу. Дальнейшее известно.
Добрые дела не превращают тебя в хорошего человека
Большинство людей уверены в том, что похвала делает детей уверенными в себе, отчего они чувствуют себя более защищенными. На самом деле похвала может стать причиной напряженности и спровоцировать непослушание. Почему? Многими детьми время от времени обуревают деструктивные желания по отношению к членам своей семьи. Когда родители говорят ребенку: «Ты такой хороший мальчик», он может оказаться не способным принять это поощрение всерьез, потому что его собственное представление о себе абсолютно другое. В его собственных глазах он не может быть «хорошим», если он только что пожелал, чтобы его мама исчезла или чтобы его брат провел как минимум следующую неделю в больнице.
На самом деле чем больше ребенка хвалят, тем хуже он себя ведет – с целью продемонстрировать свою «настоящую суть». Родители часто говорят о том, что ребенок непосредственно после того, как его похвалили за хорошее поведение, начинает вести себя дико, словно задавшись целью опровергнуть комплимент. Вполне может быть, что непослушание – своеобразный детский способ призвать нас к сдержанности. Во всяком случае, когда речь идет о впечатлении, которое ребенок производит на окружающих.
Нередко хваленые за сообразительность и ум дети избегают участия в новаторских школьных проектах, поскольку им не хочется рисковать своим высоким статусом. И наоборот, когда ребенка хвалят за активность и усилия , он проявляет усердие и больший интерес именно к сложным заданиям.
Похвала полезная и вредная
С похвалой, как и с пенициллином, надо обращаться с осторожностью. Существуют показания и противопоказания, которые следует принимать во внимание, если уж решил воспользоваться сильнодействующим лекарством, учти всякие там регулирующие дозировку и время приема предписания, предостережения на предмет возможных аллергических реакций. И при использовании эмоциональных приправ следует руководствоваться схожими правилами. А самое важное звучит так: хвалить ребенка следует исключительно за старание и результат, но не за индивидуальные способности и черты характера .
Когда ребенок убирает двор, нет ничего более естественного, чем похвалить его за упорство и старание в работе, делая акцент на том, как же замечательно теперь двор выглядит. А высказывания на предмет того, какой ребенок замечательный сам по себе, не имеют отношения к делу и просто ни к чему. Слова похвалы должны быть для ребенка отражением реальной картины его дел, а вовсе не приукрашенным образом его личности.
Следующий пример иллюстрирует, что такое полезная похвала.
...
ДЖУЛИЯ, 8 лет, очень старалась, убирая двор. Она сгребла листья, удалила мусор и положила на место инструменты. На ее мать все это произвело большое впечатление, и она оценила по достоинству усилия дочки и ее успехи.
МАТЬ: Двор был таким грязным. Я и представить себе не могла, что его возможно убрать за день.
ДЖУЛИЯ: Я сделала это.
МАТЬ: Двор был завален листьями, мусором, повсюду валялись какие-то вещи.
ДЖУЛИЯ: Я все везде убрала.
МАТЬ: Ты действительно постаралась!
ДЖУЛИЯ: Да, это так.
МАТЬ: Теперь двор такой чистый; одно удовольствие видеть это.
ДЖУЛИЯ: Да, это приятно.
МАТЬ: Твое сияющее лицо свидетельствует о том, что ты гордишься собой. Спасибо тебе, моя дорогая.
ДЖУЛИЯ (с улыбкой до ушей): Да не за что.
Слова матери помогли Джулии порадоваться тому, что она приложила столько усилий, и наполнили ее гордостью за достигнутые результаты. Ей не терпелось увидеть отца, который должен был вернуться с работы вечером, чтобы показать ему вычищенный двор и снова испытать гордость оттого, что задание так хорошо выполнено.
И наоборот, похвалы ребенку с оценкой его личности бесполезны:
...
«Ты такая замечательная дочь!»
«Ты настоящая мамина помощница!»
«Что бы мама без тебя делала?»
Подобные высказывания могут напугать ребенка и обеспокоить его. Ведь ребенок может считать себя посредственным и не соответствующим званию замечательного. И дабы в страхе не ждать, когда его впоследствии разоблачат как афериста, ребенок нередко предпочитает сбросить этот груз немедленно, очернив самого себя плохим поведением. Прямое восхваление личностных качеств – как прямой солнечный свет, неприятно и слепит. Согласитесь, становится немного не по себе, когда тебе в глаза говорят, что ты прекрасен, ангелоподобен, щедр и при этом до невозможности скромен. Ребенок чувствует себя просто обязанным опровергнуть хотя бы часть этих сладких эпитетов. Он же не может встать в позу и сказать: «Большое спасибо, я с благодарностью принимаю ваши слова о том, какой я замечательный». К тому же, положа руку на сердце наедине с собой, ребенок тоже понимает, что не заслужил таких дифирамбов. Кто из нас с чистой совестью скажет себе: «Я просто замечательный! Я хороший, я сильный, я щедрый и очень скромный».
Притом ребенок, услышав такую хвалебную речь в свой адрес, в глубине души начинает сомневаться в тех, кто его похвалил: «Ведь если они считают меня таким уж замечательным, особо умными их не назовешь».
Похвала – искусство, которым следует овладеть
Похвала включает два аспекта: то, что говорим ребенку мы, и то, что он думает о себе сам.
Наши поощрительные слова должны в точности определять, что именно нам нравится: что мы ценим в проделанной ребенком работе, оказанной им помощи, высказанных им соображениях, в его творчестве или достижениях. Наши слова должны быть подобраны так, чтобы, опираясь на сказанное нами, ребенок мог получить правдоподобное заключение о том, каков он как личность. Наши слова должны быть подобны холсту, на котором ребенок сам может нарисовать свой (положительный) образ. Вот единственно допустимое из возможных последствий похвалы.
...
Кенни, 8 лет, помогает отцу наводить порядок в подвале. По ходу дела ему приходится двигать тяжелую мебель.
ОТЕЦ: Рабочий стол такой массивный! Его трудно сдвинуть с места.
КЕННИ (с гордостью): Я его сдвинул.
ОТЕЦ: На это уходит много сил.
КЕННИ (напрягая мускулы): Я – сильный.
В данном примере отец Кенни лишь подчеркивает трудность задания. И Кенни сам делает выводы о собственных качествах. А скажи его отец: «Ты такой сильный, сынок!» – и Кенни, возможно, ответил бы: «Вовсе нет. В моем классе есть мальчишки гораздо сильнее меня». Таким отрезвляющим, если не сказать, горьким, может быть аргумент.
Мы обычно хвалим детей, желая, чтобы они лучше о себе думали. Только почему, когда мы говорим дочери: «Ты просто красавица!» – она не соглашается с этим? Почему, когда мы говорим сыну: «Ты просто великолепен!» – он смущается и уходит прочь? Может быть, наших детей настолько трудно умилостивить, что даже откровенное славословие не помогает? Разумеется, нет. Просто, скорее всего, наши дети, как и большинство людей, настороженно реагируют на похвалы, затрагивающие их личность, их физические или умственные качества. Детям не нравится, когда их оценивают.
Как бы чувствовал себя любой из нас, если бы в конце каждого месяца человек, который утверждает, что любит нас, вручал бы нам табель с оценками? «За то, как ты меня целуешь, я ставлю тебе «отлично»; за то, как ты меня обнимаешь, – только «хорошо»; а за то, что ты меня любишь, ставлю тебе пять с плюсом». Мы бы расстроились и ощутили унижение. И как раз в том, что нас любят, мы бы засомневались.
А ведь есть и другой, лучший путь – признание усилий; выражение уважения и понимания.
...
Когда однажды вечером 13-летняя Джун была одна, в дом пытался проникнуть вор. Она пробовала дозвониться до соседей – никто не снимал трубку. Тогда она позвонила в полицию.
Вернувшиеся домой родители застали в доме полицейского, протоколирующего показания Джун. Родителей, мать и отца, поразила та зрелость, с которой Джун справилась с пугающей ситуацией. Но при этом они не хвалили ее ни за то, что она такая замечательная девочка, ни за ее зрелость. Они лишь с большим уважением разбирали с дочерью ситуацию, ясно донося до ее сознания, насколько эффективным оказалось ее поведение.
Отец Джун сказал ей: «То, как ты действовала, соотвествует хемингуэевскому определению храбрости: «Изящество вопреки грубому нажиму». Какое сильное впечатление производит 13-летний подросток, способный сохранить холодной голову в отчаянной ситуации; сумевший сделать все необходимое, чтобы защитить себя – позвонить соседям; затем дозвониться до полиции и сообщить необходимые подробности. Мы, твоя мать и я, очень тебя уважаем».
Джун слушала, расслабляясь от удовольствия. Широкая улыбка осветила ее лицо, затем она произнесла: «Думаю, теперь вы можете смело говорить о том, что я умею справляться с жизнью».
Родительская реакция не позволила Джун упрекать родителей в том, что ее оставили дома одну. Наоборот, найдя выход из пугающей ситуации, она чувствовала теперь себя более уверенно. А вот другие примеры.
...
Мать Лестера провела послеобеденное время, наблюдая, как ее сын играет в футбол. После игры, желая выразить сыну признание его мастерства и достижений, она описала в деталях то, что ее поразило: «Я получила настоящее удовольствие, наблюдая твою игру, особенно последние несколько секунд, когда ты использовал возможность атаковать. Ты, оставив свою позицию защитника, перебежал все поле, добежал до противоположного его конца и поразил ворота. Ты можешь собой гордиться!»
Она позволила себе эту последнюю фразу, потому что ей хотелось, чтобы у сына развивалось внутреннее чувство гордости за себя.
...
Отец попросил свою шестилетнюю дочь Дженнифер помочь ему разделить на кучи опавшие листья, которые он сгреб вместе. Когда они закончили, отец, показывая на кучи, сказал: «А теперь считаем: одна, две, три, четыре, пять, шесть! Шесть горок за полчаса! И как это тебе удалось работать так быстро?» Тем же вечером, лежа в постели и желая отцу спокойной ночи, Дженнифер спросила его: «Папа, можешь ли ты повторить то, что ты сказал мне о моих горках?»
Конкретизация похвалы и ее детализация требуют приложения определенных усилий. Дети выигрывают от перечисления подробностей и выражения признания в большей степени, чем когда мы хвалим обобщенно – просто за характер.
...
Мать Джорджа оставила такую записку на гитаре сына: «Твоя игра доставляет мне большое удовольствие». Сыну это было очень приятно. «Спасибо тебе за то, что ты сказала мне, какой я хороший гитарист». Он сам «перевел» оценочные слова матери в похвалу себе как музыканту.
Похвала может и обескуражить. Все зависит от мыслей ребенка о самом себе вслед за тем, как его похвалили.
...
Однажды 12-летняя Линда, играя дома в компьютерную игру, достигла в ней аж третьего уровня. Ее отец, увидев это, воскликнул: «Ты просто невероятна! У тебя совершенная координация! В игре ты настоящий эксперт». Линда потеряла к игре интерес и покинула комнату. Отцовская похвала лишила ее возможности продолжать, так как она сказала себе: «Папа считает меня великим игроком, но я ведь далеко не эксперт. Я вышла на третий уровень, потому что мне просто повезло. Если я снова начну сначала, я вряд ли достигну даже второго уровня. Лучше прекратить игру сейчас, оставаясь победителем».
Ее отцу следовало бы спокойно констатировать: «Выйдя на новый уровень, ты, должно быть, чувствуешь себя просто великолепно».
Следующие ниже примеры выражения похвал иллюстрируют это положение.
...
ПОХВАЛА-ПОДДЕРЖКА: «Спасибо за вымытую машину; она теперь снова как новая».
ВОЗМОЖНЫЙ ВЫВОД: Я выполнил работу хорошо и в результате получил признание.
(БЕСПОЛЕЗНАЯ ПОХВАЛА: Ты – ангел!)
...
ПОХВАЛА-ПОДДЕРЖКА: Мне понравилась твоя поздравительная открытка. Она очень красивая, а поздравление такое остроумное.
ВОЗМОЖНЫЙ ВЫВОД: У меня хороший вкус. Я могу положиться на свой выбор.
(БЕСПОЛЕЗНАЯ ПОХВАЛА: Ты всегда такой внимательный(-ая).
...
ПОХВАЛА-ПОДДЕРЖКА: Сочиненный тобой стих трогает мое сердце.
ВОЗМОЖНЫЙ ВЫВОД: У меня, кажется, получается писать стихи.
(БЕСПОЛЕЗНАЯ ПОХВАЛА: Оказывается, для своих лет ты хороший поэт.)
...
ПОХВАЛА-ПОДДЕРЖКА: Ты сделал красивую книжную полку.
ВОЗМОЖНЫЙ ВЫВОД: У меня есть способности.
(БЕСПОЛЕЗНАЯ ПОХВАЛА: Ты такой замечательный плотник!)
ПОХВАЛА-ПОДДЕРЖКА: Твое письмо доставило мне большую радость.
ВОЗМОЖНЫЙ ВЫВОД: Я могу приносить счастье другим людям.
(БЕСПОЛЕЗНАЯ ПОХВАЛА: Ты замечательно пишешь!)
ПОХВАЛА-ПОДДЕРЖКА: Я тебе очень признательна за мытье посуды.
ВОЗМОЖНЫЙ ВЫВОД: Я – ответственный человек.
(БЕСПОЛЕЗНАЯ ПОХВАЛА: Ты справился с делом лучше, чем кто бы то ни было.)ПОХВАЛА-ПОДДЕРЖКА: Спасибо за то, что ты сказал мне, что я тебе дал денег больше обещанного. Твои слова вызывают к тебе уважение.
ВОЗМОЖНЫЙ ВЫВОД: Я – честный малый.
(БЕСПОЛЕЗНАЯ ПОХВАЛА: Ты невероятно честный ребенок.)ПОХВАЛА-ПОДДЕРЖКА: Твое сочинение порадовало меня свежими идеями.
ВОЗМОЖНЫЙ ВЫВОД: Я умею оригинально мыслить.
(БЕСПОЛЕЗНАЯ ПОХВАЛА: Для школьника твоего возраста ты пишешь просто замечательно. Разумеется, тебе еще надо многому учиться.)
Такие констатирующие описания и положительная реакция ребенка – строительные блоки его психического здоровья. В ответ на произносимые нами слова дети позже формулируют определения относительно себя. Повторяемая реалистическая позитивная констатация в значительной степени определяет хорошее мнение ребенка о себе и об окружающем мире.
Не столько критикуйте ребенка, сколько направляйте его
Критика и похвала – две стороны одной медали. И обе выражают оценку. Во избежание оценочных суждений психологи избегают критиковать детей, чтобы на них не влиять. Они их направляют. В запале критики родители воюют с индивидуальностью своих детей, с особенностями их характера. А направляя детей, мы лишь обозначаем проблему и ее возможные решения. И при этом ничего не сообщаем ребенку о нем самом.
...
Восьмилетняя Мэри случайно пролила сок. Ее мама спокойно комментирует: «Сок пролился. Нам нужен еще один стакан сока и губка». Она встает и вручает стакан сока и губку дочери. Мэри, испытывая облегчение, недоверчиво смотрит на мать. Она шепчет: «Спасибо, мама». Она вытирает стол, и мать ей помогает. Помогает молча – она воздерживается от язвительных комментариев и бессмысленных наставлений. Мать Мэри рассказывает: «Я боролась с искушением сказать: «В следующий раз будь осторожна». Но когда я заметила, как она мне благодарна за мое милосердное молчание, я решила ни за что не открывать рта».
Когда все и без того не складывается – самое неподходящее время поучать бедолагу, критикуя его личные качества. Когда все идет не так, лучшее, что можно сделать, – целиком сосредоточиться на происшествии , не затрагивая личность.
Представьте себе, что вы за рулем, рядом с вами любимая(-ый), и вот вы поворачиваете в неположенном месте. Имеет ли какой-либо смысл близкому человеку говорить: «Почему ты свернул не там? Ты что, знака не видел? Он изображен крупно. Его просто нельзя не заметить». Будете ли вы в этот момент испытывать острый приступ любви к своему заботливому наставнику? Вряд ли вы сможете искренне произнести: «Мне следует совершенствовать свое вождение и умение читать знаки, чтобы не раздражать тебя дорогой(-ая)?». И, вообще, сумеете ли вы отреагировать в такой ситуации по-хорошему? Что принесет пользу? Сочувственный вздох: «Ах, милый (-ая), какая досада!» Или спокойное информирование: «Следующая возможность поворота в одиннадцати милях отсюда».
Когда все идет не так: лучше отвечать, а не реагировать
Во многих семьях ссоры между родителями и детьми разиваются по определенному, давно накатанному сценарию. Вот ребенок говорит или делает что-нибудь «неправильное». Родители реагируют, немножко его обижая. Ребенок в ответ делает еще хуже. Родители остро реагируют – угрозами на повышенных тонах или изобретательными наказаниями. И пошло-покатилось.
...
Однажды утром за завтраком семилетний Натаниэль играл пустой чашкой, а его отец читал газету.
ОТЕЦ: Положи чашку. Ты ее разобьешь. Ты всегда все разбиваешь.
НАТАНИЭЛЬ: Нет, не разобью.
Чашка тут же упала на пол и разбилась.
ОТЕЦ: Ну как тут удержаться! Как тут не сказать, что ты – страшный дурак. Ты крушишь все в доме.
НАТАНИЭЛЬ: И ты тоже дурак. Ты разбил мамину любимую тарелку.
ОТЕЦ: Ты называешь отца дураком! Ты просто грубиян и нахал.
НАТАНИЭЛЬ: Это ты грубиян и нахал! Это ты первым назвал меня дураком.
ОТЕЦ: Ни слова больше! Убирайся в свою комнату. Немедленно!
НАТАНИЭЛЬ: А ну, заставь меня!
Этот прямой, подрывающий авторитет вызов привел отца в ярость. Он схватил сына и принялся его исступленно лупить. Пытаясь вырваться, Натаниэль пихнул отца. Тот угодил в стеклянную дверь. Стекло разбилось. Отец поранил руку. При виде крови Натаниэль впал в состояние паники. Он выскочил за дверь. Его удалось найти только вечером. Все домашние были страшно расстроены. Той ночью заснуть не удалось никому.
Перестанет Натаниэль играть пустой чашкой или не перестанет, не столь важно по сравнению с теми негативными сведениями, которые ребенок получил о себе и своем отце. Возникает вопрос: «А было ли это сражение кому-нибудь необходимо? Была ли схватка неизбежной? Быть может, есть возможность разрешать подобные конфликты более мудрым способом?»
Видя, что сын играет чашкой, отец мог у него эту чашку забрать и переключить внимание мальчика на что-то более подходящее для игры, например на мяч. Или, когда чашка все-таки разбилась, отец мог бы помочь своему сыну собирать осколки, комментируя случившееся таким, например, образом: «Чашки прямо-таки норовят разбиться. Кто бы мог подумать, что такая маленькая чашка могла устроить такой большой кавардак?»
Удивление, вызванное деликатной, приглушенной реакцией отца, могло бы породить у Натаниэля желание загладить вину и извиниться за свою неловкость. В отсутствие криков и тумаков у него скорее достало бы здравого смысла сделать для себя вывод: чашки не подходят для того, чтобы ими играли.
Мелкие неприятности и значимые ценности
В процессе переживания мелких неприятностей дети могут получить урок о действительно значимых ценностях. Ребенок должен иметь возможность научиться у своих родителей отличать незначительные происшествия, которые всего лишь неприятны и досадны, от трагедий и катастроф. Многие родители реагируют на раздавленное яйцо так, будто им напрочь отдавили ногу, а на разбитое стекло так, словно разбилось их сердце. К незначительным невзгодам следует и относиться как к пустяковым, и таковыми представлять их детям: «То есть ты снова потерял перчатку. Какая досада! Но это вовсе не катастрофа, а всего лишь мелкая неприятность».
Потеря перчатки не должна быть чревата потерей терпения; разорванная рубашка не должна служить основанием для того, чтобы раздуть событие и добиться того, чтобы страсти накалились, как в греческой трагедии.
Наоборот, мелкая неудача может служить хорошим поводом задуматься о том, что такое настоящие ценности.
...
Когда восьмилетняя Диана обнаружила, что потеряла камень, украшавший ее колечко, она горько заплакала. Ее отец посмотрел на нее и сказал ясно и веско: «В нашем доме важны не камни. Нам люди важнее. Нам чувства важнее. Каждый может потерять камень. И любой камень можно заменить. Для меня важно то, что ты чувствуешь. Тебе очень нравится это кольцо. Я надеюсь, ты найдешь камень».
Родительская критика неэффективна. Она порождает злость и обиды. Хуже того: дети, которые регулярно подвергаются критике, учатся клеймить себя и других. Они учатся подвергать сомнению собственную ценность и принижать ценность других. Они учатся подозревать людей и ожидать себе приговора.
...
Одиннадцатилетний Джастин обещал вымыть машину. И забыл об этом. Спохватившись в последнюю минуту, он все-таки попытался сделать обещанное, но не закончил начатое дело.
...
ОТЕЦ: Сын, машину нужно домыть, особенно верх и левую сторону. Когда ты сможешь это сделать?
ДЖАСТИН: Папа, я могу доделать все уже сегодня вечером.
ОТЕЦ: Спасибо.
Вместо критики отец выдал сыну безоценочную информацию без всяких отступлений, предоставив возможность сыну самому закончить работу. И никакой нервотрепки, никаких ссор с отцом. Вообразите, насколько иначе повел бы себя Джастин, если бы его отец принялся критиковать сына с целью преподать ему важный урок.
...
ОТЕЦ: Ты вымыл машину?
ДЖАСТИН: Да, папа.
ОТЕЦ: Ты уверен?
ДЖАСТИН: Да, уверен.
ОТЕЦ: И это ты называешь мытьем? Ты просто решил поиграть, как ты обычно делаешь. Развлекаешься – вот и все, что тебе надо. И ты думаешь, что тебе удастся проскочить в жизни таким способом? Да такого халтурщика не продержат на работе и дня. Ты безответственный тип, вот ты кто!
Мать девятилетней Барбары понятия не имела о том, как воздержаться от критики, общаясь с дочерью.
...
Барбара вернулась школы в истерике, жалуясь: «Со мной сегодня случилось буквально все, что может случиться. Учебник упал в лужу. Мальчишки беспрестанно меня задирали. Кто-то украл мои кроссовки». Ее мать, вместо того чтобы сопереживать дочери, принялась читать ей нотации и выговаривать: «Ну почему все это случилось именно с тобой? Почему ты не можешь быть такой же, как другие дети? Да что с тобой, в конце концов!» Барбара расплакалась.
Что бы помогло Барбаре почувствовать себя лучше? Сострадательное признание: «Да! У тебя сегодня просто неудачный день».
Оскорбительные эпитеты вредят нашим детям
Оскорбительные эпитеты – как ядовитые стрелы. Их нельзя применять против детей. Когда кто-то говорит: «Этот стул уродлив», – со стулом ничего не случается. Стул не чувствует себя оскорбленным, и он не смущается. Стул остается тем, чем и был: просто стулом, независимо от прилагаемых к нему прилагательных. А вот если детей именовать уродами, дураками или недотепами, с ними определенно что-то случится. Возникающие реакции затрагивают и тело, и душу. Так нагнетается желчность, страх, ненависть. Зарождаются фантазии на тему мести. Ребенок начинает вести себя несносно. Могут проявиться и другие тревожные симптомы. Словесная агрессия инициирует цепочку реакций, которые делают несчастными и детей, и их родителей.
Если ребенка называть растяпой, сначала он, возможно, будет парировать: «Нет, я не растяпа!» В большинстве же случаев этого не происходит. Ребенок верит своим родителям и начинает думать о себе как о растяпе. Спотыкаясь или падая, он даже может воскликнуть, имея в виду себя: «Растяпа эдакий!» И с этого момента он, возможно, начнет избегать ситуаций, требующих быстроты и непосредственности реакций: ведь он уверен в том, что он – растяпа – будет не на высоте.
Когда родители или учителя снова и снова повторяют ребенку, что он глуп, он начинает в это верить. И начинает относиться к себе как к тупому. Он перестает прилагать умственные усилия. Чтобы не услышать в очередной раз дикое вранье про себя, он избегает участвовать в разнообразных олимпиадах и конкурсах. Безопасность для него заключается в прекращении попыток. И девизом его жизни становится «Не хочешь провалиться – затаись и не рыпайся!»
Разве может не изумлять то количество негативных и уничижительных комментариев, которые родители отпускают в адрес своих детей, не задумываясь о ранящих и разрушительных для них последствиях?
Вот некоторые примеры:
...
«С момента своего рождения он уже был проблемой. И остается не чем иным, как проблемой, с тех самых пор».
«Она – вся в свою мать. Упертая. Вытворяет что хочет. Мы не в состоянии ее контролировать».
«Дай мне! Дай мне!» – вот и все, что она умеет. При этом она вечно недовольна, независимо от того, сколько получила».
«Этот чудный маленький мальчик без остатка присвоил себе всю мою жизнь, каждый мой день без остатка. Он невероятно безответственен. Я должна постоянно следить за ним. И быть зоркой, как коршун».
К несчастью, дети принимают все эти замечания на их счет всерьез. Особенно маленькие дети. Они целиком зависимы от своих родителей, как от источника информации о том, кто они и на что могут рассчитывать. Детям, для того чтобы развить в себе ощущение собственной полноценности, необходимо слышать снова и снова поощрительные замечания в свой адрес.
Ирония заключается в том, что родителям легче указывать детям на их отрицательные, а не положительные качества. Но если мы хотим, чтобы наши дети росли самодостаточными личностями и в них крепло чувство уверенности в себе, мы просто обязаны использовать любую возможность произносить позитивные комментарии в их адрес, а уничижительные опускать.
Эффективная коммуникация: находить верные слова для выражения чувств
Дети порой большие мастера доводить нас до белого каления. Однако мы должны быть упорны в своем стремлении быть терпеливыми и понимающими. Вот почему иногда мы, выдыхаясь, способны взорваться, скажем, при виде царящего в детской хаоса: «Тебе место – в свинарнике!» Потом мы бываем полны сожаления и пытаемся извиниться.
Мы склонны считать терпение добродетелью. Но всегда ли это так? Во всяком случае, не следует натужно изображать спокойствие в тот момент, когда вас просто распирает от противоположных чувств [1] . В таком случае ваше поведение маскирует ваши чувства, вместо того чтобы их отражать.
Наученные скрывать свои подлинные чувства, мы гордимся тем, что и в эпицентре невероятной суматохи мы обнаруживаем минимум эмоций. Некоторые называют это выдержкой.
Однако детям при общении со своими родителями крайне необходимо получать так называемый конгруэнтный ответ. Им хочется слышать от родителей слова, отражающие переживаемые теми чувства.
Нет ничего удивительного в том, что даже маленькие дети склонны, защищаясь от родительского гнева, бросать родителям в лицо самое чувствительное для них обвинение: «Вы меня не любите!»
«Разумеется, я люблю тебя!» – дико орет в ответ отец или мать. Но это заверение в любви не убеждает ребенка. Ведь охваченный гневом уж точно любви не испытывает.
Воззвав к родительской любви, ребенок заставляет родителей защищаться и этим умным ходом переводит фокус с себя на них. И только родители, выдающие себе разрешение не испытывать любви в припадке гнева, способны ответить на обвинение ребенка, не уходя в защиту: «Сейчас не время говорить о любви, зато самое подходящее время обсудить, что же заставило меня рассердиться».
Чем больше распален родитель, тем острее потребность ребенка получить заверения в том, что его любят. Но выражение любви сердитым голосом не убедительно. Оно не дает ребенку ощущения, что его любят, и лишь вызывает смятение. Ведь ребенок воспринимает не слова любви, но гнев, о котором свидетельствует резкость голоса. Утешительнее для ребенка осознать: родительский гнев не означает, что его бросят, непроявление родителем чувства любви к нему – временное явление; любовь вернется, как только гнев утихнет.
Что делать с собственным гневом
В детстве нас не научили относиться к гневу как к проявлению жизни. Нам привили привычку испытывать чувство вины в связи с тем, что мы испытываем гнев, и проявления гнева делают нас грешниками в собственных глазах. Нам внушили веру в то, что гневаться – это плохо. А проявление ярости – не просто проступок, но чуть ли не уголовное преступление. И с собственными детьми мы стараемся быть терпеливыми; терпеливыми настолько, что – раньше или позже – неизбежно взрываемся. Мы очень боимся, что наши негативные чувства навредят ребенку, поэтому сдерживаем их, как ныряльщик задерживает дыхание. Но – увы! – в обоих случаях ресурс сдерживания достаточно ограничен.
Приступам гнева, как и обыкновенной простуде, свойственно повторяться. Однако игнорировать простуду мы не можем, даже если она нам не нравится. Следует изучить проблему во всех подробностях, но нельзя гарантировать, что с нами никогда ничего подобного больше не приключится. Гнев – предсказуем, он проявляется при определенных условиях и в определенных ситуациях. Однако вспышка гнева всегда производит впечатление неожиданности. И хотя приступ гнева быстротечен, кажется, что он длится вечность.
Когда мы теряем терпение, мы ведем себя так, словно вместе с терпением мы лишились и разума. Мы говорим своим детям и вытворяем с ними то, что не решимся совершить даже по отношению к врагу. Мы кричим, оскорбляем, деремся. Но отзвучали фанфары, и мы чувствуем себя виноватыми и от всего сердца решаем никогда больше не повторять представление. Однако приступ гнева с неизбежностью разражается снова, сводя на нет все наши благие намерения. И мы снова набрасываемся на тех, ради блага которых мы готовы пожертвовать жизнью и здоровьем.
...
Принимать решение больше никогда не гневаться – не просто бессмысленно, а гораздо хуже. Это подливание масла в огонь.
Гнев, как и ураган, является именно тем проявлением жизни, которое следует изучить, дабы быть во всеоружии. Мир в доме, как и чаяния мира на земле, недопустимо ставить в зависимость от внезапных произвольных перемен человеческой природы. Мир на самом деле результат методических сознательных действий, понижающих уровень напряженности ситуации, прежде чем она выйдет из-под контроля .
Эмоционально полноценные родители вовсе не святые. Им знакома собственная способность гневаться, и они считаются с ней. Они используют чувство гнева как источник информации, как симптом, указывающий на проблему. Их слова выражают испытываемые чувства. Чувства они не прячут. Нижеследующий эпизод демонстрирует, каким образом мать использует гнев во благо кооперации, не обижая и не унижая дочь.
...
Одиннадцатилетняя Джейн, войдя в дом, закричала: «Я не могу играть в бейсбол. У меня нет формы!» Мама могла бы посоветовать дочери приемлемое решение: «Играй без формы, в блузке». Или могла бы помочь Джейн поискать подходящую рубашку. Но вместо этого мать предпочла (спокойно) излить свои чувства: «Я сердита, я просто вне себя. Я купила тебе шесть рубашек для игры в бейсбол, а ты их куда-то задевала или просто потеряла. Твоим рубашкам место – в комоде. И тогда ты будешь знать, где их найти, когда они тебе понадобятся».
Мать Джейн выразила свой гнев, не обижая дочь. Вот как она задним числом прокомментировала свое поведение: «Я не поддалась искушению напомнить ей о прошлых проблемах или теребить старые раны. Я также воздержалась от уточняющих определений того, кто такая моя дочь. Я не назвала ее раззявой, неряхой и безответственной. Я просто описала ей то, что я испытываю и что следует предпринять, чтобы в будущем избежать подобных неприятностей».
Слова матери помогли Джейн самой найти решение. Джейн отправилась искать свои потерянные рубашки к своей подруге и в раздевалку спортивного зала.
Родительский гнев в процессе воспитания детей иногда уместен. На самом деле неспособность рассердиться в определенные моменты может произвести на детей впечатление родительского к ним безразличия, а вовсе не благодушия. Тот, кому не все равно, не в состоянии совсем не сердиться. Это, конечно, не значит, что на детей позволительно обрушивать потоки ярости и насилия. Это означает, что ребенок может выносить и понимать гнев, если посыл негативной реакции: «Слушай, мое терпение вовсе не безгранично».
Гнев обходится родителям дорого. Для того чтобы затраты оправдались, изливание гнева должно сулить выгоду. Гнев не следует выражать таким образом, чтобы он нарастал в процессе его выражения. Лекарство не должно быть опаснее заболевания.
...
Гнев следует выплескивать способом, приносящим родителю облегчение, а ребенку – обогащение неким новым смыслом, при этом опасных побочных эффектов не должно быть ни для одной из сторон.
Отсюда следует, что нельзя повышать на ребенка голос в присутствии его сверстников; в противном случае вы только подстегнете его активность в нежелательном направлении, что, в свою очередь, разозлит вас еще больше. Вы ведь не заинтересованы в накручивании волн гнева, строптивости, воинственности и мести. Наоборот, хотите поскорее обо всем забыть и позволить грозовым тучам рассеяться.
Три жизненно важных шага
Дабы в мирное время подготовиться к неизбежным жизненным турбулентностям, следует признать нижеследующую декларацию.
...
Шаг 1. Я принимаю как факт то, что и впредь буду иногда выходить из себя, общаясь с ребенком (детьми).
Шаг 2. Я не испытываю чувства вины или стыда в связи с этим.
Шаг 3. Я вправе выражать любые свои чувства с одной оговоркой. Я могу изливать свое недовольство как угодно, при условии, что не ломаю индивидуальность ребенка или его характер.
Этими положениями следует руководствоваться на любой стадии процесса управления собственным гневом. И первый шаг на этом пути – обозначить ребенку свои бурные чувства, называя их поименно. Тем самым вы подаете предупредительный сигнал о том, что ему следует быть начеку или принять меры предосторожности. Мы подаем такой сигнал в виде предложений, начинающихся с «я», «мне», «меня» и т. п.
...
«Я выхожу из себя от того, что…»
«Меня очень раздражает, то…»
«Я сердит(-а) потому, что…»
Если такое ваше заявление и исказившееся лицо не возымели действия, инициируйте следующую фазу системы предупреждения. И выражайте свое недовольство с нарастающей интенсивностью:
...
«Я – в гневе».
«Я сильно рассержен».
«Я сейчас очень, очень зол (зла)».
«Я просто вне себя».
Иногда (случается и такое) одна лишь подобная декларация чувств останавливает ребенка, и он воздерживается от демонстрации непослушания. Если этого не происходит, возникает необходимость задействовать третью ступень системы предупреждения. Теперь настало время объяснить причины вашего гнева, описать вашу внутреннюю реакцию и желательные для вас действия.
...
«Когда я вижу все эти ботинки, носки, рубашки и свитеры, разбросанные на полу, я просто закипаю, я просто вне себя. Я готов(-а) открыть окно, сгрести все в кучу и выбросить вон».
«Я ужасно сержусь, когда вижу, что ты бьешь брата. Я чувствую, что теряю голову, и у меня темнеет в глазах от гнева. Я начинаю закипать. Ни при каких обстоятельствах я не могу допустить, чтобы ты его бил».
«Когда я вижу, как вы все выскакиваете из-за стола и бросаетесь смотреть телевизор, а меня оставляете наедине со всей этой грязной посудой и жирными сковородками, я очень злюсь, я просто дымлюсь изнутри! Я готова сгрести всю посуду и разбить ее о телевизор!»
«Когда я зову вас к столу, а вы не идете, я сержусь. Я негодую. Я говорю себе: «Я приготовила замечательный ужин для всех. Мне хочется хоть какого-нибудь да признания. Во всяком случае, обиды я точно не заслужила».
Такой подход позволяет родителям выпускать свой гнев без причинения вреда, служа при этом убедительной демонстрацией умения изливать свой гнев, не травмируя окружающих.
И ребенок приобретает важный урок: испытывать гнев – вовсе не катастрофа, и недовольство можно разрядить безвредным способом. Такой урок, возможно, даже ценнее, чем родительское умение выпустить пар и спустить ситуацию на тормозах. Родители призваны указать ребенку приемлемые пути канализации эмоциональных всплесков, продемонстрировать безопасный и конгруэнтный способ выражения гнева.
Супругам тоже может пригодиться умение изливать свой гнев, никого не оскорбляя. Один отец семейства рассказал такую историю.
...
«Однажды утром, перед тем как я, отправляясь на работу, собирался выйти из дома, жена преподнесла мне такую весть. Оказывается, наш девятилетний сын Гарольд, играя в гостиной, во второй раз разбил стекло в старинных настенных часах. Я ужасно разозлился, забыл о приобретенных знаниях, о правилах изливания гнева, и меня понесло: «Судя по всему, тебе нет никакого дела до вещей, которые представляют для нас ценность. Ну, дорогой, держись! Когда я вернусь с работы домой, я накажу тебя так, что ты и подумать не посмеешь о том, чтобы играть мяч в гостиной!»
Жена проводила меня до двери и, позабыв о том, что припечатывание и навешивание ярлыков возмущает и лишает способности действовать не только детей, но и мужей, сказала мне на прощание: «Боже, какие глупости ты наговорил Гарольду!» Любя жену, я подавил свой гнев, после чего ответил: «Похоже, ты права».
Вначале я был зол лишь на своего сына. После того, как жена дала мне понять, как я глуп, я разозлился также и на нее. Ведь я и без того уже казнил себя за то, что снова применил по отношению к сыну те речевые обороты, от которых хотел отказаться. И жене не следовало бить меня по больному месту. Она проявила бы мудрость в этой ситуации, если бы сказала: «Да, действительно, можно взбеситься от того, что стекло разбито во второй раз. Я ломаю голову над тем, как помочь Гарольду избежать повторения инцидента в будущем».
Отцу Мелиссы повезло больше. Его жена знала, как воздействовать на мужа, не выводя его из себя. Семилетняя Мелисса и ее родители находились тем вечером в машине, где и состоялась следующая беседа.
...
МЕЛИССА: Что означает пицца?
ОТЕЦ: Пицца? Это такой итальянский пирог.
МЕЛИССА: А что такое аптека?
ОТЕЦ: Магазин, где продаются лекарства.
МЕЛИССА: А что такое банк?
ОТЕЦ (раздражаясь): Это ты и сама знаешь. Это место, где люди держат деньги.
МЕЛИССА: А как день превращается в ночь?
ОТЕЦ (сильно раздражаясь): Слушай, ты просто засыпаешь меня вопросами… Солнце заходит, а с ним исчезает и солнечный свет.
МЕЛИССА: А почему луна движется вместе с машиной?
МАТЬ: Какой интересный вопрос! Известно ли тебе, что вопрос наподобие твоего беспокоил ученых сотни лет и подвиг их, в конце концов, заняться изучением движения Луны?
МЕЛИССА (заинтересовавшись): Я обязательно пойду в библиотеку и возьму книгу про Луну, которая все мне объяснит.
Вопросы прекратились. Мать догадалась, что, без конца отвечая на детские вопросы, ты только поощряешь ребенка спрашивать еще и еще. Но она устояла перед соблазном сообщить об этом своему мужу. Вместо этого она продемонстрировала, что, если не давать дочери прямого ответа, ты тем самым помогаешь ей найти свой способ удовлетворения любопытства.
Мать Криса, которая старалась отучить своего мужа командовать детьми, рассказала следующую историю.
...
Однажды вечером, когда она с мужем потягивали вино на кухне их пляжного домика, муж обратил внимание на лежащие на столе пляжную сумку, мокрые плавки и надувной мяч. Обычная его реакция была такова: рассердиться и орать на детей, подобно армейскому сержанту: «Сколько раз мне нужно вам повторять, что надо убирать свои вещи! Вы такие рассеянные! Вы что, думаете, мы проданы вам в рабство, чтобы ходить и подбирать за вами?»
Но в этот раз он просто спокойно описал то, что видел: «Я вижу пляжную сумку, мокрые плавки и пляжный мяч на кухонном столе». Восьмилетний Крис, находящийся в комнате, вскочил со стула: «Ой, это всё мои вещи!» – и принялся убирать свои вещи с кухонного стола.
После того как Крис удалился, его отец ликуя сказал жене: «Я удержался от криков, я вспомнил, как мне надо себя вести. Метод работает!..Я поднимаю этот стакан, чтобы выпить за тактику приглашения детей к сотрудничеству».
Когда в гневе ребенок: все дело в методе
Когда ребенок расстроен, бесполезно его укорять. Если ребенок зол, ему поможет только бальзам сочувственных эмоций.
...
Двое малышей-близнецов играли в подвале. Вдруг родители услышали грохот, сопровождаемый криками и обвинениями. Затем появился красный от гнева шестилетний Билли. Он взбежал по ступенькам, выкрикивая: «Бетси развалила мою крепость!» Мать выразила ему сострадание: «Ах! Как же это тебя разгневало!»
«Конечно, разгневало!» – и… Билли повернулся кругом и побежал назад, играть.
Это было первый раз, когда матери Билли удалось не оказаться втянутой в ежедневные размолвки своих детей. Удержавшись от вопроса: «Кто первым начал?» – она тем самым не вызвала у сына традиционный поток жалоб и призыв к отмщению. Отразив ребенку его внутренний настрой, мать избавила себя и своих детей от исполнения неприятных ролей: судьи, следователя и судебного исполнителя.
Нижеследующий пример демонстрирует, как сопереживающий комментарий матери помог выбору между миром и войной.
...
Девятилетний Дэвид не хотел идти к зубному врачу. Он был зол и доводил свою старшую сестру Тину, которая посмела ему сказать: «Дэвид, ты просто маленький, тебе надо подрасти!» Отчего Дэвид надулся и помрачнел еще больше.
Мать обрались к Тине: «Дэвид сегодня расстроен. Ему предстоит поход к зубному врачу. И сейчас ему нужно мобилизовать всю свою способность сосредоточиться». Тогда случилось чудо: Дэвид вдруг успокоился. Даже не пикнув, он отправился к стоматологу.
Обратив внимание на расстроенные чувства Дэвида, а не на его невозможное поведение, мать дала шанс мальчику успокоиться и перестать капризничать.
А нижеследующие примеры представляют две противоположные манеры поведения в ситуации, когда маленький ребенок испытывает гнев и чувство тревоги. В одном случае происходит эскалация гнева, в другом – его затухание.
...
Том и друг его Джим, оба 3 лет, играли на игрушечном ксилофоне. Вдруг молоточек Джима застрял, мальчик разозлился и расплакался. Мама принялась его увещевать: «У тебя нет повода для слез. Я достану твой молоточек, когда ты прекратишь плакать». Однако Джим продолжал заливаться слезами, и его родительница забрала игрушку. Разразившуюся тут же истерику надо было видеть.
Но вот и у Тома застрял молоточек, и он тоже расплакался. На что мать Тома сказала: «Ты плачешь, потому что твой молоточек застрял. Нам нужно ему помочь». Плач прекратился. И в дальнейшем каждый раз, когда застревал молоточек, Том и не думал плакать. Он бежал к маме, чтобы та «починила» игрушку.
Мать Джима распекала, угрожала, винила и наказывала, в то время как мать Тома сформулировала, в чем заключается проблема, и предложила решение.
...
Мириам, 12 лет, была в театре, откуда вернулась раздраженной и рассерженной.
МАТЬ: Ты выглядишь недовольной.
МИРИАМ: Я просто негодую! Мне пришлось сидеть так далеко от сцены, что вся пьеса прошла мимо меня.
МАТЬ: Ничего удивительного, что ты расстроена. Кому понравится весь спектакль ничего не видеть и не слышать.
МИРИАМ: Да, мало хорошего. К тому же прямо передо мной сидел длинный парень.
МАТЬ: Все одно к одному: и сидишь далеко – и у тебя еще к тому же чья-то спина перед носом. Нет, это уж слишком!
МИРИАМ: Да, это было действительно слишком.
Главная составляющая помощи, которую мать предложила дочери, заключалась в принятии настроения Мириам без всякой критики или советов. Она не задавала бесполезных вопросов, таких, например, как: «А что тебе стоило прийти в театр пораньше? Может быть, тебе удалось бы поменять билет и получить хорошее место», или: «Почему ты не попросила высокого мужчину поменяться с тобой местами?» Она сосредоточилась исключительно на том, чтобы помочь своей дочери уменьшить накал ее гнева.
...
Сопереживающий родительский ответ в унисон с расстроенными чувствами ребенка, с выражением симпатии и понимания способен изменить настроение ребенка в лучшую сторону.
Изложенные в письменном виде чувства могут быть эффективным средством восстановления отношений, травмированных взрывами гнева. И детей, и родителей следует поощрять выражать свои чувства письменно, будь то электронное послание или обычное письмо.
...
Однажды вечером 13-летняя Труди оскорбила свою мать. Она бросила матери в лицо обвинение в том, что та периодически заходит в ее комнату, роется в ящиках письменного стола, читает ее дневник. Убедившись в беспочвенности своих подозрений, Труди решила извиниться перед своей мамой, написав ей письмо:
«Дорогая мама! Я только что совершила самое ужасное преступление, которое может совершить человек, имеющий представление о морали. Я очень расстроила и обидела свою мать беспочвенными обвинениями. Мне стыдно, и я чувствую себя униженной. Я всегда казалась себе хорошей. А теперь я себя ненавижу. Я люблю тебя. – Труди».
Мать расстроилась, получив эту записку. Записка дала ей понять, что досадное происшествие сокрушило позитивное представление дочери о себе самой. И она не пожалела времени на то, чтобы написать Труди такой ответ, который восстановил бы ее самооценку.
...
«Дорогая, любимая Труди!
Спасибо тебе за то, что поделилась со мной своими горькими чувствами. Случившееся в тот вечер стало испытанием для нас обеих. Но я не считаю его трагическим. Я хочу, чтобы ты знала, что мои чувства к тебе и мнение о тебе ни в коем случае не изменились. Ты для меня все тот же любящий меня человек, который иногда способен очень расстраиваться и сердиться. Я надеюсь, что у тебя хватит сил простить себя и восстановить хорошее отношение к себе самой. – С любовью, твоя мама».
Эта мать не пожалела сил, чтобы разубедить свою дочь в том, что однажды рассердившийся человек больше не вправе испытывать теплых чувств к себе и другим.
Другой пример. Когда родители не удосуживаются выслушать аргументацию ребенка, он может изложить ее в письменном виде. Вот что рассказал один отец.
Его дети могли получать от родителей «сертификаты», которые можно было превращать в дополнительное время вечернего бодрствования, оттягивая момент отхода ко сну. Однажды вечером Пит, десятилетний сын, пожелал «купить» себе дополнительное время, «отоварив» сертификат, который он потерял. А отец отказался зачесть несуществующий сертификат. Пит ужасно расстроился. Он впал в ярость и, выбегая из комнаты, кричал: «Но ведь ты мне выдал этот сертификат!» Когда отец Пита той ночью пришел к себе в спальню, то обнаружил на подушке следующее письмо:
...
«Дорогой папа!
Если ты не разрешишь мне не спать, то совершишь несправедливость, поскольку:
1) мы оба знаем о том, что ты мне выдал сертификат;
2) ты знаешь, как выглядит мой письменный стол и что я часто теряю вещи;
3) тебе известно о том, как я предвкушал использование этого сертификата.
Я вовсе не хочу тебя допекать. Я написал это письмо из желания выразить свое мнение. – Пит».
Прочитав это послание, отец понял, что Пит предоставил ему возможность исправить испортившиеся отношения между ними. Письмо также давало ему шанс применить важный воспитательный принцип. Всегда, при любой возможности старайся поддержать и усилить чувство собственного достоинства ребенка. Поэтому он написал сыну такую записку:
...
«Дорогой сын!
Ты продемонстрировал замечательную ясность мышления и убедительность аргументации! Читая твою записку, я должен был все время напоминать себе о том, что писал ее не взрослый мужчина, а десятилетний мальчик. Дубликат сертификата прилагается. – С любовью, папа».
Резюме
Слова обладают мощной силой. Они способны зарядить энергией, позволяя человеку выпрямить спину, но могут и напугать, опустошить. Обращая свое внимание на усилия ребенка и по достоинству оценивая их, мы помогаем ему расти уверенным в себе оптимистом. И, наоборот, когда мы недооцениваем ребенка, мы активируем его беспокойство и неприятие самого себя. Достаточно очевидно, что негативные ярлыки («лентяй», «тупица», «подлец») разрушительны для детей. Однако, как ни странно, положительное этикетирование («молодец», «умница», «самый лучший») тоже рискует сковать ребенка.
Для детей важно наше поощрение. Но при этом следует отмечать усилия ребенка и выражать признание («Ты работал(-а) над этим проектом, не щадя себя». «Спасибо тебе за помощь»), а не навешивать личные ярлыки и оценивать его.
Если возникают проблемы, сосредоточьтесь на их решении, воздерживаясь от обвинений и критики в адрес ребенка. Даже для безудержного гнева можно найти выход, избегая запальчивых обвинений и навешивания ярлыков. Основой для разнообразных навыков поощрительной коммуникации является глубокое уважение к ребенку.
3. Разрушительные схемы поведения: не существует правильного способа делать неправильно
Угрозы: поощрение непослушания
Определенные схемы отношений родителей к детям почти всегда разрушительны. Дело не только в том, что нам не удается достигнуть преследуемых долгосрочных целей воспитания. Использование таких схем учиняет страшный хаос в нашем доме здесь и сейчас. К таким разрушительным схемам поведения относятся: угрозы, подкупы, посулы, сарказм, истребление словом, проповедь вранья и воровства, грубые понуждения к вежливости.
Угрозы в адрес детей равносильны поощрению повторить акт непослушания. Когда ребенку говорят: «Если ты сделаешь это еще раз…» – он не воспринимает начального условия «если ты…». Он слышит лишь «сделай это еще раз!». Иногда ребенок воспроизводит сказанное как: «Мама ожидает от меня того, что я повторю это еще раз, иначе она будет расстроена». Подобные родительские предостережения детям – какими бы целесообразными и правомерными они взрослым ни казались – хуже, чем бесполезны. Они залог того, что недоразумение повторится. Предупреждение воспринимается ребенком как покушение на его автономию. И всякий, хоть отчасти себя уважающий ребенок, просто обязан преступить снова – ответить на вызов, чтобы продемонстрировать себе и другим: «Я ничуточки не боюсь».
...
Оливер пяти лет продолжал бросать мяч в оконное стекло, несмотря на многократные запреты не делать этого. Наконец его папа произнес: «Если мяч еще раз попадет в окно, я сделаю так, что ты света божьего не увидишь. Клянусь, я тебя изобью». Мгновение спустя звон разбитого стекла засвидетельствовал отцу, что его предостережение принято к сведению: мяч действительно ударил в оконное стекло в последний раз. Сцену, последовавшую за чередой грозных отцовских обещаний и сыновнего непослушания, легко себе представить.
А вот следующий пример, наоборот, демонстрирует эффективное пресечение непослушания и без угроз.
...
Семилетний Пит стрелял из игрушечного пистолета в своего брата-младенца. Мама сказала Питу: «Только не в ребенка. Стреляй в мишень». Пит снова выстрелил в брата. Мать его тут же разоружила, сказав при этом: «В людей не стреляют».
Мать Пита сделала то, что считала нужным сделать, чтобы обезопасить младенца в соответствии с ее представлениями о нормах приемлемого поведения. А Питу был преподан урок: он узнал о том, что поступки имеют последствия, в том числе и без ущемления эго провинившегося. Альтернативы были предельно очевидны: или стрелять по мишени, или потерять привилегию владеть оружием. В данном случае его матери удалось избежать обычных ловушек. Она не пошла по наезженной колее ошибочного родительского поведения. То есть она не увещевала Пита такой, например, распространенной тирадой: «Пит, прекрати сейчас же! Неужели ты не нашел себе лучшего занятия, чем стрелять по братику? Нет, что ли, лучшей цели? Если ты выстрелишь хотя бы раз – ты слышишь меня, хотя бы еще один раз! – тебе никогда больше не видать своего пистолета!» Только совсем уже законченный тихоня не ответит на такую проповедь повторением запретного. Драму, которая вслед за тем разыграется, описывать не нужно – воспроизвести ее любому родителю проще простого.
Подкупы: переосмысление сентенции «если… то…»
Аналогичным действием – себе во зло – является и прием общения с ребенком, когда родители мотивируют его посулами: если он будет (или не будет) делать определенные вещи, то получит награду:
...
«Если ты будешь хорошо относиться к своему младшему братику, (то) я обязательно свожу тебя в кино»;
«Если ты прекратишь писать в постель, я подарю тебе к Рождеству велосипед».
«Если ты выучишь стихотворение, я возьму тебя с собой на морскую прогулку».
Подход «если – то» может в отдельных случаях, что называется, «пришпорить» ребенка в его стремлении один раз достигнуть желаемого родителями результата. Но такой подход крайне редко настраивает ребенка (а вернее, почти никогда его не настраивает) на длительное приложение усилий ради достижения определенной цели. Уже сама формулировка выдает ребенку наше сомнение в том, что он может измениться к лучшему. «Если ты выучишь стих» означает: «Я не уверен(-а) в том, что ты это можешь». «Если ты перестанешь писать в постель» означает: «Я думаю, что ты можешь себя контролировать, но не хочешь».
Подарки, преподнесенные с целью подкупа, имеют негативный аспект и с нравственной точки зрения. Некоторые дети начинают намеренно безобразничать с целью заставить родителей «платить» им за то, чтобы они вели себя лучше. Такая логика достаточно быстро приводит к торгам и вымогательству, к постоянно растущим требованиям детей увеличить призовой фонд и расширить набор сопутствующих благ в обмен на «хорошее» поведение. Некоторые родители настолько опутаны паутиной диктуемых детьми условий, что не решаются вернуться домой после похода за покупками без подарка своему чаду. И дети встречают их не приветствием, а вопросом «Что вы мне купили?».
...
Награды наиболее действенны и приносят максимальное удовольствие не тогда, когда они выторгованы заранее, а тогда, когда оказываются сюрпризом – символом заслуженного признания.
Посулы: почему необоснованные ожидания приносят неприятности
Не следует ни обещать детям, ни требовать обещаний от них. Табу на обещания? С чего бы это? Наши отношения с нашими детьми должны быть построены на доверии. Если родители вынуждены давать обещания, чтобы у ребенка не вызывало сомнений, что они действительно отвечают за свои слова, – они тем самым расписываются в том, что их не подрепленное посулами слово не заслуживает доверия. Обещания способствуют появлению у детей безосновательных ожиданий. Когда ребенку обещают поход в зоопарк, ему представляется само собой разумеющимся, что в этот день не будет дождя, что машина окажется на месте в гараже и что заболеть он не может. Но в жизни предостаточно невзгод. Столкнувшись с правдой жизни, дети чувствуют себя обманутыми и делают вывод о том, что родителям нельзя доверять. Бесконечное нытье: «Но ты же мне обещал!» – до боли знакомо всем родителям, слишком поздно прозревшим: «Не надо было обещать».
Не следует от детей требовать либо вымогать обещаний хорошего поведения (впредь) или неповторения (впредь) плохого. Когда ребенок дает «не свое», навязанное ему обещание, он подписывает чек на получение денег в банке, в котором у него нет счета. Мы не должны поощрять подобные аферы.
Сарказм: барьер, препятствующий восприятию
Серьезную угрозу психическому здоровью ребенка представляют родители, наделенные склонностью к сарказму. Подобные фигуры речи создают барьер непонимания, препятствующий эффективной коммуникации:
...
«Сколько раз я должна повторять одно и то же? Ты что, оглох(-ла)? Почему ты не слушаешь?»
«Ты такой(-ая) грубиян(-ка)! Ты что, рос(-ла) в джунглях? Вот где твое настоящее место».
«Какая муха тебя укусила? Ты тронулась(-ся) умом или просто дура(-к)? Мне заранее известно, чем ты кончишь!»
При этом родители, возможно, даже не отдают себе отчета в том, что их едкие замечания, по сути, нападки, провоцирующие ребенка на ответные выпады; что подобные комментарии блокируют коммуникацию, обрекая детей вынашивать и смаковать фантазии мести. Ядовитому сарказму и оскорблениям не место в арсенале воспитательных методов. Лучше воздержаться от подобных заявлений: «Откуда у тебя такая уверенность в том, что ты все знаешь заранее? Ты растерял даже те мозги, которыми был наделен при рождении. Ты только себе кажешься невероятно умным!» Намеренно или нет, мы не должны девальвировать статус ребенка ни в его собственных глазах, ни в глазах его сверстников.
Авторитет подразумевает краткость: меньше – значит больше
Сделанное человеку замечание «У тебя родительская манера говорить» вовсе не комплимент. Ведь про родителей известно, что им свойственно повторяться и растолковывать очевидное. При этом ребенок отключается, заходясь в немом крике: «Когда же это кончится?! Хватит!»
Родителям, всем и каждому, необходимо освоить экономичный метод ответов на детские вопросы, чтобы досадный пустяк не превратился во вселенскую катастрофу. Нижеследующий пример демонстрирует преимущество краткого комментария над пространным объяснением.
...
Не успела мать толком распрощаться с отъезжающими гостями, как восьмилетний Эл, заливаясь слезами, прибежал к ней жаловаться на своего старшего брата. «Всегда, когда ко мне приходит друг, Тэд находит повод нас подразнить. Он никогда не оставляет нас в покое. Сделай так, чтобы он оставил меня в покое».
Обычно жалобы Эла на Тэда приводили к тому, что мать набрасывалась на последнего с криками: «Сколько раз я тебе говорила, чтобы ты оставил брата в покое? Так, помоги мне! В противном случае ты просидишь целый месяц под домашним арестом».
Однако в этот раз мать посмотрела на Тэда и сказала: «Тед, выбирай: или обычная головомойка, или ты сам позаботишься о том, чтобы жалобы прекратились». Тед засмеялся и ответил: «Ладно, мам, я прошу прощения. Продолжения больше не будет».
Следующий диалог – демонстрация того, как с помощью коротких доброжелательных ответов можно избавиться от бесплодной и бесконечной аргументации.
...
РУТ (8 лет): Мамочка, знаешь ли ты, что средняя школа – это сплошные романы?
МАТЬ: Ах!
РУТ: Мальчики и девочки только и делают, что развлекаются и устраивают вечеринки.
МАТЬ: И тебе не терпится перейти в среднюю школу?
РУТ: О, да!
По словам матери Рут, еще совсем недавно она, отвечая дочери, прочитала бы ей целую лекцию на тему потерянного времени; о том, что школа – для того, чтобы учиться, а не для того, чтобы крутить романы, и, вообще, мол Рут еще слишком мала, чтобы забивать себе голову подобными мыслями. И следствием лекции были бы долгие препирательства и испорченное настроение. Вместо этого мать просто приняла к сведению мечты дочери.
Зачастую толика юмора заменяет лавину слов
...
Двенадцатилетний Рон увидел, что мать вытаскивает свежие фрукты из корзинки, с которой она обычно ходит за покупками. Хитро улыбаясь, Рон обратился к матери: «Мамочка, сделай для меня что-нибудь хорошее, сама убери фрукты в холодильник».
«Я уже однажды сделала для тебя что-то хорошее. Я тебя родила, – ответила Рону мать. – А теперь помоги мне убрать фрукты в холодильник». Рон, смеясь, принялся помогать матери.
А ведь для матери Рона привычнее всего было бы вступить с сыном в словесную перепалку: «Что ты имеешь в виду, говоря: «Сделай для меня что-то хорошее»? Что ты себе думаешь? Кто ты такой, чтобы говорить со своей матерью подобным образом?» Вместо этого она продемонстрировала сыну свой авторитет с юмором и без лишних слов.
Один отец рассказал нам о том, какое удовольствие он получил, убедившись, что его ребенок использует юмор, дабы унять беспокойство и ярость.
...
За день до наступления Рождества он и его восьмилетняя дочь Меган пытались собрать искусственную елку. Оказалось, что подбирать ветки, соответствующие отверстиям в стволе, – достаточно утомительное занятие, и отец Меган начал терять терпение. Наконец рождественская елка была собрана, осталось украсить ее елочными игрушками. Но когда папа и дочь принялись прилаживать звезду на одну из ветвей, конструкция обрушилась. Отец Меган взорвался, выкрикивая: «Все! С меня хватит! Я сыт по горло!» А Меган обняла отца и сказала: «Папа, вот сейчас, в эту самую минуту, я очень сожалею, что ты не еврей!»
Кроме умения быть кратким, авторитет подразумевает способность иногда промолчать
Вот пример, иллюстрирующий силу молчания обладающего авторитетом родителя.
...
Скотт семи лет ушиб ногу, что не помешало ему в тот же день пойти на праздник его скаутской секции. Наутро Скотт сказал: «У меня болит нога. Я не пойду в школу». Его мать буквально подмывало изречь: «Ты же пошел на праздник, значит, можешь пойти и в школу». Но она промолчала. Это было многозначительное молчание. Через несколько минут Скотт снова спросил: «Ты считаешь, мне следует пойти в школу?» Мать ответила: «И ты еще спрашиваешь!» Скотт поспешил одеваться.
Молчание матери помогло Скотту принять собственное решение. Он сам должен был прийти к выводу: поскольку больная нога не помешала ему отправиться на праздник, она не может помешать ему пойти и в школу. А укажи ему мать на это – он бы вступил с ней в спор, что наверняка огорчило бы обоих.
Помня о том, что с детьми прекрасно работает правило «чем меньше – тем больше», мать Дианы не допустила того, чтобы дочь инфицировала все семейство вирусом своего плохого настроения.
...
Итак, 12-летняя Диана – вегетарианка. В один прекрасный день, едва присев к столу, Диана проявила нетерпение: «Ну, и где же ужин? Я умираю от голода!»
...
МАТЬ: Гм, ты, должно быть, очень голодна!
ДИАНА: Что там у тебя? Баклажаны? Нет, мне не хочется баклажанов.
МАТЬ: Ты чем-то расстроена.
ДИАНА: Как мало сыра!
МАТЬ: Тебе больше по вкусу, когда баклажаны запечены с большим количеством сыра.
ДИАНА: Ах, сойдет и так. Но обычно это блюдо у тебя получается лучше.
Вместо того чтобы ответить недовольством на недовольство Дианы: «Ты знаешь, что я готовлю для тебя отдельно. Тебе следовало бы это ценить, по меньшей мере!» – мать предпочла отразить дочери ее чувства и не стала ей возражать.
Политика в отношении лжи: научитесь не поощрять вранье
Родители просто вне себя, когда дети лгут. И в особенности когда ложь очевидна, а лжец беззастенчив. Можно буквально дойти до белого каления, если ребенок упорно настаивает на том, что он не прикасался к шоколаду, несмотря на улики и на рубашке, и на лице.
Спровоцированная ложь
Родителям не следует задавать вопросы, провоцирующие ребенка на ложь во спасение. Детей возмущают учиненные родителями допросы, в особенности когда они подозревают, что ответы «дознавателям» уже известны. Дети ненавидят вопросы-ловушки, которые вынуждают выбирать между очевидной ложью и позором признания.
...
Семилетний Квентин поломал подаренный отцом новый грузовик. Он испугался и спрятал отвалившиеся части в подвале. Когда отец обнаружил останки игрушки, он учинил ребенку допрос с пристрастием, который вызвал бурю.
...
ОТЕЦ: Где твой новый грузовик?
КВЕНТИН: Я не знаю.
ОТЕЦ: Не вижу, чтобы ты с ним играл.
КВЕНТИН: Он куда-то задевался.
ОТЕЦ: Найди грузовик. Я хочу на него посмотреть.
КВЕНТИН: Может быть, его кто-то украл?
ОТЕЦ: Наглый лжец! Ты сломал грузовик! И не думай, что тебе удастся отвертеться. Если есть на свете то, что я ненавижу всем сердцем, то это ложь и лгуны!
Все эти страсти избыточны. Вместо того чтобы вести себя низко, играя роль детектива и следователя, а также обзывать сына лжецом, этот отец мог бы помочь ребенку, заявив: «Похоже, твой грузовик сломался. Недолго же он продержался. Жаль. Тебе очень нравилось с ним играть».
И ребенок мог бы усвоить очень важный урок: отец способен понимать. Я могу доверить ему все свои проблемы. Я должен научиться лучше обращаться с его подарками. Мне следует быть более внимательным.
Итак, не стоит задавать вопросы, когда ответы нам уже известны. Например, не надо спрашивать ребенка: «Убрал(-а) ли ты свою комнату, как я тебя попросил(-а)?» – видя, что в комнате кавардак. Не надо спрашивать ребенка: «Был(-а) ли ты сегодня в школе?», когда вам уже сообщили, что сын или дочь в школе не появились. Констатация предпочтительнее: «Я вижу, что комната пока еще не убрана». Или: «Мне сообщили, что ты сегодня прогулял школу».
Почему лгут дети? Иногда они лгут потому, что им не позволяют говорить правду.
...
Четырехлетний Вилли буквально ворвался в комнату. Он был страшно разгневан и пожаловался матери: «Я ненавижу бабушку!» Его мать, ужаснувшись, ответила: «Нет, это не так. Ты любишь бабушку! Обитатели этого дома не знают ненависти. А кроме того, бабушка дарит тебе подарки и водит тебя повсюду. Как только у тебя язык поворачивается выговорить такое?!»
Но Вилли настаивал: «Нет. Я ее ненавижу, я ее ненавижу! Я больше не хочу ее видеть!» И мать, окончательно расстроившись, решила применить более убедительный метод воспитания. Она отшлепала Вилли.
Мальчик, которому не хотелось, чтобы его выпороли еще раз, изменил свой припев: «На самом деле я очень люблю бабушку!» – признался наконец мальчик. И как отреагировала на эти слова мать? Она обняла и поцеловала сына. И похвалила его за то, что он такой хороший мальчик.
И что же усвоил Вилли в результате такого обмена мнениями? Маме говорить правду, а также делиться с ней своими искренними чувствами опасно. За правду полагаются тумаки, за ложь получаешь любовь. Правда – это больно, держись от нее подальше. А мама любит лжецов. Мамочке желательно слышать только приятную правду. Говори ей то, что ей хочется услышать, а о подлинных своих чувствах молчи.
Что могла бы ответить Вилли его мать, при условии что она хочет научить сына говорить правду?
Ей следовало бы поддержать мальчика, признавая причину его расстройства: «Ах, боже мой, ты больше не любишь бабушку. Может быть, ты расскажешь мне, что же натворила бабушка, чем она так тебя расстроила?» И мальчик, возможно, ответил бы так: «Она принесла подарок малышу, а мне не принесла!»
Если мы стремимся, чтобы дети научились быть честными, следует быть готовыми выслушивать не только приятную правду, но и горькую. Хочется вам, чтобы дети выросли честными, – не хвалите их за то, что они лицемерят, говоря о своих чувствах, будь эти чувства добрыми, злыми или нейтральными. Именно по реакции родителей на проявленные ими чувства дети усваивают, действительно ли честность – лучший вариант поведения или это не совсем так.
Ложь, говорящая правду
Если детей наказывать за правду, они начинают лгать с целью самозащиты. Кроме того, они порой врут просто фантазируя, дабы восполнить нехватку того, чего им недостает в реальности. Ложь иногда говорит правду, выдавая надежды, страхи, фантазии. Она лишь свидетельство того, кем лжец хотел бы быть и чем мечтает заниматься. Чуткое ухо, слушая ложь, улавливает ее истинное значение. Реакция зрелой личности на чью-то ложь должна скорее отражать понимание значения лжи, без ее развенчивания и поношения лжеца. Информацию, которую несет такая ложь, можно использовать, чтобы помочь ребенку научиться отличать действительность и фантазии.
...
Когда трехлетняя Жасмин сообщила бабушке, что девочке на Рождество подарили настоящего слона, бабушка просто отразила Жасмин ее желание. А вот попыток доказать внучке, что та – фантазерка, бабушка не предпринимала. Бабушка ответила так: «Как ты мечтала о таком подарке. Тебе так хотелось иметь слона! И целый зоопарк ты бы тоже хотела! Но лучше всего быть хозяйкой джунглей со всеми животными!»
Трехлетний Роберт рассказал отцу, что он видел мужчину ростом с небоскреб Empire State Building . Вместо того чтобы пресечь «вранье»: «Что за бред! Человек не может быть таким высоким. Не надо врать!» – отец воспользовался возможностью научить сына чему-то новому, допуская сказанное им как метафору, а не отрицая реалистичность утверждения сына. «Ах, ты, должно быть, видел очень большого человека, настоящего гиганта, огромного человека, человека невероятных размеров!» – ответил сыну отец.
...
Прокладывая в песочнице дорогу, четырехлетний Крэг вдруг озабоченно посмотрел в небо и закричал: «Мою дорогу сметает буря! Что же мне делать?»
«Что за буря? – спросила сына мать с досадой в голосе. – Не вижу никакой бури. Прекрати молоть чепуху».
И игрушечная буря, которую мать отменила в песочнице, разразилась в реальной жизни. Крэг закатил истерику ураганной силы. А ведь эту грозу можно было бы отвести, если бы мать подыграла сыну, войдя в его воображаемый мир. Ведь она могла бы отрегировать, например, так: «Буря сносит твою дорогу? А ведь ты так старался ее хорошо построить! Какой кошмар!» Затем, посмотрев в небо, она могла бы добавить, обращаясь к небесам: «Эй, там, наверху! Пожалуйста, прекратите бушевать. Вы смываете дорогу, которую построил мой сын».
Как обращаться с неправдой: одно предупреждение лучше самого тщательного расследования
Итак, политика в отношении лжи предельно ясна. С одной стороны, не следует выступать в роли следователя, вымогать признание и превращать какой-нибудь милый пустяк в дело государственной важности. С другой стороны, не надо пугаться называть вещи своими именами. Когда мы обнаруживаем, что срок возврата взятой ребенком библиотечной книги просрочен, не стоит спрашивать: «Вернул ли ты книгу в библиотеку? Ты в этом уверен? Тогда почему эта книга до сих пор лежит на твоем столе?» Вместо этого мы констатируем: «Это – библиотечная книга. Она просрочена».
Если вы получили уведомление из школы о том, что ребенок не справился с контрольной по математике, не надо коварно спрашивать его: «Удалось ли тебе разделаться с контрольной по математике?.. Ты в этом уверен?.. Слушай, на этот раз вранье тебе не поможет! Мы говорили с учителем и знаем, что ты с треском провалился».
Следует сказать ребенку открытым текстом: «Учитель по математике сказал, что ты не прошел тест. Я обеспокоен(-а) и спрашиваю, чем мы можем тебе помочь?»
Короче говоря, не провоцируйте ребенка прибегнуть ко лжи во спасение, не создавайте преднамеренно предпосылок для лжи. И если ребенок врет, не следует реагировать на его вранье истерикой, поучениями. Ваша реакция должна быть сдержанной и фактически выверенной.
...
Стремитесь, чтобы ваш ребенок понял, что у него нет необходимости говорить вам неправду.
Есть и другой способ предотвращения детского вранья. Он заключается в отказе родителей задавать ребенку вопрос «почему?». С незапамятных времен этот вопрос считается обязательным при расследовании с целью выяснения мотива преступления. Вопрос «почему?» ребенок воспринимает как знак родительского неодобрения, разочарования и недовольства. Он заставляет почувствовать себя заранее виноватым. Даже вроде бы такой естественный интерес: «Почему ты это сделал?» – может подразумевать: «Скажи на милость, что же тебя подвергло учинить такую глупость, как эта?»
Мудрые родители избегают заезженных вопросов, таких как:
...
«Почему ты такой эгоист?»
«Почему ты забываешь все, что я тебе говорю?»
«Почему ты никогда не можешь прийти вовремя?» «Почему ты такой неорганизованный?»
«Почему ты не можешь держать свой рот закрытым?»
Вместо того чтобы задавать риторические вопросы, на которые невозможно ответить, гораздо лучше делать заявления, проявляющие сочувствие:
...
«Ты бы очень обрадовал Джона, если бы с ним поделился».
«Есть вещи, которые трудно запомнить».
«Я волнуюсь, когда ты опаздываешь».
«Что я могу сделать для того, чтобы тебе лучше работалось?»
«У тебя много идей».
Воровство: усвоить, что кому принадлежит, требует времени и терпения
Малыши нередко приносят домой чужие вещи. Когда «кража» раскрыта, важно удержаться от проповедей и нагнетания драматического накала. Ребенка можно вернуть на стезю добродетели, пощадив его чувство собственного достоинства. Следует просто сказать ребенку спокойно и твердо: «Это не твоя игрушка. Ее нужно вернуть». Или: «Я знаю, тебе хотелось бы оставить себе это ружье, но Джимми ждет его назад».
Когда ребенок «ворует» конфетку и прячет ее в карман, самое лучшее – пресечь «преступление», не выказывая никаких эмоций: «Тебе бы хотелось взять себе конфету, которую ты положил в левый карман. Но ее придется положить назад на полку». Если ребенок отрицает, что конфета находится у него, мы, указывая на нее, повторяем пожелание: «Тебе следует положить конфету назад на полку». Если ребенок снова отказывается, мы достаем конфету из его кармана со словами: «Эта конфета принадлежит магазину. Она должна остаться здесь».
Неправильные вопросы и правильные утверждения
Если вы уверены в том, что ребенок украл деньги из вашего кошелька, самое лучшее – не спрашивать его, а заявить ему об этом: «Ты взял из моего кошелька доллар. Я хочу, чтобы ты его вернул». Когда деньги возвращены, ребенку говорят: «Когда тебе понадобятся деньги, скажи мне, и мы с тобой все обсудим». Если виновник не признается в поступке, мы с ним не спорим и не упрашиваем его признаться, но говорим: «Ты знаешь, что я знаю наверняка. Взятое следует вернуть». Если украденные деньги потрачены, следует обсуждать способы компенсации – конкретными делами или вычетами из карманных денег.
...
Важно не называть ребенка вором, вруном, а также не предрекать ему печальный конец.
Бесполезно спрашивать ребенка: «Почему ты это сделал?» Ребенок может не осознавать мотива, а оказываемое на него давление ответить на вопрос «почему?» рискует лишь вылиться в еще одну ложь. Гораздо эффективнее сообщить ребенку о своем намерении обсудить с ним денежный вопрос (будь у него на то желание): «Я в полной растерянности оттого, что ты не сказал мне, что тебе нужен доллар». Или: «Если тебе нужны деньги – скажи мне об этом. И мы вместе разрешим твою денежную проблему».
Другой случай. Скажем, ребенок съел «запретное» пирожное, о чем свидетельствуют, например, «усы» из крема у него под носом. Не задавайте притворные вопросы, подобные следующим: «Брал ли кто-нибудь пирожные из вазочки?» Или: «Не видел(-а) ты случайно, кто их взял? А может быть, это ты съел(-а) хотя бы одно? Ты действительно уверен(-а) в том, что говоришь?» Такими вопросами мы подталкиваем детей ко лжи.
Итак, следуем правилу: « Не задавать вопроса, если ответ на вопрос нам известен». Откровенная констатация лучше. Например: «Ты съел пирожные. А я тебе говорила, что пирожные есть не следует». Такое заявление наделено действительным смыслом, а кроме того, оно само по себе служит адекватным наказанием. Ребенок чувствует дискомфорт. Ваше заявление оставляет ребенка с неприятным ощущением того, что он ослушался и что должен каким-то образом разобраться со своим проступком.
Уроки вежливости: способ привить хорошие манеры без всякой грубости
Модели для себя и модели, принятые в обществе
Вежливость – это и черта характера, и социальная компетентность; она приобретается вследствие идентификации себя с родителями и имитации родительских манер, при условии что родители – воспитанные люди. Но в любом случае вежливости следует учить тактично. Родителям же свойственно, уча детей хорошим манерам, проявлять грубость. Когда ребенок забывает сказать «Спасибо», родители пеняют ему на это в присутствии других людей, что по меньшей мере невежливо. Нередко родители, сами еще не распрощавшись с гостями, торопятся напомнить детям о том, что следует сказать «до свидания».
...
Шестилетнему Роберту вручили коробку с подарком. Изнемогающий от любопытства мальчик ощупывает коробку, пытаясь догадаться, что же в ней, а его мама уже нервно бросает на него беспокойные взгляды.
...
МАТЬ: Роберт, прекрати сейчас же! Ты испортишь подарок! Что нужно сказать, когда тебе дарят что-нибудь?
РОБЕРТ (раздосадованно): Спасибо.
МАТЬ: Молодец. Хороший мальчик!
Мать Роберта могла бы преподать ему урок вежливости и более эффективно, и в менее грубой форме. Она могла бы, например, сказать: «Большое спасибо, тетя Патриция, за этот чудесный подарок!» Естественно предположить, что и «большое спасибо» от Роберта последовало бы незамедлительно. А если бы не последовало, мать могла бы приступить к социальному обтесыванию сына несколько позже, оставшись с ним наедине. Допустим, сказать ему следующее: «Как приятно, что тетя Патриция подумала о тебе и принесла для тебя подарок. Давай напишем ей благодарственную открытку. Наше внимание очень ее порадует». Пусть и более замысловатый, чем одергивание, но такой подход более эффективен. Благородные манеры нельзя привить ударами кувалды.
Если ребенок перебивает беседу взрослых, последние реагируют раздражением: «Как ты груб. Перебивать невежливо». Но и перебивать того, кто перебивает, тоже невежливо. Родителям не следует проявлять нетактичность в процессе принуждения детей к вежливости. Возможно, лучше просто сказать ребенку: «Я бы очень хотел рассказать до конца свою историю».
Нет ни одной достойной цели, стремление к которой оправдывает грубые родительские упреки детям. Вопреки возлагаемым надеждам, такие назидания не склоняют детей к вежливости. Опасность заключается в том, что ребенок примет ваши негативные оценки как должное и сделает их частью самосознания. Усвоив однажды информацию о себе как о грубияне, он будет жить в соответствии с этим ярлыком. Ведь раз он грубиян, такое поведение для него естественно.
Обвинения и мрачные прорицательства не помогают детям. Лучший результат обещают простые и тактично сформулированные заявления. Хождение в гости и прием гостей – хорошая возможность продемонстрировать детям, что такое вежливость. Общение с гостями должно доставлять удовольствие и взрослым, и детям. Этого можно достичь, если переложить бремя ответственности за поведение на самого ребенка и пригласившую сторону.
Дети усваивают, что, придя в гости, вы не склонны им выговаривать. Порой они используют эту возможность для того, чтобы проявить непослушание. Подобной стратегии можно с успехом противодействовать благодаря временному делегированию непосредственно хозяевам права устанавливать правила поведения в их собственном доме и права следить за исполнением этих правил.
Когда ребенок прыгает на диване в доме тетушки Мэри, пусть сама тетушка Мэри решает, подходит или нет ее диван для детских упражнений, и устанавливает пределы допустимого. Ребенок в большей степени склонен уважать ограничения, вводимые посторонними. А мать, освобожденная от необходимости поддерживать дисциплину, должна помочь детям озвучивать желания и чувства: «Как же тебе хочется, чтобы тетя Мэри разрешила попрыгать на ее диване. Тебе очень нравится это занятие! Но это дом тети Мэри, и мы должны принимать к сведению ее пожелания». Если ребенок настаивает на своем, говоря: «Но ведь ты разрешаешь мне прыгать на нашем диване», можно ответить так: «У тети Мэри свои правила, а у нас – свои. У нас с тетей Мэри разные правила».
Подобную политику можно проводить, только если существует договоренность между хозяевами и гостями по разграничению сфер ответственности. Родители Луси, придя с Луси в гости к тете Мэри, могут сказать хозяйке: «Это твой дом. Ты и только ты решаешь, как следует себя здесь вести. Пожалуйста, чувствуй себя вправе делать замечания моей дочке, если тебе не нравится, что она делает». И хозяева дома обладают правом требовать соблюдения правил поведения в их доме и несут ответственность за соблюдение этих правил. А обязанность приехавших в гости родителей – делегировать на время пребывания в чужом доме своих прав «генерального воспитателя» хозяевам дома. Своим невмешательством родители помогают детям воспринять ситуацию непосредственно и во всей ее полноте.
Резюме
Любой родитель теряется, не зная, как ему реагировать на ложь и воровство своих детей, и цепь педагогических неудач с годами только удлиняется. Угрозы, подкуп, сарказм и грубость не могут быть приемлемой ответной реакцией родителей. Наиболее эффективное решение заключается в четких формулировках, диктуемых представлениями о нравственности. Не задавайте детям каверзных вопросов, ответы на которые вам заранее известны. И, самое важное, выказывайте ребенку то же уважение, которого ожидаете от него. Этот щадящий и вместе с тем авторитетный способ реакции на детское непослушание способствует тому же усилению любви между ребенком и родителем.
4. Ответственность: передача представлений о вечных ценностях, а не требование послушания
Чувство ответственности навязать невозможно
Все родители пытаются воспитать в своих детях чувство ответственности. Многие придерживаются того мнения, что ежедневное и неукоснительное исполнение ребенком домашних обязанностей обеспечивает решение этой проблемы. Выбрасывать мусор, готовить еду, стричь газон, мыть посуду – все эти занятия, по мнению родителей, наиболее эффективно способствуют росту чувства ответственности ребенка. На самом деле домашняя рутина, без сомнения, очень важная составляющая жизни, вряд ли способствует развитию чувства ответственности. Наоборот, хватает семей, где занятия домашним хозяйством выливаются в ежедневные домашние баталии. И эти баталии омрачают и превращают в муку жизнь и детей, и взрослых. Настойчивое принуждение ребенка к домашним обязанностям, хоть и способствует поддержанию чистоты на кухне и порядка во дворе, может вредно повлиять на формирующийся характер. Дело в том, что чувство ответственности навязать невозможно.
...
Чувство ответственности может расти исключительно изнутри, подпитываемое и направляемое представлениями о ценностях, усвоенными дома и в обществе.
Развитое чувство ответственности, не основанное на представлениях о добре, может быть асоциальным и деструктивным. Так, члены банды могут проявлять невероятную преданность и большое чувство ответственности по отношению друг к другу и к банде в целом. Террористы относятся к своим обязанностям со смертельной серьезностью; они неукоснительно исполняют их, жертвуя порой и собственной жизнью.
Источник ответственности
Поскольку мы желаем, чтобы наши дети выросли людьми ответственными, мы стремимся к тому, чтобы их чувство ответственности подпитывалось представлениями о вечных ценностях, такими как благоговение перед жизнью и радение о благосостоянии всякого человека. Проще говоря, речь идет о сострадании, преданности и заботливости. Как правило, мы не склонны рассматривать проблему ответственности в широком смысле. Мы делаем выводы о степени ответственности (или безответственности) ребенка на основании очень банальных показателей. Мы оцениваем уровень беспорядка в его комнате, принимаем во внимание количество опозданий в школу, небрежность при выполнении домашних заданий, нежелание сидеть за фортепиано, упорство непослушания ребенка или его плохие манеры.
Но есть и воспитанные дети, поддерживающие порядок в своей комнате, следящие за своим внешним видом и прилежно выполняющие домашние задания, которые, тем не менее, совершают безответственные поступки. Это в первую очередь дети, постоянно получающие директивы, что им следует делать. Они практически лишены возможности учиться самостоятельно принимать решения, делать выбор и вырабатывать собственную жизненную позицию.
А вот ребенок, которому предоставляется возможность принятия самостоятельных решений, имеет больше шансов вырасти самодостаточной личностью, способной находить друзей и работу по душе.
...
Эмоциональная реакция ребенка на наши инструкции – ключевой показатель, позволяющий судить о его способности усваивать те знания, которые мы желаем передать.
Ценности невозможно преподать. Ценности можно только впитать. Представление о ценностях становится частью ребенка исключительно в ходе его идентификации себя с теми, кого он уважает и любит и кому подражает.
Таким образом, недостаточно развитое чувство ответственности у ребенка – это родительская проблема. А вернее…
...
Важна практика передачи нравственных ценностей от родителей к детям – воспитательные методы, применение которых усиливает чувство любви между родителем и ребенком.
Теперь остается выяснить: а существуют ли они, определенные представления и методы воспитания, которые, судя по всему, действительно способствуют укреплению у ребенка чувства ответственности? В данной главе начиная с этого места мы попытаемся ответить на этот вопрос с психологической точки зрения.
Высокие цели и будничная жизнь
Истоки чувства ответственности ребенка лежат в мировоззрении родителей и зависят от воспитательных навыков последних. При этом подразумевается, что родительское мировоззрение включает в себя готовность делиться с ребенком всеми своими чувствами, а также способно продемонстрировать детям приемлемые способы обращения с чувствами.
Трудности, порождаемые необходимостью сочетать эти два требования, трудно переоценить. Наши родители и учителя не учили нас обращению с эмоциями. Проявления ребенком сильных чувств заводили и их в тупик. Они, «попав в полосу» детской эмоциональной турбулентности, начинали отрицать сам ее факт, отрекались от нее, старались не признавать и подавлять эти эмоции или представить их в приукрашенном виде. Речевые обороты, которыми они пользовались, не приносили ребенку облегчения.
...
ОТРИЦАНИЕ: Ты же сам не веришь в то, что говоришь; ты же понимаешь, что любишь своего младшего брата.
НЕПРИЗНАНИЕ: Это не ты. Ты просто расстроен. Ты встал сегодня с левой ноги.
ПОДАВЛЕНИЕ: Если ты еще раз произнесешь свое «ненавижу!», я всыплю тебе так, что мало не покажется. Хороший ребенок не испытывает плохих чувств.
ПРИУКРАШИВАНИЕ: Ты не можешь по-настоящему ненавидеть свою сестру. Просто она тебе не очень нравится. В нашем доме не принято ненавидеть – только любить.
Подобные заявления игнорируют тот факт, что эмоции, как реки, нельзя остановить, их можно лишь перенаправить. Сильные эмоции, как паводки на Миссисипи, отрицать не получится, невозможно останавливать или объявлять несуществующими. Пытаться игнорировать вспышки эмоций – все равно что игнорировать стихийные бедствия. Их существование следует признавать, с их силой – считаться. К проявлениям – относиться со всей серьезностью и изобретательно перенацеливать. При таком подходе эти эмоции электризуют человека, привносят свет и радость в его жизнь.
Все это – высокие цели и достойные перспективы. Но вот вопрос: какие шаги следует предпринять, чтобы перебросить мост от высоких целей к прозаическим будням? С чего начать?
Долгосрочные и краткосрочные стратегии
А начинать, похоже, следует с выработки программы, сочетающей планомерные и разовые усилия. Но прежде чем начинать, следует четко себе уяснить, что формирование детского характера зависит от наших отношений с ребенком и что не столько наши слова, сколько совершаемые нами поступки играют решающую роль в этом процессе.
Первый шаг долгосрочной стратегии – это наше твердое намерение живо интересоваться тем, что ребенок думает и чувствует, и реагировать не только на его поведение, не только на артикулируемые им жалобы или на театр бунта, но и на спровоцировавшие такое поведение чувства.
Но каким образом получить представление о том, что ребенок думает и чувствует? Дети сами нам подсказывают. Их чувства выдают определенные слова и тембр их голоса, они проявляются в жестах и позах. Нам нужны лишь глаза, способные различать, и сердце, способное чувствовать.
...
Наш негласный девиз: «Позволь мне понять. Позволь продемонстрировать, что я тебя понимаю. Позволь мне выразить свое понимание словами, которые не критикуют и не клянут».
Вот ребенок возвращается из школы домой. Он тих. Он едва плетется. Уже слушая шаги ребенка, мы можем понять, что у него – неприятности. Следуя вышеназванному девизу, не стоит начинать беседу с ним с критических замечаний. Не стоит спрашивать его:
...
«Это что за выражение лица?»
«Да что с тобой стряслось? Ты что, потерял своего лучшего друга?»
«Ну и что ты натворил в этот раз?»
«Ну и куда ты на сей раз вляпался?»
Поскольку вы заинтересованы узнать, как ваш ребенок себя чувствует, вы избегаете комментариев, единственное назначение которых – задеть, которые заставляют ребенка пожелать больше никогда не приходить домой. Вместо насмешек или сарказма дети вправе ожидать от родителей сопереживающего ответа, а проще говоря, сочувствия. Ведь родители только и делают, что заявляют детям о своей любви к ним. Вот, например, как ее можно проявить, сказав ребенку:
...
«У тебя неприятности».
«Этот день для тебя был не очень хорошим».
«Похоже, у тебя сегодня был тяжелый день».
«Кажется, кое-кто потрепал тебе нервы».
Такие высказывания предпочтительнее вопросов: «Что такое?», «Что с тобой случилось?», «Да что с тобой стряслось?» Вопрос – лишь проявление любопытства, а констатация состояния свидетельствует о симпатии. И даже если сочувствующий родительский комментарий не изменит настроения ребенка немедленно, ребенок уловит симпатию, заключенную в нем.
Исцеляем душевные раны ребенка
Когда Дэниэль сообщил маме о том, что водитель школьного автобуса оскорбил его и толкнул, его мать не принялась строить предположения о возможных поступках сына, спровоцировавших водителя, и не пыталась водителя оправдать. Ее задача состояла в том, чтобы посочувствовать сыну, оказав ему тем самым «первую эмоциональную помощь» такими, например, высказываниями:
...
«Ты наверняка невероятно смутился».
«Ты, вероятно, почувствовал себя униженным».
«Ты, видимо, ужасно разозлился».
«Ты, наверно, очень на него за это обиделся».
Такими своими высказываниями мать Даниэля могла бы выразить, что понимает гнев сына, его обиду и унижение и что сын может рассчитывать на ее внимание всегда, когда бы он в нем ни нуждался. Подобно тому, как, не теряя ни минуты, родители стремятся помочь ребенку, когда он упал или поранил себя, они также должны научиться оказывать неотложную эмоциональную помощь ребенку, страдающему от душевных ран.
Дети учатся на собственном опыте. От этого факта никуда не деться. Если ребенка постоянно одергивать и критиковать, он не научится принимать собственные решения и нести за них ответственность. Вместо этого ребенок овладеет «искусством» осуждать себя и придираться к другим. Он начнет постоянно сомневаться в себе, принижать свои способности и усматривать злой умысел в намерениях других. Но прежде всего станет жить в постоянном страхе, что его глупость станет всем очевидна.
...
Самый легкий, но верный способ воспитать в детях чувство собственной неполноценности – постоянно их критиковать.
Это принижает самооценку. Не в критике нуждается ребенок, а в спокойном информировании без всякого унижения.
...
Мать видит, как ее девятилетний сын Стивен выкладывает почти весь приготовленный на семью пудинг себе в тарелку. Она чуть было не выговорила ему: «Ты законченный эгоист! Ты думаешь только о себе! Ты же не один в этом доме!»
Но она уже усвоила, что навешивание ярлыков лишает желания что-нибудь изменить, что ругань в адрес ребенка не помогает ему стать более заботливым, поэтому она просто проинформировала сына, не унижая его: «Сын, пудинг приготовлен на четверых». «Ой, прости, пожалуйста! – ответил Ситвен. – Я об этом не подумал. Я положу лишнее назад».
Как родителям строить отношения с ребенком
Родители, находящиеся в состоянии объявленной или необъявленной войны со своим ребенком (по причине его халатного отношения к домашним обязанностям и полной безответственности), должны отдавать себе отчет в том, что им эту войну не выиграть. У детей больше и сил, и времени, чтобы нам противостоять, чем у нас – их принуждать. И даже если победителем окажется родитель (сможет навязать ребенку свою волю), ребенок ему отомстит, сделавшись безучастным или угрюмым, либо, наоборот, мятежным и готовым на все.
Но ведь наша задача – строить с ребенком отношения. Как же справиться с этим трудным заданием? Благодаря убеждению ребенка в вашей правоте. Это только кажется невозможным; на самом деле это лишь не очень просто. И вы сможете справиться с этой задачей, научившись понимать детскую логику и улавливать те чувства, которые чаще всего толкают ребенка на непослушание.
Родители могут инициировать благоприятные изменения в детях, если научатся, скажем, участливо их выслушивать.
Дети обижаются и чувствуют себя подавленными, когда им кажется, что родители не интересуются ни их чувствами, ни их мнением.
...
Пример: Отец настаивал на том, чтобы Шана, которую не интересует футбол, отправилась вместе с семьей на футбольный матч, где принимал участие ее маленький брат. Шана отказалась. Отец возмутился и пригрозил урезать ей карманные деньги. Шана выбежала из дома, хлопнув дверью, разгневанная, обиженная и чувствуя себя нелюбимой. Отец же, остыв, оказался способным понять дочь. Он осознал, что пытался организовать счастливый семейный выход, не считаясь при этом с чувствами дочери. Когда дочь вернулась, он перед ней извинился и признал, что для нее нет смысла присоединяться к семье ради посещения мероприятия, которое ей неинтересно. Кроме того, он понял, что, если бы принудил дочь, она бы наверняка постаралась сделать так, чтобы и все остальные члены семьи не получили удовольствия от футбола.
Многие родители находятся в плену идеализированных представлений о семейных сборищах и праздниках. Они склонны игнорировать скрытые течения, зачастую отравляющие семейные торжества. Родителям следует тщательнее отнестись к отбору тех семейных торжеств, на которых, по их мнению, присутствие ребенка обязательно. Не в их интересах принуждать ребенка к участию в них. Он чувствует себя при этом угнетенным и обиженным, а взрослые вынуждены терпеть присутствие надутого, раздраженного и несносного отпрыска. Ведь он знает множество способов расквитаться с родителями, пусть и во вред самому себе.
Вот поучительная история о том, как амбициозный мистер Гаррет пытался найти общий язык со своим поваром.
Однажды он призвал к себе повара и объявил ему:
...
«Отныне я больше не буду тебя обижать».
«И вы не будете на меня кричать, даже если я чуть задержусь с обедом?»
«Нет, не буду».
«И если кофе недостаточно горячий, вы, тем не менее, не станете выплескивать его мне в лицо?»
«Никогда больше!»
«И если стейк чуть пережарен, вы не вычтете его стоимость из моей зарплаты?»
«Нет, ни за что на свете!»
«О’кей, – сказал повар, – тогда и я больше не буду плевать в ваш суп».
О, дети владеют множеством способов «плевать нам в суп» и отравлять нам жизнь.
Если родители не считаются с чувствами и мнением своего ребенка, он может решить, что высказываемые им идеи глупы и недостойны внимания и что родители его не любят потому, что он просто-напросто не заслуживает любви.
И наоборот: родители, которые не только выслушивают своего ребенка, но и улавливают скрытые за словами чувства, дают ему понять, что его мнения и чувства заслуживают внимания и что родители уважают его. Такое проявление уважения позволяет ребенку обрести чувство собственного достоинства. А ощущение собственной значимости позволяет более эффективно взаимодействовать с окружающими его людьми и миром.
Как отзеркаливать эмоции ребенка
Доводилось ли вам когда-нибудь видеть свое отражение в кривом зеркале, как в комнате смеха какого-нибудь парка развлечений? Ну и как? Что вы испытывали, разглядывая свой искаженный и уродливый облик? Скорее всего, вы чувствовали себя не очень уверенно. Но вы смеялись, потому что знали – изображение не соответствует действительности, вы выглядите совсем не так.
А теперь представьте себе, что отражение в кривом зеркале – единственный доступный вам образ себя. В этом случае вы действительно можете поверить в то, что это уродливое существо и есть вы. Вам ведь может и не прийти в голову, что зеркало может ошибаться. О том, что не стоит доверять зеркалу, вы можете и не знать, если отражение в нем – единственный доступный вам образ самого себя.
Вот и у ребенка нет причин сомневаться в правдивости своего образа, отражаемого родителями. Они принимают за правду даже резко отрицательные родительские оценки и действительно считают себя дураками, лентяями, тупицами, недоумками, эгоистами, бесчувственными истуканами, безответственными типами или уродами. Высказывания типа: «Ты выглядишь просто ужасно», или «Ты никогда ничего не делаешь правильно», или «Ты такой неумеха» – отнюдь не способствуют возникновению у ребенка ощущения, что он прекрасен, талантлив или грациозен. При этом многие родители, обзывая своих чад дураками, лентяями и врунами, рассчитывают, что налепливание подобных ярлыков может мотивировать ребенка исправиться и в результате он станет умным, деятельным и честным.
Родители, принявшие на себя роль кривого зеркала для своего ребенка, могут с легкостью изуродовать детское представления о себе.
...
Двенадцатилетний Тед, участник детской телевизионной программы, спросил меня: «Мой отец называет меня лентяем, дикарем и идиотом. А я себе таковым не кажусь. Но, может быть, папа прав?»
«А если бы твой папа сказал тебе, что ты – миллионер, поверил бы ты ему?» – спросил я мальчика.
«Нет. У меня на счету только 17 долларов. Какой из меня миллионер! А, понимаю! Вы хотите сказать, что я не обязательно дурак, даже если мой папа меня так называет», – произнес Тед.
Вот что я ответил Теду. «Ты же знаешь точно, сколько денег у тебя на счету. Точно так же тебе хорошо известно, что ты за человек. И это твое знание не зависит от того, что о тебе говорят другие, включая и твоего отца. Просто когда о тебе плохо говорит твой отец, которого ты любишь и уважаешь, тебе труднее сохранять уверенность в том, что ты вовсе не тот неудачник, которого он описывает».
...
Негативные ярлыки, которые навешивают на ребенка родители из благих побуждений, ради исправления, могут отравлять ему жизнь до конца дней.
Несколько лет назад Пабло Казальс [2] , великий виолончелист и гуманист, говоря о воспитании детей, подчеркнул, как важно дать ребенку почувствовать его исключительность. Вот его слова: «Недостаточно пичкать детей знаниями о том, что два умножить на два получается четыре. Родителям следует повторять ребенку: «Ты – настоящее чудо! Подлинное волшебство! Никогда, испокон веков, не было и не будет второго такого ребенка».
Некоторым детям везет. Их родители целиком и полностью согласны с Пабло Казальсом. Они знают, как помочь своим детям почувствовать себя уникальными.
...
Десятилетняя Эдит сопровождает мать, отправившуюся за покупками в универмаг. Вдруг они слышат детский плач. Ребенок потерялся. Охранник некоторое время спустя помог малышу найти мать.
Вечером того же дня Эдит, с виду очень расстроенная, сказала матери: «Я все думаю, как это ужасно для малыша вдруг осознать, что он не может найти маму». Сначала мать, повинуясь первому позыву, намеревалась сказать дочери: «Тебе не стоило волноваться. Маму мальчика наверняка быстро нашли». Вместо этого мать решила воспользоваться подходящим случаем и сказать Эдит, что у нее доброе сердце.
...
МАТЬ: Эдит, ты действительно очень расстроилась из-за потерявшегося малыша.
ЭДИТ: У меня из головы не выходит то, как он горько плакал.
МАТЬ: Ты способна глубоко сострадать. Ты буквально сама испытала страх этого ребенка. Это уникально.
ЭДИТ: Ой, а я никогда не казалась себе такой особенной.
Не давать шанса вызреть «гроздьям гнева» [3]
Родители должны сознательно избегать обидных слов и уничижительных комментариев, подобных нижеследующим:
...
Оскорбления: Ты позоришь школу и своих родителей.
Прорицание: Твое поведение доведет тебя до тюрьмы!
Угрозы: Если ты не угомонишься, не видать тебе ни карманных денег, ни телевизора.
Обвинения: Это ты всегда зачинщик любого безобразия.
Начальственный тон: А ну сядь на место, замолчи и ешь свой ужин.
Неагрессивное проявление чувств и высказывание соображений
В критических ситуациях родители с большей вероятностью окажутся эффективными, если будут выражать свои мысли и чувства, не атакуя ребенка, его индивидуальность и достоинство. Начиная свою речь с местоимения «я», родители могут выразить детям свой гнев с указанием его причины (плохое поведение ребенка), не оскорбляя и не унижая при этом. Например: «Я сержусь, и мне очень обидно, когда мой сын игнорирует мои упорные просьбы сделать музыку тише».
Если родители умеют слушать с неподдельным интересом, прикладывают усилия, чтобы понять воззрения своего ребенка, удерживаются от язвительных комментариев, выражают свои чувства и пожелания в неагрессивной форме – ребенок начинает меняться. Атмосфера благожелательности способствует сближению детей и родителей; дети постигают систему нравственных ценностей своих родителей (представления о благородстве, тактичность, любезность) и начинают родителям подражать. Все эти изменения не могут произойти за сутки, но родительские усилия в конце концов будут вознаграждены.
Львиная доля воспитания в ребенке чувства ответственности заключается в адаптации для детского понимания системы ценностей и навыков родителей. Однако воспитания исключительно на собственном примере будет недостаточно. Ребенок способен научиться чувству ответственности, лишь прикладывая усилия, – на собственном опыте.
Родительский пример создает благоприятную установку и условия для обучения, но в ходе учения только личный опыт консолидирует характер ребенка. Поэтому важно понимать, что воспитание чувства ответственности происходит поэтапно, соответственно уровню зрелости ребенка.
Во многих семьях любые проблемы ребенка пытаются разрешить родители. Но если мы хотим, чтобы наши дети выросли зрелыми людьми, мы должны предоставить им возможность решать собственные проблемы. Вот пример.
...
Учитель Фила курировал выезд класса на выходные. Филу, также прибывшему на автобусную станцию, он не разрешил присоединиться к группе отъезжающих одноклассников, потому что Фил забыл дома разрешение родителей. Фил был вне себя, он рвал и метал. Вернувшись домой, он сказал матери: «Мама, если ты не отвезешь меня в Вермонт, то твои 100 долларов, которые ты заплатила за поездку, попросту пропадут».
Мать ответила: «Фил, мне известно, как ты предвкушал эту поездку. Я бы рада помочь тебе доехать. Но ты знаешь, что у меня нет такой возможности».
«Что же мне делать», – заскулил Фил.
«Как насчет того, чтобы доехать автобусом?» – поинтересовалась мать.
«Это невозможно: слишком много пересадок», – ответил Фил.
«Похоже, тебе просто не хочется ехать автобусом», – спокойно заметила мать.
Фил клял судьбу еще какое-то время, после чего вышел из комнаты. Возвратившись назад, он сообщил о том, что обнаружил автобус, следующий до пункта назначения в горах без пересадок.
Пока мать везла его на автобусную станцию, Фил рассказывал, какой приступ бешенства он испытал, когда учитель сказал ему: «Слушай, мы не виноваты в том, что ты забыл дома разрешение родителей». Заканчивая свой рассказ, он добавил: «Я повел себя как взрослый». Знаешь, что я ответил ему? «Меня не интересует, кто виноват в создавшейся ситуации. Мне важно найти решение».
«То есть, – заметила мать, – теперь ты знаешь наверняка, что поиски виноватых в кризисной ситуации бессмысленны».
Присущий матери Фила талант коммуникации помог сыну сконцентрироваться на поиске решения. В результате он не потерял времени, выплескивая эмоции. Хотя он желал, чтобы мать выручила его из трудной ситуации, он, поощренный ею, сам нашел способ добраться до цели. Позволив Филу самостоятельно разрешить его проблему, мать помогла сыну ощутить себя компетентным и ответственным.
Мнение и выбор
Дети не рождаются ответственными. И они не приобретают чувства ответственности атоматически, к определенному возрасту. Ответственности, как и искусству играть на пианино, учатся постепенно и на протяжении многих лет. В этом деле требуется ежедневная практика выбора и принятия решений – соотвественно возрасту ребенка и его способности к осмыслению.
Науку быть ответственным можно начинать осваивать уже в младшем детском возрасте. Чувство ответственности тренируется поощрением ребенка выражать свое мнение и, насколько это возможно, совершать выбор, самостоятельно принимая решения там, где затрагиваются его интересы. Определение круга проблем по каждой категории (мнение или выбор) – сугубо произвольное. Есть вещи, целиком подпадающие «под юрисдикцию» ребенка, и здесь ему следует предоставить возможность выбирать во всей полноте. А вот ответственность за благосостояние ребенка полностью лежит на нас, это родительская область. У ребенка тут есть право выражать свое мнение, но выбор делаем мы, помогая при этом ребенку принять такое положение вещей как неизбежность. И необходимо четко разграничить эти две области ответственности.
А теперь приступим к изучению некоторых особо чреватых конфликтами сфер отношений между родителями и детьми.
Еда
И двухлетнего ребенка можно спросить, желает ли он половину стакана молока или полный стакан. (Родителям, озабоченным тем, что их ребенок обязательно предпочтет половину, следует просто запастись стаканом больших размеров.) Четырехлетнего ребенка можно поставить перед выбором между половиной яблока и целым яблоком. А шестилетний волен определиться в своих предпочтениях относительно вареных яиц – следует ли яйцу быть сваренным вкрутую или в мешочек.
...
Ребенка полезно как можно чаще сталкивать с ситуацией выбора. Родители определяют ситуации, а он делает лишь альтернативный выбор.
Не следует спрашивать малыша: «Что ты хочешь на завтрак?» Малышу нужно задавать вопрос, сформулированный, например, так: «Ты хочешь омлет или яичницу?», «Тебе просто отрезать хлеб или его подрумянить в тостере?», «С каким молоком ты будешь есть мюсли – с холодным или горячим?», «Что будешь пить: молоко или апельсиновый сок?»
Ребенку дают понять то, что у него есть возможность взять на себя долю ответственности за собственные поступки. Что он не просто исполнитель приказов, но со-вершитель собственной жизни, соучастник процесса принятия судьбоносных решений. Обозначенная ребенку позиция родителей такова: мы предоставляем тебе возможности, выбор – твое дело.
Проблема с едой зачастую создается не ребенком, а его родителями, которые пытаются выполнять функцию рецепторов вкуса ребенка. Они изводят свое чадо, заставляя его есть определенные овощи, пичкая его вдобавок (порой несостоятельной с научной точки зрения) информацией о невероятной полезности именно этого овоща. Ребенок, чьи родители еще не стали жертвами сокровенных знаний о еде, может считать себя везунчиком. Такие родители лишь обеспечивают его качественной и вкусной пищей, позволяя ребенку есть в соответствии с потребностями его аппетита (если это не противоречит медицинским показаниям).
...
Нет никакого сомнения в том, что процесс поглощения пищи ребенком целиком относится к области его ответственности.
Не позволяя ребенку иметь здесь свое мнение и лишая его выбора, родители затрудняют процесс развития его представлений о себе как о человеке, мнение которого важно. Что и демонстрирует нижеследующая история.
...
Итак, Артур четырех лет сидит с матерью в кафе.
...
ОФИЦИАНТКА: Что тебе принести?
АРТУР: Я хочу хот-дог.
МАТЬ: Принесите ему сэндвич с ростбифом.
ОФИЦИАНТКА: С чем тебе хот-дог – с кетчупом или горчицей?
АРТУР (поворачиваясь к матери): Мама! Она принимает меня всерьез! Она думает, что я имею право заказывать по-настоящему!
Одежда
Покупая одежду для маленьких, вы берете на себя ответственность выбора за них и принимаете решение о приемлемости ее цены. В магазине вы рассматриваете несколько устраивающих вас по стоимости вариантов. И пусть ребенок выбирает из отобранного вами то, что он желает носить. Таким образом, и шестилетние могут выбирать для себя носки, рубашки, штаны, платья – все из отобранных родителями вещей. Существует немало родителей, лишающих своих чад возможности приобрести опыт покупки для себя одежды. Потому есть и взрослые, не способные купить себе костюм без советника(-тчицы), помогающих им выбирать одежду.
Подросткам в особенности следует разрешить самостоятельно выбирать для себя одежду – в том числе абсолютно не соответствующую представлениям взрослых и даже друзей о том, какой она должна быть. Тинейджер может стремиться проявить свою индивидуальность в неожиданной для родителей форме. Подростку следует разрешить покупать все, что его душе угодно, при условии, что он(-а) самостоятельно оплачивает покупку. Если сверстники его (ее) высмеют или дадут понять, что находят его (ее) вкус «странным», есть шанс, что у рискового покупателя вкус изменится. Здесь родителям предоставляется уникальная возможность пощадить себя и воздержаться от критики в адрес своего детища – от оставляющих неприятный осадок пустых споров, – позволив выполнить эту работу сверстникам подростка. Притом некоторые тинейджеры оказываются невероятными оригиналами, а их родители предпочитают не портить себе нервы, позволяя чадам носить какую угодно одежду и даже выдумывать ее – неважно, насколько их ребенок отличается своим внешним видом от сверстников.
Нередко подростки одеваются вызывающе. В этом случае родители могут позволить себе поинтересоваться: «Ты действительно хочешь выглядеть настолько из ряда вон?», «Тебе действительно хочется выглядеть до такой степени сексуально доступной для всех и каждого?».
Домашние задания
Начиная с первого класса родители должны внушать ребенку, что домашние задания – область исключительной ответственности ребенка перед учителем. Родители не должны изводить ребенка на предмет выполнения им домашних заданий. Они не должны контролировать выполнение домашнего задания и проверять его правильность, если только на этом не настаивает сам ребенок. (При условии, что такая политика не противоречит желаниям учителя.) Однажды переложив на себя ответственность за выполнение домашних заданий, родители никогда не освободятся от этого груза. Домашние задания могут стать оружием в руках ребенка, позволяющим наказывать, шантажировать и эксплуатировать родителей. Много бед позволит избежать и немало радости добавит семейным будням снижение родительского интереса к домашним заданиям своего отпрыска и провозглашение ими (в произвольной форме): «Это ты отвечаешь за выполнение заданных тебе домашних заданий. Это сфера твоей ответственности. Домашние задания для тебя – то же, что работа для нас».
Существует немало хороших школ, где ученики начальных классов избавлены от домашних заданий. Главная ценность домашних заданий заключается в предоставлении детям возможности приобрести опыт самостоятельной работы. Дабы этим преимуществом можно было воспользоваться, домашние задания должны быть ребенку по силам, чтобы он мог работать практически без посторонней помощи. Активная родительская помощь лишь убедит ребенка в том, что он без родительского вмешательства беспомощен.
При этом косвенная помощь может принести прямую пользу. Так, следует позаботиться о том, чтобы ребенка не беспокоили, чтобы у него было удобное рабочее место, необходимые справочники и доступ к компьютеру. Возможно, следует помочь ребенку установить подходящее для выполнения домашних заданий время, с поправкой на сезон. Ведь в хорошую погоду весной или осенью ребенку захочется поиграть на воздухе, прежде чем садиться за уроки. Зато холодной зимой выполнение домашних заданий должно быть первоочередным занятием, а потом можно и посмотреть телевизор.
Некоторые дети предпочитают делать уроки в присутствии взрослых. Взрослый порой нужен ребенку, чтобы послушать, как он анализирует задачу или понимает отрывок из книги. Возможно, в таком случае можно разрешить делать уроки в кухне или в гостиной. При этом следует воздержаться от замечаний в отношении манеры ребенка сидеть, степени его опрятности и обращения с мебелью.
Некоторым детям работается лучше, когда они грызут карандаш, скребут голову, качаются на стуле или даже слушают музыку. Наши замечания и запреты нагнетают напряженность и мешают их умственной работе. Дети оказывают нам меньше сопротивления, когда наше обращение к ним свидетельствуют, что мы считаемся с ними и признаем их автономию.
Во время выполнения домашних заданий ребенка не следует отвлекать вопросами и занимать поручениями, которые терпят отсрочки. И родителям не следует привлекать к себе его внимание. Они должны оставаться в тени. Отказавшись от инструктажа и прямой помощи, они призваны лишь обеспечивать ребенку комфорт и поддержку. Время от времени, в ответ на просьбу ребенка, вы можете помочь ему понять суть задания или объяснить предложение. Однако необходимо воздержаться от таких, например, комментариев: «Если бы ты не был таким растяпой, ты бы знал, что тебе надо делать» или «Если бы ты слушал то, что говорит учитель, ты бы запомнил домашнее задание».
Помощь родителей должна быть строго дозированной, но легкоусваиваемой. Они не столько вещают, сколько слушают. Они указывают лишь путь, ожидая при этом, что путешественник осилит его самостоятельно.
Следующий пример демонстрирует, как мать может «разминировать» проблему с домашним заданием.
...
Итак, Элен, 11 лет, встала из-за стола и бросила матери вызов: «Я не хочу делать уроки. Я слишком устала».
Расхожая реакция была бы такова: «Что ты имеешь в виду, заявляя, что ты не будешь делать уроки? Ты вовсе не устала, когда речь заходит о том, чтобы поиграть. Только домашние задания вызывают у тебя усталость. Попробуй принести домой плохую отметку – увидишь, что будет».
Ничего этого мама Элен не сказала. Наоборот, она выразила дочери понимание: «Я вижу, как ты устала. Ты слишком перенапряглась. Ты засядешь за книги, когда отдохнешь».
Родительское отношение к школе и учителю может влиять на отношение ребенка к домашним заданиям. Если родители часто ругают школу и без должного уважения говорят об учителе, ребенок сделает соответствующие выводы. Родители должны разделять позицию учителя и поддерживать его политику в отношении заданий на дом. А если учитель чересчур строг, у родителей появляется замечательная возможность ребенку посочувствовать:
...
«Да, этот год легким не назовешь – работы непочатый край!»
«Да, напряженный выдался год!»
«Как же строга твоя учительница!»
«Я слышал, что ее требования непомерны».
«Я слышал, она предъявляет особые требования к домашним заданиям».
«Наверняка в этом году нас ждет много работы».
Важно воздержаться от ежедневных взбучек в связи с домашним заданием, вот таких, например: «Слушай меня внимательно, Амбер. С сегодняшнего дня ты начинаешь работать над правописанием каждый день, после школы и до самого вечера, включая субботы и воскресенья. Больше никаких игр и никакого телевизора». Или: «Роджер! Как же я устала постоянно напоминать тебе о домашних заданиях. Отныне отец будет следить за их выполнением. И ты сильно пожалеешь о том, если не будешь их выполнять».
Угрозы и постоянные напоминания – обычное дело, поскольку иначе у родителей возникает ощущение, что они не пускают ситуацию на самотек. На самом деле подобные проповеди более чем бессмысленны. Они только накаляют атмосферу, заводят родителей, злят ребенка.
...
Из школы пришло письмо, полное жалоб. Четырнадцатилетний Айвен остался на второй год. Первый позыв отца: призвать сына, отчитать его, затем покарать: «С сегодняшнего дня ты будешь сидеть над домашними заданиями каждый день, включая выходные и праздники. Никаких кино, никакого телевизора, никаких компьютерных игр и посещений друзей. Я лично буду следить за тем, как ты занимаешься».
Подобная речь уже звучала и прежде, причем неоднократно. Ее итог – все более распаляющийся отец и все нахальнее дерзящий сын. Увеличение давления со стороны отца порождало лишь накал ответного сопротивления Айвена. Он стал настоящим экспертом в деле уклонения и конспирации.
На этот раз отец отказался от угроз и наказаний. Вместо этого он апеллировал к чувству собственного достоинства Айвена. Он показал мальчику письмо учителя и сказал: «Сын, мы ждем от тебя улучшений. Ты должен больше знать. Миру нужны способные люди. Неразрешенных проблем предостаточно. Ты можешь помочь найти их решение».
Айвен был настолько тронут словами отца и тем, как звучал его голос, что он ответил: «Я обещаю серьезнее относиться к своей работе».
Для множества способных детей отказ выполнять домашние задания и нежелание успевать в школе – выражение подсознательного протеста родительским амбициям. Для того чтобы расти и мужать, подростку нужно ощущать себя независимой личностью, отделенной от матери и отца. Когда родители демонстрируют слишком большую эмоциональную включенность в дела своего подросшего отпрыска, он чувствует, что его автономия под угрозой. Если выполненные домашние задания и хорошие оценки играют роль алмазов в родительской короне, ребенок подсознательно предпочитает украсить себя венком пусть из сорняков, зато с собственной грядки. Лишь отказываясь стремиться к целям, провозглашенным его родителями высшими, юный бунтарь ощущает себя независимым. Вот таким образом поиски себя, желание понять, в чем заключаются его индивидуальность и уникальность, заставляют ребенка совершать ошибки, невзирая на родительское давление и наказания. Как сказал о родителях один мальчик: «Они могут забрать у меня телевизор и карманные деньги, но не могут лишить меня моих плохих отметок».
Вполне очевидно, что нежелание учиться – не та проблема, которую можно решить, проявляя твердость или мягкость по отношению к ребенку. Усиление родительского давления может вылиться в усиление его сопротивления, а противоположная позиция lassez-faire ( франц. – «пусть делает что хочет») может в глазах ребенка означать, что родители принимают его незрелость и безответственность.
Здесь решение не может быть ни легким, ни быстрым. Некоторым детям показана психотерапия, чтобы избавить их от стремления бороться против родителей и научиться получать удовольствие от достижений, а не от провалов. Другим, возможно, поможет чуткий наставник – некий имеющий представления о психологии человек, например школьный психолог или внимательный учитель. Недопустимо, чтобы таким наставничеством занимались родители. Наша цель убедить ребенка в том, что он – индивидуальность, что он – не одно целое со своими родителями и что он сам отвечает и за собственные успехи, и за собственные неудачи.
Ребенок, которому позволяют чувствовать себя индивидуумом, которому дают понять, что он и только он определяет свои потребности и цели, начинает все больше и больше принимать на себя ответственность за собственную жизнь и распоряжаться ею.
Карманные деньги: обучение обращаться с финансами
Карманные деньги не должны служить наградой за хорошее поведение или платой за помощь по хозяйству. Это инструмент педагогики, имеющий определенное назначение: нарабатывать опыт обращения с деньгами – опыт совершения выбора и принятия ответственности за него. Посему родительское вмешательство в процесс траты ребенком карманных денег недопустимо, как противоречащее поставленной цели. Правда, это вовсе не исключает необходимости согласования общей политики траты карманных денег, то есть оговариваются расходы, которые предполагается покрывать из этого источника: развлечения, ланчи, школьные принадлежности и т. д. По мере взросления ребенка сумму получаемых им карманных денег увеличивают: клубные взносы, дополнительные развлечения, модная одежда и т. д. Увеличение пособия увеличивает и круг ответственности подростка.
Злоупотребления и нарушения договоренностей при этом не исключены. Некоторые дети склонны к перерасходам, они тратят слишком много чересчур быстро. Ситуацию, возникшую в связи со злоупотреблением, обсуждают по-деловому, с целью найти приемлемое для обеих сторон решение. Противодействовать рецидивам мотовства можно, выдавая общую сумму не сразу, а по частям, малыми порциями два или три раза в неделю. Карманные деньги нельзя использовать в качестве дубинки, занесенной над головой ребенка, дабы оказывать на него давление, добиваясь достижений или послушания. Не стоит, разозлившись на ребенка, задерживать выплаты, а, впав в состояние благодушия, увеличивать сумму. Разумных детей подобное родительское поведение сбивает с толку и обижает.
...
МАТЬ: Ты такой хороший мальчик. Вот тебе деньги на кино.
СЫН: Ты не должна мне давать за это деньги, мама. Я хороший бесплатно.
Какова должна быть сумма карманных денег? На этот вопрос нет универсального ответа. Выдаваемая детям сумма зависит от семейного бюджета. Не следует давать детям больше того, что вы можете себе позволить, независимо от того, сколько получают на карманные расходы его друзья. Если сын или дочь выказывают вам недовольство, можно ответить спокойно и доброжелательно: «Мне бы очень хотелось выдавать тебе больше карманных денег, но, к сожалению, наш бюджет ограничен». Такой подход лучше, чем попытки убедить ребенка в том, что больше денег ему и не нужно.
Деньги, как и власть, можно с легкостью употребить во зло в силу неопытности. Выдаваемая ребенку наличность не должна быть больше той, которой он в состоянии управлять. Лучше начинать с малой суммы и постепенно оптимизировать ее величину, чем подавлять ребенка слишком большой суммой. Выплату карманных денег имеет смысл ввести с началом школьной жизни ребенка, когда он научится считать и вычитать разницу. Важно следующее: остаток денег после совершения всех необходимых трат является собственностью ребенка, и это его личное дело, что с ними делать – копить или спустить.
Домашние животные: семейный распорядок по уходу за ними
Когда ребенок клятвенно обещает ухаживать за домашним питомцем, он демонстрирует лишь свои благие намерения, не проверенные на деле. Ребенок может любить животных, мечтать их иметь и заботиться о них, но вряд ли он способен ухаживать за живым существом должным образом. Ответственность за жизнь питомца не может лежать исключительно на ребенке. Во избежание недоразумений и взаимных обвинений лучше отдавать себе отчет в том, что домашнее животное для ребенка подразумевает и работу для родителей. Ребенок может получить огромное удовлетворение, заполучив создание, с которым можно играть и которое можно любить. Ему несомненно пойдет на пользу опыт ухода за питомцем. Но при этом ответственность за жизнь и здоровье животного должна целиком лежать на родителях. Ребенок, приняв на себя ответственность, например кормить своего любимца, все же обычно нуждается в мягком родительском напоминании ему об этом.
Конфликтные области и разграничение ответственности
Дети оказывают нам меньшее сопротивление, если наши требования к ним звучат уважительно и мы не покушаемся на их автономию.
...
Мать попросила детей убрать со стола. Дети замешкались. Мать стала раздражаться. Еще недавно она накричала бы на детей и стала бы им угрожать наказаниями. На сей раз она, опустив угрозы, лишь информировала их: «Как только стол будет убран, появится десерт». Немедленный всплеск активности подтвердил ей, что она сумела эффективно использовать возможность сообщить хорошую новость.
Ребенок склонен реагировать на краткие, но не похожие на приказы заявления.
...
Был холодный, ветреный день. Девятилетний Тодд заявил: «Я надену ковбойскую куртку». Мать ответила: «Посмотри на термометр. Если температура выше +5 °С – надеваем ковбойскую куртку, если ниже +5 °С – теплую куртку». Тодд посмотрел на термометр и сказал: «На улице +3 °С». И сам надел зимнюю куртку.
Раньше, если семилетняя Амелия и девятилетний Ларри бросали мяч в гостиной, отец поднимал крик: «Сколько раз я должен вам повторять, что гостиная не спортивная площадка? Здесь находятся ценные вещи, которые вы можете разбить. Какая безответственность!» На этот раз он решил разрядить ситуацию, предоставив детям выбор: «Дети, у вас есть выбор. Или вы играете на улице, или вы отдаете мне мяч. Решайте».
...
Мать Джорджа, которая не могла больше выносить неопрятную шевелюру сына, придумала стратегию, не нарушающую автономию сына и не ущемляющую его чувство собственного достоинства. Она предложила Джорджу сделать выбор. «Твои волосы – ниже плеч, – сказала она сыну. – Их следует подровнять. Каким образом это будет сделано – мне все равно. Ты можешь пойти в парикмахерскую, а можешь постричь себя сам».
«Тебе не заставить меня пойти в парикмахерскую, – ответил ей Джордж. – Я сам себя постригу, если ты на этом настаиваешь».
На следующий день Джордж принес домой машинку для стрижки. Он попросил мать помочь ему сделать первый срез – укоротив волосы сзади. Потом он заперся в ванной на час. Появившись оттуда, он буквально сиял: «По-моему, замечательно выглядит, не правда ли?»
Мать вспоминает: «Я была очень рада, ведь я не пилила его, не орала и не принуждала. Я спокойно предложила сыну сделать выбор. И это была моя уловка помочь ему сохранить лицо».
Записки часто восполняют то, что не получается передать в устной форме.
Один родитель, уставший пилить детей, попробовал писать объявления в юмористической форме на тему поиска рабочей силы для домашних работ.
«МЫ ИЩЕМ молодого человека в возрасте 10–12 лет. Мускулистого, интеллигентного и инициативного. Способного выстоять в схватке с дикими животными и продраться сквозь густые заросли между домашним порогом и контейнером для мусора. Соискателей просим выстроиться в очередь на углу, образованном посудомоечной машиной и кухонной раковиной».
«МЫ ИЩЕМ очаровательную принцессу (или не менее очаровательного принца), готовую помочь накрыть стол по случаю королевского приема». Объявления вызвали смех. Родителей больше всего порадовала реакция детей. Они взялись за работу без всякого нытья.
Уроки музыки: даешь гармонию в доме!
Если ребенок учится играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, родители рано или поздно услышат традиционный припев: «Я больше не хочу заниматься». Выдерживать музыку такого рода, сохраняя холодной голову, – нелегкое испытание.
Родители часто спрашивают, как мотивировать ребенка заниматься музыкой. Вот как справилась с этой проблемой одна мать, сумевшая ловко воспользоваться ролью тонкого ценителя музыки.
...
Семилетняя Энн в первый раз исполняла фортепианную пьесу обеими руками.
...
МАТЬ: Играла ли ты уже когда-нибудь эту пьесу?
ЭНН: Нет.
МАТЬ: То есть ты утверждаешь, что играешь ее в первый раз?
ЭНН: Да. А ты думала, я ее уже раньше играла?
МАТЬ: Да.
ЭНН: Просто я стала лучше читать с листа. И мой учитель говорит мне то же самое.
МАТЬ: Это так и есть. Без всякого сомнения.
Энн с энтузиазмом продолжила музицирование. А мать Энн задавала ей вопросы, которые усиливали уверенность дочери в музыкальных способностях.
А вот критика, наоборот, убивает мотивацию.
...
Майкл (10 лет) учился игре на скрипке больше года. Его родители были склонны к критиканству и сарказму. Они оценивали успехи сына после каждого урока. Если мальчик, разучивая пьесу, играл медленно и с ошибками, его отец кричал: «Ты что, не можешь меньше ошибаться? И не придумывай, ты не композитор! Просто играй по нотам!» И вот предсказуемый результат – Майкл забросил скрипку.
Ребенок, осваивающий музыкальный инструмент (что совсем не просто!), нуждается в признании своих усилий, лишенном критики по поводу ошибок. Ошибки следует исправлять, а не использовать в качестве предлога для принижения способностей ребенка.
Когда ребенок отказывается идти на урок музыки, многие родители прибегают к уговорам и угрозам. Вот более эффективные альтернативы.
...
МАРСИЯ (8 лет): Я больше не хочу учиться играть на скрипке. Учитель ожидает от меня совершенного исполнения. А я не могу.
МАТЬ: Скрипка – сложный инструмент. На скрипке играть не просто. Не каждому это дано. Чтобы освоить скрипку, нужна воля.
МАРСИЯ: А ты побудешь со мной, пока я буду заниматься?
МАТЬ: Пожалуйста, если тебе этого хочется.
Мать намеренно не упрашивала и не угрожала. Она не говорила дочке, что ей следует делать: «Будешь заниматься больше – будет получаться лучше». Она признала трудность задания и предложила посильную помощь. Такой подход, судя по всему, обеспечил Марсии необходимый стимул для продолжения музыкальных занятий.
Десятилетний Лэрри постоянно жаловался на свою учительницу музыки. Мать не пыталась изменить настрой сына. Она всерьез отнеслась к жалобам Лэрри и предложила ему выбор.
...
ЛЭРРИ: Моя учительница по фортепиано ожидает от меня слишком многого. И она много говорит. Задашь ей простой вопрос, а в ответ услышишь целую лекцию.
МАТЬ: Может быть, тебе отдохнуть от пианино, пока я найду тебе другого учителя?
ЛЭРРИ (в замешательстве): Ты хочешь, чтобы я прекратил заниматься музыкой? Музыка слишком важна для меня. Я никогда не брошу занятий.
МАТЬ: Да, теперь я знаю наверняка, что музыка значит для тебя много.
ЛЭРРИ: Может, не так уж и плоха моя учительница. Я многому могу у нее научиться. Лучше я еще раз попробую найти с ней общий язык.
Мать Лэрри создала предпосылки для того, чтобы сын изменил свое мнение, поскольку не оспаривала правомерность его жалоб.
...
Когда родители считаются с чувствами и мнениями своих детей, они тем самым делают возможным и для детей считаться с пожеланиями своих родителей.
...
СОНЯ (11 лет): Я больше не хочу учиться играть на фортепиано. Это просто трата времени и денег. Вместо этого я хочу заниматься теннисом.
ОТЕЦ: Есть хоть какая-то необходимость настаивать на «или – или»?
СОНЯ: Если я буду играть в теннис и продолжу учиться играть на пианино, вы меня замучаете, заставляя заниматься. А я не хочу скандалов.
ОТЕЦ: Я постараюсь не мучить и не заставлять. Я буду уважать твой режим занятий.
Вот и все. Ни слова больше. И Соня занялась теннисом, не прекращая занятий музыкой.
Некоторые родители, вспоминая свой собственный опыт фортепианных уроков из-под палки, решают избавить ребенка от этого «удовольствия». И приходят к выводу, что играть или не играть – решать не им, а ребенку. Пусть он решает, сидеть ему за пианино или не сидеть. Пусть играет, когда ему этого хочется, сообразно своему желанию. Это оплата уроков музыки – прерогатива родителей, а вот практиковаться или нет – дело ребенка, его ответственность.
Есть и другие родители, которые сожалеют о том, что их в детстве не заставляли просиживать за инструментом. Такие принимают решение: «Мой ребенок будет играть, чего бы это мне ни стоило». И они подбирают учителя музыки для ребенка еще до того, как тот родится. Как только малыш оказывается способным держать скрипку, выдувать из трубы звуки или бить по клавишам, его тут же приставляют к инструменту его судьбы. Слезы ребенка и его истерики не принимают во внимание, а его сопротивление подавляют. Родительский посыл предельно четок и ясен: «Я плачу – ты играй». При подобных обстоятельствах дело не в том, достигнет или нет ваше чадо музыкального совершенства. А в том, что подобное предприятие может оказаться для его участников слишком дорогостоящим. И цена чересчур высока – отношения между родителями и ребенком будут испорчены, и надолго.
Основная цель детского музыкального образования – предоставить ребенку эффективную возможность для выражения эмоций. Жизнь детей изобилует запретами, зарегулирована правилами, переполнена разочарованиями, поэтому клапан для выхода эмоций ребенку необходим. Музицирование – наверное, лучший из возможных способов эмоциональной разрядки: музыка наделяет голосом ярость, придает форму радости, дает выход напряжению.
Родители и учителя, как правило, относятся к музыкальному образованию совсем по-другому – их больше всего интересует мастерство воспроизведения. Такой подход неизбежно влечет за собой оценку музыкальных навыков ребенка и критику в его адрес. К сожалению, результаты слишком хорошо и печально известны: попытка ребенка прекратить занятия, неприятие учителя и прекращение музыкальной «карьеры». Во многих домах задвинутая куда-то скрипка, фортепиано, к которому не прикасаются, навсегда онемевшая флейта служат лишь неприятными напоминаниями о напрасных усилиях и несбывшихся надеждах.
Что же делать родителям? Родительский труд заключается в том, чтобы найти учителя, доброго и тактичного, который понимает детей так же хорошо, как музыку. Учитель и есть тот самый человек, в руках которого находится ключ к механизму неослабевающего детского интереса к музыке. Именно учитель может как распахнуть, так и захлопнуть дверь перед возможностями. Важнейшая задача учителя – завоевать доверие и уважение ребенка. Если учителю это не удается, он не может рассчитывать на то, что его ученик будет следовать его наставлениям. Учитель, которого ребенок ненавидит, не может научить его любить музыку. Эмоциональный тон самого учителя будет заглушать тон инструмента, игре на котором он взялся учить.
Дабы избежать предотвратимых бед, учитель, родители и ребенок должны вместе обсудить и выработать определенные правила, регулирующие взаимоотношения заинтересованных сторон. Вот примеры таких договоренностей:
...
1. Урок музыки не считается отмененным, если уведомление о том, что он не состоится, не поступило по меньшей мере за сутки до назначенного времени.
2. В случае отмены урока ребенок, а не его родители, должен позвонить учителю и сообщить, что не придет на урок.
3. Задаются реалистические условия (время начала и продолжительность) для самостоятельной работы ребенка с музыкальным инструментом.
Подобные правила предотвращают отмены занятий «по настроению», в последнюю минуту, поощряют в детях ощущение независимости и воспитывают в них чувство ответственности. Они также доводят до сознания ребенка, что, хотя родители заинтересованы в его музыкальных успехах, для них важнее его чувства и мысли.
Ребенка не следует донимать напоминаниями о том, что ему пора наконец заниматься. Ему не стоит напоминать и о том, во сколько обошелся родителям инструмент и как тяжело отцу было зарабатывать деньги. Подобные напоминания возбуждают в детях чувство вины и обиду и интересу к музыке не способствуют.
Родителям следует удерживаться он предсказаний «блестящей музыкальной карьеры» своему чаду. Опасны заявления, подобные нижеследующим: «У тебя есть дар Божий. Ты мог бы добиться много, если бы использовал свои таланты». «Ты можешь стать вторым Билли Джоелем, если будешь стараться». Ведь ребенок может сделать неправильный вывод о том, что лучший способ не расстраивать родителей – даже и не пытаться оправдать их иллюзорные надежды. «Уж лучше и не пытаться – тогда я наверняка не разочарую своих родителей» – вот каким может быть его девиз.
...
Осознание того, что родители понимают, с какими трудностями ему приходится сталкиваться, и отдают должное его усилиям – вот лучшее поощрение для ребенка.
На третьем в ее жизни уроке игры на фортепиано шестилетняя Рослин должна была попробовать сыграть записанное «восьмушками» упражнение двумя руками. Учитель с большим мастерством продемонстрировал ей, как это следует делать, приговаривая: «Смотри, это просто. Попробуй сама». Неохотно и безуспешно Рослин пыталась повторить за учителем гамму. Она вернулась домой расстроенной. Когда подошло время заниматься музыкой, мама Рослин сказала дочери: «Играть гамму, записанную восьмушками, и одной рукой – совсем непросто. А уж двумя! Это еще сложнее». Рослин с готовностью с ней согласилась. Сев за пианино, она медленно и с трудом, путаясь в пальцах, но сыграла упражнение. И мать сказала: «Я слышу правильные ноты и вижу «правильные» пальцы». С видимым удовлетворением ее дочь ответила: «Это совсем не просто!» В тот день Рослин занималась дольше запланированного времени. В течение недели она по собственному почину озадачивала себя еще более трудными заданиями и не успокоилась, пока не научилась брать октавы, не глядя на клавиатуру.
...
Ребенок чувствует себя куда уверенней, если его подбадривают выражением сочувственного понимания необходимости преодоления трудностей, вместо того чтобы хвалить, давать советы и предлагать готовые решения «на скорую руку».
Школьные родительские собрания: главное – помочь ребенку
Школьные родительские собрания, как правило, настоящее испытание для родителей, потому что им зачастую приходится выслушивать неприятные, критические высказывания учителей в адрес их ребенка. Каким же образом родители могут извлечь из подобных собраний полезный для себя опыт?
...
Отец Дона пришел на родительское собрание подготовленным (с блокнотом и ручкой), чтобы записывать и преобразовывать любое негативное высказывание о его сыне в конструктивное действие.
...
ОТЕЦ: Каковы успехи моего сына Дона в этом году?
УЧИТЕЛЬНИЦА: Ваш ребенок, к сожалению, обычно опаздывает в школу. Он не выполняет домашних заданий, а его тетрадки неопрятны.
ОТЕЦ: То есть вы имеете в виду, Дону нужно совершенствоваться. Он должен научиться приходить в школу вовремя, делать свои домашние задания, и тетрадки его должны быть опрятными (он записал эти пункты, изложенные в позитивном ключе).
...
Когда отец вернулся с собрания домой, десятилетний Дон спросил его: «Что обо мне сказала учительница?» Отец ему ответил: «Я записал то, что она сказала. Если хочешь, можешь прочитать». Дон, который ожидал традиционных замечаний на предмет своего плохого поведения и невыполнения домашних заданий, удивился, прочитав отцовские записи. Обоим, и Дону, и его отцу, записанное принесло пользу. Им стало легче сконцентрироваться на улучшениях, а не на прошлых ошибках.
И никаких обвинений. Только указатели направления движения и надежда.
Любое школьное родительское собрание может заканчиваться на такой высокой, конструктивной ноте. Например:
...
«Харриет следует поработать над собой. Она должна научиться воспринимать себя в качестве ответственного человека, достойного уважения и способного справиться с заданиями».
«Франку нужно улучшить некоторые качества. Он должен научиться воспринимать себя как личность, способную внести свой вклад в дискуссию, инициированную его одноклассниками».
«Челии необходимо совершенствоваться. Ей надо научиться выражать свой гнев без оскорблений и сохранять выдержку, аргументируя». «Биллу нужно совершенствоваться. Он должен быть в состоянии самостоятельно учиться и выполнять домашние задания».
Нередко при переходе в другую школу ребенка заставляют заново повторять год. Многим родителям с этим трудно смириться.
...
Когда мать девятилетнего Боба выяснила, что ее сын сказал друзьям, что в новой школе ему придется снова учиться в четвертом классе, она разъярилась и накричала на сына: «Как ты можешь думать, что твои друзья способны тебя уважать, после того как ты рассказал им, что снова оказался в четвертом классе? Теперь, надеюсь, тебе ясно, почему они больше не хотят иметь с тобой дела?»
Мать вела бы себя не так деструктивно, если бы поделилась с Бобом своей растерянностью в связи с тем, что ему придется повторить год: «Я бы рада не испытывать неприятных чувств оттого, что в новой школе тебя опять посадили в четвертый класс. Я не хочу, чтобы твои друзья считали тебя дураком. Я надеюсь, что тебя все это не беспокоит. Ведь, по сути дела, ты повторишь четвертый класс исключительно потому, что в твоей новой школе требования гораздо выше, чем в старой».
Двенадцатилетняя Оливия дважды меняла школу. В первый раз она перешла из государственной школы в частную, где попала в шестой класс, хотя уже его закончила в старой школе. А вот, поменяв школу во второй раз, Оливия «перескочила» из восьмого класса сразу в десятый. Означает ли это для ее родителей, что, находясь в шестом классе, их дочь была глупой, а, оказавшись в десятом, превратилась в невероятную умницу? Следовало ли им стыдиться ее в первый раз и похваляться ею два года спустя? Ни одно, ни другое не имеет смысла. Оливии нужно от своих родителей вовсе не оценка ее интеллекта, а родительская вера в то, что она окажется в состоянии справиться с требованиями новой школы.
Друзья и приятели наших детей: круг общения ребенка
Теоретически мы за то, чтобы наши дети сами выбирали себе друзей. Мы – за свободу личности, мы – против принуждения, и нам известно, что свобода общения в демократическом обществе – неотъемлемое право человека. Тем не менее достаточно часто ребенок приводит в дом «друзей», которых мы считаем абсолютно нежелательными. Нам могут не нравиться хулиганы и снобы, мы с трудом выносим плохо воспитанных детей. Но если имеется хоть малейшая возможность «пережить» приятелей вашего ребенка, нет лучше способа получить представление о его предпочтениях, о том, что и почему является для него притягательным. Потому есть прямой смысл повременить с запретительными санкциями.
Каковы возможные критерии оценки выбора ребенком друзей?
Друзья должны оказывать друг на друга благотворное, взаимно корректирующее влияние. Ребенку необходима возможность общения с отличными от него и дополняющими его личностями. Так, замкнутый ребенок нуждается в обществе более открытых друзей, излишне опекаемый ребенок стремится к общению с более независимыми сверстниками, испытывающему страхи ребенку полезно общество более отважных приятелей, а не по возрасту наивному ребенку полезно играть с детьми постарше. Ребенок, пребывающий большей частью в мире своих фантазий, выиграет от общения с более приземленно мыслящими товарищами. Агрессивного ребенка «приведут в чувство» физически крепкие, но не воинственные друзья. Цель родителей – поощрять корректирующие поведение ребенка приятельские отношения.
Однако некоторым союзам следует препятствовать. Слишком инфантильные дети, проводя время вместе, только тормозят друг друга. Эмоционально взрывные лишь подпитывают агрессивность друг друга. Принужденные к общению замкнутые дети не способствуют социализации друг друга по принципу «брать – давать». Делинквентные, то есть обнаруживающие преступные наклонности, дети лишь взаимно усиливают проявления асоциального поведения. И безусловно, следует сделать все возможное для того, чтобы дети, козыряющие криминальным поведением, не стали доминантными «друзьями» вашего ребенка. Определенный жизненный опыт зачастую помогает этим «сильным личностям» наслаждаться статусом короля школы или грозы квартала и служить нежелательным примером для подражания.
Родители не могут оказывать влияния на круг общения своего ребенка, если они не поддерживают контакт с его приятелями. Желательно позволить ребенку приглашать своих друзей в дом. Можно познакомиться с их родителями. Полезно отслеживать, как сказывается на ребенке общение с тем или иным товарищем.
Таким образом создается тактичная система контроля и баланса, которая позволяет ребенку взять на себя ответственность за самостоятельный выбор себе друзей. Притом родители сохраняют за собой ответственность за то, что этот выбор будет благотворным для него.
Стимулируем независимость ребенка
...
Хороший родитель (как и хороший учитель) ратует о том, чтобы ребенок становился от него все более независимым.
Родитель должен стремиться к таким отношениям с ребенком, которые подталкивают его самостоятельно выбирать и полагаться на свои силы. Беседуя с ребенком, надо сознательно использовать фразы, свидетельствующие о вашей вере в то, что он сам в состоянии принимать мудрые решения и следовать им. Поэтому, если вы всей душой согласны с тем, что говорит ребенок, необходимо сказать ему свое «да!» так, чтобы оно еще больше укрепляло в нем чувство независимости. Вот несколько способов выражать согласие:
...
Если тебе этого хочется.
Если это именно то, что тебе по душе.
По этому поводу тебе следует принять собственное решение.
Это решение – твое личное дело.
Это целиком твой выбор.
Любое твое решение я приму.
Уже одно только наше «да!» доставляет ребенку удовольствие. При этом развернутые формы согласия добавляют ребенку удовольствие от принятия собственных решений и от сознания того, что вы верите в него (нее).
Всем нам хочется, чтобы наши дети выросли ответственными. Родителям следует помнить о том, что их уроки отвественности могут принести ребенку пользу только при уважительном с ним обращении. Работа по дому, еда, домашние задания, карманные деньги, домашние животные, дружба и приятельские отношения – все это области, где родительское наставничество необходимо детям. При этом родитель в роли наставника не должен забывать о том, что ребенок находится в состоянии непрекращающейся войны за независимость. Следует быть деликатным и понимающим – если вам действительно важно, чтобы ваши наставления возымели должный эффект.
5. Дисциплина: в поисках эффективной альтернативы наказанию
Наказание малоэффективно
...
«Primum non nocere!» – «Прежде всего, не навреди!». Подобный девиз подошел бы не только врачу, но и родителю – в качестве постоянного напоминания о том, что процесс приучения ребенка к дисциплине на должен разрушать его эмоциональный мир.
Главное здесь – найти эффективную альтернативу наказанию.
Это был первый урок мисс Вилльямс в школе для трудных мальчиков (с преступными наклонностями). Она очень волновалась. Направляясь бодрым шагом к учительскому столу, она споткнулась и упала. Класс зашелся в диком смехе. Вместо того чтобы выговорить ученикам за издевательский смех или наказать их, мисс Вилльямс медленно поднялась, выпрямилась и сказала: « Человек может самым нелепым образом упасть. И подняться снова». В ответ – мертвая тишина: слова попали в точку.
Мисс Вилльямс оказалась воспитателем с большой буквы, каким может быть любой родитель, если он, пытаясь изменить поведение ребенка, будет полагаться на мудрость, а не на наказание.
Наказывая ребенка, родители выводят его из себя. Охваченный яростью и переполненный обидой, он не в состоянии ни услышать, что ему говорят, ни сконцентрироваться. Поэтому в процессе воспитания следует избегать всего, что прямо или косвенно приводит к тому, что ребенок впадает в ярость. И наоборот, все, что усиливает в ребенке чувство собственного достоинства и уважения к себе и другим, следует поощрять.
Почему родители доводят детей до неистовства? В силу неопытности и неведения, а не по злому умыслу. Многие родители понятия не имеют о том, какие из их высказываний являются деструктивными. Они ведут себя как каратели, потому что никто до сих пор не научил их выходить из трудного положения, не атакуя ребенка.
Одна мать рассказала нам вот о каком происшествии.
...
Однажды ее сын Фред, возвратясь из школы домой, стал с порога выкрикивать: «Я ненавижу учительницу! Она наорала на меня в присутствии моих друзей, потому что я якобы отвлекаю весь класс своей болтовней. А потом она наказала меня, заставив стоять в коридоре до конца уроков. Я никогда больше не пойду в школу!»
Ярость сына вывела его мать из себя, и она выпалила первое, что пришло ей в голову: «Тебе прекрасно известно, что правила писаны для всех. Ты не можешь болтать, когда тебе взбредет в голову. А если ты не слушаешь того, что тебе говорят, тебя следует наказать. Надеюсь, полученный урок пойдет тебе на пользу».
Такая реакция матери привела к тому, что Фред разозлился и на нее.
А ведь она, вместо того чтобы сыпать соль на рану сына, могла бы сказать ему следующее: «Какую же неловкость испытываешь, когда тебя заставляют стоять посредине школьного коридора! Действительно, это унизительно, когда на тебя кричат в присутствии друзей! Никому не понравится такое обращение!» И ее симпатический отклик, отражающий расстроенные чувства Фреда, снизил бы накал его ярости и сообщил бы ему, что его понимают и любят.
Родители нередко опасаются, что, сочувствуя расстроенному ребенку и оказывая ему эмоциональную поддержку, они дают ему понять, что принимают сам факт его плохого поведения. Но ведь матери Фреда было известно, что ее сын провинился в школе, где и был уже наказан учительницей. А сейчас, как должна подсказывать ей интуиция, страдающий сын ищет у нее понимания и сердечного сочувствия, и еще один выговор ему ни к чему. Он расстроен и нуждается в эмоциональной помощи.
Эмпатия – способность родителей понимать переживания ребенка – важная, если не сказать главная, составляющая воспитания ребенка.
Недавно владелец магазина электроники, в который я иногда захожу, мне заявил: «Я слышал ваше выступление в телевизионной дискуссии о дисциплине, и я с вами категорически не согласен». Он указал мне свою тяжелую длань и, красуясь, сказал: «Вот мой аргумент в общении с детьми. И вся психология».
Я позволил себе осведомиться, использует ли он тот же брутальный метод, пытаясь починить компьютер, стереосистему или телевизор. «Нет, конечно, – последовал ответ. – Это дело тонкое. Тут без знаний и навыков не обойдешься».
Вот и детям нужны родители, обладающие знаниями и навыками, которые понимают, что метод грубого рукоприкладства не работает не только при починке компьютера, но и в деле воспитания детей, поскольку препятствует достижению поставленных целей. Ни один ребенок, пережив наказание, не говорит себе: «Вот теперь я обязательно исправлюсь. Я буду более ответственным и вменяемым, потому что мне хочется сделать приятное этому взрослому драчуну».
Дисциплинарные методы, как и хирургические, подразумевают точность – никаких случайных надрезов, никаких действий «на авось». Наши поступки зачастую асбурдны и нивелируют наши воспитательные потуги. Вот признание одной женщины.
...
«Я обратила внимание на любопытный парадокс: я часто, общаясь с детьми, демонстрирую то самое поведение, которое раздражает меня в моих детях. Я, требуя прекращения крика, повышаю голос. Применяю силу, чтобы прекратить драку. Я груба с ребенком, который грубит, и я обзываю ребенка, призывая его прекратить обзываться».
Плохое поведение и наказание – вовсе не пара компенсирующих друг друга противовесов. Наоборот, эти качества усиливают друг друга. Наказание не устраняет недовольства. Оно совершенствует мастерство нарушителя нарушать так, чтобы не быть пойманным. Наказание заставляет ребенка быть более осмотрительным, а не более послушным или ответственным.
Родительская неуверенность: какой подход лучше?
В чем заключается разница между принципами, которыми в воспитании детей руководствуемся мы, и теми, которыми руководствовались родители предшествующих поколений? Что бы ни делали наши родители, их отцы и деды, они действовали авторитарно, а мы обычно ни в чем никогда не уверены. Наши родители, и совершая ошибки, действовали уверенно. Мы же, и осуществляя свое несомненное право, продолжаем сомневаться, правильно ли это.
В чем истоки нашей растерянности в отношениях с детьми? Детские психологи просветили нас относительно степени разрушительности последствий несчастливого детства, и мы больше всего на свете боимся испортить жизнь своим детям.
Родительская потребность в детской любви
...
Большинство родителей искренне любят своих детей. При этом важно, чтобы любящие родители не относились к разряду тех, кому необходимо постоянное подтверждение, что их любовь к детям взаимна.
К этому разряду обычно относятся те родители, для которых дети служат оправданием браку или служат единственным смыслом жизни. Из страха лишиться любви ребенка они не решаются хоть в чем-нибудь отказать ему, в результате маленький тиран заправляет всем в доме. Чувствуя родительской голод любви, ребенок эксплуатирует родителей беспощадно. Он уподобляется диктатору, повелевающему рабами.
Он быстро овладевает искусством манипулирования родителями посредством угроз лишения их своей любви. И даже откровенно шантажирует родителей, диктуя им условия: «Я не буду тебя больше любить, если ты…» Трагедия такой ситуации заключается в том, что не родители запугали ребенка, а он родителей. Среди них встречаются и такие, которых по-настоящему впечатляют детские угрозы: они со слезами на глазах молят ребенка о продолжении любви. Они пытаются умиротворить чадо вседозволенностью, что разрушительно и для родителей, и для ребенка.
...
Однажды вечером, после ужина, четырнадцатилетняя Джил попросила у родителей разрешения отправиться к подруге, чтобы вместе с ней поработать над школьным проектом. Когда отец сослался на действующее правило: «Никаких посещений друзей по учебным дням», Джил возразила, что она идет к подруге не для того, чтобы весело провести время, а по делу. Отец уступил, и Джил удалилась, пообещав вернуться домой не позже 22.30.
Джил в условленное время не вернулась, и отец позвонил ей. «Я решила переночевать у подруги», – сообщила ему Джил. Отец взорвался. После злобной перепалки он приказал дочери немедленно вернуться домой. Отец Джил так и не отдал себе отчета в том, что, нарушив установленное им же правило («Никаких посещений друзей по школьным дням»), он тем самым дал понять дочери: если позволительно нарушать правила, обещания тем более можно не соблюдать. На следующий день Джил даже позволила себе хвалиться перед отцом: «Я всегда могу склонить тебя сделать то, чего хочу я. Я могу выпросить у тебя что угодно».
Этот инцидент, повторение многих других озадачил отца Джил. Он ломал голову, пытаясь понять, почему ему проще устанавливать правила, чем требовать их неукоснительного соблюдения. Ему пришлось признать правоту Джил, которой действительно удавалось склонить его к чему угодно. И только уяснив себе, насколько силен его страх быть отвергнутым дочерью, до какой степени ему важна ее любовь, он научился не только говорить дочери «нет», но и выполнять сказанное.
Снисходительность нормальная и чрезмерная
Что же такое снисходительность и когда она оказывается чрезмерной?
...
Снисходительность – это принятие факта, что детям свойственно вести себя по-детски.
Снисходительность выражается фразой «дети как дети»; в понимании нормальности того, что чистая рубашка на ребенке не долго будет чистой; что ребенку свойственно передвигаться бегом, а не шагом; что деревья выросли для того, чтобы на них забираться; а зеркала придуманы для того, чтобы корчить рожи.
Суть снисходительности – в признании ребенка человеком, имеющим конституционное право на многообразие желаний и чувств. Свобода желаний – абсолютна и безгранична. Все мысли и чувства, любые мечты и любые желания допустимы, достойны уважения и могут найти себе приемлемое выражение. Рыба плавает, птица летает, люди чувствуют.
Ребенок не может ничего поделать со своими чувствами, он может лишь контролировать способ их выражения. В силу этого ребенка нельзя призывать к ответственности за испытываемые им чувства, а лишь за поведение. Деструктивное поведение недопустимо; проявления деструктивности требуют вмешательства родителей с целью перенаправить детскую агрессию так, чтобы она нашла себе словесный выход или любое иное образное выражение. Можно, например, рисовать «злые» рисунки, бегать вокруг дома, надиктовывать плохие желания на магнитофонную пленку, сочинять садистские стишки, придумывать страшные и таинственные истории про убийства и т. п. Короче говоря, снисходительность заключается в признании права на символическое выражение , на фантазии, вымысел и действия «понарошку». А вот чрезмерная снисходительность разрешает недопустимое поведение.
...
Снисходительность в допущении любых чувств укрепляет уверенность ребенка в себе и стимулирует его способность выражать свои чувства и мысли. Но чрезмерная родительская снисходительность ведет к нарастанию тревожности у ребенка, и он требует себе все больше привилегий, наделять которыми недопустимо.
Простор для чувств, но не для действий
Основополагающий принцип данного воспитательного метода заключается в четком различении желаний, чувств и действий. Мы вводим ограничения на действия и поступки; для желаний и чувств нет ограничений.
Большинство нарушений дисциплины происходят в два этапа: сначала ощущение гнева, потом – проявление гнева. Каждый этап требует особого подхода. Чувства следует распознать и пережить; для действий следует ввести в определенные рамки и перенаправить их. Порой одна только идентификация чувств ребенка способствует разрядке напряженности ситуации.
...
МАТЬ: Похоже, ты сегодня очень сердит.
РОНЕН: Да, я сердит.
МАТЬ: Ты абсолютно не в своей тарелке.
РОНЕН: Согласен с тобой.
МАТЬ: Ты сердишься на кого-то.
РОНЕН: Да, сержусь. На тебя.
МАТЬ: Может, объяснишь за что?
РОНЕН: Ты не взяла меня на матч Малой лиги, а Стива – взяла.
МАТЬ: И это тебя разозлило. Наверняка ты при этом подумал: «Она любит Стива больше, чем меня».
РОНЕН: Именно так.
МАТЬ: Иногда ты действительно в это веришь?
РОНЕН: Конечно, верю.
МАТЬ: Мой дорогой! Давай договоримся, как только у тебя появятся подобные опасения, тут же подойди ко мне и расскажи мне о них.
Однако в других случаях границы дозволенного должны быть установлены отчетливо.
...
Маргарет (ей четыре года) пришла в голову «светлая» идея отрезать кошке хвост, «чтобы посмотреть, что внутри». Ее отец (отдавая должное исследовательскому любопытству дочери) решительно пресек активность ребенка в выбранном ею направлении. Он сказал примерно следующее: «Понимаю твое любопытство. Но – руки прочь от кошачьего хвоста. Давай мы лучше найдем картинку, демонстрирующую, как устроен хвост».
Когда мать застала пятилетнего Теда за «расписыванием» стен гостиной, она испытала немедленный позыв задать ему трепку. Тед был так перепуган, что у матери просто не поднялась рука его ударить. Она сказала Теду: «Стены не для того, чтобы на них рисовали. Для этого есть бумага. Вот – возьми!» Мать вручила Теду три листка бумаги, а сама принялась вытирать стены. Тед, ошарашенный поведением матери, прошептал: «Я люблю тебя, мамочка!»
Как не похоже подобное материнское поведение на традиционный родительский разнос: «Что ты наделал? Что с тобой происходит? Разве тебе неизвестно, что нельзя пачкать стены? Ты просто не знаешь, что бы еще такое вытворить!»
Дисциплина: поддерживающий и не поддерживающий подходы
Между двумя этими подходами огромная разница. Призывая ребенка к порядку, родители зачастую склонны пресекать лишь нежелательные действия, при этом игнорируя побудительные причины. Наказания, накладываемые в состоянии запальчивости, в пылу «выяснения отношений», как правило, бессмысленны – противоречат логике и оскорбительны. Более того, родительские призывы к порядку приходятся именно на те моменты, когда ребенок не в состоянии воспринимать и слышать, и облекаются в слова, которые вызывают у него желание противодействовать. Обычно (если не всегда) у ребенка в результате родительских тирад создается впечатление, что критике подвергается не только его поведение, а все дело в том, что он и не способен быть хорошим по природе своей.
Поддерживающий подход заключается в желании помочь ребенку не только путем коррекции его поведения, но и с учетом вызвавших его чувств. Родители позволяют ребенку излить свои чувства, лимитируя и направляя его поведение, купируя негативные проявления. И эти ограничения вводят способом, щадящим чувство собственного достоинства (и родительское, и детское) – вовсе не для того, чтобы наказывать или высмеивать, а ради воспитания характера и обучения. Ввод ограничений не сопровождается ни насилием, ни вспышками гнева. Родители с пониманием относятся к возможной негативной реакции ребенка на вводимые запреты.
...
Ребенка не наказывают дополнительно за то, что он высказывает недовольство в связи с родительскими запретами.
Подобные воспитательные меры могут привести к признанию ребенком необходимости прекратить вести себя плохо и улучшить свое поведение. И в этом контексте применяемые родителями дисциплинарные методы действительно способны подвигнуть его к самодисциплине. Идентифицируя себя с родителями и исповедуемыми ими ценностями, ребенок приобретает внутренние устои, требуемые для саморегуляции.
Три поля воспитания: поощряемое, разрешенное и запрещенное
Детям нужны ясные определения того, что разрешено и что запрещено. Они чувствуют себя более защищенными, когда им хорошо известны пределы дозволенного. Нам кажется целесообразным описывать детское поведение по трем направлениям:
Первое направление представляет собой одобряемое и санкционированное поведение , которое родители приветствуют от всей души.
Ко второй разновидности относится поведение хоть и не вполне приемлемое, но терпимое в силу определенных соображений.
Такими соображениями могут быть следующие.
1. Желание поощрить исследовательский опыт новичка. Неопытному водителю со свежими правами не вчиняется штаф, когда он включает сигнал правого поворота, а поворачивает налево. Подобные ошибки прощают в расчете на будущие успехи, после полного освоения навыков вождения.
2. Поблажка в связи с особыми обстоятельствами. Определенные стрессовые ситуации – несчастные случаи, болезни, переезд на новую квартиру, расставание с друзьями, смерти или разводы – требуют особого снисхождения. Вы уступаете, поскольку обстоятельства были особыми, но при этом даете понять, что вас не устраивает подобное поведение, поясняете, что ваше терпение объясняется чрезвычайностью обстоятельств.К третьему направлению относятся образчики поведения, нетерпимые никогда и ни при каких обстоятельствах, и такое поведение следует прекратить. Речь идет о выходках, угрожающих здоровью и подрывающих благосостояние семьи. Сюда также относится поведение, неприемлемое с точки зрения закона, этики или порицаемое обществом. Важно уметь запрещать (третье направление) так же активно, как и разрешать (первое направление).
Одна девочка считала своего отца тряпкой, потому что у того не получалось запретить ей приходить домой, когда ей заблагорассудится. Один мальчик потерял уважение к своим родителям, поскольку те не смогли унять разошедшихся приятелей сына, которые буквально разнесли его комнату.
Малолетним детям трудно самостоятельно противодействовать собственным импульсам недопустимого поведения. Родители должны быть союзниками ребенка в его борьбе по обузданию подобных импульсов. Проводя черту, родители тем самым протягивают ребенку руку помощи. Дело не только в том, чтобы прекратить нежелательное поведение. Вводя запреты, родители тем самым дают ребенку понять: «Не нужно бояться себя и своих опасных импульсов. Я не позволю тебе зайти слишком далеко. Вот здесь наверняка безопасно».Как устанавливать пределы
В деле проведения границ – как и в случае любой другой образовательной инициативы – конечный результат зависит от самого этого процесса. Запрет должен быть так сформулирован, чтобы ребенок мог четко понять: а) что именно неприемлемо в недозволенном поведении; б) каковы приемлемые варианты. Например. Нельзя бросаться тарелками, но можно бросаться подушками. Или: тарелки – не для того, чтобы ими бросаться, для этого есть подушки. Твой брат не для того, чтобы его толкать; для этого подойдет самокат.
Лучше, чтобы запрет был полным, а не частичным. Существует четкая разница, скажем, между «брызгать водой» и «обрызгать водой сестру». Запрет, который звучит туманно, например так: «Ты можешь ее слегка обрызгать, но так, чтобы не слишком ее замочить», – провоцирует потоп неприятностей. Столь расплывчатая формулировка не предоставляет ребенку возможностей для ясного принятия решения. Запрет дожен быть запретом. Он должен сообщать ребенку: «Это категорический запрет. Я не шучу».
...
Продолжить чтение
