Читать онлайн Мы, наши дети и внуки. Том 2. Так мы жили бесплатно
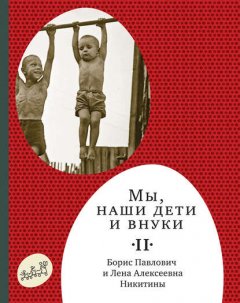
Любое использование текста и иллюстраций разрешено только с письменного согласия издательства.
© Б. П. и Л. А. Никитины, текст, 1989
© Б. П. Никитин, фотографии, 1963
© Я. Позина, оформление, 2014
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательский дом «Самокат», 2015
© ООО «Издательский дом Самокат», 2015
© Защита прав и интересов ИД «Самокат»: ООО «Юридическое агентство «Копирайт» www.juragent.ru
* * *
Нашим папе и маме
Домашние дети и школа жизни
(от редактора)
Семья Никитиных была одновременно и новаторской, и патриархальной: несколько поколений под одной крышей, тесные родственные связи, семейные традиции.
«В этом доме вроде бы можно всё. Привязать раскладушку к самому потолку и раскачиваться на ней, играя в космический полет. Устраивать взрывы в химической лаборатории. Но, как в старых крестьянских семьях, слово матери здесь закон для всех. И когда папа работает, ему не положено мешать». В. Хилтунен (Культура и жизнь. № 7. 1979).
Чтение на ночь вслух, совместные праздники, сама атмосфера – все это сформировало детей по-особому. Ни яслей, ни сада в их жизни не было. Благодаря уникальной системе раннего развития они были подготовлены к школе гораздо лучше сверстников.
Однако тут их ждало испытание. Привычный домашний мир сильно отличался от «естественной среды». Они ощущали себя «белыми воронами» и переживали это болезненно.
Никитиных упрекали в том, что они не социализировали своих детей. Но что это означало – «социализировать»?
Условия, которые поначалу предлагала им жизнь, были близки к экстремальным. Щитовой домик без удобств, с колонкой на улице и печным отоплением; минимальная помощь со стороны государства; низкие зарплаты и нехватка времени. В подобных обстоятельствах большинство родителей вынуждены были своих детей «пристраивать» в ясли и сады. Никитины этого не сделали. Между тем в садах готовили к школе, где главным инструментом воспитания был октябрятско-пионерско-комсомольский конвейер, с приоритетом общественного над личным, подавлением инициативы, вниманием к формальной стороне в ущерб содержанию и т. д. В целом это воспитывало такие качества личности, как приспособленчество, психология двойных стандартов, низкая эмпатия и др. Вспомним школьников из фильма по книге В. Железникова «Чучело»: «Мы детки в клетке – вот мы кто!» Разумеется, везде и всегда попадались прекрасные педагоги. Но их усилия тонули в общих тенденциях сложившейся системы нивелировки, усреднения и подмены ориентиров.
А Борис Павлович и Лена Алексеевна с младенчества приучали своих детей к самостоятельности мышления и поступка, поощряли инициативность и самобытность: свойства, которые как раз нежелательно демонстрировать в среде, где главное – «не высовываться», а выражение «слишком умный» несет негативную нагрузку.
Модели поведения и коммуникации, к которым дети Никитиных привыкли дома, в школе не всегда работали. Для того чтобы «социализировать» их по принятым образцам, им надо было с детства прививать совсем другие ценности. Родители просто не «задубили им шкуру» в достаточной мере.
Прочитав эту книгу, вы сами попробуете решить: правы ли были они?
Об опыте Никитиных
Предисловие академика Николая Амосова к книге «Мы и наши дети», 1979 год
Н. М. Амосов (1913–2002) – кардиолог, хирург, академик АН УССР, новатор в области медицины. Одних из тех, кто с сочувствием отнесся к идеям Никитиных и помог им своим заступничеством.
На протяжении ряда лет супруги Никитины привлекают внимание людей, интересующихся воспитанием. Они не только высказали идеи о значении ранней тренировки ума и тела, но и провели их в жизнь в своей многодетной семье. Их публикации в широкой прессе лет этак двадцать назад о первых двух детях вызвали целую бурю. Высказывались сомнения и даже возмущение. Приезжали комиссии медиков и педагогов. Одни утверждали, что Никитины калечат детей, что метод нужно осудить. Другие, наоборот, восхищались и рекомендовали широкое распространение их системы воспитания. А между тем шли годы, росла семья, росли дети. И Никитины продолжали воспитывать их в том же духе, ничуть не разочаровываясь в результатах. Опыт накапливался, замалчивать его стало трудно. Снова появились робкие публикации.
Вопросы воспитания интересуют меня давно, и не только в теоретическом, но и в практическом плане: насколько вообще воспитуем человек, в какие сроки, ценой каких усилий, каково значение наследственности? Уникальный опыт Никитиных имеет прямое отношение к проблеме формирования личности. Именно поэтому я поехал к ним в Болшево, чтобы самому посмотреть ребят. Оказалось, что всё – правда.
Был конец октября, падал снежок, Борис Павлович встретил меня на перроне вокзала с несколькими ребятами. Одеты они были по-летнему, но не выглядели озябшими. Я пробыл в гостях день и выяснил все, что хотел. Конечно, за это время нельзя проникнуть в душу ребят, но впечатление осталось.
Прежде всего я посмотрел детей по-врачебному: все они оказались очень тощими, очень сильными и, несомненно, здоровыми. Врачи, которые их «браковали» раньше, привыкли оценивать меру здоровья по толщине подкожной жировой клетчатки, а не по «резервам мощности» сердца, легких, мускулатуры. С резервами ловкости и силы было более чем благополучно – не мальчишки, а юные Тарзаны.
Второе впечатление: свобода, самостоятельность и независимость личности. В семье нет даже тени муштры, строгого режима, расписания. Да и как его провести, когда семеро детей и родители работают, когда, кроме того, бюджет составлял в то время около тридцати рублей на члена семьи в месяц. Во всем чувствовался коллектив, одна семья в самом высоком значении слова. Конечно, я не мог выяснить особенностей личности каждого из детей, их взглядов, убеждений, но одно приятно поражало: шкала моральных ценностей начиналась не с вещей и престижа, а с труда, доброты и сопереживания близким и товарищам.
Наиболее спорным является вопрос о развитии интеллекта. Скажу прямо, я не нашел в семье юных интеллектуалов и эрудитов. Я увидел очень сообразительных «решателей проблем» со свободным и изобретательным мышлением, с хорошо развитым языком. Да, они обгоняли своих сверстников по школьным программам кто на два, а кто на четыре года. Я видел их школьные тетради, дневники, пытался вникнуть в трудности их отношений с учителями. Увы, многие учителя, как и врачи, мыслят слишком шаблонно, чтобы оценить этих необычных ребятишек. Не все меня убедило в части школьных занятий: так ли уж необходимо кончать школу в двенадцать лет, но несомненно, что для таких ребят нужны особые программы, иначе мозг детренируется на «манной каше» рутинной школьной программы, рассчитанной на сугубо средних учеников. Однако перескакивание через класс далеко не так безобидно и связано с психологическими опасностями, которые еще требуется уяснить.
Борис Павлович выдвинул закон, вернее, явление, которое он называет НУВЭРСом[1] и которое касается развития умственных способностей. Его идея выглядит очень заманчивой: по его взглядам, всех людей можно сделать очень умными, если их очень рано и не так, как сейчас принято, а целенаправленно начать обучать.
Никитин не одинок в вопросе высокой эффективности раннего обучения. Имеется большая литература, с которой я более или менее знаком. Но несомненно, что уровень интеллекта ребенка можно повысить путем раннего обучения. Энтузиасты утверждают, что, занимаясь в дошкольном периоде, можно всех детей приблизить к уровню отличников или хотя бы «хорошистов». Видимо, так и есть. Но превратятся ли школьные отличники в талантливых специалистов – вот это еще не доказано. Нет достаточных материалов. Возможно, что гены влияют на «пределы интеллекта» и даже раннее обучение не может существенно повысить эти пределы, – не знаю. Но все равно я убежден, что правильно поставленная работа с дошкольниками может существенно повысить интеллектуальный потенциал целого народа.
Образование – это тренировка ума, воспитание – это формирование чувств и убеждений, движущих поведением человека. Именно они определяют гражданина. Трудно сказать, что важнее: воспитание или образование, но ясно, что эти факторы связаны. Образование само по себе не создает благородного человека, но повышает возможность привить идеал, поскольку расширяет воспитательные каналы, через которые действуют искусство и наука.
Система воспитания в семье Никитиных построена на прививании чувства солидарности и любви к труду, что является, видимо, главным условием формирования нравственности, и в этом отношении значение опыта Никитиных в воспитательном плане исключительно велико.
Книга Никитиных дает представление не только о методике их занятий с детьми, о физическом развитии детей и укреплении их здоровья, но и об отношениях в семье, о способах социализации детей. Авторы не скрывают своих трудностей и ошибок, рассказывают о путях их преодоления. Книга в целом не носит характера нравоучения и назидания, авторы не призывают делать так, как делают они, но именно это заставляет читателя соотносить их опыт со своим, размышлять, анализировать. Это полезно не только родителям, но и специалистам, занимающимся теорией и практикой воспитания.
Часть первая
Так мы жили. «Мы и наши дети», 1979 год
Наша семья
В каждой семье есть свои особенности, обычаи, традиции, свой уклад жизни. И у нас он свой.
Это обнаруживается прямо с порога: в тесноватой прихожей целая стена занята одной обувью. Немудрено: у нас трое взрослых, семеро детей.
Направо большая светлая комната, но что тут творится! Верстаки и инструменты всех размеров, лаки, краски, химические реактивы, моторы, машины, проволока, фанера, уйма разных железок, деревяшек. На стенах свободного места нет, даже с потолка свешиваются какие-то, разумеется, очень нужные вещи. Иногда не выдерживаешь, в сердцах скажешь своим «мастерам»: «Дождетесь – половину выкинем на свалку, ведь скоро пройти невозможно будет!» Но, поостынув, рассмеешься: дело житейское – на то, в конце концов, и мастерская.
Кухня, она же столовая, соединена большим проемом с соседней комнатой, в которой много книг, магнитофон, радиола, полки с рукоделием, стол, заваленный рукописями и письмами. Здесь у нас что-то вроде кают-компании. При «камбузе» она находится потому, что здесь чаще всего бывает мама. Здесь решаются сообща все семейные проблемы, и здесь засиживаемся допоздна с разговорами, которые никак нельзя отложить на завтра.
А в нашей спортивной комнате надо быть осторожнее: с каната из-под потолка кто-нибудь может спрыгнуть. На кольцах можно раскачиваться от стены до стены, а на матраце – кувыркаться сколько хочешь. Два турника, лесенка, гири, обручи, мешочки с галькой, целый угол деревянных кирпичей и несколько полок с куклами, игрушечными зверятами, конструкторами, играми. А над дверью из каркаса старой раскладушки сделано «гнездышко», куда набиваются не только наши «птенцы», но и соседские. Полстены внизу – коричневый линолеум, а по нему мелом – рожицы, солнышко, цветы и разные каляки-закаляки – всё, что подскажут желание и фантазия.
В «кунацкой» – так мы называем гостиную (от кавказского «кунак» – друг) – телевизор, пианино, круглый стол, низкие кресла, полки с книгами. Ничего необычного, кажется, здесь нет. Но поролоновые подушки с кресел могут перекочевать вместе со стульями в «спортивную» в качестве строительного материала для «дворцов», «космических кораблей» и прочих сооружений. Тут же собраны наши «развивающие игры» – предмет особых папиных забот. Они находятся здесь, потому что наши многочисленные гости очень интересуются ими: срисовывают, копируют, осваивают их методику, а потом увлекаются и просто начинают тут же играть со своими малышами.
Спальни у нас наверху, в трех маленьких комнатках мансарды. Тут же полки для белья, шкаф, столик для швейной машины, где, конечно, всегда лежит что-то недошитое, недочиненное, недоглаженное…
Из «спортивной» дверь в комнату дедушки – единственную комнату, неприкосновенную для ребят. Только самая младшая, шестилетняя Любаша, там частый гость – она дедушкина любимица. А остальные кто где: кто сидит, уткнувшись в книгу, кто делает что-то в мастерской, кто домывает посуду в кухне, кто пытается освоить новое упражнение на кольцах. Бывает, в игре собираются все вместе. Тогда дом ходит ходуном от топота, смеха, шума и крика: ничего не поделаешь – бывают и конфликты, которые не всегда удается разрешить мирным путем.
Но если вместе сядем у телевизора, получается маленький зрительный зал с партером, амфитеатром и даже ложей – это кто-нибудь из малышей устраивается к папе или маме на колени. В доме тишина. И как хорошо смотрится и переживается вместе!
Предсказания не сбываются
Было время, когда нас пугали: дети ваши «из болезней не будут вылезать», и «руки-ноги они обязательно себе переломают», и «в школе им будет трудно учиться», и «вырастут они недисциплинированными», и «на шею вам скоро сядут», и т. д., и т. п. И всё из-за того, что слишком уж странными, непривычными казались многим наши методы воспитания, наш образ жизни.
Зачем все эти спортснаряды и таблицы в комнате? Зачем читать в три года? Зачем босиком по снегу? Зачем все эти фокусы? Вы искалечите детям жизнь!
Шли годы, дети подрастали один за другим, а страшные прогнозы не сбывались. Болели они редко, простуды им вовсе были не страшны, а инфекционные болезни они переносили легко, чаще всего без лечебных процедур и лекарств. Годам к трем они становились крепкими, сильными и ловкими, даже разбитого носа мы у них не видели, а вывихов или переломов ни у кого из них не было ни разу за все восемнадцать прошедших лет.
И в школе им учиться совсем не трудно: за домашними заданиями не засиживаются, а учатся в основном на «четыре» и «пять». Школу кончают раньше срока на год-два-три – «перескакивая» через классы. И никаких хлопот не доставляют нам с поступлением в средние или высшие учебные заведения: ни особых условий, ни протекций, ни репетиторов, как и должно быть.
От работы не бегут: старший уже в 14 лет летом работал почтальоном, а в 16 лет был принят на должность техника в лабораторию и проработал два года, получив перед поступлением в институт четвертый разряд регулировщика радиоэлектронной аппаратуры. И чем старше становятся наши ребята, тем чаще мы слышим похвалы в их адрес: «Хорошие у вас помощники растут». Да, косые взгляды сменяются теперь доброжелательными улыбками, а недоумение и раздражение – интересом. Письма, гости, встречи, лекции – и уйма самых разных вопросов и просьб:
– Расскажите, как и чем вы занимаетесь с детьми… Покажите свои игры, учебные пособия, мастерскую, спортивные снаряды… Напишите о том, как вы обращаетесь с новорожденным… Пожалуйста, о закаливании!.. И о своих ошибках не забудьте, чтобы их не повторить нам…
И, среди других, обязательный вопрос:
– А откуда вы все это взяли? Как не побоялись воспитывать детей так необычно?
Как мы начинали
Иногда считают, что мы всё обдумали заранее, наметили, так сказать, план действий, а потом уж стали его осуществлять в жизни. Ну и наделали бы мы беды, если бы так случилось, – мало ли ломается ребячьих судеб из-за тщеславных замыслов их родителей и педантичного проведения их в жизнь. Да, многое в нашей жизни сложилось иначе, чем у других, и все это не само собой, а по нашей доброй воле, и тоже, конечно, не без тайных надежд на это самое-самое… – кто из родителей этим не переболел?! Но никаких заранее намеченных планов у нас и быть не могло по той простой причине, что мы оба о дошкольном детстве представление имели довольно примитивное, а о младенческом возрасте вообще ничего почти не знали.
Мы, конечно, могли обложиться учебниками, популярными брошюрами, учеными трудами и, проштудировав их, отобрать, наметить и т. д. Но тогда, к счастью, это оказалось нам не под силу: загруженность работой, неблагоустроенное жилье, бытовые заботы отнимали все время. Мы добрались до книг всерьез лишь тогда, когда у нас было уже двое сыновей, четыре или пять исписанных толстых тетрадей с результатами наблюдений за ними и уйма самых житейских, а не теоретических проблем.
Признаемся и еще в одном нашем «грехе»: мы сами по себе люди не очень организованные и к планам тяготения не испытываем. И в данном случае это оказалось полезным: нам не понадобилось подгонять жизнь под свои намерения и установки. Так мы убереглись от одной крайности в воспитательном деле – излишне жесткого руководства этим сложным и тонким процессом. А другая крайность – равнодушие – нам не грозила: мы оба задолго до знакомства друг с другом увлекались проблемами воспитания. Мы и встретились-то (вот судьба!) на совещании, посвященном «Программе воспитательной работы в школе». Случай усадил нас рядом, но разговорились мы уже не случайно: оба жили учениками, школой и ее многочисленными бедами, оба мечтали о преобразованиях в школьном деле, много думали об этом. Мы начинали свою семейную жизнь единомышленниками – это и послужило основой для всего, что было дальше. Конечно, впрямую школьные проблемы с заботами о новорожденном не связывались. Это лишь потом мы обнаружили между ними самую тесную связь, а тогда и не догадывались об этом. Зато твердо знали, что в школу дети уже приходят очень разные по уровню развития и от этого зависит их дальнейшая школьная жизнь. Значит, много надо сделать до школы. Но не с пеленок же начинать!
Когда родился наш первенец, мы просто радовались ему и любили каждую свободную минутку быть с ним: играть, разговаривать, смотреть на него и удивляться всему. Он чихнул! Он нахмурился! Он улыбнулся! Кому из родителей не знакомо это ощущение чуда, имя которому – Мой Ребенок!
Но вскоре к этой родительской радости прибавилось любопытство. Почему он плачет по-разному? Почему он напружинивается, когда берешь его прохладными руками? Почему он сопротивляется надеванию чепчиков? И так далее, и тому подобное… А сынишка рос, и вопросов этих всё прибавлялось. Мы стали записывать свои наблюдения и одновременно предоставляли малышу все больше свободы действий, дали ему возможность самому определять, например, сколько ему есть, когда спать, как долго гулять, – словом, во многом доверились природе. И наблюдали и записывали всё, что казалось нам наиболее интересным. А потом сопоставляли записанное с тем, что к тому времени удалось уже прочитать, и обнаруживали интереснейшие вещи: малыш, оказывается, мог гораздо больше, чем об этом было написано в популярной литературе.
Это поразило нас и вызвало еще больший интерес к сынишке. А когда родился еще сын, мы с самого начала пробовали обращаться с ним так, как научил нас его старший братик: давали ему пальцы, чтобы он мог уцепиться за них своими крошечными пальчиками, и в первую же неделю он мог висеть на них несколько секунд. С первого месяца стали его держать над горшочком, избавили его от всяких платков и чепчиков и разрешили ему лежать голеньким сколько захочет.
Споры, ссоры…
Первыми, кто был возмущен таким «варварским» отношением к ребенку, были, конечно, наши бабушки, которые тогда жили вместе с нами и просто видеть спокойно не могли голого младенца. Но мы не уступали их натиску. Малыши были веселы, спокойны, энергичны, не болели, легче переносили диатез, и мы настаивали на своем. А на нас уже косо стали посматривать соседи. Прохожие на улицах, когда мы шли с непривычно легко одетыми малышами, осуждающе бросали нам в спину:
– Сами-то в шубах, а детей заморозить хотите?
Пришлось нам подравниваться под малышей, мы стали одеваться тоже полегче, но реплик от этого не убавилось:
– Смотри-ка, ребенок едва поспевает, бежит за ним, а отец хоть бы шаг поубавил.
– Ушки, ушки-то ему прикройте – застудите!
– Что же ты, мать, ему головку-то не прикроешь – напечет ведь.
Мы же твердо придерживались правила: считаться только с самочувствием малыша и в своих действиях исходить прежде всего из этого. Вот здесь мы и допустили первую серьезную ошибку: внимательно наблюдая за детьми, мы не всегда обращали внимание на самочувствие окружающих и, конечно, были за это наказаны градом новых замечаний, наставлений, упреков.
А ребятишки тем временем росли. Кто-то из знакомых подарил полуторагодовалому Алеше кубики с буквами. Ну, буквы-то ему еще ни к чему, подумали мы, но кубиков у сына не отобрали. И были немало удивлены, когда обнаружили месяца через три, что Алеша-то наш уже узнает с десяток букв. К двум годам он уже знал чуть ли не весь алфавит, а в два года восемь месяцев прочитал первое слово.
Для самого Алеши это было как будто так и надо, но для нас стало целым открытием: так вот уже когда человек может читать! А как же в остальном? Так начались наши пробы не только с обучением грамоте, но и с физическим развитием малышей, с овладением различными движениями и даже с укреплением их здоровья. Это были чаще всего чисто интуитивные попытки разобраться в возможностях малыша. Мы ведь не знали, что ему по силам, что уже можно, а чего нельзя, и пробовали осторожно, играя. Никакого давления, никакого обязательного урока, но и не сдерживали, если ему самому хочется. Удалось что-то малышу – мы рады, не получилось – значит, пока отложим.
Мы жили тогда в небольшом щитовом домике, сами его оборудовали, сами топили печи, ходили к колонке за водой и делали массу других хозяйственных дел. А дети были рядом. Вот Алеша видит, что папа забивает гвозди, и он требует себе молоток. Мама подметает пол – он тянется к щетке или венику. Вот тут-то мы, кажется, сделали еще один правильный шаг: впустили детей в мир взрослых хлопот и занятий, постарались дать им большой простор для собственной их деятельности.
Мы не только обзавелись маленькими молотками, пилами, топориком, веничком и многими другими инструментами, но и дали возможность малышам самостоятельно постигать свойства вещей и явлений. Даже опасные вещи (спички, булавки, иголки, ножницы и т. п.) мы не прятали, а знакомили детей с ними. Малыши рано узнали, что утюг горячий, иголка острая, спички могут обжечь, а нож – порезать пальчик. Сначала нами руководило лишь желание, чтобы занятый делом малыш не лез на руки, не приставал, не мешал работать, но при этом сам был бы осторожен – ведь следить за детьми, не спуская глаз, нам было совершенно некогда, мы оба работали. И только значительно позже мы поняли, какие большие возможности для развития получают дети при таком самостоятельном исследовании окружающего мира.
Со временем у Алеши и Антона появились целые наборы столярных и слесарных инструментов, конструкторы металлические и деревянные, пластилин и бумага, проволока и гвозди. Так же естественно вошли в мир малышей буквы на кубиках и буквы на картонках, азбука на стене и касса букв, карандаши и бумага. Алеша с Антоном не только строили поезда и башни из кубиков, но и свободно плавали в этом «азбучно-цифровом» море, писали буквы и не подозревали, что это «абстракции». И мы не делали разницы между вещами, числами и буквами и просили: принеси ТРИ ложки, найди ДВЕ буквы М, разрежь яблоко на ЧЕТЫРЕ части…
Азбука и счет, опущенные с высот «возрастной недоступности» и вошедшие в ребячью жизнь наравне с игрушками и инструментами, оказалось, усваиваются столь же легко и просто, без всяких уроков, как слова «ложка», «хлеб», «дай» и «молоко». В самом деле, что такое три десятка букв и цифры среди многих сотен слов, которые малыши узнают в первые два года жизни?!
Но снова мы слышали:
– Что вы делаете? Нельзя до школы обучать грамоте, ведь вы не знаете методики, вы не специалисты, вы изуродуете детей!
Трудное наше счастье
Вот так, в спорах, мы начинали… Сначала мы воевали с бабушками и соседями, потом спор вышел на страницы печати. «Правы ли мы?» – спрашивали мы в своей книжке, газетной статье, фильме. Многие с нами не соглашались: «Нет, они не правы! Раннее развитие опасно! Раннее развитие вредно!»
А мы, глядя на веселых, подвижных, всегда чем-то увлеченных наших малышей, недоумевали: «Почему опасно? Почему вредно?» – и погружались в изучение книг, брошюр, статей – всего, где можно было добыть сведения об этом страшном раннем развитии.
Мы узнали, что еще в начале нашего века у Марии Монтессори дети (причем дети умственно отсталые) к пяти годам не только читали, но и каллиграфически писали, что в Японии есть школа для одаренных детей и принимают туда четырехлетних ребятишек, что в Филадельфии существует институт по исследованию человеческого потенциала, где сделали вывод: «правильный» возраст, в каком следует учить ребенка читать, – это полтора-два года. Петра Первого дьяк Никита стал учить грамоте примерно в три года. Мария Кюри была на два года моложе своих подружек в гимназии, Н. В. Гоголь в три года писал слова, а в пять пробовал сочинять стихи. В дореволюционной России во многих интеллигентных семьях дети к четырем-пяти годам уже читали.
Вся семья в нашей «кунацкой». 1976 год
Все это поддерживало нас в наших поисках. Но главным подтверждением правильности выбранного пути были наши дети. Они поражали нас своими возможностями. Мы не поспевали за их развитием, мы постоянно ошибались в своих прогнозах. Это было удивительно! И это заставило нас увязнуть в проблеме раннего развития всерьез.
За восемнадцать лет мы заметно отклонились от традиционных сроков начала развития детей, но теперь мы слышали новые возражения:
– Ну хорошо, действительно, дети могут развиваться намного быстрее, но нужно ли это, не лишаете ли вы своих детей счастливого, беззаботного детства?
Так говорят и думают многие, пока… не побывают у нас в гостях. А когда увидят все своими глазами, поговорят и поиграют с нашими ребятами, да еще и привезут своих малышей в наш «детский сад», а потом никак не могут их вытащить домой, – вот тогда, расставаясь с нами, признаются:
– Счастливые у вас дети…
А иные вздыхают:
– Счастливые вы родители…
А мы и не отказываемся. Действительно счастливые. Только счастье наше не само по себе к нам пришло. Нет, не само…
Вот мы и решили написать обо всем, что узнали сами, с единственной целью: может быть, наш опыт поможет кому-нибудь стать счастливее.
В своем рассказе мы постарались учесть те вопросы, которые нам чаще всего задают в письмах, на встречах, во время посещения нашего дома. Когда слышат, что мы оба работали, детей в ясли и садик не отдавали, няни у нас никогда не было, а бабушки живут отдельно, нам непременно задают один и тот же вопрос:
– Как вы успеваете? Откуда берете время на воспитание? Тут с одним не знаем, как управиться, а у вас семеро.
Ответом на этот вопрос служит вся наша книга. Мы расскажем вам, на что мы тратим время, а на что не тратим, за счет чего экономим, а на что не жалеем ни минут, ни часов, ни дней, ни целых лет.
И, так же как в беседах мы, конечно, говорим не хором, а по очереди, так и здесь каждый из нас будет рассказывать о том, в чем он больший «специалист». А в случае надобности будем комментировать или дополнять друг друга и даже иногда можем поспорить, как это бывает у нас и в жизни.
Главная забота – здоровье
Лена Алексеевна: Поскольку основная доля хлопот и забот в первое время выпадает, естественно, на долю матери, мне и придется начать…
Первый час, первый день
Что говорить о первом часе жизни новорожденного? И он, и мать в родильном доме: опытные врачи, акушерки, медицинские сестры, прекрасное оборудование, заботливый уход – всё, что нужно для того, чтобы принять нового человека в жизнь и обеспечить матери полноценный отдых. И все-таки начну я свой рассказ не с возвращения из родильного дома, а с прихода туда.
Шесть раз это было как обычно: мы прощались у дверей в приемную, обменивались последними тревожными, но подбадривающими взглядами, и отец, естественно, возвращался домой, а я вручала свою обменную карту, отвечала на вопросы врача, ну и так далее…
А вот седьмой раз получилось иначе. Мы пришли к заведующей отделением вместе. Она удивленно посмотрела на нас.
– Мы хотим попросить вас… – нерешительно начала я, – дать мне кормить ребенка в первые часы после рождения.
– Что за странная просьба? – еще больше удивилась заведующая. – Когда надо, тогда и дадим!
И тогда мы рассказали ей о том, что у всех наших шестерых детей был очень сильный диатез и мы, родители, уже смирились с этим, думая, что передаем диатез по наследству. Но о нашей беде узнал известный ученый, профессор Илья Аркадьевич Аршавский[2], и настоятельно рекомендовал: в качестве профилактического средства против диатеза как можно раньше приложить ребенка к груди, чтобы он высосал те капли молозива, которые есть только у родной матери.
– Мы не знаем, будет ли толк, но все-таки решились последовать совету Ильи Аркадьевича. А вдруг поможет? И вот просим вас…
– Ну хорошо, – согласилась заведующая. – Тем более что в этом нет ничего противоестественного, – добавила она.
Любочку принесли для первого кормления часа через два после рождения… И что же? Дочка росла, пошла уже в школу, и все это время мы не нарадуемся на нее – никаких следов диатеза!
Если бы мы узнали об этом раньше, скольких неприятностей могли бы избежать. Диатез болезнью не считается, но мучений от него и ребенку, и родителям бывает много. Уже у пятимесячного малыша появляются мокнущие прыщики, а потом и болячки на личике, под коленками, в сгибах локтей и ягодиц. В тепле они нестерпимо зудят, малыш их расчесывает иногда до крови, плачет, капризничает. И это тянется год и дольше, и ни лекарства, ни диета не дают стойкого результата. Наступает временное улучшение, а потом вдруг опять хуже прежнего.
И вот от всего этого мы избавились, и к тому же так просто! Могли ли мы предполагать, что первые часы жизни человека так сильно могут повлиять на его дальнейшее развитие? Конечно, не могли, как не знали и многого другого.
Мы начинали точно так же, как начинают многие родители: с нервотрепки по поводу того, что у меня не хватает молока, с гор грязных пеленок, с бессонных ночей и изнурительных попыток установить «ночной перерыв в кормлении», с тщетных и столь же безрезультатных стараний излечить сынишку от диатеза и массы подобных проблем, которые наваливаются на родителей с рождением первого ребенка. После всего этого редко отваживаются даже на второго. Сколько раз я слышала от матерей: «Чтобы еще раз все это повторилось?! Ни за что!»
А если прибавить бесконечные детские болезни, постоянную прикованность к дому, отчуждение (вместо помощи!) супруга… Ни за что!
Точно так же сказала бы и я сама, если бы не наша помощь друг другу и не тот огромный интерес у нас обоих к развитию малышей, который постепенно помог нам пересмотреть кое-какие установившиеся традиции и намного облегчить кропотливый труд по уходу за младенцем. Вот, допустим…
Проблема пеленок
Эта проблема, так пугающая иногда молодых родителей, может быть разрешена по-разному. Одни убеждены, что это, конечно, мамина обязанность. Другие считают, что стирать должен отец (у матери и других хлопот хватает). Третьи стирают по очереди (равноправие!). Есть и такие, которые взваливают эту работу на бабушку. Лишь немногим удается совсем избавиться от стирки с помощью службы быта. Возможно, последний способ понемногу вытеснит все остальные, но пока это дело не очень близкого будущего. Поэтому «до восьми месяцев смиритесь со стиркой пеленок» – так сказано в руководстве по уходу за ребенком.
Вначале и мы не были, разумеется, исключением: смирялись. Кто имел с этим дело, тот знает, каково это – стирать, кипятить, сушить и гладить с двух сторон 30–40 пеленок каждый день. Но однажды, когда мой тогда полуторамесячный сынишка проснулся сухим, я подумала: «Зачем ждать, пока он пеленки намочит? А если попробовать его подержать?»
Села на краешек дивана, положила малыша себе на колени и подхватила его под коленочки. Через несколько секунд на полу рядом с диваном была лужица. Но ведь можно что-нибудь и подставить – так у нас появился специальный тазик (обычный горшок не годится – мимо получается). Сначала я держала малыша над тазиком, если он проснулся сухим или минут через пять-десять после кормления, а потом научилась узнавать, когда ему «надо». Жаль, что не всегда в это время бываешь с ним рядом, но если есть возможность последить, то можно вообще обойтись без мокрых, а тем более грязных пеленок.
Здесь интересна такая «деталь»: когда держишь малыша над тазиком «по-большому», он чаще всего это делает в несколько приемов, не сразу, и надо дождаться, пока он в конце концов не сделает немножко и «по-маленькому». Это означает, что теперь-то уже все кончено: можно его подмыть и без опасения класть на чистые пеленки.
Конечно, порой приходится проявить терпение и настойчивость. Иногда малыш упрямится и не желает делать что полагается: выгибается дугой, может даже заплакать. Чаще всего это бывает ночью или сразу после сна. В таких случаях помогало простое средство: если малышу дать немного попить из бутылки или просто пососать пустышку, он как будто переключается на другое и перестает упрямиться. О физиологическом механизме этого явления мы узнали совсем недавно, но пользовались этим способом довольно часто. Мы, правда, преследовали другие цели, когда давали соску ребенку (чтоб не шумел, другим спать не мешал), а польза получалась двойная.
Так уже в первые недели у нас бывали целые дни без стирки, и это стало не только большим облегчением для меня, но, главное, оказалось очень полезным для младенца: он не подмокает, кожица остается постоянно сухой, даже подмывать его приходится очень редко.
Позже, когда малыш начинает ползать и ходить, он не всегда помнит о том, что надо попроситься. Видимо, слишком много отвлекающих моментов у него в это время появляется в жизни: столько интересных вещей кругом, столько дел! Мы сначала не понимали этого и расстраивались: ну вот, всё забыл. Оказывается, нет, не забыл, просто теперь ему, что называется, не до того. Мы старались замечать по поведению малыша или по пройденному времени, когда ему следует посидеть на горшочке, и старались предотвратить «беду». И очень радовались, когда все получалось как надо, не скупились на похвалу. Если же «беда» все-таки приключалась, мы, уж конечно, старались обходиться без криков и шлепков. Постепенно все приходило в норму. Таким образом, и мокрые штанишки особой проблемой для нас не становились, и совершенно исключалась большая неприятность, которая мучает иногда ребятишек годами, – ночное недержание мочи.
Малышу уже в первый месяц так не нравится быть мокрым, что он просыпается и может заплакать даже на улице, когда лежит завернутый в коляске. Привезешь его домой, развернешь, а на пеленке крохотное мокрое пятнышко. Это он начал и… испугался, что мокро получается. Зато теперь над тазиком он весь свой запас выльет без задержки.
Когда мы рассказываем об этом, нам не верят, а когда удостоверятся, спрашивают: «Ему не больно, не вредно?» И нам теперь только смешно: неужели в луже лежать лучше и полезнее, чем у мамы на коленях? И неужели человеческое дитя глупее котят или щенят, которых с первых дней можно приучить к порядку? Теперь я так научилась понимать малыша, что уже в родильном доме могла сказать, когда его надо «подержать над тазиком» – он ведь обязательно дает знать об этом: завозится, закряхтит, сморщится – поймите только, взрослые! А взрослые понимают только тогда, когда уже поздно. И не понимают подряд неделю, месяц, полгода. А когда малыш смирится с «бестолковостью» взрослых и начнет наконец безропотно все «делать под себя», тогда начинаются шлепки и всякое недовольство. Сами приучили, а потом начинают отучать – ну и логика!
Как часто, к сожалению, приходится встречаться с этой странной логикой взрослых! Не дают, например, малышу ни подумать, ни сделать по-своему – все решают и делают за него, а потом его же и ругают: мол, бестолковый, ленивый, равнодушный. Или, допустим, учат есть побольше, впихивают еду чуть ли не силком, а потом не знают, как унять аппетит ожиревшего ребенка.
Он голодный!
Это одно из самых распространенных заблуждений начинающих матерей, которым все время кажется, что у них не хватает молока, что малютка недоедает, плохо прибавляет в весе, бледный, худой, и т. д., и т. п. И вот мамы и бабушки запасаются спасительной смесью («Она такая питательная! Она такая удобная!»), и… очень скоро малыш меняет родную маму на бутылочку с соской. Из рожка тянуть легко, трудиться не надо. Да и маме самой вроде легче: бутылку дала – и никаких тебе хлопот…
Никаких хлопот? К нам как-то приехал папа с двухлетней девочкой, весящей 22 (!) килограмма.
– Что теперь делать? – спрашивал он удрученно. – Она ни ходить, ни бегать не хочет. Может быть, спортивный комплекс поможет?
– Как это у вас получилось? – растерялись мы, видя впервые такого сверхупитанного ребенка.
– Сами не знаем. Она у нас искусственница. У матери молока не было, кормили ее смесями, и вот…
Не отсюда ли появляются тревожные цифры о постоянном росте процента ожиревших детей?
А чем грозит ожирение, представить себе нетрудно: плохая сопротивляемость болезням, малая подвижность, слабое сердце. Насмешки сверстников, застенчивость, неуверенность в себе… Нет! Чем такие хлопоты, лучше уж маме с самого начала проявить максимум настойчивости, изобретательности, терпения и кормить малыша самой.
Конечно, не все может получиться сразу. У нас бывали дни – из рук вон, особенно с первым, когда опыта еще не было и когда всякий вопль казался сигналом: «Хочу есть!»
Дело осложнялось еще тем, что мы жили тогда с двумя бабушками и дедушкой, которые, понятное дело, не могли молчать, видя, как младенец «целый час орет не переставая, а мать сидит как каменная». Известно: когда кричит ребенок, минута может показаться вечностью, так что можно простить бабушке ее невольное преувеличение. Что касается «каменной» матери, то только я знаю, каково мне было, пока сидела рядом с плачущим малышом, а с трех сторон мне давали советы. Дедушка: «Надо, чтоб сосал грудь. Пусть покричит, но сосет из груди». Бабушки (наперебой): «Дай ему бутылку, не мучай ребенка!» Отец: «Приложи к другой груди, не бойся!» А мне хотелось только одного: «Уйдите вы все, дайте мне самой разобраться!» Но сказать это вслух я не решалась (сейчас-то понимаю: зря не говорила), а уж ночью давала волю слезам. Молоко от всего этого и вовсе стало пропадать. Так и стал наш первенец «благодаря общим усилиям» к пяти месяцам полным искусственником.
Со вторым сынишкой я постаралась обойтись без советчиков: сама пробовала и кормить почаще, и прикладывать к одной и другой груди в одно кормление, а первые дни на ночь иногда готовила полбутылочки молочной смеси или подслащенного коровьего молока, разбавленного пополам с водой, чтобы не нервничать из-за того, что не хватит молока. Это был, конечно, не лучший выход, но он снимал беспокойство. Зато недельки через две все приходило в норму, надобность в докорме отпадала, малыш вполне наедался, а у меня прибавлялось молока, и кормила я сына до года. Так получалось и со всеми остальными детишками, хотя каждый раз в родильном доме приходилось выслушивать безнадежные предсказания: «Да, молока у вас совсем нет, плохо ваше дело!» Хорошо, что я в эти предсказания уже не верила.
Кормить ли ночью?
Об этом я не решилась бы написать, если бы не книга известного американского педиатра, доктора Б. Спока. Он написал о том, что американские врачи сначала чрезвычайно преувеличивали значение строгого режима, почти всякие неприятности – вплоть до расстройства желудка – связывали с нарушением режима и винили в этом родителей: не вовремя положили спать, не вовремя покормили – вот и результат.
Но в Америке нашлись такие храбрые папа и мама (оба ученые), которые стали воспитывать свою новорожденную дочку, не придерживаясь рекомендуемого режима, но при этом очень внимательно записывали, какой «режим» устанавливала сама себе малышка. Оказалось, что в первые месяцы жизни она питалась довольно беспорядочно, но, в общем, делала меньшие перерывы в кормлении, чем это обычно требуется, и только к трем-четырем месяцам жизни вышла на рекомендуемый интервал – 3–3,5 часа между кормлениями. «Безрежимность» воспитания никакого вреда ей не нанесла. После опубликования материалов об этом исследовании врачи перестали требовать строгого выполнения режима. И матери вздохнули с облегчением: ведь точно следовать режиму очень трудно, и поэтому все время чувствуешь себя виновной в массе погрешностей.
У нас первые неприятности с режимом произошли, когда я попыталась установить так называемый «ночной перерыв в кормлении» и ночью не давала малышу грудь. А он обязательно просыпался (диатез не давал ему покоя), плакал, просил есть. Вода из бутылочки с соской его не устраивала. Засыпал он, если его держали или носили на руках, но тотчас же поднимал крик, как только его снова укладывали в свою кроватку. И так из ночи в ночь.
И вот, намаявшись от постоянного недосыпания, я решилась однажды на «преступление»: ночью покормила сынишку и… следующей ночью тоже покормила. С тех пор кончились наши недосыпания. И со всеми остальными ребятишками мне не пришлось больше «воевать» по ночам.
А в дневное время я, еще не зная ничего о докторе Споке и его книге, сама установила очень гибкий режим и в еде, и в сне: время кормления могло сдвигаться на час и более. Если ребенок спал, я его никогда не будила для «очередного» кормления, а если не хотел спать, насильно не укладывала.
Учимся понимать ребенка
Вначале, конечно, было трудно научиться определять, что требуется ребенку. Оказалось, плакать он может от множества причин: подмок или вот-вот подмокнет, неудобно лежит, пучит животик, наглотался воздуха при еде, где-то трет пеленка, мешает соска, хочет спать, пить или, наконец, хочет есть.
И если каждый раз, как только он заплачет, давать грудь, можно человека совсем выбить из колеи. Со временем я научилась различать интонации плача, а по мимике, по движениям сынишки угадывать его потребности. Правда, при этом пришлось запастись терпением, зато месяца за три мы уже неплохо научились понимать друг друга. А со следующим было уже проще, хотя каждый малыш имел свой характер и к каждому приходилось приноравливаться заново.
Со временем мы поняли, что при всех трудных ситуациях прежде всего надо сказать себе: «Только без паники» – и постараться успокоиться. А потом попробовать и так, и иначе. И наблюдать, наблюдать, наблюдать – не жалеть на это времени (и записывать наблюдения), учиться понимать младенца, себя, друг друга и окружающих, обязательно и окружающих – об этом речь еще впереди.
Постепенно мы учились главному: подходить к ребенку без предвзятых мерок и представлений, с желанием разобраться в возможностях, потребностях, особенностях самого малыша. Конечно, не всегда это получалось, конечно, мы частенько сбивались на привычные методы, основанные на принципе: взрослый знает и может всё, ребенок – ничего. Но мы очень старались понимать малышей и учиться у них. И нас ждали на этом пути многие радости и… настоящие открытия.
Борис Павлович: Почему-то считается: чтобы ребенок рос здоровым, его надо главным образом от всего оберегать – от простуд, от инфекций, от падений и ушибов, от опасностей. Прежде всего беречь! Но это значит не готовить его к переменам погоды, к разным колебаниям и перепадам температур, не повышать защитные силы организма (неспецифический иммунитет), не учить падать без последствий и т. д., то есть не готовить к тому, что обязательно встретится в жизни.
А мы с самого начала думали иначе: здоровье надо укреплять – делать организм ребенка физически развитым, выносливым, невосприимчивым к болезням, закаленным во всех отношениях, чтобы малыш не боялся ни жары и ни холода. Но как этого достигнуть, мы не знали и, наверное, долго не решились бы на серьезное закаливание, если бы не… диатез. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Ведь диатез является сигналом того, что организм предрасположен к болезням, особенно к простудным. А мы благодаря диатезу, наоборот, избавились от простуд, укрепили здоровье ребятишек.
Л. А.: А дело было так. Диатез особенно сильно мучил нашего первенца. Личико у него иногда превращалось в сплошную болячку. Где мы с ним только в первый год ни побывали, каких только средств ни перепробовали: мази и примочки, кварц и переливание крови, купания в разных отварах, лекарства внутрь, строгая диета… Но решительного сдвига так и не добились.
Холод – доктор
Мы тогда жили в только что построенном сборном щитовом домике, еще плохо утепленном. Температура в комнатах могла колебаться от плюс 10–12 градусов (с утра, пока печка еще не затоплена) до плюс 25 градусов (к вечеру). Я тогда расстраивалась из-за этого, думала, что для малыша это очень вредно, и мечтала о теплой квартире. Однако и тут оказалось – нет худа без добра. Мы довольно скоро заметили: с утра, пока не затопили печь и в доме прохладно, малышу намного легче. Красные пятна на кожице бледнеют, зуд прекращается. Он весел, энергичен, много и охотно двигается, самостоятельно играет. Но стоит его одеть потеплее или сильно натопить печь, как ему сразу становится хуже: зуд мучает малыша, он делается плаксивым, вялым, капризничает и буквально не сходит с рук, требуя внимания и развлечений.
И вот однажды вечером, зимой, стараясь как-то унять зуд у плачущего сынишки, я вышла с ним на минуту в тамбур, перед дверью на улицу. Сама я успела за эту минуту слегка озябнуть, а он – в одной распашонке – быстро успокоился, даже развеселился. С этого и началось наше невольное «закаливание». Как только он начинал расчесывать свои болячки, мы – в прохладный тамбур или на застекленную террасу, а однажды, в солнечный февральский денек, осмелились выскочить и на улицу.
Пригревало уже по-весеннему, сверкал снег, сияло голубое небо. Сынишка в восторге прыгал у меня на руках, и мы сами развеселились, глядя на малыша. Но было все-таки, конечно, страшновато: а вдруг простудится, заболеет? Через полминуты мы вернулись домой, а сынишка потянул ручки к двери – еще, мол, хочу! Но мы все-таки решили подождать до завтра. А на следующий день мы уже «гуляли» таким образом дважды – тоже примерно по полминутки. И через неделю от наших опасений уже ничего не осталось: сын чувствовал себя прекрасно. Ему было тогда всего восемь месяцев. А в полтора года сынишка уже сам выбегал босичком на снег и даже нас тянул за собой.
Расхрабрились и мы. Стали все чаще пользоваться этими «снежными процедурами»: пробежишься по снегу, да еще в сугроб по колено влезешь, разотрешь потом досуха ноги – ступни горят, а в мышцах ощущение как после хорошего массажа. А главное, мы приобретали уверенность, что все это не страшно, что это полезно. И все было бы хорошо, если бы не ужасные пророчества, которые со всех сторон обрушивались на нас: «Воспаление легких обеспечено!», «Хронический бронхит и насморк будут непременно!», «Ревматизма не избежать!», «Уши ребенку простудите – оглохнет!»
Но все эти пророчества не оправдывались. Поэтому со вторым сыном мы были уже смелее: с самого начала не кутали его, давали побыть голеньким и дома, и на улице, пустили в одних трусиках ползать по полу, ходить по земле во дворе. А когда сыновья стали старше, даже нас удивляло, как охотно и подолгу, скинув надоевшие за зиму куртки, без шапок и рукавиц братишки могут возиться в мартовском подтаявшем снегу, прорубая каналы, сооружая плотины. При этом, бывало, даже промокшие ноги их не смущали. Заигравшись, они не всегда вспоминали о том, что надо сменить обувь. И все обходилось без неприятных последствий.
Вы спросите: неужели нам совсем не было страшно за детей? Было, конечно, особенно в начале, когда мы многого не знали. Нас тогда поддерживала интуитивная уверенность в том, что если ребенку прохлада приятна, то это не может быть опасным или вредным. Мы тогда не знали, как может быть крепок человеческий организм даже у самых маленьких, не знали, что слабым его делает не природа, а условия жизни.
Как было раньше
Б. П.: Однажды в одной из брошюр известного специалиста по закаливанию профессора И. М. Саркизова-Серазини мы увидели ссылки на книгу Е. А. Покровского «Физическое воспитание у разных народов» (1884 г.). Мы ее раздобыли. Вот когда нам пришлось по-настоящему поразиться! Как и всем цивилизованным людям, новорожденный представлялся нам чрезвычайно нежным, неприспособленным существом, которое вне стерильных условий современной больницы не проживет и дня. А оказалось, что это совсем не так. В каких разнообразных условиях появлялись на свет дети, каких только сюрпризов ни преподносили ему обычаи родной земли!
У финнов и русских, например, ребенок рождался (и жил затем целую неделю) в бане, где температура могла быть плюс 50 градусов. Считалось, что в такой жаре, где все ткани тела становятся мягкими, очень легко проходят роды. А тунгуски, например, нередко разрешались от бремени во время перекочевки, под открытым небом и при сорокаградусном морозе. У них рождение ребенка вообще считалось не таким уж важным событием, а простым физиологическим актом, к нему поэтому заранее не готовились, и часто никто не помогал матери при родах.
Новорожденный выдерживал и жару, и свирепый холод. Диапазон температур – 90 градусов.
А после рождения? У одних народностей был обычай окунать детей в прорубь, у других обтирали снегом или обсыпали… солью. Младенец выдерживал всё.
Тут мы вспомнили и о тех случаях, когда дети выживали даже в логове зверей. Как же велики должны быть приспособительные возможности только что родившегося человека, если он мог выносить все это, какими же надежными защитными «механизмами» снабжает новорожденного природа! Взять хотя бы одни температурные условия: в бане температура на 20 градусов выше, чем в материнском теле, а зимой на морозе – на 70–80 градусов ниже! Но ведь обычные дневные перепады лежат в пределах 5–10, редко 20–30 градусов. Значит, организм может перекрывать их с запасом в 2–3 раза.
Кибернетики уже нашли секрет этой непостижимой для машин надежности человеческого организма и назвали его «принципом функциональной избыточности». Именно он лежит в основе надежности всех организмов. Например, самая большая наша артерия – аорта – выдерживает давление в 20 атмосфер, хотя сердце даже у гипертоников не может создать давление более 0,3 атмосферы. Или количество тромбина (вещества, нужного для свертывания крови, чтобы рана закрывалась сгустком) в 70 раз больше, чем надо. Таким же громадным «запасом прочности» организм обладает и в других отношениях.
Но куда же девается эта прочность и надежность у нашего современника? Почему он, только родившись, болеет в пять раз чаще взрослого? И как раз от тех же перепадов температур, да еще совсем незначительных.
Дело в том, что за миллионы лет совершенствования живых организмов, кроме «принципа функциональной избыточности», установился и другой, не менее важный для целесообразной изменяемости, приспособляемости организма, – «закон свертывания функций за ненадобностью». Что это такое? Очень хорошо его продемонстрировали первые длительные полеты в космос. Блестяще подготовленные, сильные, тренированные космонавты попадали на целый месяц в условия невесомости. Резкие движения там были не нужны, даже опасны. Им приходилось становиться осторожными, едва шевелить руками и ногами и почти не напрягать мышцы. Всего один месяц пробыли они в невесомости, но, возвратившись на Землю и выбравшись из люка корабля, они… не могли даже встать.
– Как в центрифуге, – говорили они, – земля так притягивает, что не встанешь.
И в течение месяца или полутора им пришлось «учиться ходить», как на первом году жизни, потому что надо было не только возвратить былую силу всем мышцам, но и восстановить работу вестибулярного аппарата. Орган равновесия тоже, оказывается, был там не нужен – ведь в полете исчезали «верх» и «низ».
Тот же результат получили и в опыте с «моржами» – людьми, купающимися в проруби. В течение полутора месяцев их непрерывно держали в термокомфортных условиях: в комнате температура поддерживалась в пределах плюс 27–28 градусов, а вода при купании – плюс 34 градуса. И вся их закалка исчезала – они могли простудиться, стоя у открытой форточки.
Но такая же судьба постигает и новорожденного, если после рождения его поместить в стерильные условия, в термостат (постоянная температура), в тесные путы пеленок, тогда он и приспосабливается именно к этим условиям. Никаких колебаний температуры – и, значит, никакие природные «механизмы» терморегулирования ни разу не включаются в работу. И день, и неделю, и месяц, и… постепенно отмирают за ненадобностью! И значит, через месяц ребенок становится беззащитным перед любым сквознячком. Не отсюда ли эти грозные цифры: до года ребенок болеет в пять раз чаще взрослого, причем почти 90 процентов болезней составляют простудные заболевания.
Видимо, не случайно у многих древних народов новорожденного обтирали снегом или крестили в проруби. Этим сразу пускались в ход все «механизмы» терморегулирования, причем в самом суровом режиме. Да и дальше детей вовсе не нежили, не укутывали, как сейчас. На рисунках в книге Покровского мы увидели совсем голых ребятишек рядом с одетыми в меховые шубы взрослыми. Вспомнили: художники прошлых веков изображали мадонн всегда с обнаженными младенцами на руках. Нет, не случайно все это! Видимо, так готовили люди детей к суровым условиям жизни, укрепляя защитные силы организма.
Холод – друг
Но ведь и теперь о пользе закалки знают все, о способах закаливания можно прочитать в любой брошюре. Почему же так много на улицах перекутанных детей, почему так неохотно родители следуют советам врачей о закаливании?
Думаем, что одна из причин этого (и немаловажная, если учесть занятость матерей и дефицит нянь и бабушек) заключается в сложности и трудоемкости рекомендуемых закаливающих процедур. Вот как, например, следует проводить влажное обтирание. Надо нагреть воду, измерить температуру, добавить холодной или горячей воды, снова измерить температуру, чтобы не ошибиться: «Температура воды должна быть вначале 32–33 °C, затем постепенно, с интервалом в 5–7 дней, температуру воды снижают на 1 °C и доводят до 30 °C». «Варежкой из мохнатой материи, смоченной в воде и отжатой, обтирают сначала руки, затем грудь и живот, спину, ягодицы, ноги ребенка. Сразу же вытирают смоченную часть тела мохнатым полотенцем до легкого покраснения кожи». Причем все это надо проделывать минимум двум взрослым, потому что «все тело, кроме обтираемой части, должно быть под одеялом»[3].
И так надо делать систематически, каждый день, следя за температурой с точностью до градуса, за временем – с точностью до минуты. А ведь еще воздушные ванны, купание. А если ребенок не один, надо еще и возраст учитывать: каждому свои градусы и минуты. Об эффективности таких закаливающих процедур родителям бывает трудно судить хотя бы потому, что довести их до заметного результата не удается: либо за недостатком времени родители останавливаются на полпути, либо ребенок успевает заболеть раньше, чем закалится. Вот и получается: проще закутать малыша – и дело с концом. Так в основном многие и делают, стараясь просто уберечь малышей от всяких перемен погоды, тем самым прямо-таки подготавливая их к тому, чтобы к ним, что называется, липли все болезни.
Что же получается у нас? Мы тоже не имели возможности проводить закаливания «по всем правилам». Но так уж вышло, что мы со своим первенцем несколько месяцев прожили на открытой террасе. Менять пеленки приходилось по нескольку раз даже ночью. А летние ночи бывают очень прохладны… Развернешь, бывало, младенца, а от него пар. Нас все пугали простудами, мы и сами побаивались этого, но малыш не болел. Тогда мы не придали этому значения, но когда началась наша война с диатезом, мы вспомнили и о тех холодных летних ночах. Малыш легко выдерживал разницу температур в 15–20 градусов! А когда мы стали его, голенького, выносить из теплой комнаты (плюс 25 градусов) на морозец (до минус 10 градусов), он прекрасно чувствовал себя и при почти мгновенных перепадах температур 30–35 градусов!
Но ведь этот способ быть здоровым известен на Руси с незапамятных времен: из бани – в снег или в прорубь, а потом снова в баню. И так по нескольку раз! Так что же и нам-то бояться, успокоились мы.
Л. А.: Когда у нас родилась дочка, многие говорили нам:
– Ну, уж с девочкой-то вы так обращаться не будете!
– Почему? – удивились мы. – Разве девочке не нужно быть здоровой и крепкой?
И в первый же день после недельного пребывания дочки в комфорте родильного дома я устроила ей во время первого же домашнего кормления воздушную ванну – на полчаса…
Кормление плюс…
С тех пор так у нас и повелось: каждое кормление сопровождалось закаливающими процедурами. Вот как это бывало. Постелю на диване пеленочку, кладу дочку – она без чепчика, в одной распашонке – и ложусь рядом с нею поперек широкого дивана. Кто-то из девочек заботливо подсовывает мне под голову подушку. Какое блаженство! Когда-то и маялась же я, пытаясь кормить сидя, «как положено»: обе руки заняты, спина устает, ногам неудобно, да и малышу (завернутому, стиснутому) неловко – и мне, и ему удовольствия было мало. И вот как-то, усталая, пришла я с работы и попробовала кормить полулежа. Удивилась, как хорошо: сама отдыхаю и ребенку удобно.
С тех пор кормление стало для меня и для малышки минутами отдыха, наслаждения, общения и даже временем гигиенических и закаливающих «процедур». Вот лежит, прижавшись ко мне бочком, маленький человечек, сосет, сопит, причмокивает. А я в это время могу потихоньку его приласкать, погладить, просунуть свой палец ему в кулачок – пусть хватает покрепче, могу спеть что-нибудь ласковое, нежное, – чем это не общение?
Малыши очень любят эти минутки. Помнится, как горько плакала однажды наша семимесячная дочурка, когда я, придя с работы, стала кормить ее, а сама уткнулась в книжку, даже не поговорив, не поиграв с нею. Она даже сосать отказалась, обидевшись, хотя есть очень хотела. Для меня это стало уроком на всю жизнь: с тех пор мы знали, что время кормления нужно малышу не только для питания. Правда, в самые первые дни эти минуты обычно бывают связаны с лечением. Вот дочка сосет, а я свободной рукой осторожно расправляю ей складочки на шейке, на ручке и… дую на них. Прямо на глазах бледнеют пятна потницы, с которой малышка явилась из родильного дома. И я уже знаю, что и с опрелостями за два-три дня справимся без всяких мазей и присыпок: просто во время кормления воздух их высушит, и все быстро пойдет на поправку. Да и впредь не понадобятся нам присыпки и мази, потому что кожица будет сухая и чистая. А какая экономия времени! На все эти «гигиенические и закаливающие процедуры» не приходится тратить ни минуты дополнительного времени.
Воздушные ванны
Тут же дочка принимает и «воздушные ванны» – ведь она в одной распашонке. За шесть-семь кормлений таких «ванн» набирается часа на полтора-два в первый же день. А позже, недели через две-три, после каждого кормления она еще и «гуляет», чаще всего совсем голенькая. Это еще час-два, в общей сложности выходит часа три в день по 20–30 минут за «сеанс». Длительность «сеансов» зависит только от самочувствия малышки: если нравится, лежи на здоровье.
Но вот она завозилась, состроила плаксивую гримаску, даже начала похныкивать – я беру ее, держу над тазиком, пока она все, что нужно, не сделает, а потом завертываю для сна: распашонка, подгузник, большая пеленочка и теплая пеленка на ножки, которые я обязательно согрею ладонью. Если они останутся холодными, то спать малышка будет беспокойно, она может легко подмокнуть (особенно этим отличаются почему-то мальчики).
Так – с первого дня пребывания в доме, а в теплое время года – и на улице: пока малыш не спит, он либо голенький, либо в распашонке, либо (постарше) в трусиках. При этом температура в комнате или на улице может колебаться приблизительно от плюс 15 до плюс 25 градусов, а в зависимости от температуры изменяется и продолжительность «воздушных ванн». Если холодно, малыш скорее «потребует» завертывания, а если ему приятно – с удовольствием болтает ручками и ножками, пока не захочет спать.
Б. П.: Помним, сначала нас очень удивляло: ручки и ножки холодные, пяточки даже синеватыми сделаются, а малышу хоть бы что! Лежит себе веселенький, и всё. Только потом мы узнали, что холодных пяточек опасаться не надо. Это просто внешнее проявление адаптивных реакций к холоду. При этом снижается разница температур между кожей и воздухом и резко сокращается отдача тепла. А учащение пульса и повышение тонуса мышц увеличивает образование тепла и восстанавливает тепловой баланс организма. И все это оказывается очень нужным для младенца: прохлада бодрит и делает движения приятными, а без одежонок и пеленок двигаться легко, ничто не мешает. Ребенок легче и быстрее осваивает разные движения, раньше начинает садиться, вставать, ползать. Это, в свою очередь, приводит к еще большим колебаниям температур: во сне под пеленкой или одеяльцем ему тепло (33–34 °C), а проснется – его развернут, и он сразу попадает в комнатную температуру (18–25 °C). Получается перепад (9–15 градусов). А если его пустили ползать по полу (10–12 °C), перепад еще больше. И так много раз в день.
Возмущение окружающих можно понять: все дети одеты тепло, а Алеша гуляет в одних трусиках… 1961 год
К этому добавлялись еще и разные «водные процедуры»: мы умывали, а в случае надобности – и подмывали малышку, не подогревая воду, – из-под крана, но не прямо под струей, а с ладони, набрав воду в горсть. В первый раз малыш мог слегка вздрогнуть, а на второй-третий день привыкал и не выражал неудовольствия, даже если вода была холоднее, чем обычно.
И на солнышко!
Первый ребенок наш родился в начале лета. Стояли теплые июньские дни. Мы готовились к строительству своего щитового дома и много времени проводили на участке, расчищая место для закладки фундамента.
Мы работали, а сынишка частенько был рядом – лежал в кроватке или на одеяле, разостланном под яблоней. Мы тогда его надолго не разворачивали: еще не знали, что это можно и нужно делать. Но иногда все-таки не удерживались – уж очень ласково грело солнышко! – и переносили его на несколько минут из-под дерева на открытое место. Он это принимал как должное и никакого беспокойства у нас не вызывал. Беспокоились только бабушки. А мы тогда еще не читали популярных брошюр и не знали, что ни в коем случае нельзя допускать действие на младенца прямых солнечных лучей. Потом вычитали в какой-то популярной статье, как лисица выносит из норы своих маленьких еще лисят на солнышко, и показали статью бабушке.
– Этого еще не хватало, – возмутилась она, – ребенка с лисенком сравнивать!
А нам это сопоставление казалось убедительным, тем более что никаких плохих последствий у сынишки мы не обнаруживали: он и спал, и ел, и со всеми прочими своими обязанностями справлялся прекрасно.
Так мы делали и с другими своими детьми – с первых дней жизни. Обычно кто-нибудь из нас, взрослых или старших детей, усаживался на стул, на колени стелил пеленку, а на нее укладывали малыша. Головку прикрывали уголком пеленки, а тельце поворачивали то одним бочком к солнышку, то другим, то животиком, то спинкой. В общей сложности начинали с 5–6 минут, а примерно через месяц могли так загорать и 10, и 20, и 30 минут – по настроению малыша и по погоде. У трехмесячного уже хорошо был заметен загар, и в 4 месяца он свободно проводил с нами час-полтора, загорая на берегу Клязьмы на неярком подмосковном солнце.
Когда нашей дочке не было еще и года, а старшему исполнилось всего четыре, мы ездили со всеми тремя малышами на юг и прожили на берегу Черного моря в палатке около месяца. Целые дни мы проводили то на пляже, то в море, то на песочке возле палатки (в ней днем было очень душно), то на улицах Феодосии. Мы, взрослые, подчас изнемогали от жары и норовили отдохнуть где-нибудь в тени, а на малышей солнце как будто бы и не действовало: они даже панамки носили только первые дни, а потом, к нашему удивлению, вполне обходились без них – оказалось, что волосы достаточно хорошо защищают голову от солнца.
Как здорово, когда можно вот так пробежаться! Около 1972 года.
Несколько лет спустя, во время нашего очередного путешествия, теперь уже на Кавказ, мы увидели в Кабардино-Балкарии такую картину. Через аул в горном ущелье проложен узенький арык. И около этого ручейка в жаркий июльский полдень кипит жизнь: утята, гуси, козы, ребятишки всех дошкольных возрастов. Одетые в рубашки или в одни трусики, чаще босичком, но с буйными шевелюрами, они поражали нас тем, что не обращали никакого внимания на палящие лучи горного и по-особому обжигающего солнца. Не только у больших, но и вышагивающих еще вперевалочку годовалых малышей, держащихся за руку старшей сестренки или брата, кожа была уже совершенно ровного шоколадного цвета. Невольно возникал вопрос: если тут не боятся солнечных лучей, то почему же нам-то их бояться? Солнце у нас не столь щедрое, значит, тем более его надо использовать как можно лучше. С тех пор единственным критерием продолжительности солнечных ванн для нас стало, как и во всем другом, только самочувствие малыша. И нам ни разу не пришлось об этом пожалеть.
Не заболеем!
Вот так у нас получалось: жизнь ставила перед нами какую-то проблему (где взять время? как избавиться от диатеза? как предотвратить болезни? и т. п.) и толкала нас на поиски выхода, и выход этот не всегда совпадал с общепринятым и традиционным. Мы шли сначала ощупью, а потому очень осторожно, затем – по мере накопления опыта – все более осознанно, а потому и смелее. Так мы предоставили нашим малышам удовольствие ощущать самые разные естественные воздействия окружающей среды: и перепад температур, и прямые солнечные лучи, и ветерок, и прохладный дождик или настоящий летний ливень…
Л. А.: Началось все с простого: лежит рядом со мной дочка и не подозревает, что прохладный ее бочок и холодные пяточки – это серьезные профилактические меры для предотвращения многих-многих бед. И так изо дня в день, из месяца в месяц. И живем мы с дочкой, так же как и с остальными ребятишками, в счастливой уверенности, что никакие простуды нам не страшны. Ноги промочили? Ничего – вытрем, и все. Сквозняк? Пусть, он нам тоже не страшен. Зачем сосульки грызть? Так они же вкусные! По снегу босиком? Но ведь это только приятно!
И здесь вот что важно: уверенность, в свою очередь, становится хорошим средством, предотвращающим заболевания. Об этом мы только догадывались, но по-настоящему узнали тоже совсем недавно: один врач, специалист по аутотренингу, объяснил нам, что здоровье человека и его способность сопротивляться болезням зависят и от настроения, от уверенности в том, что он не заболеет. Нередко болезненное состояние бывает мнимым или ухудшается только из-за того, что человек становится в этом убежден. А дети гораздо сильнее поддаются внушению, чем взрослые.
И не подозревают многие любящие мамы и бабушки, что своими страхами и вечными опасениями («Не беги – упадешь! Не лезь в лужу – ноги промочишь! Не пей холодную воду – заболеешь! Закрой форточку – простудишься!» и т. п.) они только приучают малышей к мысли, что болезней не миновать. Те, разумеется, и не минуют. Получается порочный круг: оберегание – укутывание – изнеживание – болезнь – еще более тщательное оберегание и так далее, вплоть до внушения самому ребенку, что он болезненный и хилый. Да он может быть здоровым и крепким, только… разрешите ему и поверьте сами, что это вполне возможно.
К нам часто приезжают папы и мамы со своими малышами. Пока мы, взрослые, разговариваем, ребятишки довольно быстро осваиваются в нашей спортивной комнате: виснут на кольцах, кувыркаются на большом матраце, пытаются влезть на шест. Им вскоре становится жарко в шерстяных костюмчиках и колготках, и они, глядя на наших ребят, помаленьку стаскивают с себя одну одежку за другой и, испытывая наслаждение от легкости, свободы и приятной прохлады, все больше втягиваются в общую игру. Бывало даже, что кто-нибудь, возбужденный возней, выскакивал (раздетый-то!) вслед за нашими прямо на мороз. Родители, узнав об этом, чуть в обморок не падали, а ребенку хоть бы что. Вот что значит уверенность: я могу, я не заболею!
Физкультура с пеленок и… даже раньше
Б. П.: Все, о чем мы рассказали выше, касается самых насущных проблем первого года жизни ребенка. Кормление, уход, закаливание – мимо этого не пройдет ни одна семья, потому что все это связано со здоровьем и самим существованием малыша. Проблемы эти нельзя не решать, и на решение их уходит в основном все время матери и отца в первый год жизни ребенка.
Но есть и другие проблемы, на которые, к сожалению, мало обращают внимания, которые откладывают «на потом», потому что «мал еще, пусть сначала подрастет». Это проблемы физического, умственного и нравственного развития малышей в первый год жизни. Да, да, именно тогда.
Правда, они становятся ощутимыми для родителей позже – через два-три года, но тогда же выясняется: что-то сделано уже не так, и надо переделывать или наверстывать упущенное.
Все знают, например, что малыш в первый год к определенному времени должен научиться сидеть, стоять, ползать, ходить. Ему помогают в этом, беспокоятся, если он плохо умеет делать то, что «положено», но в то же время частенько делают все, чтобы он двигался поменьше: перекутывают, надевают неудобную обувь с негнущейся подошвой, подолгу держат в кроватке или манеже, а на улице сплошь и рядом возят в коляске, не давая самому ребенку – даже летом! – и шагу лишнего ступить.
Спокойный малыш радует: «Никаких с ним хлопот!» Подвижный же считается бедствием: «И минуты не даст посидеть!» При этом естественная потребность ребенка в активном движении не только не удовлетворяется, не развивается, но, наоборот, как бы притупляется, сходит на нет. К тому же почему-то на первом году жизни следят главным образом лишь за ростом и весом и только по ним судят об уровне физического развития ребенка. И совсем не обращают внимания на крепость его мышц, на подвижность, ловкость, координацию движений. Когда позже, уже в школе, обнаруживаются плоскостопие, искривление позвоночника, общая мышечная слабость, ожирение, слабое сердце и другие неприятности – вот тогда родители начинают беспокоиться: что делать, если сынишка не любит физкультуру? Как быть, если он такой неловкий?
А начало всем этим неприятностям закладывается, оказывается, в том самом возрасте, когда еще никто и не думает о них – ни мать, ни отец. С рождения ребенка. Более того, еще до его появления на свет.
Гимнастика до рождения
Ну какое, например, может иметь значение, много ли шевелится малыш у мамы до рождения или мало? Мы тоже не придавали значения этой «детали» и просто удивлялись, почему это наши ребята, еще не родившись, толкаются так сильно и так часто. Думали: такие уж они у нас сами шустрые. А то, что семья большая, что надо и приготовить, и обшить, и обстирать, что работы у матери дома невпроворот – одни полы держать в чистоте чего стоит, – тут мы никакой связи не предполагали.
Иногда спортивный снаряд сделать очень просто (Антону еще нет двух лет). 1961 год
А связь, оказывается, не только тесная, но и прямая. Если мать постоянно занимается физической работой, много и энергично двигается, то у нее снижается насыщенность крови кислородом. Она, естественно, начинает усиленно дышать, а сердце ее – чаще биться. А что делать ребенку, ведь и он ощущает нехватку кислорода? Тогда он начинает «брыкаться», шевелиться, его сердечко бьется чаще, и это сразу увеличивает количество крови, которое поступает к нему от матери. И кислорода добыто, сколько ему требуется.
Точно такая же картина получается, если в крови матери снизится содержание питательных веществ (это когда мать хочет есть). Ребеночек и тут начинает двигаться и тем самым «добывает себе хлеб насущный». Исследователями было подсчитано, что – подумать только! – через 1,5–2 часа после обеда он делает только 4 шевеления в час, а если мать не ела 10 часов, то 50–90. Разница громадная – в 20–30 раз! И при этом, как при всякой тренировке, происходит развитие, совершенствование и укрепление его мышц, сердца и всего организма.
Оказывается, советовать женщине, ожидающей ребенка, «есть за двоих» и почаще отдыхать – значит оказывать ей медвежью услугу. При избытке еды и малоподвижном образе жизни матери младенец слабо шевелится и, значит, «не тренируется». И родится на свет физиологически незрелым.
По данным лаборатории профессора И. А. Аршавского, количество физиологически незрелых новорожденных растет из года в год. Мы избежали этой опасности случайно (если и не полностью, то, во всяком случае, значительно) – жили в доме без всяких коммунальных удобств и домашним хозяйством занимались сами, маме приходилось волей-неволей много двигаться. Заодно «тренировались» и малыши еще задолго до рождения.
Без специальных занятий
Но вот новорожденный уже дома. Когда же и как начинать его физическое развитие, если к нему и прикоснуться-то страшно в первые дни? О том, что младенец намного крепче, чем это принято считать, мы узнавали постепенно. Оказалось, что немалую роль в развитии мышц играет… легкая одежда. Шутка ли: пока малыш не спит, он голенький или в одной распашонке. Ему прохладно, и, чтобы больше вырабатывалось тепла, у него сильно напружинены все мышцы. Врачи называют это «гипертонией мышц новорожденных». А стоит завернуть его теплее, как этот тонус сразу снижается, мышцы расслабляются. Значит, в первый же месяц благодаря прохладе тренируется и мускулатура.
Но с первых же дней мы начинали заниматься и физкультурой. И первым «тренером» у нас в семье всегда становилась мама. Это и понятно: никто с малышом так много не возится и так тонко его не чувствует, как мать. И поэтому она точнее всех может определить и его возможности, и его желания. Но я с самого начала старался помогать ей во всем и постепенно брал на себя все больше и больше «тренерских обязанностей». Я не только был тренером, но и придумывал и делал спортивные сооружения в доме и во дворе, судил семейные соревнования и сам в них участвовал, а иногда даже превращался – для самых маленьких! – в «спортснаряд» и целый «спорткомплекс». Я же вел подробнейшие таблицы результатов физического развития наших детей с самого рождения и записывал в дневниках все их достижения, каждый шаг вперед.
Короче говоря, у нас в семье физическое воспитание – в основном моя забота. Но мы поддерживаем друг друга и радуемся открытиям и находкам каждого.
Однажды мама, например, заметила, что если с малышом энергичнее обращаться, то он как бы в ответ при этом напружинивается, напрягая мышцы. И наоборот, если перекладывать его с руки на руку или перевертывать очень мягко, нерешительно, его тельце остается расслабленным и вялым. Глядя на маму, и я смелее стал браться за младенца и чувствовал, как с каждым днем крепнет малыш – ведь брать его и переворачивать приходится десятки раз за день, никакая специальная зарядка не сравнится с этим упражнением по продолжительности и частоте, по напряжению всех групп мышц. И специального времени на занятия отводить не надо. Нужно только проследить, чтобы энергичное обращение не превратилось в грубоватое, резкое, неприятное для малыша и окружающих.
Еще не зная о существовании многих врожденных двигательных рефлексов, мы заметили, что младенец в некоторые моменты (особенно перед кормлением) крепко хватается за пальцы взрослого. И это буквально с первых дней и недель жизни. Затем, к своему удивлению, мы обнаружили, что он с самого начала может даже висеть, ухватившись за пальцы папы или мамы.
Начинали мы с того, что просовывали в сжатые кулачки новорожденного по пальцу и тянули его к себе, пока он не сядет. Посадим, а потом положим, посадим и снова положим. Это не доставляло неприятностей малышу, хотя он еще плохо держал головку, и она у него отклонялась назад. А мы, радуясь за него, становились смелее.
Месяцам к двум малыш уже вставал, держась за наши пальцы, при этом – очень важный момент! – мы хорошо чувствовали, насколько он крепко держится. Обычно рекомендуют давать ребенку колечки и тянуть за них, чтобы малыш крепче хватался, но кольца, мне кажется, небезопасны: не чувствуешь ведь, насколько прочно держится за них ребенок. А пальцы сразу ощущают это, и, как только ручки ребенка начинали слабеть (через 5–10 секунд, а потом и больше), можно сразу осторожно положить младенца. Так легко определить возможности ребенка и дать ему оптимальную нагрузку каждый раз, когда он берется за пальцы взрослого.
Так же случайно мы обнаружили, что если положить малыша головкой себе на плечо и одной рукой держать его у груди, а другую подставить ему под пяточки, то он моментально упрется ножками в ладонь. Оказывается, это срабатывал «опорный рефлекс», и малыш выпрямлял и напрягал ножки настолько, что держал на них уже весь свой вес. Мы тогда еще не отдавали себе отчета в том, что, действуя так, развиваем у младенца природные рефлексы, превращая каждое прикосновение к нему в непрерывную и действенную гимнастику.
Ну-ка, прыг из кроватки!
С трех месяцев, когда малыш уже стал сам крепко хвататься за пальцы взрослых и уверенно висеть на них (Ваня, например, однажды перед «обедом» провисел… 43 секунды), я ввел в обиход еще одно «упражнение»: перестал брать из кроватки малыша под мышки, а вместо этого протягивал ему руки так, чтобы малышу удобно было ухватиться за большие пальцы. Это было сигналом: «Берись покрепче!» Малыш хватался двумя ручонками сразу, и я вынимал его из кроватки. Для подстраховки я иногда охватывал остальными четырьмя пальцами ручку малыша. Получалась «двойная прочность» хвата.
Л. А.: Хочу заметить, что я таким «цирковым способом» (по определению бабушки) пользовалась очень редко, предпочитая брать малыша, как обычно, под мышки. Почему? Мне этот способ казался грубоватым для женщины, несвойственным ей. Зато я радовалась тому, что и отцу, и малышу эти «трюки» доставляют сплошное удовольствие и обоим приносят несомненную пользу. Отец проявлял все больше интереса к младенцу и находил свой язык общения с малышом. А младенцу этот «мужской» язык тоже был необходим для предотвращения изнеженности и несмелости, этих неизбежных последствий нашего женского, в основном все-таки оберегающего воспитания.
Осознали мы всё это не сразу, конечно, но интуитивно чувствовали, что такое разное отношение к малышу ему не повредит, и не мешали друг другу делать так, как каждому было приятнее. Правда, бывало, что я относилась к очередному отцовскому «изобретению» скептически (не чересчур ли?) или он подтрунивал над моими «маменькиными нежностями», но до конфликта дело не доходило: мы же видели, что малышу и с папой, и с мамой хорошо. А это было для нас главным.
Б. П.: После того как был освоен необычный способ вынимания из кроватки, я придумал новый: протягивал теперь малышу только одну руку (чаще левую) и давал ему указательный палец и мизинец, а остальные пригибал к ладони. При этом вторая рука могла подстраховывать ребенка. Это «упражнение» со временем превратилось в настоящий «цирковой номер». Малыш сначала становился на ножки в кроватке, а потом, чуть присев, подпрыгивал вверх. Его ножки и моя рука действовали синхронно, наши усилия сливались, превращаясь в легкий стремительный взлет. Казалось, что крошка ребенок сам выпрыгивает из кроватки ко мне на руки. Это впечатление легкости прыжка и дало бабушке повод назвать его «цирковым». Он у нас очень прижился, и малыши с удовольствием пользовались им до пяти-шестилетнего возраста – я только так и брал их к себе на руки.
А теперь подсчитайте, сколько раз за день приходится вынимать из кроватки трех-пятимесячного ребенка и возвращать его назад? Десять-пятнадцать-двадцать раз! Обычно это – «работа» только для взрослого, а у нас получалась опять-таки эффективная тренировка младенца: ведь он и напрягался весь, развивая мышцы не только рук, но и спины, и живота, и груди.
Малышу очень нравится такой способ обращения, его руки быстро крепнут, но вот «беда» – он все чаще просит дать ему пальцы, ему так хочется снова и снова схватиться за них, посидеть, постоять – это так интересно, так бы, кажется, и прыгал целый день. Но… как быть нам, взрослым?
И я придумал себе замену: прикрепил деревянную палочку в кроватке так, чтобы малыш, лежа, мог до нее дотянуться. Так в три месяца наша дочурка получила в подарок «турничок» – первый спортивный снаряд, предназначенный специально для нее.
Такую же деревянную перекладинку я сделал ей и в коляску. Сначала мы немного помогали малышке нащупать палочку, подставляли ладонь к ножкам, чтобы она могла упереться, помогали сесть и встать. Зато после этого сидеть и стоять она могла сколько хотела. Особое удовольствие доставляло ей (а потом и всем остальным ребятишкам) придуманное ею упражнение: стоя, дергать палочку так, что коляска начинала «ходить ходуном». Сколько радости это доставляло малышу!
Но сколько же было кругом различных страхов и волнений! «Ну где это видано – трехмесячному стоять, да еще так раскачиваться, ведь ножки-то слабые – искривятся!» – так говорили многие, не замечая, что ножкам помогают и ручки, и спинка ребенка, что его вес распределяется на все мышцы тела. А это не только оказалось не страшным, но, наоборот, способствовало правильному развитию скелетно-мышечной системы. У всех наших детей руки и ноги рано становились не только крепкими, сильными, но и прямыми, стройными.
Зачем ползать?
Но вот кроватка уже освоена вдоль и поперек. И на полу, на мягком матраце, застеленном большой простыней, совершаются первые попытки освоить новое пространство – малыш начинает ползать.
Мы очень скоро – как только он сам сумеет – разрешали ему переползти с матраца на пол и «путешествовать» по всему дому. Это «освобождение» оказывалось очень полезным для развития движений. Прежде всего это громадные (для него!) расстояния, которые надо преодолевать, если хочешь добраться в кухню к маме или к папе в мастерскую, – какая большая работа и рукам, и ногам, да и сердечку тоже, разве сравнить их с микроперемещениями в кроватке? А эти двери, у которых ручки почему-то на недосягаемой высоте, никак не хотят открываться, сколько ни прилагаешь усилий. А эти чьи-то большие ноги, шагающие мимо или стоящие на пути, – можно ли за них уцепиться? И все предметы, которые сделаны будто для великанов. Сколько ни хватайся за мяч, а взять его не удается – ручонка соскальзывает, сколько ни толкай этот стул с дороги, он ни с места. Трудно маленькому человеку в такой новой, незнакомой, непонятной обстановке. Однако эти трудности, видимо, и есть самый могучий двигатель развития, а если рядом папа, или мама, или братишки с сестренками, которые поддержат настроение в случае неудачи, малыш с удивительным упорством и невероятной для такого возраста настойчивостью пытается их преодолевать.
Чтобы ребенок учился становиться на ноги, мы приносили каркас от старой раскладушки и ставили его в середине комнаты на коврик или матрасик. Держась за трубки каркаса (как за турничок в кроватке), можно подниматься и топать вокруг, не отпуская спасительную опору из рук. Это второй «спортснаряд», который осваивал наш малыш, а дальше – месяцев с восьми – дело доходило и до настоящих спортивных снарядов, которые находились тут же, в комнате (кольца, перекладина, канат с боксерской грушей внизу, лесенка, горизонтальный канат через всю спортивную комнату и другие). Мы только опускали их на доступную для малыша высоту да иногда помогали поймать ускользающее кольцо.
В этой обстановке, да еще в обществе старших братьев и сестер наши «ползунки» быстро осваивались и начинали свободно перемещаться по всему дому.
Естественно, что младшие попадали в лучшие условия по сравнению с первыми: прибавлялся опыт у нас, появлялись всё новые спортснаряды, у каждого из младших было больше «учителей» – старшие братья и сестры. Это сказывалось на развитии детишек очень заметно и отразилось на способах их ползания. Получилась даже своеобразная «диаграмма»: первый сын применял обычный прием ползания – опирался на пол «шестью точками»: руками, коленками и пальцами ног. Второй умудрялся ползать только на одном левом колене, а другую ногу ставил на стопу, то есть ходил «на пятереньках», а остальные очень быстро переключались «на четвереньки», то есть не только ходили, но и бегали, не касаясь пола коленями. Если сравнить все эти способы ползания, то даже неискушенному будет очевидно, что последний из них куда совершеннее других – он позволяет передвигаться намного быстрее, но он требует и большей ловкости, силы, выносливости. Этим способом может пользоваться только подвижный, крепкий ребенок с хорошей координацией движений и умением надежно и быстро ориентироваться в пространстве.
Считается, что ползание – в общем-то, необязательная фаза в развитии движений ребенка. Есть детишки, которые обходятся без нее – и ничего, ходят не хуже других. Возможно. Но ведь бывают случаи, когда в играх, в спортивных упражнениях нужно быстро и долго ползти. Непривычному это намного труднее: ведь тут используются другие группы мышц. Кроме того, во время ползания развиваются и крепнут руки. В общем, это хорошая гимнастика для всесторонней тренировки ребенка и прекрасная подготовка к будущей ходьбе.
Учимся ходить и… падать
Первые шаги – сколько радости они доставляют всем: и ребенку, и взрослым! И сколько тревоги… Особенно побаиваются бабушки и мамы: а вдруг упадет? В мягкой кроватке это не так страшно, а если на твердом полу?
И – помогают. Учат ходить так, чтобы малыш не падал: держат за ручки, за воротник пальто, за шарф, сажают в специальные ходунки или надевают что-то вроде сбруи. И так до тех пор, пока ребенок не научится ходить.
Кому от этого хорошо? Конечно, прежде всего взрослым: так спокойнее. А малышу? Ему от такой «помощи» пользы мало. Ведь движения его скованны, он не чувствует своих возможностей, не узнает опасностей и совсем не учится… падать.
«А разве этому нужно учиться?» – спросите вы. Обязательно! Потому что бабушка и мама будут рядом не всегда, а в любой беготне, подвижной игре, спорте сплошь и рядом бывают ситуации, когда падения не избежать. Значит, сильный ушиб, травма может быть там, где умеющий падать отделается только легким испугом, а то и вовсе такой мелочи не заметит.
Спортсменов – особенно самбистов, акробатов, гимнастов, фигуристов, парашютистов – даже специально учат падать: группироваться, напрягать мышцы, смягчать удар спружиненными ногами, руками, перекатом. Но вот что интересно: всеми этими приемами куда легче, чем взрослые, и без всякого специального обучения овладевают дети в первые годы жизни – если, конечно, им позволят.
Много раз, видя, как виртуозно умеют падать наши ребята, как хорошо владеют своим телом, мы пытались вспомнить: а с чего же это начиналось? Ведь мы их этому специально не учили…
Но и не мешали им – вот в чем дело! Очень рано пуская их ползать по полу, позволяя им путешествовать по всем комнатам самостоятельно, мы не могли запретить малышу находить какую-нибудь опору, вставать с пола, а потом… и падать. Такие попытки встать, держась за что-нибудь, дети предпринимали десятки, даже сотни раз. И многие из этих попыток кончаются неудачей – падением. С самого начала у наших ребятишек это получалось очень ловко и даже немного потешно. Качнувшись назад, малыш легко складывался (точь-в-точь как перочинный ножик) и садился мягким местом на пол, а качнувшись вперед, выставлял ручки и становился на четвереньки. Когда ручонки сильные, они спружинят, и ни лоб, ни нос до пола не достанут. Чаще всего он при этом не успевал даже испугаться и продолжал путешествие как ни в чем не бывало. Ни мы, ни малыш этим падениям не придавали никакого значения и не опасались их. Только однажды мы серьезно испугались.
Девятимесячного Алешу пришлось как-то оставить на целый день у бабушки. А возвратившись домой вечером, без всяких предосторожностей, как всегда, я оставил его на полу посредине комнаты. И тут увидел совершенно необычную картину. Алеша сделал несколько шагов, остановился, качнулся назад и стал падать. Но падал он как-то странно, выпрямившись и закинув голову назад, и поэтому сильно стукнулся головой об пол. В чем дело? Я не мог понять, куда девалось его умение падать.
«Секрет» раскрылся на следующее утро, когда к нам пришла бабушка. Оказывается, она, боясь, что начинающий ходить Алеша может упасть, ходила весь день за ним следом и придерживала его затылок рукой. Чуть малыш качнется назад, а тут бабушкина рука, он затылком на нее опирался. Одного дня оказалось достаточно, чтобы Алеша заменил свой способ защиты от ушибов на бабушкин. А в результате – шишка на затылке. Этот случай еще раз убедил нас в том, что от такой «помощи» лучше воздержаться.
Много раз потом нам приходилось радоваться тому, что наши ребята в критические моменты (споткнулся, поскользнулся, не удержал равновесия и т. д.) выходили из положения удивительно легко. Вот только один пример.
Мы с двумя дочками быстро бежим по асфальтированной улице. Смеркается, мы торопимся доставить домой только что купленное мороженое. Младшая бежит, держась за мой палец, а шестилетняя Аня – на несколько шагов впереди. У каждого бегуна в руке эскимо. Бегут изо всех сил: мороженое-то тает. И вдруг Анюта на всем бегу споткнулась. Я к ней: ох и разобьет лицо об асфальт! Но она – падая! – успела изогнуться дугой, как конь-качалка, и перекатилась с коленей на живот, потом на грудь, а в то же время выставленная вперед свободная рука, как пружина, гасила инерцию тела. Тут же вскочив, она победно показала эскимо: вот, мол, целехонько! Я-то боялся, что Аня сильно разобьет лицо, а она, оказывается, тревожилась за судьбу мороженого. У нее даже нос в пыли не успел испачкаться.
И все-таки мы помогали малышам учиться ходить. Не только тем, что пускали их в спортивную комнату, где можно было найти много всяких опор и топтаться вокруг них. Мы еще давали малышу два своих пальца. Вначале эти пальцы были твердые, надежные, ребенок цепко держался и ходил со мной, мамой или старшими братишками и сестренками по всему дому. Но через несколько дней, когда ребенок начинал топать довольно уверенно, один из этих пальцев вдруг становился ненадежным, начинал качаться, двигаться, куда его ни потянешь, и уж никак не мог служить хорошей опорой.
Малышу приходилось поддерживать равновесие лишь одной рукой, держась только за «твердый» палец и бросив другой совсем, потому что толку от него было мало. А через некоторое время и вторая рука становилась все менее и менее надежной. Поневоле малышу все больше приходилось рассчитывать на свои силы, и он постепенно начинал ходить самостоятельно.
Бывало так, что малыш вполне мог бы уже обходиться и без опоры, но никак не решался сделать первый шаг, даже один – и то побаивается. Так у нас было с самым старшим.
– А вы дайте ему что-нибудь в руки, – посоветовала бабушка, – он отвлечется и перестанет пугаться.
Я протянул сынишке листок бумаги. Он взял его свободной рукой, а другой держался за мамин палец. Листок сразу заинтересовал его, и, забывшись, он взялся за него обеими ручками. В первый раз он простоял так с минуту! А уж дальше было легко. Одной из дочек такой же кусочек бумаги помог сделать первые шаги: она шла… держась за бумажку, как за опору. А шла сама.
Мы и позже не водили детей за руку, как обычно принято, а наоборот, они сами держались, если им хотелось, за мои или мамины пальцы. При этом ручонки малыша постепенно тренировались и крепли настолько, что, даже споткнувшись, он повисал на пальце и не падал. А для взрослого это удобно, так как палец удивительно тонко чувствует, крепко ли держится ребенок, насколько уверенно он уже ходит, можно ли идти с ним быстрее, или он устал и надо несколько шагов пройти спокойнее или даже посадить его на плечи.
«Всадники» и «кони»
Малыши, как известно, любят кататься на папиных плечах верхом. Но из меня всегда получается «норовистый конь», который не терпит, чтобы на нем сидели мешком, зато любит «всадников» сильных, ловких, смелых. Держа малыша за ноги, я наклоняюсь то вперед, то назад, то вбок, пытаясь «сбросить седока». И маленькому наезднику приходится, обхвативши мою голову или вцепившись в «гриву», постоянно удерживать вертикальное положение. А это совсем не легко, потому что «конь» к тому же еще и скачет, подпрыгивает и даже может присесть.
Как крепко держатся маленькие ручки, как напрягается животик! Я говорю одобрительно: «Ну и всадник крепкий попался! Никак его не сбросишь. А что, если одно стремя оторвется?» – и отпускаю одну ножку. Малыш мгновенно стискивает мою шею обеими ногами и еще крепче хватается за «гриву». Не поймешь: то ли это игра, то ли физкультура, зато обоим весело, и нагрузка порядочная и для «коня», и для «всадника».
Когда же малыш начнет седлать четвероногую мебель, тут сначала приходится держать ухо востро. Табуретки и стулья тоже могут проявлять «норов» и сбрасывать неумелого седока на пол, особенно если малыш карабкается со стороны спинки стула. Что делать? Первое, почти инстинктивное желание – подержать стул, чтобы он стоял крепко. Чаще всего так и поступают, и при этом не только стул держат, но и ребенку помогают влезать. Малыш тут в безопасности, так как рядом взрослые. А если он полезет без них? Бояться ему не надо, ведь стул раньше стоял так крепко. Он и лезет без всякой опаски и – трах-тарарах! – летит на пол, а стул на него. Значит, не спускать с него глаз?
Нет, мы делали иначе. Когда малыш только приступает к «обузданию» самых разных мебельных «коней», мы обязательно продемонстрируем их «коварство»: не удерживаем их, а наоборот, незаметно «поможем» им наклониться на малыша, чтобы тот почувствовал сам неустойчивость стула или табуретки. Тогда он прижимается к «коню» как можно ближе, лезет очень осторожно и тотчас сползает вниз, если заметит, что «конь» наклоняется. Так мы знакомим малыша со всей «коварной» мебелью, на которую он уже в силах забраться, но сами не ставим его на стулья и не поднимаем туда, куда он сам не заберется.
Ребенок делает только то, что сам может, – этого принципа мы придерживаемся всегда, в том числе и во время знакомства со спортивными снарядами. Даже на качели мы никого не сажаем и не раскачиваем – каждый должен научиться этому сам. Для него это и полезнее (развивается), и интереснее («Ура, я сам могу!»), и… безопаснее (ведь он становится осторожнее!). А для мамы и бабушки – облегчение, потому что постоянная утомительная опека становится просто не нужна. Самостоятельность не только делает малыша сильнее, смелее, сообразительнее, инициативнее, но и очень заметно облегчает жизнь взрослых, если, конечно, им нужно в ребенке не одно только послушание…
Движение – всему начало
Создавая малышам условия для разнообразных движений и позволяя им двигаться, сколько они захотят, мы и не подозревали, что тем самым не только развивали мышцы детей, но и укрепляли их внутренние органы. Мы узнали, что развитие скелетно-мышечной системы ребенка, достигающее высокого совершенства, оказывается, «вытягивает» (ученые говорят: коррелятивно вызывает) развитие всех других органов и систем организма. Если ребенок побежал, то у него, естественно, учащается пульс, он начинает глубоко и часто дышать, потому что мышцы в беге выполняют большую работу, а обслуживающие их сердце, легкие и другие системы должны, естественно, увеличить свою производительность, повысить свою мощность. Значит, ребенок, много двигающийся, хорошо развитый физически, обязательно имеет и крепкие внутренние органы. Получается, чтобы ребенок был здоров, надо как можно лучше развить его физически.
Кроме того, активная физическая деятельность способствует и… умственному развитию малышей. Ученые США провели такой интересный эксперимент.
Шесть храбрых мам согласились учить своих новорожденных ребятишек ходить. Они «ставили» их на стол, а фактически просто держали их под мышки и шли тихонько вдоль стола так, чтобы малыши сначала только касались стола ступнями ног, но этого было достаточно, чтобы работал «шаговый рефлекс» и ножки переступали по столу. Головка ребенка при этом была опущена на грудь, это «ходьбе» не мешало. Упражнения сначала длились всего по одной минуте трижды в день. Вскоре малыши уже начали хорошо переступать ногами, и матерям не нужно было держать их на руках, они лишь помогали детям сохранять вертикальное положение.
В результате малыши начали ходить самостоятельно в шесть-семь месяцев, а их контрольные сверстники, лежавшие в это время запеленатыми в кроватках, – только в двенадцать, как полагается всем «нормальным» детям. Но удивило ученых не столько их раннее овладение ходьбой, сколько другое обстоятельство – эти шестеро малышей сильно обгоняли сверстников и в умственном развитии.
Теперь известно, что можно успешно использовать плавательный рефлекс новорожденных и научить плавать детишек первых месяцев жизни. И опять внушительные статистические данные: более шестисот детей, научившихся плавать раньше, чем ходить, превышали по умственному развитию детей, не обучавшихся плаванию в столь раннем возрасте.
Таким образом, если не заставлять малыша в первые месяцы жизни лежать завернутым в кроватке, если не ждать, пока исчезнут (это происходит примерно через три месяца) врожденные рефлексы, а попытаться их использовать и развить, тогда малыш будет успешно развиваться не только физически, но и умственно. Видимо, при овладении ходьбой, плаванием и «гимнастикой» совершенствуются не только соответствующие отделы мозга, но и все другие.
Может быть, в этом возрасте овладение движениями и есть один из главных видов умственной работы малышей?!
Малыш и те, кто с ним рядом
Б. П.: В начале своего родительского пути мы даже и предположить не могли, что первый год человека – это год запуска всех его возможностей к развитию, всех способностей, как бы стартовая площадка будущей жизни человека. Не преувеличение ли это? Ведь речь идет всего-навсего о первом годе жизни малыша. Нет, не преувеличение! Теперь-то мы твердо знаем: развитие способностей ребенка, даже его характера, во многом зависит от того, что он узнает на первом году жизни, как он это делает и какой способ общения с ним избирают взрослые. В это трудно поверить, но как много еще здесь невыясненного, неожиданного по своим результатам!
На руках или в кроватке?
Казалось бы, простой вопрос: надо ли носить малыша на руках, или он должен лежать больше в кроватке? Большинство скажет: приучать к рукам нельзя – ребенок «руки свяжет». Видимо, это так и есть, если носить ребенка на руках и заниматься только им, всячески развлекая и ублажая его. А мы, признаемся, с самого первого месяца брали детишек на руки часто. Мама при этом даже домашней работы не прекращала – приспосабливалась: то прислонит его к плечу, поддерживая спинку, то положит животиком к себе на колени, то просто держит, как держат обычно, только одной рукой (другая нужна для разных дел).
Все это без какого-то специального умысла: просто она чувствовала, что малышу лучше с ней. Не удобнее (какой уж тут комфорт, если одной рукой его тискаешь, а другой кашу мешаешь, или дрова подкладываешь, или книгу перелистываешь), а спокойнее (мама рядом) и интереснее: он вертит головой, с любопытством глядит кругом. В поле его зрения – то окно, то пестрая посуда, то разноцветная ткань, то раскрытая книга или шуршащая газета – да мало ли что! А тут еще и говоришь с ним, называешь разные предметы, с которыми имеешь дело: «Сейчас достанем ложки, чашки, хлеб… а что там на полочке?» и т. д.
Важно это или неважно? Мы этого не знали, но часто носили на руках малышей. Мы заметили даже, что после таких «прогулок» ребенок и в кроватке играл охотнее и дольше, как будто бы на какое-то время заряжался впечатлениями. И тогда мы совсем перестали опасаться, что он привыкнет к рукам.
Когда появляются собственные дети, волей-неволей начинаешь больше наблюдать за детишками на улице, исподволь даже сравнивать своих с другими. Может быть, потому мы обратили как-то внимание (понаблюдайте сами, проверьте!) вот на что: у некоторых малышей в коляске взгляд равнодушный, ленивый, какой-то тусклый, как у утомленных жизнью старичков. Они не смотрят по сторонам, не удивляются ничему и не радуются: сытые, малоподвижные, нелюбопытные.
Нас это удивило: мы не видели такого у своих ребят, которым всё всегда было интересно. В чем дело? Может быть, здесь сказываются какие-то врожденные особенности психики? На этот вопрос мы ответить не могли. А потом как-то прочитали вот что.
Африканские матери носят обычно новорожденных за спиной. Ребенок постоянно при матери: во время ходьбы, любой работы, на праздниках, ночью и днем. То, что видит она, видит и он – какая смена впечатлений! Да еще и постоянное чувство защищенности, физической близости к матери. И что же? Африканские двухлетние малыши по интеллектуальному развитию намного обгоняют своих «кроватных» европейских сверстников из цивилизованного общества. Потом, конечно, может произойти отставание – так на ребенке сказывается уровень развития общества.
В последнее время психологи экспериментально доказали, что в первые месяцы жизни малыш очень много получает от простого рассматривания окружающих его предметов. Даже обычное поворачивание малыша на бочок или укладывание его на животик позволяют ему сразу видеть многое из того, что происходит вокруг. А при этом он и голову начинает держать раньше, то есть крепнет физически.
Вот к каким удивительным открытиям привело размышление над простым вопросом: стоит ли носить ребенка на руках или держать его в кроватке и возить в коляске – загородив от всего белого света, оставив для обозрения только кусочек неба да мамино лицо, которое частенько и обращено-то не к нему, а к книжке или… к другой маме с коляской.
Внимание: опасность!
Малыш растет. Вот он уже садится, сам встает, ползает, делает первый шаг. Обычно его в это время держат – для безопасности! – в кроватке, в манеже, в защищенном уголке комнаты. А мы, верные своему принципу предоставлять детям как можно большую свободу и поле деятельности, пускаем своих ползунков путешествовать по всему дому, позволяем пощупать мир своими руками.
Но сколько опасностей подстерегает маленького человека на его пути! Чуть недосмотрел – и стукнулся лбом об удивительно неприятный угол стола или стула, едва потянул к себе маленькую скамеечку, а она упала прямо на пальчики другой руки. Вещи бесчувственны и совершенно беспощадны: не прощают ни одной ошибки, ни одного промаха – наказывают, и иногда так больно. Как быть? Ходить за «путешественником» целый день по пятам? Убрать все опасные предметы? Загородить каждый острый угол подушкой? Нет, мы сделали по-другому. Мы стали знакомить малыша с опасностью, чтобы он сам становился осторожным.
Мы уже рассказали о том, как малыш постигал «коварство» разной мебели. Так мы делали и с остальными вещами. Оставляли, например, в доступных для малыша местах разные предметы и игрушки, чтобы он мог брать их, пробовать на вкус, на зуб, на стук – словом, исследовать всеми ему доступными средствами. Среди разных безопасных предметов «попадались» (опять-таки с нашей помощью) и вещи с «сюрпризами».
Братья умеют и залезать на лестницу, и спускаться с нее самостоятельно. 1962 год
Вот высоко на столе стоит кружка, которая оставлена здесь как бы невзначай. Она уже знакома десятимесячной дочке, бывала у нее в руках с молоком или чаем. Малышка без опасения тянет кружку к себе – и какая неприятность: из кружки выплеснулась вода прямо на трусики – сплошное огорчение! Но и польза: после двух-трех таких сюрпризов она не тянет уже со стола не только кружку, но и другие предметы.
Так, обязательно в нашем присутствии, мы давали возможность познакомиться малышам с иголками, булавками, ножницами… Допустим, мама шьет, а малыш сидит на высоком стульчике рядом с нею, перебирает разные лоскутки, катушки, пуговицы, среди которых на первых порах мелких нет, но вот иголка (не без маминой помощи) может и попасться. А иногда мама даже специально кладет блестящую булавку на видное место. Малыш, конечно, тянется к ней, вот-вот возьмет.
– А! А! – говорит мама (это сигнал, предупреждающий об опасности). – Острая, больно будет!
Булавку он все-таки взял, хотя и с некоторым опасением. А мама берет его руку, повторяя:
– Больно! Острая! – И тихонько укалывает кончиком булавки его пальчик. – А! А!
Малыш морщится, ему немножко и в самом деле больно, он опасливо отдергивает руку. А через два-три таких «урока» сам показывает на кончик иголки или булавки и говорит озабоченно: «А! А!»
А как привлекателен для малышей огонь! Они готовы схватить руками пламя спички, раскаленный уголек – ведь это так красиво! А сверкающий никелем чайник, утюг – ну как к ним не потянуться!
Спрятать? Тогда они станут еще более притягательными: запретный плод сладок. И мы разрешаем схватить, прикоснуться – так, чтобы это было неопасно, но чувствительно. И всегда предупреждаем: «А! Больно будет, горячо!» Но после этого ничего не прячем: попробуй сам, так ли это. Зато спустя некоторое время достаточно сказать: «А! Больно будет!», и малыш уже верит на слово, может даже заплакать от огорчения. А самое главное, он сам становится всё осторожнее и внимательнее. А это куда более надежная защита от всяческих опасностей, чем самая тщательная опека взрослых.
Недаром, видно, говорят индусы: «Умные родители иногда позволяют детям обжигать пальцы».
Постепенно у нас накопился опыт, который мы обобщили в специальной статье. Приведем ее здесь полностью, так как эта проблема касается всех без исключения семей.
Два пути предупреждения детского травматизма
Жизнь наша развивается противоречиво. С одной стороны – переселение в комфортабельные квартиры, освобождение от тяжелого физического труда, облегчение всей жизни, а с другой стороны – появление новых опасностей в жизни: многоэтажные дома, асфальтированные дороги, бетонные ступени и насыщенные машинами улицы, электричество и газ в каждом доме.
В этой сложной обстановке даже уменьшение числа детей в семье и организованная забота о них в яслях, детсадах и школах не спасают положения, и детский травматизм непрерывно растет. Возможны два различных пути его предотвращения.
Первый заключается в стремлении взрослых УВЕЛИЧИТЬ КОМФОРТ жизни себе и детям, обезопасить жизнь, УБРАВ ОТ РЕБЕНКА ОПАСНОСТИ или ребенка от них. «Прячьте спички от детей!», «Вы, родители, в ответе, если спички взяли дети!», «Если увидите у детей такие опасные игрушки, как рогатки, острые палки, самодельные копья и стрелы, постарайтесь их ОТОБРАТЬ» – кричат надписи плакатов, выпущенных пожарниками, врачами, работниками ГАИ.
А если опасность убрать нельзя, то: «Не оставляйте детей без присмотра!», «По неосмотрительности взрослых в руки детей попадают ножницы, остро заточенные карандаши, вилки, гвозди и другие острые предметы», «Не пускайте детей купаться в реке без вожатого или взрослого!».
Словом, «водите за ручку» ребенка как можно дольше, заботьтесь о ребенке, СНЯВ тем самым С РЕБЕНКА ЗАБОТУ и о себе самом, и о других. Такой путь борьбы с травматизмом, хотя он является официальным и самым распространенным, БЛИЗОРУК, направлен лишь на сиюминутный результат. Дети при этом остаются в НЕВЕДЕНИИ: они не знают об опасностях в окружающей жизни, не учатся быть сами осторожными, остаются неумелыми в обращении с опасными предметами, слабыми при встрече с трудностями. Положение осложняется еще и тем, что городские дети растут физически слабыми, и для них опасными стали даже простые падения на землю, на асфальт, на пол в квартире или в школьном коридоре.
Итак, оградить детей от опасностей – значит заведомо сделать их слабыми, объективно способствовать росту детского травматизма.
Второй путь – сознательно ГОТОВИТЬ РЕБЕНКА к встрече с трудностями и опасностями, которые всегда были, есть и будут в жизни. Надо воспитать ребенка так, чтобы он:
1) знал об опасностях, встречающихся в жизни, был осторожен сам и учил этому других детей;
2) умел обращаться с опасными предметами, инструментами и веществами;
3) был сильным, ловким, сообразительным, чтобы легко выходить из сложных и опасных положений.
Как это сделать?
У нас семеро детей от 7 до 20 лет, и за 20 лет (а к 1994 году – за 35) ни у кого из них (так же, как и у двенадцати внуков) не было серьезных травм (переломов, вывихов, сотрясений мозга, ожогов и т. п.), хотя они живут в «зоне повышенной опасности», так как в доме и во дворе много спортивных снарядов и сооружений, есть мастерская со множеством инструментов, в том числе электрифицированных, и с другими опасными вещами. Все это было доступно для детей с самого раннего возраста. Мы считали, что ребенку надо предоставить как можно больше возможностей в познании мира, чтобы малыш сам ориентировался в нем, чувствовал себя уверенно и предвидел возможность неприятных последствий своих действий. Поэтому мы не убирали от детей опасные вещи (иголки, спички, ножницы, ножи и т. п.) и не прятали ребенка от опасностей, а сразу, ПРИ ПЕРВОЙ ВСТРЕЧЕ ЕГО С ОПАСНОСТЬЮ, ЗНАКОМИЛИ МАЛЫША С НЕЙ, чтобы он знал, что опасность есть, и знал, ЧЕМ ОНА ГРОЗИТ, какую неприятность может сделать.
При этом у нас постепенно выработались определенные приемы и привила. Перечислим основные из них.
1. Мы заметили, что всякое прятание, утаивание, запрещение только возбуждают любопытство ребенка и усиливают тягу к «запретному плоду». Опасность при этом только увеличивается, так как ребенок обязательно воспользуется отсутствием взрослых, «дорвется» до опасной вещи и может наделать много бед. Поэтому мы всегда стараемся, чтобы самое первое знакомство с притягательными, но опасными вещами (огонь, утюг, электроплитка, спички, иголки и т. д.) состоялось в присутствии умелого и умного взрослого или старшего, чтобы избежать тяжелых последствий.
При этом взрослый не должен быть безучастным свидетелем, а должен предупредить ребенка: «больно!», «горячо!», «упадешь!» и т. п., а дальше НЕ МЕШАТЬ РЕБЕНКУ ПОПРОБОВАТЬ, так ли это. Конечно, при этом взрослому приходится быть начеку, чтобы обеспечить безопасность ребенка и дать ему урок.
С пяти-шести месяцев пускали малыша ползать по полу босичком по всей квартире и первое время следили за ним, но не боялись, что его «поучит» угол ножки стола, стул, табуретка, скамеечка, которые не прощают неумелого обращения.
2. Не боялись, если «урок» причинит ребенку боль, неприятность, маленький ожог, ранку. Двух-трех таких «уроков» оказывалось обычно достаточно, чтобы ребенок становился осторожным.
Бабушки считали нас жестокими, бессердечными, так как мы «позволяли» ребенку получить синяк от ушиба, порезаться ножом или обжечь палец, трогая горячий утюг. А мы видели, что только такой – чувствительный – урок действительно учит малыша, и поэтому шли на него, понимая, что это «предохранительная прививка» для будущего. Дети знали, например, что зажигать бумагу и иметь дело со спичками можно только около печки, где пол обит листом железа, а рядом на скамейке стоят два ведра с водой. Не нарушали этого правила ни они, ни мы, взрослые.
3. Мы даже делали специальные «ловушки», например, ставили кружку с холодной водой, когда малыш тянул все со стола. «Помогали» уколоться иголкой или булавкой, позволяли пилить пилой, забивать маленьким молоточком гвозди.
Чтобы ребенок узнал, что током «бьет», применяли магнето от трактора или автомашины. Там ток очень слабый, вреда не принесет, но удар будет достаточный, чтобы вызвать очень неприятное ощущение у малыша, взявшегося за оголенные провода магнето.
4. При встрече с большой опасностью, где применение «малых доз» невозможно (поезд, автомашина, строительный кран и пр.), мы не пускались в рассуждения и объяснения, а в первый же раз переживали испуг, проявляли опасение и осторожность, чтобы ребенок видел ОБРАЗЕЦ ПОВЕДЕНИЯ в данной ситуации. Например, выходя впервые с малышом на улицу, бросались в сторону от автомашины подальше, чтобы он опасался уличного транспорта, внимательно смотрели направо и налево, остановившись перед проезжей частью улицы.
5. При переходе через улицу, во время дальних прогулок и путешествий мы «перекладывали» ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за безопасность всех со взрослого НА РЕБЕНКА: хвалили тех из ребятишек, кто первый заметил приближение автобуса, а трех-четырехлетнему уже давали поручения: «Переведи маму через улицу, а то она плохо видит – как бы не попала под машину». Когда шли на речку купаться целой компанией, кого-то из малышей брали «в проводники» и подчинялись его команде, когда можно переходить улицу, а когда нельзя. Наша семнадцатилетняя дочь до сих пор помнит, что когда она (четырехлетняя) «вела» папу в молочную кухню, то папа сворачивал «не туда, куда надо» (папа делал это, чтобы проверить, знает ли она дорогу и следит ли, куда надо идти).
6. При знакомстве с опасными инструментами рядом всегда находился работающий этим инструментом старший или взрослый, чтобы ребенок видел, КАК инструментом работают.
Спрашивали, например: «Почему папа, работая на циркулярной пиле, сначала подает доску руками, а под конец толкает ее планкой?» (чтобы рука не попала под пилу).
7. Мы не запрещали опасных игр, а учили соблюдать меры предосторожности. Если дети делали лук со стрелами, рогатки и тому подобное «оружие», то отец помогал им построить «тир», установить цели – например, из консервных банок, – и обязательно отметить «линию огня», за которую нельзя заходить. Так он учил детей элементам той техники безопасности, которую соблюдают солдаты во время стрельб.
Одного знания опасностей и вызываемого этим повышения осторожности недостаточно. Необходимы еще сила, ловкость и ум, т. е. умение выходить из сложных ситуаций. Этим занимался в основном отец – с первых дней жизни ребенка.
Сначала просовывал в сжатые кулачки ребенка по пальцу и пробовал посадить его, поставить на ножки, а потом и приподнимать на несколько секунд.
С трехмесячного возраста в коляске или кроватке укреплял палочку, за которую малыш мог браться и, подтягиваясь на ней, садиться и вставать на ножки. К этому времени у него были настолько крепкие ручонки, что, если малышу случалось вывалиться из коляски, он всегда успевал за что-нибудь уцепиться и держаться до тех пор, пока взрослые не прибегали на плач.
А когда малыш начинал ползать по полу, мы ставили раскладушку или каркас от нее, протягивали через комнату канат, подвешивали гимнастические кольца и турник на высоте 80 см от пола, чтобы ползунок мог находить опору и становиться на ножки, а шлепнувшись, снова подниматься. Обучаясь ходить, малыш вначале, конечно, частенько падал: если назад – то садясь на пол, если вперед – выставив перед собой ручки. Так он научался падать раньше, чем ходить, и доводил это умение до совершенства, что часто потом его выручало в трудных ситуациях. Одновременно мы стимулировали развитие ловкости и силы тем, что целую комнату в доме превратили в спортивную: два турника, кольца, канат, шест, «лианы», резинки для прыжков (эспандеры), мешки с песком (от 1 до 18 кг), имеющие две рукоятки, и т. п.
Сейчас уже разработаны целые спортивные комплексы для городских квартир (первый из них – комплекс В. С. Скрипалева: Скрипалев В. С., Никитин Б. П., Голубев Ю. В., авт. свидетельство № 587949 от 21.09.78 г.; комплекс имеет 11 спортивных снарядов, занимает площадь в 3 кв. метра). Первое впечатление человека несведущего – комната стала для ребенка «зоной повышенной опасности». В действительности – наоборот: спортивные снаряды составили сферу обитания ребятишек и резко подняли двигательную активность детей, величину силовых нагрузок и сделали их в два-три раза сильнее сверстников. Видимо, во столько же раз увеличилась и прочность костей, связок, мышц.
Семилетняя Люба качается от одной стены комнаты до другой, держась за кольцо ОДНОЙ рукой. Ваня уже в 8 лет мог нести на спине отца, вес которого в три раза превышал собственный вес Вани. Дети мягко спрыгивают на пол с высоты 1,5–2 своих ростов, влезают на гладкий металлический шест высотой почти 6 метров за 6–7 секунд (Ваня). Играя на спортснарядах, придумали массу упражнений, которые не могут сделать взрослые («вертолет», вис на носках и др.).
Дети в таких условиях умеют точно ОЦЕНИТЬ ПРЕДЕЛЫ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ (двухлетняя Оля спрыгивает на пол с высокого стульчика, но не прыгает со стола, хотя он только на 12 см выше стульчика и с него прыгают старшие братья), а разнообразнейшие ситуации, возникающие на спортивных снарядах, позволяют им интуитивно легко выходить из трудностей. Вот несколько эпизодов из жизни наших детей.
Папа устроил под потолком «гнездышко», куда ребята постелили старое одеяльце и очень полюбили его как место для уединения, для чтения книжки, подобное тому «дому», какой они иногда делают под столом. Однажды пятилетний Алеша, со стопкой книг в руках, поднимался туда по наклонной спортивной лесенке. Руки у него были заняты книгами, и он поэтому влезал медленно, ставя босую ногу на круглую перекладину и опираясь коленом на следующую. И вот, когда оставалось сделать последний шаг к «гнездышку», Алеша вдруг качнулся назад. Картина была жуткая, ведь руки заняты и за лесенку схватиться нельзя. Но Алеша нашел блестящий выход. Он мгновенно развел руки в стороны и, повернувшись почти на 180°, спрыгнул с лесенки на пол. Папа бросился к Алеше, а тот, увидев испуганного отца, стал его успокаивать: «Я сейчас всё соберу!» – и принялся подбирать рассыпанные книги. Папу испугало то, что Алеша упадет с лесенки вниз спиной, а Алешу – что он уронил на пол книги: к этому возрасту спрыгивать с высоты полутора-двух своих ростов для него было и обычным, и привычным делом, а вот рассы́пать книги по полу – это большая неприятность для пятилетнего человека.
Антоше было и того меньше (3,5 года), когда он, сидя на корточках на нижнем турнике и держась руками за верхний (у нас долго стоял двойной турник: один – на 1 м от пола, а второй – на 1,7 м), решил спрыгнуть на пол. Он отпустил верхний турник, но при этом качнулся не вперед, куда хотел спрыгнуть, а назад. Папа увидел это и бросился к нему, но не успел и опять поразился, как ловко Антон избежал падения на спину. Чувствуя, что клонится назад, он тут же просто спрыгнул с нижнего турника назад, а не вперед. «По дороге» попробовал зацепиться ручками за нижний турник, но руки, хотя и притормозили падение, сорвались, и Антоша приземлился сначала ножками, а потом присел и… ни удара, ни синяка, ни царапины, ни испуга.
Этим УМЕНИЕМ ПАДАТЬ удивляли не только мальчики, но и девочки. Как падала пятилетняя Любочка, мы не видели, но Ваня рассказал: она долезла по наклонно натянутой «лиане» почти до потолка, и тут… «лиана» оборвалась и Люба падала вниз спиной. Но в полете успела, как кошка, перевернуться и уже встретила пол ручками и ножками. И хотя был большой «гром» от удара, сильные руки и ноги максимально смягчили падение и не допустили серьезной травмы.
Сколько было подобных и разных падений, доходило до синяков, ссадин, царапин (кстати сказать, синяки укрепляют иммунную систему организма), но разбитого носа ни у кого из ребят мы не видели.
Чтобы уменьшить вероятность травм в спортивной комнате, взрослые и старшие дети соблюдали РЯД ПРАВИЛ:
1. Не брали маленького ребенка за руку, а давали ему свои пальцы, чтобы он САМ за них держался, когда идет или бежит рядом. Так исключается растяжение связок, но идет тренировка и укрепление их.
2. Не поднимали к высоким кольцам и турнику, если ребенок САМ не может влезть туда и слезть оттуда, а опускали их, чтобы ребенок мог САМ дотянуться.
3. Не раскачивали ребенка, повисшего на кольцах или резинках, так как невозможно точно определить, насколько крепко он держится. Пусть САМ раскачивается в меру своего умения, отталкиваясь от пола в середине кача или от стены в конце кача.
4. Обучали детей правилам страховки во время опасных упражнений и пониманию того, что эта страховка необходима. Для этого кто-нибудь стоял рядом с турником, чтобы поймать при срыве, или сидел на всякий случай под лесенкой, куда лез малыш и мог скатиться.
5. Учили не мешать занимающемуся на спортснаряде (не смешить, не дразнить, не пугать, не перебегать линию качания снаряда).
6. Если появился новый спортивный снаряд или ребята изменили установку старого (привязку каната и т. п.), то обязательно проверяли снаряд на прочность (выдерживает ли взрослого?).
7. Хвалили за достижения, но не провоцировали на упражнения, превышающие возможности ребенка.
Правила эти составлены впервые, поэтому требуют дополнения, уточнения, детализации, но мы убеждены, что этот путь является эффективным для снижения детского травматизма.
Исследователю Антону – 11 месяцев. 1961 год
Мир познается самостоятельно
Б. П.: С остальным – безопасным – миром малыш знакомится сам. Мы не торопимся бежать на помощь, если он может до чего-то додуматься сам, не прерываем его занятий, если он чем-то увлечен. Нас нередко удивляла способность малышей, даже таких крошечных, к длительной сосредоточенной деятельности.
Вот запись мамы в дневнике: «Сегодня Оле исполнилось одиннадцать месяцев, и она удивила меня своими исследовательскими способностями. Я стирала на низенькой скамеечке, а она больше часа стояла рядом и производила разные операции с пузырьками и огрызком карандаша: то пускала карандаш плавать, то выуживала им пузырьки и наблюдала, как они лопались, то делала речки из лужиц на полу… Время от времени мне только нужно было посмотреть и удивиться: “Ну и чудеса! Вот так Оля!” – и она снова продолжала играть, делая какие-то свои очень важные открытия и делясь со мною своею радостью. Я успела все, что надо, перестирать, а для дочки это время тоже не пропало даром».
Позже мы поняли, что детям как раз и нужно не внимание-опека, а внимание-интерес. И чем дальше, тем нужнее.
Американские психологи обратили внимание на то, что разница в уровне развития, еще незаметная в десятимесячном возрасте, быстро растет и к школе становится огромной: одни дети развиты, понятливы, сообразительны, легко учатся, а другие никак не поймут, что от них требует учитель.
Что же делают с детьми родители, и в первую очередь матери, если к школе дети становятся столь разными? Психологи составили программу наблюдений и послали исследователей в семьи с десятимесячными малышами. Оказалось, что одни матери (и таких большинство) добросовестно и усиленно опекают и охраняют своих младенцев и держат их в кроватках или в манежах, окружая пестрыми и безопасными игрушками. В этих условиях мать спокойно занималась своими делами, не опасаясь, что ребенок ушибется, что-то возьмет или испортит. Зато ребенок находился в положении узника – то же скудное общение с людьми, та же узость деятельности.
А вот несколько матерей отважились пустить детишек самостоятельно ползать по всей квартире. При этом они не оставляли домашних дел, не развлекали своих малышей, но никогда не отказывали им в «консультации» и помощи в случае необходимости. Малыш получал огромное «поле для исследования» и массу предметов с самыми разными свойствами. А вместе с тем он имел неизмеримо больше возможностей общаться с матерью, которая могла позвать его к себе, дать совет, могла похвалить за какие-нибудь успехи, поддержать в трудном случае, поговорить с ним или просто улыбнуться для поддержания настроения. Таким образом, ребенок здесь был свободным исследователем и имел постоянно мудрого и доброжелательного консультанта. Ученые были поражены, насколько быстро развивались такие дети по сравнению со своими сверстниками, сидящими в манеже. Они и в дальнейшем намного обгоняли бывших «узников» в развитии.
Мы не знали об этих экспериментах американских ученых и в своих действиях руководствовались не столько педагогическими соображениями, сколько простой необходимостью. Нашему первому сыну было всего пять месяцев, когда мы построили себе дом и перешли в него жить. Надо было утеплять и оборудовать дом, каждый день готовить дрова, уголь и топить печь, носить из колонки воду. Правда, я тогда работал учителем труда в школе и был занят утром, а мама заведовала библиотекой и работала в основном вечерами, так что кто-то из взрослых был обычно дома. Но работы в доме было столько, что специально сынишкой заниматься было совсем некогда.
Зато в каждой работе нам неизменно «помогал» Алеша. Пока мама мыла посуду, он мог перебрать в своей коляске чуть ли не всю кухонную утварь. Когда ему это надоедало, мама умудрялась, держа его на левой руке, все делать в кухне одной правой. Но мне-то для работы нужны были обе руки, потому что ни молотком, ни рубанком, ни пилой одной рукой много не наработаешь. И вот я ставил коляску с малышом поближе к мастерской, и мы оба принимались за дело: я забивал молотком гвозди – сын стучал кубиком по кубику. Я орудовал отверткой или плоскогубцами – сын перебирал моточки разноцветных проводов.
К нашей радости, Алеша с шести месяцев уже с удовольствием ползал, а в восемь с половиной начал ходить. С тех пор я использовал его «мобильность» полностью – пускал сына сразу на пол. Его ожидали там разные игрушки и строительные материалы, коробки, из которых можно было что-то доставать или укладывать много-много кубиков или кирпичиков; ведерко, полное самых маленьких мячиков, которое можно схватить одной рукой и доставать их оттуда один за другим или, наоборот, бросать туда и заглядывать внутрь, где же этот мячик там лежит. Этих занятий хватало на полчаса, а потом Алеша приползал ко мне и тянул руки к моему молотку. Приходилось молоток уступать сынишке, а это не всегда было возможно, да и молоток был ему великоват. Поэтому скоро я приобрел целый набор игрушечных столярных инструментов, и Алеша с удовольствием обстукивал маленьким молоточком все, что кругом можно было обстучать. Когда я что-нибудь прибивал, он любил вынимать из банки или коробки по гвоздику и подавать их мне. А еще очень нравилось ему собирать рассыпанные на газете гвозди и укладывать их в коробку или баночку – это увлекало его надолго. Я был, конечно, доволен «помощником», похваливал его и… высыпал гвозди на газету даже чаще, чем этого требовала необходимость.
А когда Алеша стал подниматься на ножки и, опираясь о стенки, путешествовать «на двух», я установил в комнате маленький турничок, а потом повесил кольца (на высоте всего 80 сантиметров от пола). Постепенно появились и канат, и шест, и лесенка. Поднимаясь с четверенек и хватаясь за турник, Алеша улыбался, довольный. Дополнительная опора, когда на ноги надежда еще плохая, оказывается как нельзя кстати такому малышу.
Теперь Алеша не только «изучал» стулья, табуретки, диваны и мои столярные инструменты, но мог уже устраивать себе «физкультминутки». Сначала он просто поджимал ноги и повисал на кольцах, довольно улыбаясь и смотря в нашу сторону в ожидании похвалы, а потом стал даже покачиваться на них.
Я старался его поддержать и в свободную минуту тоже подходил к турнику или кольцам поразмяться. Сколько же удовольствия это доставляло нам обоим!
Так наше простое житейское стремление как-то выкроить время для своей работы и в то же время не оставлять детей одних оказалось педагогически очень целесообразным: у детей был широкий простор для разнообразной деятельности, и росли они самостоятельными (подолгу могли играть сами, без руководства и участия взрослых), инициативными (охотно придумывали новые занятия, упражнения, игры), общительными (легко вступали в контакт со сверстниками и взрослыми) и любознательными (интерес ко всему с каждым годом у них только растет).
Однажды к нам приехала мама с двухлетним сыном и жаловалась на то, что она с ним совсем измучилась:
– Кажется, все делала как положено, а он какой-то вялый, ко всему равнодушный. И я ему тоже не нужна. Даже обидно. Может быть, он отстает в развитии?..
– А где вы работаете? – спросил я. – Много ли бываете с мальчиком дома?
– С утра до вечера. Из-за него я ушла с работы, решила до школы с него глаз не спускать, получше подготовить к школе.
«Маленькая лаборатория»: каждый занят своим важным делом. 1964 год
Когда мы понаблюдали за нею и сыном, то довольно скоро убедились, что мама, ежесекундно «воспитывая» сына (то прогулка, то еда, то обучение по картинкам и т. д.), ни минуты не оставляет ему для самостоятельного познания мира – все преподносит ему готовым, да притом «перекармливает» его всем: и едой, и заботой, и режимом, и впечатлениями. Мы с грустью наблюдали, как идет это «сверхизбыточное» воспитание, и пришли к единодушному заключению: малышу не хватает занятой мамы, а от свободной его уже тошнит.
Потом мы узнали, что у нее родился второй ребенок, она стала работать, и все пришло в норму: ее внимание поневоле рассредоточилось и перестало быть гипертрофированным и вредным.
Вот говорят: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Нам кажется, что это неверно. Очень важно, чем, как, когда занимается малыш. И как относятся к этому взрослые.
Игры и игрушки
Давно известно, что первые игрушки младенца – погремушки. Накопилось и у нашего первенца их довольно много – дарили родные и знакомые. Но почему-то они очень недолго занимали сынишку: постучит он ими по кроватке и бросает через минуту. А вот Маша-неваляша, издающая мелодичные и нежные звуки, надолго стала его любимицей. Может быть, секрет здесь был именно в разнице звуков: однообразно шуршащие «погремушечьи разговоры» ребенку надоедали, а чистый, тонкий перезвон Маши-неваляши привлекал и радовал его как голос знакомого человека.
Потом мы заметили, что детишки к звукам прислушиваются очень рано, а затем пробуют извлекать их сами с помощью разных предметов: стуча ложкой по кружке, крышкой о кастрюлю и т. д. Наверное, в это время были бы хороши музыкальные игрушки типа ксилофона – только с хорошими, чистыми тонами. К сожалению, в продаже их нет, а мы сами подумали об этом поздновато – ребятишки уже подросли. А вот другое мы обнаружили довольно рано и широко пользовались этим «открытием» в играх со всеми своими малышами. Мы заметили, что ярким и привлекательным игрушкам сын явно предпочитал всякие неигрушечные вещи: разную посуду, дуршлаг, сбивалку-венчик, ершик, крышки, корзинки, нитки, кусочки разной материи, катушки, молотки, колеса, палочки, а из игрушек его больше всего привлекали крупные пластмассовые детали конструктора, кубики…
Постепенно мы поняли, в чем дело. Ну конечно, малыши предпочитают те предметы, которыми можно что-то делать или манипулировать (надевать – снимать, открывать – закрывать, вкладывать – вынимать, выдвигать – задвигать, возить, кружить, качать, катать и т. п.), причем множество раз и разными способами. Видимо, игрушки быстрее исчерпывают себя в этом отношении. К тому же малыши очень рано пытаются подражать старшим, потому тянутся к тем вещам, которыми пользуются окружающие, и пытаются копировать их движения, их действия.
Заметив все это, мы старались удовлетворить эту потребность ребенка: я пишу или читаю – и у сына, который сидит за столом на высоком стульчике, тоже лист бумаги и карандаш или детская книжка; мама посуду моет, а дочка кладет ложки в мыльную воду. Иногда попадают туда и чистые – ничего; главное – что-то полоскать в воде, «как мама». Мы терпели некоторые убытки во времени: надо было вытирать лишние лужи, больше убирать после совместного «труда», но мы шли на это, потому что было интересно наблюдать, как такой кроха чему-то учится.
Л. А.: А еще мы играли, обязательно выкраивая для этого время. И любимой игрой, как и у всех детишек, уже до года становились прятки.
Вот прыгнула ложка в мыльную воду:
– Люба, где ложка? Нету!
Дочка и в третий, и в пятый, и в десятый раз не устает удивляться: куда же делась ложка? Потом шарит ручкой в воде, и вот она! В глазах изумление и восторг.
Иногда я хитрила: незаметно вынимала ложку и прятала ее за мисочку. Снова маленькая ручка ловит что-то в воде, но ничего не находит. Недоумение, почти обида.
– Любаша, а посмотри-ка сюда. – Показываю ей кончик ложечки из-за миски. – Ага, нашлась!
Очень любят малыши и сами прятаться. Для этого достаточно отгородить ребенка пеленочкой или набросить на него пеленку сверху и сказать:
– Ку-ку! Где Любочка? Вы не видели Любашу? – Малышка замирает на несколько секунд. Для нее это так удивительно: мир мгновенно исчез из глаз. Зато сколько радости приносит каждый раз новое открытие этого удивительного мира. Когда малыш все свободнее ползает, а потом ходит, он уже пытается спрятаться сам за стул, за кресло, под стол. При этом он не заботится, чтобы не быть видным (иногда прячет одну голову), главное для него – самому не видеть. Тут уж надо игру не испортить:
– Любочка, где Любочка? Куда она убежала?.. – И искать совсем не в том месте, где сидит дочка, а потом, после долгих стараний, наконец найти ее, замирающую от волнения и счастья. Эта игра неизменно вызывает бурю переживаний. Может быть, это шаги к первым самостоятельным решениям, к проявлениям терпения и выдержки. А может быть, это подготовка к будущим расставаниям и встречам?
Когда играешь с детьми, начинаешь лучше их чувствовать и понимать. Именно благодаря игре мы обнаружили, например, что детишки инстинктивно ищут для себя какое-то небольшое пространство: любят забираться под столы, кровати, стулья, в какие-нибудь укромные уголки – им там как-то уютнее, соизмеримее, что ли, с их размерами. Когда ребята постарше сооружали из больших поролоновых подушек с кресел лабиринты и «квартиры» со множеством маленьких «комнаток», как же нравилось там прятаться и «жить» ползункам! И мы не запрещали детям сооружать «дома», «подводные лодки» и «космические корабли» под столами, за креслами и даже в «гнездышке» из старой раскладушки под потолком.
Поняли мы и еще одну очень важную вещь, которая нам впоследствии помогла играть и с более старшими детьми: игра не терпит принуждения и фальши. Взрослый только тогда «принимается» детьми в игру, когда играет всерьез, то есть так же переживает, чувствует, радуется, живет игрой, а не снисходит к детям и их «пустяковым занятиям» с какой-то там дидактически-воспитательной целью. Этому научиться нелегко, но надо, потому что, общаясь с детьми, надо знать их язык – язык фантазии и игры. Учатся же они понимать нас; почему же и нам у них не поучиться? Так скорее выработается общий язык, который так нужен для дальнейшего взаимопонимания с собственным ребенком.
Мы этому тоже учились. Часто не получалось: то говоришь каким-то назидательным тоном («Что ты позабыл сделать?», «Что надо сказать, когда выходишь из-за стола?»), то начинаешь повторять как попугай («Ты слышишь или нет?», «Сколько тебе повторять?», «Долго мне ждать?»), то вдруг впадаешь в сюсюканье («Кто у нас такой холесенький да пригозенький?», «Ты уже кушаньки захотел?»). Понемногу мы освобождались от этих фальшивых нот и приобрели язык простой и искренний. В то же время выпустили на волю и свою собственную фантазию из клетки взрослых представлений и ограничений. Мы попробовали фантазировать вместе с детьми.
Как-то у Юли пропал из готовальни циркуль:
– Я им чертила, а потом он куда-то исчез!
– С твоей помощью исчез? – спрашиваю я.
– Ну, мама! – возмущается и смущается Юля одновременно.
Проходит день, два… На третий день в кухню, где собралась вся детвора, входит папа и говорит с озабоченным видом:
– Иду я сейчас по комнате, вдруг слышу: кто-то плачет, да так горько-горько. Смотрю – вот он, маленький, жалуется на какую-то девочку и про готовальню что-то пищит…
Все ребята, даже старшие, широко раскрыли в ожидании глаза: что же дальше?
– Я идти хочу, а он за ноги цепляется – я чуть не споткнулся! – и говорит: «Возьми меня с собой, пожа-а-алуйста, я домой хочу, к маме-готовальне, ей без меня плохо».
Все весело хохочут, Юля краснеет, но смеется вместе со всеми и, взяв у папы циркуль, сразу кладет его на место, в готовальню.
Мы вспоминаем сейчас, как мы были (да и бываем еще!) беспомощны в подобных случаях, когда начинали упрекать:
– Опять на место не положила!
– Сколько же можно?!
– Ну и растеряха ты у нас!
И т. д., и т. п.
А результат? Обида, слезы и упрямое: «Ну и пусть!», «Ну и не надо! Да, я такая! Такая! Такая!»
Б. П.: Вы спросите: при чем здесь годовалый малыш? А при том, что чем раньше начинать, тем лучше.
Зачем так рано?
Такой вопрос нам задают даже после нашего самого подробного рассказа. Особенно мамы.
– Подумать только, – говорят они, – с рождения учить стоять, ходить, плавать, петь, говорить, чуть ли не читать – ведь жалко крошку! А потом: вырастают же люди и без этого.
Конечно, вырастают, но… Многие ли встречали человека, свободно говорящего на трех-четырех языках? Такое не каждому дано, нужны особые лингвистические способности, скажут многие и… ошибутся. В интернациональной школе при ООН в Нью-Йорке, где с малых лет, а иногда с рождения живут, учатся и постоянно общаются дети многих национальностей, знание трех-четырех языков – обычное явление. Все полиглоты!
Теперь представьте себе, что ребенок, психически совершенно нормальный, обладающий слухом и зрением, в течение многих лет не в состоянии овладеть даже одним родным языком и остается фактически немым. Невероятно, правда? Однако науке известны трагические случаи, когда дети в младенческом возрасте попадали в логово диких зверей. Если их возвращали к людям позже шести-семилетнего возраста, они не могли научиться говорить, как ни старались этому научить их терпеливые и добрые воспитатели! Не могли!
Еще пример. Может ли абсолютный музыкальный слух быть достоянием каждого человека? Нам представить себе это трудно. Но вот жители Вьетнама – все! – обладают поразительным музыкальным слухом. Чудо? Нет, просто вьетнамский язык четырехтональный, и, чтобы понимать друг друга, вьетнамцы должны с младенчества точно отличать высоту звуков.
С младенчества! Но ведь именно тогда – с первых дней жизни – и окунается маленький вьетнамец в стихию родной речи. С первых дней – вот в чем дело!
Подозреваем ли мы, что, говоря своему несмышленышу ласковые слова, напевая ему простые песенки, мы уже учим его говорить и понимать язык? Нет, просто так принято, все так делают. Да и нам, взрослым, с ним так интереснее, веселее, занятнее. И никто не думает о перегрузке, о том, что это рано, что ребенку тяжело, вредно, опасно.
Наступает момент, и первое слово, еще до года, произносит сам малыш. Как просто! Но как непросто все становится, если мы будем мало говорить с ребенком. Как задерживается сразу его развитие! В доме ребенка, где дети воспитываются со дня рождения, и на каждого взрослого приходится 20–25 малышей, дети могут не заговорить и в два, и в три года, с большим трудом осваивают речь и нередко долгие годы отстают потом в развитии.
Итак, трудно осваивают язык (или не осваивают вовсе) те, кто начал изучать его слишком поздно (дети-Маугли), и те, языковое общение которых было очень бедно. Время начала и условия для развития – вот что определяет успешность овладения родной речью. Но почему не предположить, что точно так же дело обстоит и с остальными способностями?
Чрезвычайно распространено мнение, что способности наследуются, даются от природы. Но вот что утверждают последние работы генетиков: «…В наши дни, после окончательной победы в генетике принципа ненаследуемости благоприобретенных признаков, стало очевидным, что духовное развитие не записывается в генах (подчеркнуто нами. – Б. П. и Л. А. Никитины)[4]. Оно фиксируется в социальной программе, которая передается путем воспитания, усложняется и развивается с каждым новым поколением». Эти слова находим мы у академика Н. П. Дубинина. Но в первый год жизни ребенка эта социальная программа целиком в руках родителей. И от того, как сумеют родители распорядиться этим временем Начала Всех Начал, будет во многом зависеть будущее развитие их ребенка.
Л. А.: Подробнее мы расскажем об этом во второй части книги, где речь пойдет о детях постарше. Но начало нормальных (или ненормальных) отношений с ребенком закладывается очень рано – пожалуй, даже до его рождения. Известно, что здесь многое зависит от общего нравственного климата семьи. Но от чего зависит сам семейный климат?
Конечно, на него воздействует многое, зависящее и не зависящее от членов семьи: от жилищных условий до личных настроений. И все это накладывает отпечаток на будущий характер растущих в семье детей. Можно ли все предусмотреть? Нельзя. Можно ли за все отвечать? По-моему, нужно! Часто слышу, с какой легкостью жалуются матери друг другу: «Мой такой неласковый», или «Такая уж она у меня плаксивая», или «А мой упрямым растет, и в кого он такой?», и т. д., и т. п. И никакого намека на то, чтобы поискать причину в собственных своих родительских действиях! Такой, дескать, уродился…
Я же не вспомню ни одного примера, чтобы какой-нибудь недостаток наших детей не находил своих истоков в непродуманных, безответственных, неправильных действиях окружающих, прежде всего родных, близких людей, и особенно, конечно, нас, родителей. Спохватываешься, мучаешься, думаешь, анализируешь – и начинаешь все сначала, все по-другому. Не выходит. Снова и снова ищешь выход. И находишь! Это уже завоевание, открытие, маленькая победа. Из многих таких достижений складывается опыт, опыт общения и… опыт ответственности. Хорошо, когда начинаешь накапливать этот опыт как можно раньше.
Без мамы плохо
Однажды в скверике мы наблюдали такую трогательную сценку. На скамейке оживленно разговаривают две молодые женщины. К одной из них нет-нет да приковыляет малыш лет двух, ткнется ей в колени, постоит так несколько секунд и топает назад, к стайке ребятишек в песочнице. Она не спрашивает его ни о чем, просто положит сынишке руку на головку, погладит вихры, шепнет что-то на ушко, и он, словно глотнув живой воды, снова возвращается к игре. Его никто не обижал, мама ему была хорошо видна от песочницы, но он упорно приходил и приходил к ней, чтобы просто прикоснуться, почувствовать живое тепло ее рук, коленей – без этого он просто не мог играть спокойно.
Вот эту жажду не просто видеть меня, но и ощущать близко физически я заметила у своих малышей, к сожалению, не сразу. Только постепенно я поняла, что это не каприз – видеть маму постоянно, чувствовать ее рядом или хотя бы слышать ее голос. Вначале я внимала не собственной интуиции, а расхожей «истине»: ребенка не балуй, а то он тебе на шею сядет (помните: к рукам приучишь – руки свяжет). И первенца своего с самого начала пыталась не баловать: плачет – не подходила, пока не перестанет; спать уложу и нарочно уйду – пусть засыпает сам; баюкать, песни петь – ни-ни, а то привыкнет…
Ну и что вышло? Из-за диатеза он плохо спал, часто плакал по ночам, я, очень стараясь «выдерживать характер», не брала его на руки и… извелась сама вконец. А потом, отчаявшись, махнула рукой на все «нельзя» и «не положено» и положила сынишку спать рядом с собой. За полгода его жизни это была первая ночь, когда мы оба выспались всласть. И все последующие ночи перестали быть для нас проблемой.
Именно после этого мы и днем стали брать чаще его на руки, а потом так же поступали со всеми остальными малышами. Нашего папу бабушки иногда даже «елкой» называли, потому что стоит ему появиться, как на нем виснут все, кто может повиснуть, а кто не может, того он сам берет на руки и носит всех долго-долго или возится с малышами, пока все не устанут. Нет, это не было для нас обременительным. Мы видели, сколько радости приносит это ребятишкам, да и нам, взрослым, было хорошо. А поэтому не огорчались, что нарушали какие-то запреты.
И вот теперь в печати мы все чаще встречаем подтверждения верности своих «неразумных» действий. Оказалось, физический контакт с близкими людьми дает ребенку чувство защищенности и безопасности, что необходимо для нормального развития психики. Описание одного опыта особенно поразило нас, хотя речь шла в нем не о людях, а об обезьянах. Биологи Харлоу и Суоми рассказывают, что они изучали экспериментально, в каком возрасте маленькие обезьянки лучше всего обучаются. Но для уроков обезьянок приходилось отнимать от матерей, чтобы те не мешали «учебе». Для маленьких обезьянок каждое расставание с матерью становилось трагедией. Это так подействовало на них, что остановилось их психическое развитие: шестимесячные обезьянки остались на уровне трехмесячных (как раз тогда их и начали отрывать от матерей). Картина эксперимента так исказилась, что его пришлось прекратить и начать второй.
Во втором эксперименте обезьянок отняли от матерей сразу после рождения, а в клетку к каждой поставили по креслу с мохнатой обивкой, напоминавшей шерсть матери. В спинку кресла встроили бутылку с соской и вскармливали обезьянок искусственно. Обучение теперь шло прямо в клетке, кресло ему не мешало, но, когда для пробы кресло уносили из клетки, детеныш падал на пол, где оно стояло, и горько «плакал» – визжал. Стоило же вернуть кресло в клетку, как он прыгал на него, крепко впивался в мохнатую обшивку и несколько минут прижимался к нему, не решаясь его оставить.
Эксперимент закончили, а выросших «безмамных» обезьянок пустили в общее стадо обезьян. Однако они оказались настолько неконтактны, необщительны, что не смогли даже создать семейные пары и были агрессивно настроены по отношению к другим обезьянам. Тогда прибегли к искусственному оплодотворению и дождались от этих обезьян, выросших без мам, потомства. И что же? Они не проявили к собственным детям никаких нежных чувств. Одна оторвала руку своему ребенку, вторая раскусила голову как кокосовый орех. Они не обращали внимания на то, что малыш «плачет», тогда как в стаде в подобном случае к нему немедленно бросается мать или даже кто-нибудь из других обезьян. Это поразило ученых: у «безмамных мам» совершенно отсутствовал материнский инстинкт, испокон веков считавшийся врожденным.
Вот как страшно – расти без мамы. Как же не болеть детишкам в яслях? Как же выздоравливать малышам в больницах – без мам? По меткому выражению доктора Спока, теперь нередко превращают грудного ребенка в кроватного. А если еще добавить сюда и искусственное вскармливание? Что же из этого получится, а?
Требуются бабушки и дедушки
Столь же нуждаются малыши в речевом и эмоциональном общении. Вот здесь незаменима роль бабушек, потому что родители из-за вечной своей занятости сильно обделяют детей общением. Со старшими мы разговаривали много и подолгу, вызывая их ответное желание повторять за нами звуки, произносить слоги; в этом нам помогали бабушки, которые тогда жили вместе с нами. И ребятишки к году уже многое понимали, даже произносили с десяток простых слов, то есть развивались вполне нормально.
А со средними дело застопорилось: мы понадеялись, что все само собою образуется, и, всегда занятые, не заметили, как они стали отставать в развитии речи. Получалось это так. После завтрака или обеда мы отпускали маленьких играть со старшими (старше на два-четыре года). Дела и игры у тех обычно были такими, что младшие участвовали на равных: «жили» в доме, построенном под столом, съезжали с горки, сделанной из раскладушки, и т. д. Ребятишки как-то приспосабливались к тому, что младший не умеет говорить, а потребность научить его никак не возникала. Малыш произносил какой-то неопределенный звук «ы», который годился на все случаи жизни, и все его понимали.
Вот тянет маленький ручонку к старшему и «говорит»: «Ы-ы!» Тот дает ему руку, и малыш ведет старшего в кухню. Здесь стоит высокая скамейка, а на ней – ведра с водой. Малыш берет со скамейки пустую кружку, вручает ее старшему, а сам хлопает другой ручонкой по ведру. Все понятно. Старший окунает кружку в ведро и поит малыша. И даже «ы» в этом случае не нужно. Мы и не заметили, что они к полутора годам говорили меньше слов, чем обычно годовалый. Как же трудно было их «разговорить» потом! Потребовалось много сил и времени, чтобы наверстать упущенное время.
А когда родилась последняя дочка, Любаша, к нам переселился дедушка. Младшая внучка стала его любимицей. Он подолгу мог разговаривать с ней, читать ей стихи, рассматривать картинки, и Люба в полтора года уже говорила маленькими фразами.
Сейчас как-то уходят из нашей жизни удивительные, веками шлифовавшиеся народные потешки для самых маленьких, разные шутки-прибаутки, забавные звукоподражания, сопровождающиеся разными несложными, но веселыми действиями, так радующими ребенка: «Ладушки-ладушки», «Идет коза рогатая», «Сорока-ворона», и т. д., и т. п. Много ли мы их знаем? А ведь их не один десяток. А сказки? А песни? Расул Гамзатов замечает, что в Дагестане о плохом человеке говорят: над ним мать пела плохие песни или не пела совсем.
А какие песни слушают дети сейчас? Даже сказки стали теперь телесказками и радиосказками. Прочитали мы как-то, что даже предлагают малышам слушать сказки по… телефону: набери номер – и пожалуйста! Да ведь песня, сказка – это прежде всего средство эмоционального общения. Как же общаться с телефоном?! Здесь что-то не так. Пусть сказка будет немудреная, пусть рассказана она будет без должной артистичности, но родным голосом, родным человеком.
Помните:
- …заберусь я на печь к бабушке седой,
- И начну у бабки сказку я просить,
- И начнет мне бабка сказку говорить…
Пусть не подумают читатели, что мы против теле– и радиосказок. Наоборот, они очень нужны всем, в том числе и взрослым: воспроизведенные в художественных образах мастерами слова, кино, театра, эти сказки сильно действуют на воображение детей и многому их учат.
Но все же… все же они тут лишь зрители и слушатели. Сказку на экране не перебьешь, вопрос не задашь: смотри, слушай и… переваривай. А вот читает мама сказку вслух или папа рассказывает что-то. Тут же вспыхивают то смех, то споры, то реплика, то вопрос. Особенно понравившиеся места читаем еще раз… Теплота и поэзия этих минут остаются с человеком на всю жизнь. Их не могут дать ни магнитофонная лента, ни грампластинка, никакое иное самое современное изобретение – ничто не заменит живого общения с ребенком.
Яблоко раздора
Первый ребенок почти всегда становится как бы «пробным камнем» педагогических воззрений всех взрослых, так или иначе связанных с малышом. Вокруг него чуть ли не с первого дня разгораются страсти и споры: как кормить, купать, держать, пеленать, и т. д., и т. п.
Самое грустное заключается в том, что каждый из старших спорящих, даже если он не вырастил ни одного ребенка, считает себя глубоким знатоком в деле воспитания, знает даже, как обращаться с самым маленьким, и бесконечно дает советы и указания. Или, поджав губы, молча осуждает все попытки молодых решить уйму проблем своими силами. А начинающие родители, не имеющие никакого опыта, но преисполненные самых благих намерений самостоятельно растить ребенка – конечно, современными способами! – не приемлют ни одного совета, не согласны ни с чьими мнениями – у них уже есть свое (иногда у каждого свое, что только ухудшает обстановку). Да, два «враждующих лагеря» вокруг колыбели – к сожалению, явление типичное. Не миновали его и мы.
Теперь, когда оглядываешься назад – в то трудное время постоянной нашей «войны» с окружающими, – многое видится иначе, многое хотелось бы вернуть и исправить, но это, к сожалению, невозможно. Зато возможно другое: предотвратить подобные ошибки у других.
Может быть, наш рассказ поможет это сделать хотя бы отчасти.
Почти три года мы жили в одном доме со своими родными. Вокруг наших сыновей (двухлетнего и шестимесячного) собрались шестеро взрослых: родители, две бабушки, дядя и тетя – люди все очень разные, – из не поддающихся на влияние и уговоры. Атмосфера несогласия и напряжения воцарилась с самого начала: родные настороженно и, безусловно, отрицательно отнеслись ко всем нашим педагогическим начинаниям: необычной закалке, спортснарядам в комнате, разрешению ползать по всему дому и т. д. Их нежелание хотя бы отчасти вникнуть в то, почему мы так делаем, их предсказания страшного будущего наших детей, высказываемые с уверенностью прорицателей, – все это не могло не возбудить в нас протеста и стремления защитить себя от посягательств на наш суверенитет. К счастью, мы сами были во многом солидарны и действовали сообща, поддерживая друг друга. Это не исключало наших разногласий, но они, как правило, оставались между нами и не становились достоянием окружающих. В этом была наша сила – мы это чувствовали и дорожили своей солидарностью.
Но мы не догадывались о своей слабости, о том, что мы сами постоянно провоцировали новые недовольства и возмущения окружающих и вызывали на себя огонь их критики. Чем? Честное слово, сейчас стыдно писать об этом, но что было, то было: увлеченные своими педагогическими поисками и открытиями, мы фактически не считались с окружающими, с их мыслями, убеждениями, привычками, традициями, чувствами наконец.
Не считались не потому, разумеется, что хотели кому-то сделать наперекор, а тем более назло – суетное и мелочное это чувство нам было чуждо с самого начала. А нас подозревали в желании выделиться, что называется, быть не как все добрые люди. Это, в свою очередь, тоже обижало нас. Но главная беда заключалась в том, что мы просто поступали так, как считали правильным и нужным, и не обращали внимания на то, как это отражается на жизни и самочувствии окружающих. Мы вдохновлялись мудрым изречением: «Иди своей дорогой, и пусть люди говорят что угодно», даже гордились тем, что способны идти прямо сквозь строй общественного мнения и общественных предрассудков.
Мы и сейчас этим гордимся. Хороши были бы мы, если бы вместо твердого курса избрали «виляние под влиянием» каждого встречного и поперечного. Тут речь о другом.
Совсем недавно мы наблюдали в электричке такую вот грустную сцену. В вагон, забитый до отказа, едва протиснулся отец с плачущим сынишкой лет четырех на руках.
– Хочу к бабушке, где бабушка?.. – повторял малыш снова и снова.
– Перестань реветь, – сурово выговаривал ему отец, – бабушка осталась, мы едем домой.
– Хочу к бабушке, – безнадежно тянул мальчик, еще всхлипывая, но уже в основном переставая плакать.
Отец не уловил этой перемены и, выйдя из терпения, поставил сынишку на пол.
– Будешь реветь – не возьму на руки.
Что тут началось! Мальчишка громко расплакался и начал вопить исступленно:
– К бабушке! К бабушке хочу!
Пассажиры, разумеется, встрепенулись: кто читал – бросил на самом интересном месте, кто говорил – оборвал речь на полуслове, кто дремал – очнулся… В ушах у всех звон стоял от резкого детского вопля:
– К ба-а-абушке-е-е!
Отец стоял, прислонившись к стене, и время от времени произносил как можно спокойнее и тверже (доставалось ему это нелегко):
– Кричишь? Ну кричи, кричи, а мы послушаем.
Стоявшие рядом пассажиры, в особенности, конечно, женщины, пытались унять малыша, заговаривали с ним, показывали что-то, многие предлагали отцу сесть у окна, отвлечь ребенка. Отец был непреклонен и от помощи отказывался:
– Пусть поорет, все равно по его не будет, и уговаривать его нечего.
Взбудораженный вагон между тем переживал случившееся: кто осуждал отца, кто продолжал утешать крикуна, кто советовал «наддать этому сорванцу как следует, чтобы знал на будущее», а одна пожилая женщина достала из сумочки валидол:
– Не могу я детского крика слышать, мне плохо делается…
Отец продолжал «воспитывать» сына еще минут пятнадцать, до самой Москвы, и на руки взял его, уже осипшего и изнемогшего, только когда выходил из вагона.
Мы взглянули друг на друга: жалко, мол, и отца, и сына.
– А знаешь, кого он мне напомнил? – спросила я. – Ты только не обижайся. Нас с тобой.
– Ну, знаешь! У нас так ребята в вагонах ни разу не орали!
– В вагонах – да, а дома?
И мы вспомнили давнюю историю, которую описали в своей первой книжечке «Правы ли мы?», – историю о том, как мы учили сына быть аккуратным и не дали ему чаю после того, как он опрокинул свою чашку. Больше часа продолжалось «сражение» между нами и двухлетним карапузом, окончившееся, разумеется, нашей победой, о чем мы с удовлетворением и написали так: «…Когда за обедом и на следующий день мы видим, как Алеша предусмотрительно отодвигает от края стола стакан…всякие сомнения пропадают: надо делать так, как мы делаем».
Мы тогда не замечали несоизмеримости этой победы с ценой, которая была за нее заплачена. Ладно уж, что сами мы были выбиты из колеи не только на час, но и гораздо дольше; главное – разболелась голова у бабушки, не мог работать за тонкой перегородкой дядя Володя, проснулся и расплакался шестимесячный малыш. Мы «воспитывали» сына за счет нервотрепки всех окружающих. И тем самым преподали ему один из самых вредных уроков: неважно, что переживают остальные, важно, что чувствую и делаю я.
Так, не желая того, мы возбуждали в сыне эгоистические чувства. И они не замедлили проявиться. Мы заметили, что старший не обращает никакого внимания на плач братишки – точь-в-точь как мы не обращали внимания на его собственный плач. Это нас насторожило и натолкнуло на размышления, сомнения. Мы стали понемногу выкарабкиваться из дебрей, куда попали по собственной недальновидности и неопытности.
Росли ребятишки, и мы видели, как важна для них хорошая добросердечная обстановка в доме, теплое отношение окружающих между собой. Но как добиться этих теплых отношений, если каждый стоит на своем и не стесняется в выражениях?
Рецепт тут один: видимо, надо стараться понять переживания друг друга и щадить нервы близких людей.
Так получается куда лучше – мы в этом убедились на собственном опыте. Вот только следить за собой бывает трудно, зато когда получится, бывает так приятно!
Опрокинутая чашка
Иногда меня спрашивают, вспоминая историю с пролитым чаем:
– Ну, а сейчас как бы вы поступили в описанной ситуации?
И я отвечаю: это зависит от многих обстоятельств.
Алеше разрешено залезать и на уличную лестницу, потому что он умеет уверенно слезать с нее сам. 1960 год
Если это произошло от неловкости и невнимательности, а к тому же вызвало смущение и чувство вины у малыша – а так оно у нас тогда и получилось, – надо было бы посочувствовать ему:
– Вот досада-то! Вытер лужу? Ну, садись, нальем еще. Только куда же чашку поставить, чтобы не свалить?
Если ребенок хотел отодвинуть чашку и вдруг ее опрокинул, а сам расстроился до слез, скорее всего, мы бы его утешили, помогли вытереть лужу, налили чаю снова и поучили бы его отодвигать чашку, предоставив ему возможность самому попробовать, как лучше это сделать.
Возможно и такое: малыш уже совсем засыпает – из-за этого и все несчастье. Ну, тогда лучше всего уложить его в постель, лужу вытереть и не вспоминать об этом больше, словно ничего и не было.
Ну, а если наше чадо вдруг капризно потребует: «Не хочу чаю, хочу молока!», оттолкнет от себя чашку, да при этом еще и губы надует, чувствуя себя правым (не то, видите ли, ему подали), то тут и рассердиться не грех, и выставить из-за стола, и не дать ему больше ничего до следующей еды. Здесь уж дело не столько в чашке, сколько в его барском поведении, которого допускать просто нельзя.
Мы перечислили лишь некоторые из возможных вариантов. А по существу, каждый подобный случай индивидуален, и реагировать на него невозможно по раз и навсегда принятому шаблону.
Это нельзя, а это можно
Но есть ситуации, которые имеют – должны иметь! – четкие и определенные оценки. Это очень важно для правильной ориентировки малыша в мире незнакомых для него вещей и отношений.
Я помню, как однажды мне пришлось разговаривать с кем-то из гостей, держа на коленях восьмимесячного сынишку. Разговор еще не был закончен, а малыш начал капризничать. Тогда я, чтобы его успокоить, показала ему часы на руке и приложила их к его ушку: «Слышишь: тик-так!» Заинтересованный малыш потянул часы за ремешок и попробовал их снять. Ах, как нужно было мне окончить важный разговор, и я, недолго думая, сняла часы и, держа ремешок за пряжку, дала их сыну поиграть. Разговор был благополучно окончен, теперь часы надо было вернуть на место, но не тут-то было. Сын не захотел отдавать часы – еще не наигрался.
– Нельзя играть часами! – растерянно спохватилась я. – Нельзя!
– Но ты же сама их дала ему, значит, можно, – заметил отец. – Он так теперь и поймет: нельзя – это значит можно. Ты его запутала.
И правда – пришлось повоевать с сыном, чтобы он часы больше не брал, чтобы понял: трогать это нельзя!
С тех пор мы стали осторожнее с этим словом, постарались навести порядок в его употреблении.
Прежде всего поняли: если что-то нельзя, оно должно быть нельзя с самого начала и без всяких колебаний. Скажем, брать часы, секундомер, трогать пишущую машинку, магнитофон, телевизор и прочие вещи, которые легко испортить, нельзя! Бросать ложки и вилки на пол, рвать книжки и писать на них нельзя! Хлопать – даже в шутку – бабушку или кого-нибудь другого по щекам, дергать котенка за хвост нельзя! Причем это слово должно произноситься строгим тоном, без уговоров и разъяснений.
Но – и это важно – запрещений не должно быть очень много, только самый необходимый минимум. Если оградить ребенка сплошными «нельзя», да еще и строго наказывать за все нарушения запретов, можно либо его запугать, либо спровоцировать буйный протест. Ведь недовольство возникает с каждым «нельзя», потому что нельзя – значит лишение какого-то желания, а это всегда обидно, досадно, не оставляет надежды на будущее.
Мы стараемся не допускать этого: запрещая что-то малышу, сразу говорим ему, а что можно. Допустим: бросать хлеб нельзя, а мячик – можно; делать больно котенку – ни-ни. Нельзя! А погладить – тихонько, ласково – можно. Часы трогать нельзя, а вот это колесико или катушку – можно; сегодня к бабушке поехать нельзя, но завтра будет можно. Тогда у ребенка есть надежда, перспектива, возможность действовать и правильное представление об этом. И тогда снимаются возможные конфликты, капризы и недоразумения. Он как бы получает компас для ориентировки в окружающем мире и становится спокойнее и увереннее в себе.
И маму надо пожалеть
Живое общение с малышом, внимание к нему – без этого немыслимо нормальное развитие ребенка. Никто возражать против этого не будет. Но… ведь и общение общению рознь, и внимание не всегда на пользу идет. Мы убедились в этом на горьком опыте. В той же брошюре «Правы ли мы?», которую мы уже упоминали, есть такая главка: «В бабушкином раю».
Наш сынишка попадает на целый день к трем бабушкам, они окружают его такой лаской, заботой, вниманием, что ему самому и делать ничего не остается – все его желания исполняются немедленно и даже угадываются заранее. Но, самое главное, все заботы направлены в одну сторону – от взрослых к ребенку. И никакого намека на взаимность, ответную заботу ребенка о взрослых.
Малыш принимает знаки внимания как должное, прямо на глазах превращаясь в маленького деспота. Проявить же заботу о бабушках ему просто не приходит в голову, ибо это не требуется – ведь «он еще маленький». А ведь и маленький может утешить обиженного, сострадать, помогать. И надо, обязательно надо давать эту возможность даже самому крошечному человечку.
Да что от него толку? – скажут многие. А это смотря какой толк иметь в виду. Вот чищу я картошку на кухне и («недогадливая»!) наклоняюсь за каждой картофелиной к корзинке на полу. Видит Алеша (ему одиннадцать месяцев) эти поклоны и сам… достает картофелину из корзинки, а потом протягивает ее мне. Я, конечно, растрогана:
– Спасибо тебе, помощник ты мой хороший! Клади вот сюда, на мой стол.
А Алеша, довольный моей похвалой, уже отыскивает вторую картофелину, побольше. Я не успеваю дочистить первую, а на столе появляется новая.
– Видишь, как быстро у нас дела пошли? Молодцы мы с тобой, правда?
Уже до года малыш много раз попадает в такие ситуации, когда он может стать заботливым и внимательным помощником. Несет из колонки папа полные ведра воды, а Алеша бежит впереди и открывает ему все двери по очереди. Накрываю на стол, а Алеша каждому кладет ложку к тарелке. Работая, папа насорил на полу – Алеша в кухню за совком отправился.
Мы старались не забывать похвалить малыша, поблагодарить его и не смеялись, что помощь от него маленькая. Сколько раз приходится видеть совсем удручающие картины. Малыш старается, пыхтит, хочет помочь, а старшие ему:
– Убирайся отсюда! Толку от тебя мало, больше мешаешь.
И не понимают они, что толк не в том, сколько сумел сделать ребенок, а в том, что он хочет помочь и уже помогает – по своим возможностям. Как важно поддержать его в этом стремлении!
Кто не слышал таких вот горестных сетований от родителей уже взрослых детей:
– Кормила, поила, растила. Изо всех сил старалась, чтобы ни в чем отказу не знал. И вот вырос и забыл, что мать есть.
Чувствуется, что человеку до слез больно от такой неблагодарности сына, но помочь ему уже нельзя. Всю жизнь шла забота только с одной стороны – от матери к сыну, и ей в голову не приходило, что именно так взращивается будущая сыновняя неблагодарность.
Когда в семье есть несколько ребятишек, то забота о самом маленьком, казалось бы, должна быть свойственна старшим детям. Однако само собой это не получается. Очень многое и здесь зависит от поведения взрослых. Можно, например, приказать старшему:
– Покорми Любу кефиром! – дать бутылку, чтобы подержал, пока та все высосет.
В этом случае старший воспринимает предложение как приказ, который исходит от папы или мамы и который надо выполнять, хочется того или не хочется, а о самой сестренке и заботы никакой нет.
Но можно сказать это ребенку совсем иначе:
– Наша Любаша уже проголодалась. Надо ей бутылочку подержать, а у меня руки заняты. Как же теперь быть?
– Я подержу, мама, – тут же предлагает кто-то.
Вот так получается куда лучше: здесь возникает желание помочь и сестренке, и маме. И если я к тому же не останусь равнодушной к этому, обрадуюсь:
– Какой ты заботливый братишка! – это может лишь укрепить и развить родившуюся только что заботу о другом.
Папа говорит нашей годовалой дочке:
– Любочка, мама устала, у мамы головка болит. Полечи ее.
Дочка целует меня в лоб, гладит по волосам – «лечит». И я улыбаюсь:
– Вот мне и лучше, спасибо, мой доктор.
– Давай будем говорить шепотом, – говорю я старшему сыну, – девочки делают уроки…
– Ребятки, давайте-ка играть потише – пусть Люба поспит…
– Тише! – слышу голос старшей дочери. – Мама работает.
Если бы думать об этом раньше, у нас могло бы быть так всегда…
Но к осознанию всего этого мы приходили, к сожалению, методом проб и ошибок. А надо, НАДО было знать с самого начала, что малышу требуется не только забота о нем – но и обязательно его забота о нас, о бабушках, о других людях. Иначе ему не вырасти настоящим человеком.
Движение, движение, движение
Дошкольное детство. Само название будто напоминает: впереди школа.
Как пугает она сейчас родителей новыми программами, непривычными требованиями! И, желая получше подготовить своего малыша к будущей школьной жизни, столь непохожей на домашнюю, папы и мамы иногда устраивают дома со своими пяти-шестилетними детьми «настоящие» школьные уроки: «Сядь как следует», «Не вертись», «Повтори еще раз», «Дай полный ответ», «Выучи наизусть», «Пока не выучишь, гулять не пойдешь».
Видя, что результаты, как ни бейся, невелики, родители впадают в уныние: «Непоседа, рассеянный, упрямый – ну какой из него ученик?» И ищут ответ на вопрос: а как же надо готовить к школе? Читают об этом в журналах и в брошюрах, где подробно рассказывается, чем и как следует заниматься до школы. И в своих многочисленных письмах к нам часто обращаются с просьбой: «Расскажите, как вы учили своих детей читать, считать, быть внимательными, усидчивыми? Почему они в школе тратят мало времени на домашние задания, могут даже “перескакивать” через классы? Это что, врожденные способности, или у вас особая система подготовки? Расскажите о ней!»
Вот об этом и будет теперь наш рассказ. И начнем мы его не с обучения счету и чтению, не с выработки внимательности и любознательности (об этом потом), а… со здоровья малышей, с их физического развития. Почему? Да потому что школа – это прежде всего парта, сидение по нескольку часов в день. Это, кроме того, сидение за домашними заданиями, за чтением десятков и сотен книг… Это, короче, резкое ограничение подвижности ребенка в то самое время, когда он особенно нуждается в интенсивном, разнообразном, радостном движении.
Конечно, когда-нибудь это противоречие будет преодолено, но пока, увы, остается во всей своей остроте, и страдают от этого больше всего как раз дети физически некрепкие, малоподвижные, вялые. Им учиться трудно, болеют они чаще, занимаются больше, поэтому сидят дольше, а следовательно, всё более слабеют. Получается порочный круг, из которого выбраться очень трудно. А крепкий ребенок (ведь ему хочется двигаться!) хоть отчасти да возьмет свое: на переменках, вне уроков, в стихии подвижных игр, а кому повезет – в организованных секциях, кружках.
Вот и выходит, что прежде всего нужно позаботиться о том, чтобы ребенок уже до школы стал крепким и сильным. Как? Наверное, есть разные способы и пути для этого. Мы расскажем о своем.
Если хочешь быть здоров
Б. П.: Да, придется начать опять-таки с закаливания, хотя обходимся мы, как и на первом году жизни детей, без специальных закаливающих процедур.
Об этом нас спрашивают многие. В глазах почти каждого наблюдающего наших ребятишек дома – удивление и даже страх. Некоторые не выдерживают, берут Любочку на руки и трогают ее холодные пяточки:
– Тебе холодно?
– Нет, ни капельки! – весело отвечает Люба и, соскользнув с рук на пол, мчится покачаться на боксерской груше, привязанной к канату.
Это действительно так. У наших малышей удивительно хорошо работают все терморегуляторы.
Ночью в спальном мешке – плюс 33–34 градуса, и тельце и ножки у малышей теплые. А вылезли утром из мешка – кругом только плюс 18–22 градуса, а на полу всего лишь плюс 15 градусов (зимой в сильные морозы даже плюс 8–10 градусов). Если бы кожа оставалась теплой, она отдавала бы много тепла. Вот она и приобретает температуру, близкую к температуре воздуха, а ступни ног – к температуре пола, и тогда человек не мерзнет. Оказывается, такое терморегулирование есть у всех млекопитающих: температура подушечек на лапах собак, волков, зайцев равна температуре почвы, а зимой в морозы – нулевая. При нуле градусов кровь не может замерзнуть (она соленая), снег и лед при этой температуре не тают, а кожа отдает минимум тепла.
«Ну, у животных это понятно для чего. Но зачем это человеку, ведь у него есть одежда и обувь?» – спросите вы. Да, но одежда и обувь были изобретены для предотвращения переохлаждения и перегрева. Это когда-то замечательно расширило возможности человека в преодолении неблагоприятных воздействий окружающей среды. А теперь роль одежды частенько сводится к обеспечению термостата, поддержания постоянной температуры вокруг тела. Да и современная квартира – тот же термостат. К чему это ведет? К утрате адаптивных (приспособительных) реакций и к снижению сопротивляемости переменам в окружающей среде: и климатическим, и погодным, и житейским. Вот и получается: ноги промочил – уже чихает, ветерок подул – уже кашляет. Такому человеку только на печи и жить – так узок его диапазон приспособительных возможностей.
А мы постарались этот диапазон для своих детишек расширить, чтобы не было ни у нас, ни у них боязни сквозняков, промокших ног, солнечных ударов, летнего дождя и многого другого. И сделали мы это не путем специальных процедур с медлительностью и постепенностью, а просто… разрешили ходить в трусиках и босиком дома и на улице, даже – если хочется – выскакивать на снег и из горячей бани, из комнаты. Знаете, как хорошо утром вместо зарядки пробежаться по беговой дорожке, а вечером – по снежку вокруг дома! Так мы иногда «моем ноги» перед сном…
Даже мы сами, взрослые, расхрабрившись, вслед за малышами начали ходить босиком по полу, по земле, по снегу. Как же это оказалось приятно… К тому же еще надо учесть, что, и выходя из дома, мы одеваемся примерно на сезон легче, чем принято, то есть осенью по-летнему, а зимой по-осеннему (если не ниже минус 10 градусов).
И каковы же получились результаты?
Во-первых, мы избавились от простудных заболеваний (это 90 процентов всех детских болезней!), а заодно и от вечного страха перед ними, который так отравляет существование и родителям, и детям. Как-то один из старших вспомнил: «Когда я в школе учился, даже обидно было: все простужаются, а я никак. Ну что это за жизнь – и уроков не пропустить на законном основании!» Всем бы такую «обиду»…
Во-вторых, легкая одежда, а тем более ее отсутствие, не стесняет движений, а прохлада бодрит и стимулирует большую подвижность – двигаться в таких условиях не просто хочется, а даже приятно.
В-третьих, хождение босиком предотвращает плоскостопие, делает кожу стопы плотнее и прочнее, а походку и бег – легче и свободнее, то есть благоприятно сказывается на осанке ребенка и координации его движений. Босые ноги и на спортснарядах – подспорье, а не помеха (попробуйте в ботинках забраться на шест, например). Вот почему мы стойко выдерживаем замечания некоторых окружающих о том, что «быть голым и неприлично, и неэстетично». И лелеем тайную мечту, что когда-нибудь идеалом станет стройный, сильный и крепкий, как пружинка, малыш, один вид тельца которого будет вызывать улыбку восхищения. Тогда покажется неэстетичным прятать под одеждами эту красоту.
Л. А.: Тут следовало бы напомнить, что мы разрешали ходить босиком и в трусиках нашим детям с самых первых их шагов и даже раньше. Это очень важно! А позволь подобное маленькому человеку, который уже переболел отитом, ангиной, пневмонией или простужается без конца. Что из этого выйдет?
«Повезло вам на здоровеньких детишек, вот были бы у вас слабенькие да болезненные, небось дрожали бы над ними и кутали не меньше, чем другие», – так иногда говорят нам.
Что сказать на это? Думаю: везет, когда везешь. Мы уже говорили, что у шестерых наших детей был экссудативный диатез. А это значит, что все они были предрасположены к заболеваниям, особенно к простудным (цитирую из популярной медицинской энциклопедии: «…Экссудативный диатез проявляется в склонности ребенка… к частым воспалениям дыхательных путей, заболеваниям желудочно-кишечного тракта, нервной возбудимости и пр.»). Ничего себе «повезло на здоровеньких»… Даже не представляю себе, что бы из них вышло, если бы не наши «профилактические» меры, предпринимаемые с младенчества.
Говорят нам и так: «Это вы смелые, потому что вас ни разу еще не прихватило как следует. Вот стрясись что серьезное, сразу откажетесь от своих “снежных процедур”».
– Уж теперь небось не пустите ее по снегу босиком? – спрашивали у меня.
– Пущу обязательно, – говорила я, – потому что не хочу, чтобы это повторилось. – Но, говоря так, я еще не знала, как я это буду делать.
Что же вышло? Вот отрывки из дневника:
31.10.73 г. «Любу выписали из больницы».
02.11.73 г. «Повысилась температура до 38,5°»
09.11.73 г. «Впервые после болезни минут 20 бегала босиком по полу и сопротивлялась надеванию рубашки».
17.11.73 г. «Заболела снова. Температура 38,5°, мелкая сыпь: коревая краснуха».
03.02.74 г. «Люба снова бегает по снегу босиком!»
Со времени выписки из больницы прошло три месяца, всего три! Но для того чтобы уже на девятый день после выхода из больницы «сопротивляться надеванию рубашки», надо было, чтобы Любаша намного раньше уже испытала радость и удовольствие от хождения в одних трусиках. Значит, и тут выручила наша «голопрофилактика» – раннее закаливание без закаливающих процедур.
Без лекарств
Б. П.: Напомню, что, избавившись от простудных заболеваний, мы избавились примерно от 90 процентов всех детских болезней. Осталось лишь 10 процентов, в основном грипп и детские инфекционные болезни. Их наши ребята обычно переносят легко – без лекарств и лечебных процедур, иногда и без повышения температуры. Высокая температура держится день-два, мы ее не стараемся искусственно сбить ни аспирином, ни другими лекарствами, потому что считаем, что организм должен сам бороться с болезнью, от этого иммунные силы его растут. Так и выходит: болезнь протекает бурно, остро, выздоровление наступает быстро и, как правило, без всяких неприятных последствий и осложнений. Мы это заметили уже у первых малышей и совершенно отказались не только от самодеятельного пичканья детей лекарствами, но даже и врачей просим не выписывать их, особенно антибиотики, все равно мы их не даем.
Л. А.: Как-то Антон, отыскивая анальгин (попросил дедушка), устроил «ревизию» в нашей аптечке – вывалил все ее небогатое содержимое на стол, начал копаться в пестрых пакетиках и коробочках и вдруг… расхохотался:
– Мам, да ты посмотри – у нас тут все лекарства десятилетней давности!
Я даже не поверила. Но он мне показывал одно лекарство за другим: срок годности истекал в 1966, 1967, 1968 годах. А шел уже 1977! Я припомнила: тогда года полтора жила у нас бабушка Валя, которая часто прихварывала, вот и остался от нее в наследство весь этот лекарственный «запас».
Так, значит, совсем не лечим? Нет, лечим: постель, малиновое варенье, чай с лимоном, мокрая повязка на лоб, горячее молоко с медом, если хочется есть, что-нибудь любимое, нет аппетита – насильно ничего не даем… Что еще? А еще… сказки или какие-нибудь веселые истории, которые мы читаем или рассказываем больному по очереди.
Иногда ребятишки шутят: «Поболеть бы немножко: все за тобой ухаживают, книжки читают, варенье дают – хорошо!»
Ну, конечно, бывают случаи и сложные, когда не до сказок, не до шуток. Я уже рассказывала о том, как болела пневмонией Любаша. Перенесла операцию по поводу аппендицита восьмилетняя Юля. С подозрением на дизентерию пролежал в больнице двухлетний Алеша. Особенно горько было нам, когда во второй раз в больницу, уже школьницей, попала Люба – снова пневмония. И опять вина тут была моя, а вернее, моя постоянная сверхзанятость (матери так нельзя!): не выдержала ее в постели, не вылечила до конца грипп, а повторно заболеть пневмонией оказалось куда проще.
Подведем некоторые итоги. Из семерых детей за 18 лет побывали в стационаре лишь трое, всего четыре раза. Вызываем мы врача на дом и обращаемся в поликлинику по поводу болезней всех семерых до семи-восьми раз в году, хотя по существующим статистическим «нормам» наша семья должна бы беспокоить врачей только из-за детских болезней до ста раз в году. А у нас были годы, когда совсем не было необходимости обращаться к врачу.
Однажды из-за этого даже конфуз получился. Пошла я записывать кого-то из младших на прием к зубному врачу. Прихожу в поликлинику, иду в регистратуру…
– Мы здесь детей не обслуживаем, идите к детскому врачу, – сердито сказали мне из окошечка.
– А где он принимает?
– Да вы что, не знаете, где у нас детская консультация? – удивилась регистраторша. – Приезжие, что ли?
Мне было и неловко, и смешно. Больница вот уже два года была размещена в новом здании, а я попала сюда только первый раз. К этому можно еще добавить, что бюллетенила я из-за детей в течение 17–18 лет всего шесть-семь раз, хотя годовым отпуском после рождения ребенка ни разу не пользовалась, то есть выходила на работу сразу по окончании декретного отпуска, когда малышу исполнялось не больше трех месяцев. Мне не страшно было: ребятишки росли здоровыми, и мы с отцом могли спокойно работать и справляться со всеми своими многочисленными обязанностями.
А если ребенок часто простужается?
Л. А.: Вполне возможно, что, увидев в оглавлении такой вопрос, вы откроете нашу книгу как раз на этой странице – слишком уж это больная проблема для многих родителей: как закалить ребенка, подверженного простудам, уже привыкшего к постоянному перекутыванию?
Раньше в ответ на подобный вопрос мы только руками разводили: «Нет у нас такого опыта, не имели мы дела с изнеженными детьми, поэтому не можем предложить методики их закаливания. Мы представляем себе, как не доводить ребенка до такого состояния, но как вывести из него – не знаем». Мы говорили и видели такие разочарованные лица, такие огорченные глаза, что… не выдерживали этих взглядов и пытались хоть как-то подбодрить: ничего, мол, не отчаивайтесь! – и даже пробовали давать какие-то не очень вразумительные советы.
Со временем мы почувствовали, что уходить от этого вопроса нельзя, что надо собрать все, что мы знаем, что наблюдали, что сами испытали, и рассказать об этом.
Это не инструкция, не методика (мы не специалисты, чтобы их давать), это опыт. Мы будем рады, если он хоть немного вам поможет.
Самое трудное – преодолеть собственную свою боязнь и приобрести какую-то долю уверенности в том, что ваши усилия обязательно приведут к успеху. Некоторым в таких случаях помогает психологическая подготовка: какое-то время надо отдать на чтение, размышление, на обсуждение с близкими (чтобы не было раздоров и разногласий!), как перестроить общий уклад жизни. Это неизбежно, ибо одними закаливающими процедурами, не изменяя условий жизни ребенка, едва ли можно добиться значительных сдвигов.
Если вы, допустим, начнете водные обтирания и обливания, но при этом на прогулку будете своего сына снаряжать по-прежнему как на Северный полюс, а дома будете опять бояться лишний раз открывать форточку и не снимете с него колготок и теплых рубашек, то толку от такого «закаливания» не будет.
Опыт подсказывает, что не довеском, не добавкой должно быть закаливание, а изменением всего образа жизни, приближением его к более спартанскому, не изнеживающему, а закаливающему как бы самим собой – в этом, по-нашему, должна состоять ваша конечная цель.
С чего можно здесь начать? Нужно, например, отказаться от высказываний типа: «Не подходи к двери – простудишься», «Не пей холодную воду – горлышко заболит», «Мороженое тебе нельзя – кашлять будешь», то есть вообще отказаться от упоминаний болезней при ребенке, не пугать его ими, не предполагать, что они у него обязательно будут. Хорошо бы дальше научиться говорить вместо: «Оденься теплее! Повяжи шарф! Надень еще одни теплые носки…» – хотя бы так (как бы советуясь с ребенком, предоставляя ему право решать самому): «Ну, что мы сегодня наденем? На улице морозец, но несильный, симпатичный такой мороз. Стоит или не стоит еще носочки надеть?» Если малышу захочется надеть поменьше одежек, похвалите его – это уже победа.
Легче всего начинать с освобождения от одежды в комнате. Причем начинать не ребенку, а… самим взрослым. По собственному опыту знаем, что давление на малыша ни к чему хорошему привести не может, если он сам не будет стремиться к тому же, чего хочется и его родителям. Вся задача поэтому, на наш взгляд, и сводится к тому, чтобы возбудить у самого ребенка желание полегче одеться, снять одну из двух рубашек, надеть носки вместо колготок, а потом и ступить на пол босичком. Может быть, первым покажет пример отец (а мама его похвалит) или мать (тогда папа порадуется за нее). Главное, чтобы было понятно, что это хорошо. Но к самому малышу не следует при этом приставать с упреками, мол: «Что же ты, смотри, какой папа молодец, а ты…» Зато первую же его попытку: «А я тоже хочу…» – встретить одобрением: «Молодец, ты совсем как папа!»
То же самое можно проделать и с водными процедурами: во время купания сначала не ребенка обливать прохладной водой, а кому-нибудь из взрослых самому облиться: «Эх, хорошо, приятная водичка!» А у малыша спросить: «Хочешь?» Не захочет – отложить раз-другой, а захочет, то облить его действительно приятной (не слишком холодной!) водой да похвалить его при этом. А потом растереть досуха, приговаривая что-нибудь веселое, вроде:
- Раз-два-три-четыре-пять,
- Можно Варю обливать!
А в следующий раз пусть малыш сам определит, какой водой его облить: потеплей или похолодней… как папа? Эта маленькая хитрость, как правило, действует безотказно: малышу очень хочется быть «как папа, как мама». Значит, нам самим – ничего не поделаешь! – надо становиться все лучше, а заодно бодрее и веселее. Радость и смех малыша, его «Еще, еще!» – вот и ключ к успеху, и гарантия того, что все идет нормально.
Ну а если вдруг снова насморк? Встретьте его без уныния и паник, даже, если сможете, с шуткой:
– Это из тебя, наверное, распоследние простудинки вытряхиваются – пусть, не страшно.
Очень важно внушить ребенку (и себе) уверенность в том, что он очень здоровый, крепкий и никакая хворь ему не страшна.
Б. П.: Вот еще одно важное наблюдение: переход к новому укладу жизни не должен быть слишком резким и «волевым»: необходима известная постепенность, зависящая в основном от настроения и успехов самого ребенка. Но и затягивать этот переход не надо. Видимо, месяц-полтора, не больше двух – самый подходящий для этого срок. За это время организм может уже в основном приспособиться к новым условиям – это одно. А другое вот что: ребенок не может долго на чем-то сосредоточиваться, а здесь надо воздействовать на его психику, настроить его на иное восприятие жизни. Это следует делать насыщенно, в темпе. Лучше всего воспользоваться для этого летним отпуском и дачными условиями, когда можно пустить в ход сразу три закаливающих фактора: солнце, воздух, воду.
И не забыть еще одно, чрезвычайно важное – движение, движение, движение: не лежать, а ходить, не ходить, а бегать, не перешагивать, а перепрыгивать, не сидеть в гамаке, а… лазить по какому-нибудь развесистому дереву… Обо всем этом мы расскажем в следующей главе, а пока придется остановиться еще на одном вопросе, с которого обычно начинают, когда говорят о здоровье. Мы же, наоборот, отодвинули его в самый конец.
«Проблема» питания
Л. А.: То, что мы поставили слово «проблема» в кавычки, разумеется, не означает нашего пренебрежительного отношения к этому важному вопросу. Забота о питании всегда будет для человечества первостепенной, а для любой семьи, безусловно, значительной.
Мы имеем в виду другое: в проблему превращают нередко то, что, по нашему мнению, проблемой вовсе не является. То и дело матери жалуются: «Совсем ничего не ест, прямо измучилась. Только со слезами да с уговорами едва-едва полпорции впихнешь в него, и все. Что делать?»
Вот и «проблема»: как впихнуть в ребенка его норму полезных, витаминозных, разумеется, калорийных, особо питательных веществ? И вот: индивидуальное меню, ежедневное разнообразие, чуть ли не ресторанная сервировка, отдельная от семьи торжественная трапеза с увещеваниями, спектаклями, угрозами: «Пока не съешь, не выйдешь из-за стола». Последнее хотя и не рекомендуется, но все же никак не исчезает из практики этого «священного действа». Так бывает в детских садах, в школах, что уж говорить о семьях. Даже стихи и сказки сочиняются с таким «гвоздем морали»: хорошая девочка Маша – здоровая и веселая, потому что она съедает весь обед, а плохой мальчик Вася – хилый и слабый, потому что не любит манной каши.
Мы считаем это не только совершенно противоестественным, но даже безнравственным, потому что все эти усилия вызывают в конечном счете если не отвращение, то пренебрежение к еде, результату огромного труда многих людей.
Одно лето трое наших ребят отдыхали в пионерском лагере. Вернувшись, они с возмущением рассказывали мне, как много хорошей еды оставалось на тарелках; ее трижды в день собирали в огромные кастрюли и скармливали свиньям или даже выбрасывали. Вот где проблема без всяких кавычек: как стало обычным, привычным, незаметным такое безобразное расточительство, по существу, настоящее нравственное преступление? А начинается-то все с невинного: «Съешь за маму, съешь за папу», «Ну еще хоть немножечко!»
Даже если подойти к еде с чисто физиологической стороны, и то кроме вреда (перекорма, ожирения) ничего не выходит. Насильственное вскармливание по раз и навсегда установленным нормам пользы не приносит. Ведь желание есть зависит от многих причин, главная из которых, на наш взгляд, элементарна: человек должен проголодаться. И все, и никаких сложностей.
У нас в семье эта проблема и не возникала, потому что: «Хочешь – ешь, не хочешь – не надо, но уж до следующей еды никаких кусков». Исключения, конечно, бывают, особенно для малышей, но уговаривать и охать по этому поводу никому даже и в голову не приходит. В результате у всех ребят отличный аппетит, не нуждающийся ни в специальной психологической подготовке, ни в изысканной сервировке, ни в специальных блюдах.
На последнем придется остановиться подробнее. Сколько раз мне приходилось и читать, и слышать о том, что детям необходимо отдельное меню, соответствующее их возрасту. И всякий раз это вызывает у меня недоумение и грустную улыбку: на кого рассчитаны эти рекомендации? Можно подумать, что в каждой семье есть повар, или кухарка, или по крайней мере освобожденная от всех иных дел бабушка. Даже если в семье двое детишек, годовалый и пятилетний, то уже следует готовить каждый раз три варианта разных блюд: маленькому – отдельно, старшему – отдельно, а взрослым – тоже что-то свое.
Некоторые женщины пытаются это делать и…
– Ох, эти разносолы – все свободное время у плиты торчу! – жаловалась мне одна знакомая. – Больше ни на что времени не хватает!
Когда же я в ответ заикнулась: мол, можно бы и попроще, она удивилась:
– Щи да кашу? Ха-ха! Не то время. Мои мужики (у нее муж и пятилетний сын) каши какие-нибудь и видеть не хотят. Мясо жареное подавай, а сыну – котлетки домашние или курочку…
– И подаешь? – спросила я не без иронии.
– А как же! У меня не семеро по лавкам, во всяком случае, на нормальное питание хватает, – не удержалась от колкости и она.
Мы не поняли друг друга. Ей было жалко моих детей, которые «не могут нормально питаться», а мне было грустно по другой причине: у этой мамы все время и силы уходят на питание, а на воспитание уже ничего не остается.
Я предпочла иное: как только возможно, высвободить время для воспитания, для общения с детьми. За счет питания? Нет. Просто попыталась найти рациональное решение этой непростой житейской задачи.
Итак, дано: очень мало времени, не очень много средств и семь-восемь и более человек от мала до велика. Требуется: всех накормить вовремя, досыта и доброкачественно.
А вот и решение.
Учитываем, что доброкачественность пищи далеко не прямо пропорциональна дороговизне продуктов и обратно пропорциональна длительности их тепловой обработки. Берем самые разные овощи, крупы и… покупаем скороварку.
Учитываем далее, что в семье есть малые дети, которым острые блюда, копчености, жирное мясо, костистая рыба и избыток сладостей ни к чему. Удаляем все это из общего рациона.
Учитываем, кроме этого, что существует множество продуктов (особенно молочных!), уже готовых к употреблению: молоко, творог, кефир, сыр, сметана, сливочное и растительное масла, мед. Эти продукты – по возможности и по желанию каждый день.
Наконец, фрукты. Если вволю – то дороговато. Приходится делить понемногу на всех (обязательно на всех, не только детям!) Кроме того, есть ведь и сухие фрукты. Вы думаете, недостаточно? Фруктов, может быть, да. Но витаминов? Заморские апельсины, например, можно вполне заменить сладкой, сочной (и дешевой!) отечественной морковкой, а вместо дефицитных[5] мандаринов всегда можно сделать великолепный салат из свежей капусты с зеленым луком и горошком.
Что в результате: овощные и крупяные супы; борщи, иногда на мясном бульоне; всевозможные каши (манная – одна из любимейших); картошка во всех видах: от печеной в мундире до жареной, особенно любимые варианты – тушенная с мясом и пюре; макароны с сыром; творог со сметаной, изюмом; капуста, морковь и другие овощи; винегрет; рыба, рыбные консервы (там есть размягченные косточки, необходимые для профилактики кариеса). Ну и, конечно, хлеб, молоко, молочные продукты. Праздничные блюда: фруктовый сок, пельмени и пироги с самыми разными начинками, печенье собственного изготовления, торты, конфеты.
Задача, считаю, в основном решена: времени, сил, средств – минимум, но еды вдоволь; она хоть и без разносолов, но свежа и разнообразна.
И все-таки одна загвоздка есть: как быть с разными возрастами?
Открою два секрета, которые мне помогли решить и эту проблему. Об одном я уже упомянула: мы приблизили общий стол к детскому рациону, то есть исключили до поры до времени всё, что детям неполезно (а оно, как оказывается, неполезно и взрослым), следовательно, такая перемена получилась никому не в ущерб.
Второе вот что. За стол мы всегда садимся всей семьей, отдельно я (кроме грудных, разумеется) никого не кормила, хотя частенько брала на колени к себе самого маленького и за общим столом давала ему попробовать то, что ему было «по зубам»: ложечку бульона, пюре, киселя, каши – из того, что ели все остальные.
Постепенно малыш пробовал самую разнообразную еду, и никаких трудностей с переходом к новой пище у нас с ним никогда не возникало. Ребенок легко привыкал к любой новой для него еде, наверное, потому, что начинал с самых маленьких порций и ел, сколько ему хотелось.
Все это полностью освободило меня и от специального приготовления пищи для ребенка, и от траты времени на его отдельное кормление. Это оказалось очень полезным и еще в одном отношении. Малыша за общим столом намного легче было приучить к опрятности и умению пользоваться чашкой, ложкой, вилкой, хотя опять-таки специального времени это обучение у нас не отнимало – все шло «между делом». При этом я сама вполне успевала нормально, не торопясь, поесть, потому что обслуживанием за столом уже не занималась, это обеспечивал кто-нибудь из семьи. Малыш – сидел ли он у меня или у папы на коленях или, позже, на своем высоком стульчике – был постоянно под наблюдением взрослого. Это оказалось очень важно в самом начале: тогда было сравнительно нетрудно приучить ребенка к правильному поведению за столом и не приходилось его потом долго и нудно переучивать.
Со временем мы четко поняли, что первая же попытка швырнуть на пол ложку, размазать кашу или хлопнуть рукой по киселю должна быть строго пресечена: можно отодвинуть еду, отобрать ложку, даже высадить из-за стола. Первая же! А если надо – и вторая, и третья. Тогда дальше будет легко. Если же начать уговаривать или наказывать после десяти размазываний, на которые не обращали раньше внимания, то скандалов, капризов и нервотрепок не избежать. У нас было несколько четких запретов: нельзя ничего разливать и пачкать, нельзя крошить, бросать хлеб и играть с ним, нельзя (для детей постарше) оставлять после себя объедки, куски хлеба, еду на тарелке. Для этого мы всегда спрашиваем: сколько положить? Если малыш не рассчитал и никак не может справиться, отложим: «Доешь потом». Иногда ему могут помочь папа или мама. Но выбрасывать – ни-ни, это преступление!
Колечки с регулируемой высотой (Алеше 2,5 года). 1961 год
Когда приходила пора (у нас это было в 1 год – 1 год 3 месяца) и ребенок сам тянулся за ложкой – не для игры, а чтобы попробовать ею есть, – мы давали ему ложечку, маленькую, удобную для него. Но давали (в первый же раз!) правильно, не в кулак и не в щепоть, а как полагается, и придерживали его непослушные пальчики своей рукой. Фактически на первых порах приходилось держать ложку вместе с ним и помогать ему донести кашу не в ухо, не к щеке, а в ротишко. И так, изо дня в день, может пройти целая неделя. Приходилось набираться терпения. Затем мы постепенно пробовали отпускать ручку малыша. При этом каждый раз давали ему ложку, только правильно, следили за тем, чтобы он иначе ложку во время еды не брал. И не ругали за неудачу, а хвалили, когда получается. А уж когда малышу удавалось самому съесть несколько ложек каши (я ее варила не слишком жидкой для начала), то мы устраивали даже маленький праздник: дарили, например, ему особую ложку с его инициалами.
На все эти «мелочи» у взрослых часто не хватает терпения и умения (хотя ссылаются они при этом на нехватку времени), а это как раз не мелочь – в этом тоже рождается самостоятельность. Надо обязательно помочь этому важнейшему процессу в развитии ребенка, не пожалеть времени, не прозевать самые первые его проявления ни в чем, и это сторицей окупится потом.
Что-то у меня получается все не про здоровье, а про другое, совсем с ним и не связанное…
Б. П.: Ну и что же? В конце концов, ведь мы же писали еще в первой своей брошюре «Правы ли мы?», что не согласны с поговоркой: «Слаб, потому что мало каши ел». Это тогда, когда люди голодали, она отчасти была справедливой, да и то только отчасти. И сила, и здоровье куда больше зависят совсем от другого. К этому мы сейчас и перейдем.
Наша спортивная комната
Мы знали, что с ростом благосостояния и комфорта городской жизни объем и напряженность физической деятельности взрослых и особенно детей упали значительно ниже оптимальной дозы, необходимой для нормального развития, что гипокинезия и гиподинамия становятся болезнями века и причиной многих, особенно сердечно-сосудистых заболеваний.
Мы попробовали противостоять этой тенденции века и стали – в меру своих возможностей – менять условия и уклад нашей семейной жизни так, чтобы не только максимально удовлетворить потребность детей в движении, но и развить у них эту потребность.
Этому чрезвычайно помогло то, что мы не побоялись сделать спортивный уголок в единственной комнате, где жили тогда вместе с двумя детьми. Мы еще не знали, что спортснаряды совершенно необходимы не только в комнате, но и в детском саду, во дворе, в детских парках, на пляжах – везде, где есть дети, потому что это одно из эффективнейших средств для удовлетворения потребности ребенка в движении. А движение необходимо для его развития. Когда мы впервые купили детский спортивный набор (кольца, трапеции, качели), нашему старшему сыну было всего два года, а второму – полгодика. Мы и не предполагали, что эти «два кольца и два веревочных конца» станут первым шагом к нашей будущей спортивной комнате, к универсальному домашнему спорткомплексу Владимира Скрипалева, который сумел на 3,5 кв. метрах своей городской однокомнатной квартиры разместить одиннадцать спортснарядов и тем самым подарил своим детям радость движения, а значит, силу, ловкость, здоровье…
Уголок на шесте – Юлин «коронный номер». Борис Павлович всегда особо отмечал трудные упражнения, которые дети придумывали сами. 1976 год
Многие говорят: «Вот и надо все эти спортивные сооружения устроить в детских садиках, в школах, во дворах, наконец. Но зачем в комнату?!» В том-то и дело, что если спортснаряды есть дома, то малыш начнет использовать их как можно раньше, как только будет к этому готов. Такое своевременное начало нужно не только для физического, но и для умственного развития ребенка.
Важно и то, что дома, при одном-двух малышах, есть как минимум один-два взрослых или старших – есть кому поучить, подстраховать на первых порах. В яслях это обеспечить труднее. И еще: в комнате спортснаряды всегда доступны, поэтому позволяют малышу постоянно чередовать разные занятия, обогащать любую игру движением, сочетать с физической нагрузкой умственную, разнообразить сферы деятельности – не по запланированной программе, а по потребности. Очень важный момент, на котором мы позже еще остановимся.
Когда мы перешли жить в новый дом, то прежде всего самую большую комнату оборудовали как спортивную. Правда, здесь же на полках разместились игрушки, игры, куклы, строительный материал, но главными в комнате сразу стали спортивные снаряды. Вот их краткое описание.
1. Две разные по толщине перекладины (турник), высоту установки которых можно менять по желанию в зависимости от роста ребенка.
2. Два шеста из стальных труб. Один из них, упираясь в потолочную балку, служит опорой для перекладин. Другой проходит сквозь люк в потолке в мансарду и, «пронизывая» две комнаты, достигает высоты 5,7 метра.
3. Лесенка с перекладинами из дюралевых трубок. Она стоит вертикально у стены, но может легко сниматься и превращаться в мост, барьер, качалку, забор и даже «самолет» (если ее подвешивают на канатах).
4. «Лианы» – сделаны из кабеля и каната. Они протянуты от снаряда к снаряду так, что получается целая система «воздушных дорог», по которым можно передвигаться, не касаясь пола.
5. Гимнастические кольца – самый любимый детский снаряд. Они подвешены на веревках к потолочной балке. Специальное устройство (металлическая «восьмерка») позволяет легко и быстро менять высоту подвески колец.
6. Канат с узлами висит рядом с кольцами. Внизу к нему подвешена боксерская груша – сидя верхом на ней, очень удобно раскачиваться. Иногда мы подвешиваем вместо каната эспандеры, или резиновые бинты, или хорошо растягивающуюся вакуумную резину – для больших «лунных» прыжков, которые дети очень любят.
7. Вдоль стены выстроились «по росту» мешочки с мелкой галькой. На каждом из них четко обозначен вес – от 1 до 18 килограммов. Есть и маленькая штанга, сделанная из гантелей (вес до 15 килограммов).
8. Половину пола занимают два больших мягких матраса. На них проходят схватки «борцов», занимаются «акробаты», делают свои асаны «йоги» и просто кувыркаются ребятишки всех возрастов.
Весь этот маленький спортзал находится в распоряжении детей с утра до вечера. Трудно вообразить, что происходит здесь, когда собираются все от мала до велика и всех обуревает спортивный азарт! Ребята переходят со снаряда на снаряд, упражнения следуют одно за другим, тут же придумываются и пробуются новые. У ребят есть свои собственные изобретения и любимые упражнения.
Самый маленький (месяцев в восемь-девять) начинает с того, что топчется вокруг шеста, а потом берется за кольца или перекладинку. Позже он пробует поджимать ножки, и, когда ему удается провисеть несколько секунд, мы награждаем «спортсмена» аплодисментами – это уже большой успех, и ему радуются все.
Когда же ручки малыша окрепнут, он может не только висеть на кольцах, но и раскачиваться на них, сколько сам сможет. В полтора-два года у наших ребят это получалось очень неплохо. Тогда же они овладевали сложным упражнением, прекрасно развивающим брюшной пресс, – подниманием ног из виса к перекладине или к кольцам. Если это получается хорошо, то следом уже пойдет и «лягушка» на кольцах, и вис на подколенках на перекладине и на кольцах вниз головой. Сильные руки позволяют рано овладеть подтягиванием, из которого получился впоследствии наш «колобок», когда надо, подтянувшись до подбородка, поднять к подбородку и колени и провисеть так сколько сможешь.
Постепенно ребята овладевают и разными элементами спортивной гимнастики. Годам к пяти-шести они могут «выйти в упор» на кольцах и сделать «угол в упоре», а на перекладине даже сделать «переворот в упор» – упражнение, которое дается с трудом многим новобранцам в армии. Чем крепче становятся малыши, тем больше им хочется двигаться и придумывать новые необычные движения на снарядах. Одно из любимых и самых распространенных детских упражнений – «вертолет»: ребенок, повиснув на кольцах, вращается вокруг своей оси и скручивает веревки колец в жгут, а потом поджимает ножки и раскручивается в обратном направлении.
Самые крепкие, сильные и ловкие любят лазать по канатам и шесту, причем иногда изобретают свои способы лазания. Ваня, например, в семь лет мог брать в левую руку мяч и взбираться по шесту до потолка с помощью ног и только одной правой руки. Если открыть люк, то можно проникнуть в мансарду таким оригинальным способом – без помощи лестницы, а прямо по шесту. А еще приятней соскользнуть через люк вниз, как пожарные по тревоге.
Иногда, когда бывают гости, ребята затевают веселое представление с переодеваниями. Называется оно «Сколько детей у Никитиных». Наверху в мансарде приготавливается ворох разной одежды, и каждый из ребятишек, натянув на себя очередной «костюм», соскальзывает вниз по шесту и, сделав реверанс, называет себя: Оля, Ваня, Аня и т. д. А затем по лестнице бегут наверх, надевают что-то другое, вновь скользят вниз и вновь «представляются»: Петя, Соня, Коля… Они сыплются сверху друг за другом как горох, и скоро уже сбиваешься со счета: пятнадцать, двадцать, двадцать пять! Гости наши смеются: «Прямо и не сосчитать. Сколько же у вас детей на самом деле?»
Л. А.: Правда, сначала некоторые пугаются: «Ой, упадет! Ой, надорвется!» – и спрашивают у меня: «Как вы можете на все это спокойно смотреть? Вы мать, неужели вам нисколько не страшно за детей? А вдруг…» И недоверчиво слушают мой ответ: «Что вы! Мне было бы куда страшнее за них, если бы всего этого не было. Ведь ребята благодаря такой спортивной обстановке становятся не только сильными, ловкими, но и очень осторожными».
Сила, ловкость и… осторожность
Б. П.: У нас ни одной серьезной травмы у детей не было, хотя возможностей для этого у них больше, чем у других ребят. Увидев однажды, как я поднимаю турник под потолок, наша бабушка когда-то сделала прогноз:
– Уж ноги себе мальчишки обязательно переломают! Помяните мое слово.
Но прогноз не оправдался, хотя ребятишек вместо двух стало семеро, а спортснарядов прибавляется каждый год и дома, и во дворе. И теперь мы уже уверены: вероятность травм у нас ничтожна. Почему?
Конечно, ребята очень сильны. Шутка ли, ухватившись только одной рукой за турник, провисеть целую минуту или полторы. И значит, держатся они за снаряд очень крепко. Но, главное, они тонко чувствуют меру своих возможностей, то есть что им под силу, а что еще нет.
Вот устроили они в комнате «прыжки в воду» с разной высоты и поставили в ряд чемодан, скамеечку для ног, детский стульчик, стул, детский высокий стул, стол, да еще и на стол поставили стул – так что вышла лесенка. Старшему из «прыгунов» пять лет, а младшей, Оле, еще нет двух. Спрыгнув с низенькой ступеньки на коврик (это «вода»), влезают на следующую – повыше – и опять спрыгивают. Оля внимательно следит за братьями, делает точно, как они, и вслед за ними поднимается после каждого прыжка все выше. Вот она спрыгнула с детского высокого стула и влезла на следующую высоту – на стол. Но посмотрела со стола на пол и… не стала прыгать. Спустилась на высокий стул и тогда только прыгнула «в воду». Разница в высоте стола и высокого стула всего 12 сантиметров, но она ее хорошо чувствует и с высоты 65 сантиметров спрыгивает, а с большей уже нет. Хотя братья тут же прыгают с высоты и 100, и 130 сантиметров. Вот это точное «чувство меры своих возможностей», развитое у наших ребятишек при занятиях на снарядах, и защищает их надежно от всяких неприятностей, а нам позволяет не бояться за них.
Мы уже рассказывали о том, как знакомили малышей с опасностями, как они учатся быть осторожными. Так и со спортснарядами – специальных занятий «по технике безопасности» мы не проводим, но и на самотек все не пускаем. Мы поступаем по-другому.
Вот картина, которую нам приходится наблюдать, когда у нас бывают гости с малышами.
Папа-гость подводит своего четырехлетнего сынишку к кольцам (а кольца висят высоко!) и без всяких опасений, подхватив его под мышки, поднимает к кольцам.
– Держись крепче! – советует он сыну, а тот еще не очень знает, как это – крепче. А отец, тоже не чувствуя, насколько крепко ухватился ребенок, еще и раскачивать его начнет.
Мы останавливаем увлекшегося папу:
– Так нельзя – малыш может сорваться! Ведь при раскачивании нагрузка на руки резко возрастает.
Сами мы делаем иначе. Никогда не станем поднимать ребенка на такую высоту, до которой ему самому не добраться, а опустим ему кольца, чтобы он достал сам. И никто у нас не станет его раскачивать, пока он этому не научится сам. И никто не упрекнет, если что-то еще не получается или выходит плохо. Но зато очень внимательно будут смотреть за малышом, когда он в первый раз подходит к снаряду.
Вот, допустим, влезает двухлетняя Оля впервые на вертикальную лесенку. Вверх взбираться ей легко. Видно, за какую перекладину надо ухватиться, а ножонки переступают следом за руками. Слезть же вниз малышке невероятно трудно. Опустит ногу вниз, а там ступеньку не находит. Посмотреть вниз еще не умеет… вот и критический момент. Как тут быть? Подойти и сразу снять дочку – очень глупо. Она ничему не научится, никакого опыта не приобретет. Полезет завтра снова, и все повторится сначала (если не будет рядом взрослых, может и сорваться с лесенки, и сильно ушибиться).
Я стою рядом, но не снимаю дочку, а только подхожу поближе, чтобы поймать ее, если оборвется. И тут начинается «урок». Малышка пищит, ей страшно, ножонка никак не находит перекладины. Проходит полминутки, а то и минутка, пока ножка наконец нащупывает перекладину – не без моей помощи, если надо. Сколько неприятных переживаний и у меня, и у дочки, зато завтра… О! Самое интересное будет завтра. Маленькая Оля обязательно полезет снова на эту злосчастную лесенку. Но, помня вчерашние неприятности, она влезет только на одну ступеньку вверх, победно посмотрит на меня и… тут же слезает на пол.
– Молодец, Оля! – радуюсь я. Так повторится много раз, и лишь потом она понемножку осмелеет и влезет на две, потом на три ступеньки. Вот так и учатся у нас ребята с первого же года жизни определять свои возможности и быть осторожными.
Л. А.: У детей здесь свои трудности, а у нас, взрослых, другие. Отцам чаще всего труднее избежать излишнего форсирования, понукания, подстегивания. А ведь давление на ребенка возбуждает у него либо страх, либо строптивость и, уж во всяком случае, сковывает, как бы парализует желание и волю самого ребенка. Вряд ли это приохотит малыша к занятиям.
А вот матерям надо бы воздержаться от моментальной, часто преждевременной помощи при первой же трудности малыша. Знаю по себе, как это трудно, но нужно! Излишняя опека, «дрожание» над малышом, предотвращение малейших ушибов и любых падений порождают в нем нерешительность, несамостоятельность и неосторожность: ведь за него об опасностях думает мама!
Что же выходит: заставлять – плохо, опекать – еще хуже, а что тогда нужно, чтоб получалось? Радоваться, просто радоваться, когда малышу что-то удается, – это, по нашим наблюдениям, главный стимул для успешных занятий с ребенком. Самый совершенный спорткомплекс не вызывает его интереса, не «срабатывает», если мы, взрослые, остаемся равнодушны к тому, что с ним делает ребенок, как у него получается.
Ну, а если упал? А если неудача? Тогда мы утешим, конечно, вытрем заплаканные глаза, ободрим («Не горюй, еще получится!»), но чуть позже того, как ему пришлось самому потрудиться, покряхтеть, даже поплакать от очередной неудачи. Я только всегда стараюсь избегать утешений такого рода: «Ах, какие нехорошие кольца, не слушаются Ванюшу». Я скорее скажу так: «Жаль, колечки хотели тебя покатать, а ты не сумел… Ну ничего, давай еще разок попробуем…»
А возрастные нормы?
Б. П.: На этот вопрос мы отвечаем иногда контрвопросом: разве есть нормы для того, сколько играть в куклы или в кубики, а сколько – в подвижные игры? Да пусть играют, сколько хотят!
Вот пятилетняя Аня и трехлетняя Юля друг за другом влезают на стул, со стула на стол, а оттуда спрыгивают на коврик и снова на стул, на стол…
– Когда им надоест прыгать? – спрашивает меня Лена, занятая шитьем.
– Я сейчас посчитаю, – начинаю я ставить палочки на полях своей тетради. И что же? Они остановились после 72‑й отметки. 232 прыжка «лягушкой» сделал почти подряд двухлетний Ваня, осваивая понравившийся ему способ передвижения по полу, 500 приседаний сделал как-то пятилетний Антон («Я бы больше мог, да обедать позвали», – говорил он потом). По 10–15 минут малыши могут не слезать с каната, с боксерской груши (они любят «садиться верхом» и качаться на ней), колец, турников. Оказывается, пол – это «вода», и там можно «утонуть», поэтому все перемещения происходят по воздуху.
Вы видите, что мы почти полностью положились здесь на малышей и не пожалели: они сами тонко определяют границы, полезные для организма. Просто поразительно, как долго, без устали, ребята могут повторять одно и то же упражнение. И не менее удивительно, что бывают целые дни, когда никто из них ни разу не подойдет к спортснаряду. Как же устанавливать какую бы то ни было норму для их занятий? Кто, кроме них самих, сможет определить их ежедневную, ежечасную, сиюминутную потребность в движениях, их возможности, их оптимальную нагрузку? Никто! Ни единый, самый опытный тренер в мире, по-моему, не сделает это лучше самого ребенка. Так почему же и здесь не довериться природе? Так мы думали, так сделали, и ни разу нам не пришлось об этом пожалеть.
Если ребенок, например, долго бежит, он просто устанет, и бежать дальше ему будет неприятно. Сработает чувство усталости, и он отдохнет. Перегрузка, таким образом, возможна только там, где ребенка заставят бежать против его желания или делать что-то через силу. В игре такого не бывает, значит, игровая обстановка – надежная защита от перегрузок, в том числе и силовых.
Вот лежат у нас в спортивной комнате мешки с мелкой галькой самого разного веса – 1, 2, 3, 4, 5… до 18 килограммов. У них удобные мягкие рукоятки сверху и снизу, их можно брать и одной рукой, и двумя, поднимать и носить одному и вдвоем. Ну, а если малыш ухватится за тяжелый мешок, который ему не по силам? Мы такую картину наблюдали часто. Старшие строят какую-нибудь крепость и просят младших: «Тащите сюда все мешки!» Малыш хватает сначала первый попавшийся мешок, но если тот от его усилий даже не шевельнется, то малыш его тут же бросит и схватится за другой, третий, который наконец «поддастся». Тут, видимо, тоже происходит стихийное определение своих возможностей, нужное для жизни во многих случаях.
Как-то устроили ребятишки соревнования – тоже игра, родившаяся после просмотра выступлений штангистов на Олимпиаде в Монреале. Вместо штанги – всё те же мягкие мешки с галькой. «Радиокомментатор» Юля сообщает через рупор: «Мастер спорта Ваня, из команды СССР, поднимает вес 12 килограммов!» А поднимать над головой начинают сначала легкие мешки, а потом доходят и до «личных рекордов». Вот уже мешок в 14 килограммов «мастер спорта Ваня» сумел только «взять на грудь», а поднять вес над головой ему не удалось.
Напряжения при этом максимальные, до предела возможностей, но так как они бывают очень часто и испытываются и в годовалом, и в двухлетнем возрасте, и позже, то не только не опасны, но – мы считаем – очень полезны. «Науке известно, что наиболее выгодный режим для полноценной функции организма – приближение к его максимальной нагрузке», – пишет в своей статье «Здоровье и счастье детей» член-корреспондент АМН СССР С. Долецкий. Наверное, поэтому развитие силы у наших ребят идет гораздо быстрее, чем при небольших нагрузках, а кроме того, крепче становятся не только их мышцы, но и связки, и кости. Видимо, поэтому пятилетняя «медсестра» Любочка может носить на спине «раненых» Ваню и даже Юлю, весящую на 10 килограммов больше «медсестры». Мы теперь убеждены, что защищать ребенка от нагрузок, как это часто делают мамы и бабушки, опасаясь надрывов и ушибов, – это значит, наоборот, подготавливать почву для всяких неприятностей вроде переломов, растяжений и других травм.
Л. А.: Я не стала бы ополчаться только на женщин. На то мы и есть мамы и бабушки, чтобы охранять и защищать. В этом наша биологическая и социальная потребность, даже обязанность. Ну, бывает, перестраховываемся, перебарщиваем в опеке, но ведь это от излишнего старания. А может быть, еще от того, что не хватает сейчас в семьях мужского «противостояния» нашему женскому охранительному воспитанию? Мне самой иногда бывает трудновато в первый раз смотреть на некоторые новые упражнения, которые изобретают ребята при непосредственном участии отца, нашего главного спортивного заводилы. А вот смотрю и думаю: «Да, уберечь, да, защитить – это, в общем-то, нетрудно, а вот дать хорошую нагрузку я бы, пожалуй, не решилась. Спасибо папе: он может и умеет».
Результаты радуют
Б. П.: Для определения результатов необходимы критерии. В детских садах и школах оценка физического развития детей «производится на основании данных измерения роста, веса и окружности груди»[6].
Вот по этим критериям наши ребята средние, некоторые даже ниже среднего – так и записано в их школьных медицинских картах. И верно: никто из них не достиг современных акселеративных норм «привеса» и «прироста». Но нас это не пугает, а наоборот, радует, так как «из вредных влияний акселерации необходимо отметить нарушение осанки, тенденцию к астенизации, увеличение заболеваемости ревматизмом и проявление его в раннем возрасте, более частые гипертонии у подростков»[7] и сокращение общей продолжительности жизни (установлено в экспериментах на животных).
Если же судить по другим критериям, по которым тренеры отбирают детей в спортивные школы и секции (сила, скорость, гибкость, ловкость, выносливость), то тут картина будет совсем иная: наши ребята во многом опережают своих более рослых сверстников.
Эту разницу мы обнаружили довольно рано. Сначала сравнивали с книжными данными. Читаем, например, в книге для родителей, что умение бегать в три года только начинает формироваться: у малыша в это время еще нет «фазы полета», это скорее быстрый шаг вперевалочку, а не бег. И удивляемся: наши трехлетки легко и по-настоящему бегают. Они запросто спрыгивают со стола на пол, в то время как с высоты 70 сантиметров разрешается спрыгивать только семилетним. Или, например, сказано, что бегать наперегонки 6‑летнему можно на 30 метров, а ходить на прогулку – не более 500 метров. А у нас уже трехлетние могут бежать рысцой и два, и три километра, не отставая от меня, даже если я иду полным шагом и быстро. Что же касается 4–5-летних, то те в турпоходах проходят до 20–25 километров в день и поражают нас своей неутомимостью. На привале взрослые с наслаждением прилягут под деревом и вытянут усталые ноги, а ребятишки снимают рюкзаки и тут же начинают игру в салочки или отправляются «на разведку» незнакомой местности.
Нас удивило такое расхождение книжных норм с действительностью. Мы увидели, что возможности детей гораздо больше наших представлений о них. Но как их измерить? Как найти такие критерии, которые позволили бы сравнить уровень развития детей, разных по возрасту, по росту, по весу? Задача оказалась сложной. Но в первом приближении мы ее все-таки, думаю, решили. Правда, вначале мама немного подтрунивала над моими многочисленными таблицами, разной «цифирью», но вскоре убедилась, что без этой «цифири» невозможно было бы ничего объективно определить, сравнить, оценить. Ведь мало сказать: «Сильнее, выше, быстрее» – го, потому что неизвестно, насколько сильнее, насколько быстрее. Я попробовал найти такие критерии, которые позволили бы это «насколько» определить.
Главный критерий, конечно, сила. И прибор для ее измерения известен – это становой динамометр, который показывает, какой максимальный груз человек может оторвать от земли. Малыши с удовольствием «измеряют силу» по многу раз, но… принимают для этого удобную позу. Они, как грузчики и штангисты, когда надо показать максимальный результат, не сгибают спины. Мы назвали этот показатель «максимальный груз, который может оторвать от земли человек в наивыгоднейшем положении». Но мерить этот груз мы стали не только в килограммах, но и в собственных весах, то есть делили этот груз на вес самого ребенка.
И вот что оказалось: трехлетний городской малыш может оторвать от земли груз, равный в среднем его «собственному весу», а шестилетний – полуторному «собственному весу». Наша 5-летняя Люба уже отрывает 2,5 своих веса, а старшие – 2,8; 2,9; 3,1, то есть в среднем около 3. Видимо, поэтому они могут носить друг друга на спине, даже младшие старших.
Но сила – это, так сказать, статический показатель. И чтобы охарактеризовать динамические возможности ребенка, я взял за критерий максимальную скорость, какую малыш развивает в беге (на 30 метров с ходу). При этом скорость бега я стал измерять не в метрах, а в своих ростах в секунду (р/с). Тогда оказалось, что можно сравнивать «беговые способности» ребятишек разных возрастов. Победителем при таком подсчете может оказаться не самый старший и не самый рослый, а самый быстрый – а им может быть и самый маленький по росту.
Оказалось, что дети пяти-шести лет в среднем бегают со скоростью 3 р/с, а наши в том же возрасте – 4 р/с, а к семи-восьми годам скорость вырастает до 4,5 р/с. В девять лет у Ани этот показатель был равен 5,2 р/с. Конечно, мне захотелось определить этим же способом скорость бега наших мастеров спорта. Она оказалась в среднем 4–5,4 р/с (у олимпийского чемпиона Валерия Борзова[8] – 5,48 р/с), то есть оказалась… соизмеримой со скоростью наших ребят. Это было неожиданно: ведь специальных тренировок мы с ними не проводим, и сами они регулярно бегом не занимаются, а результаты высокие. Наверное, тут сказалось то, что они много и с большим удовольствием двигались.
Чтобы иметь подобные объективные данные, три-четыре раза в год мы проводим измерение «уровня физического совершенства» ребятишек почти по 20 разным показателям.
Из них можно увидеть, что уже в 4–5-летнем возрасте малыши умеют подтянуться до подбородка на перекладине. 7-летний Ваня, например, может сделать это 11 раз подряд, а 10-летняя Юля – 14. В три-четыре года они влезают по вертикальному металлическому шесту на высоту 4–5 метров (старшим на это требуется 6–10 секунд). Из виса на перекладине 5–6-летние могут до 40–50 раз подряд поднять ноги вверх и коснуться ими рук. Могут целую минуту или даже полторы провисеть на турнике, держась за него одной рукой, и т. п.
Нет надобности перечислять здесь все измеренные нами показатели. Скажу только об одном важном наблюдении: наилучшие результаты в спортивных соревнованиях показывают, как правило, те самые дети, у которых в школьных медицинских картах в графе «физическое развитие» написано «среднее» или даже «ниже среднего». Разве это не обидно?
Дети пошли в школу и…
Конечно, в их жизни многое изменилось, как и у всех детей. Впрочем, контраст между домашней и школьной жизнью для наших ребятишек оказался даже больше, чем у других: вместо легких трусиков – тяжеловесная школьная форма, вместо игры – уроки, вместо вольного чередования занятий – строгое расписание.
– Вы совсем не готовите детей к школе, – огорчалась бабушка, – им будет очень трудно привыкать к школьным требованиям и дисциплине.
А нас тревожило другое: каково будет усидеть за партой нашим непоседам? Чему-чему, а усидчивости мы от них никогда не требовали, наоборот, всегда поощряли движение, движение, движение…
Представьте себе, это-то как раз их на первых порах и выручило! Здесь нет противоречия. Парта, конечно, их утомляла, но привычная жажда движений, развитая потребность в них находила выход. «Я так любила бегать на переменках, носилась все время», – вспоминает начальную школу Анечка. «А нам не разрешали, – вздыхает Оля, – а так хотелось…»
Это желание удовлетворялось дома: ведь здесь были снова трусики, те же спортивные снаряды и та же свобода в перемене занятий и их последовательности. А то, что у них были крепкие мышцы и прочные кости, оказалось самым надежным средством против искривления позвоночника, этого бича многих школьников. Нам даже почти не приходилось специально следить за осанкой, за тем, чтобы они правильно сидели за столом, когда делали уроки. Как-то нужды в этом не было, тем более что за уроками они не засиживались.
И все-таки моя «цифирь» самоуспокоиться не дает. Чем старше становятся ребята, тем тревожнее результаты моих измерений. Тревогу вызывают как раз не вес и рост, тут дела обстоят нормально: к 16 годам оба старших сына обогнали в росте меня, а мой рост 175 сантиметров. Падают показатели силы, скорости, выносливости. Движение уже не доставляет им такого удовольствия, как раньше. Почему? Домашний «спортзал» становится мал для подрастающих ребят, неинтересен. А стадиона, бассейна, настоящего спортзала поблизости нет.
Л. А.: Да, ребята приходят домой уставшие не от учебы, а от сидения. К тому же, привыкая к теплой школьной одежде, они всё неохотнее раздеваются дома. Бывало, раньше, еще до школы, нет-нет да скажешь: «Что-то прохладно, может, рубашку наденешь?» А теперь чаще не удерживаешься от досадного упрека: «Что же ты упаковался с ног до головы?» Наверное, к старшим классам мы своими домашними средствами уже не можем противостоять Всемогущей Парте и с грустью видим, как все приобретенное до школы постепенно сходит на нет.
Б. П.: Иногда нас спрашивают: «А почему ваши дети не пошли в большой спорт?» Надо сказать, что по своим данным они могли бы заниматься успешно во многих видах спорта и, несомненно, достигли бы высоких результатов – таково мнение тренеров, которые видели наших ребят на спортснарядах или на беговой дорожке.
Видимо, так и есть. Младших, например, охотно приняли в акробатическую секцию, и спустя полтора месяца девочки получили 3‑й юношеский разряд по акробатике, а через год – уже первый. Но, во-первых, ездить на занятия им приходится далеко, а провожать и встречать их не всегда удается, поэтому бывают пропуски тренировок. А во-вторых, хотя они и занимаются с удовольствием, все-таки всепоглощающей страсти, какая требуется для завоевания спортивных высот, у них нет. Меня это огорчает, а вот маму – не очень. Даже больше – совсем не огорчает. Она считает, что большой спорт поглощает человека целиком, становится главным в жизни, а все остальное ему подчиняется. А у наших ребят так много этого «остального», такая уйма дел и интересов тянет их к себе, что для спорта остается только подсобная роль, видимо, самая для него подходящая: ведь главный рекорд – все-таки здоровье.
Надо, чтобы спортзал и стадион были доступны каждому ребенку. Все дети должны иметь возможность для ежедневных спортивных занятий – в детских садах, школах, жилых домах. Вот тогда и парта будет не страшна.
Что мы считаем важным
Л. А.: То, что у нас сложилось, назвать системой, видимо, еще нельзя. Но основные принципы, которыми мы руководствуемся, выделить можно. Их три.
Во-первых, это легкая одежда и спортивная обстановка в доме: спортснаряды вошли в повседневную жизнь ребят с самого раннего возраста, естественно входят в их среду обитания, наравне с мебелью и другими домашними вещами.
Во-вторых, это свобода творчества детей в занятиях. Никаких специальных тренировок, зарядок, уроков. Ребята занимаются, сколько хотят, сочетая спортивные занятия со всеми другими видами деятельности.
В-третьих, это наше родительское неравнодушие к тому, что и как у малышей получается, наше участие в их играх, соревнованиях, самой жизни.
Все эти принципы, конечно, были не придуманы заранее, а выработаны в практике жизни, в общении с детьми. Мы пользовались ими интуитивно, неосознанно, преследуя лишь одну цель: не мешать развитию, а помогать ему, причем не давить на ребенка в соответствии со своими какими-то замыслами, а наблюдать, сопоставлять и, ориентируясь на самочувствие и желание ребенка, создавать условия для дальнейшего его развития.
Честно говоря, это не всегда получалось: не давить, не мешать, а помогать. Ведь мы еще во многом не знали, как надо это делать. Бывало, рассердишься: «Ну-ну, прыгай, не бойся. Эх ты, трусишка!» Малыш в слезы. Потом мы стали говорить иначе, без укора и насмешки: «Кто у нас храбрый, тому можно прыгнуть, а кто еще не расхрабрился, тому пока не надо. Ты хочешь? Ну, давай! Молодец!»
Разница получалась огромная: в первом случае ребенок испытывает давление извне, им руководит страх, стыд. А во втором он сам собой распоряжается и ощущает не унижение, а гордость, радость преодоления. Конечно, действие ребенка тут организовано взрослым, но оно не навязано силой, не ломает волю малыша.
Все эти психологические тонкости мы постигали нелегко, не миновали многих ошибок, но в процессе постижения менялись и сами, учились общаться с детьми на основе взаимопонимания и взаимодоверия.
Как рождаются способности?
Б. П.: В основе умственного развития наших детей – всё те же наши «три кита»: обстановка, располагающая к разнообразной деятельности, большая свобода и самостоятельность в занятиях и играх и искренняя заинтересованность во всех делах детей со стороны нас, взрослых. Мне и здесь хотелось бы еще раз подчеркнуть, что мы не ставили себе целью научить их всему как можно раньше, мы старались создать условия для развития их способностей – по их возможностям и желаниям.
Мы не знали и не могли взять на себя смелость определять, что и когда развивается у малышей, и в своих действиях исходили из того простого наблюдения, о котором уже упоминали в первой части книги: с младенцем разговаривают со дня его рождения, когда он еще и не понимает ничего. Наступает момент, для каждого малыша свой, когда он скажет первое слово. Но если с ним не говорить с рождения, то это первое слово может быть не сказано и в год, и в два, и в три.
Ну, а если со всеми прочими способностями поступить так же? Не определять сроки заранее, а просто создать благоприятные условия и посмотреть, как будет развиваться ребенок?
Наблюдая за детьми, мы заметили, что развиваются у них те стороны интеллекта, для которых у нас были условия, опережающие само развитие. Допустим, ребенок еще только начинал говорить, а у него уже были среди прочих вещей и игрушек кубики с буквами, разрезная азбука, пластмассовые, проволочные буквы и цифры.
Вместе с великим множеством понятий и слов, входящих в эту пору в сознание ребенка, четыре десятка значков, называемых А, Б, В… 1, 2, 3, 4… и т. д., запоминались без всякого труда к полутора-двум годам. Все потому, что мы не делали из этого тайны, не говорили: «Тебе рано», а просто называли малышу буквы, как называли прочие предметы: стол, стул, окно, лампа и т. д. И радовались, когда он запоминал, узнавая их в любом тексте.
Так же было и с математикой (счеты, счетные палочки, цифры, таблица сотни и тысячи, бусинки на проволоке и прочее), конструированием (всевозможные кубики, мозаика, конструкторы, строительные материалы, инструменты и другие), спортом (спортснаряды в разных сочетаниях в доме и во дворе).
И тут мы сделали удивительное открытие. В этих условиях дети очень многое начинали раньше, чем это предписывалось им по медицинским и педагогическим нормам: к трем годам они начинали читать, в четыре понимали план и чертеж, в пять – решали простые уравнения, с интересом путешествовали по карте мира и много чего еще.
И дело было не только в постижении некоторых школьных премудростей (беглым чтением, устным счетом, письмом они легко овладевали до школы), но и в том, что они при этом становились самостоятельнее, инициативнее, любознательнее, ответственнее – тоже не по годам. Мы их могли оставить дома одних (с 6–7-летним старшим) часа на три-четыре и знали, что ничего не случится. Мы могли спокойно послать семилетнего в Москву (электричка, метро) или одиннадцатилетнего в Горький[9]. Он сам брал себе билет, ехал безо всякой опеки проводника или кого-либо из взрослых. И все это не делало из них старичков – таких выдумщиков и озорников еще поискать!
Сначала мы этому только удивлялись, а затем всерьез заинтересовались проблемой раннего развития детей. Оказалось, что изучением потенциальных возможностей человеческого мозга давно занимаются мировая наука и практика. Ученые пришли к выводу, что резервы мозга колоссальны, а используются они в течение жизни человека ничтожно мало, что гениальность – это наиболее полное проявление интеллектуального потенциала, которым обладает любой нормальный человек.
От чего же зависит реализация этого потенциала? От чего зависит уровень развития способностей? Ответить на этот вопрос – значит найти способ растить всех талантливыми людьми. А это позволит избавить школу от неуспевающих и второгодников, детей – от перегрузок, родителей – от бессилия и удобного предрассудка: «Такой уж он у меня уродился».
Итак, мы тоже задались вопросом: откуда берутся таланты?
Ну, конечно, мы не считаем, что нашли способ выращивания вундеркиндов. Вундеркинд – это чудо-ребенок, исключение из правил, явление, пока мало объясненное. Речь о другом: каким образом каждого, буквально каждого малыша вырастить способным и даже талантливым?
Л. А.: Я думаю, можно быть сверхталантливым, но при этом корыстным и эгоистичным человеком, живущим по принципу: «После меня хоть потоп…»
Б. П.: Это наш старый спор. Скажу так: нужно, чтобы человек был не только знающим, но и творчески осмысливающим свое дело, свое место в жизни. А для этого необходимо развивать творческие способности и умение применять их на практике: в труде, на любом рабочем месте, в любой жизненной ситуации. Как этого добиться?
Главное – начать вовремя
Важнейшим условием развития всех способностей я считаю своевременное начало.
За этими двумя словами – годы наблюдений, размышлений, исследований. Итогом этой работы была «Гипотеза возникновения и развития творческих способностей»[10]. В ней впервые появилось непривычное слово НУВЭРС, составленное из первых букв названия процесса, который происходит в человеческом мозгу: Необратимое Угасание Возможностей Эффективного Развития Способностей. Суть ее заключается в следующем: каждый здоровый ребенок, рождаясь, обладает колоссальными возможностями развития способностей ко всем видам человеческой деятельности. Но эти возможности не остаются неизменными и с возрастом постепенно угасают, слабеют, и чем старше становится человек, тем труднее развивать его способности.
В таком уголке можно и заниматься на турниках, и «поработать» со штангой, и рисовать на доске, и соорудить новый снаряд для прыжков. На полу – сшитый Леной Алексеевной мягкий матрасик, на котором можно кувыркаться. 1962 год
Вот почему так важно, чтобы условия опережали развитие. Это даст наибольший эффект в развитии, которое будет просто своевременным, а вовсе не «ранним», как считают те, кто называет так развитие наших детей.
Кстати, мы-то сами теперь считаем развитие наших ребятишек не только не ранним, а запаздывающим во многих отношениях. Ведь условия, которые мы сумели создать, конечно, еще очень далеки от возможного идеала. Это естественно: домашними силами и средствами такую проблему не поднять.
Вот несколько примеров. Не смогли мы создать даже удовлетворительных условий для занятий ребят в области изобразительного искусства, биологии, иностранных языков и многого другого. И развитие ребят здесь явно отстает от их возможностей. А теперь нагонять упущенное очень трудно: иностранный язык, например, никто из них толком так и не знает, несмотря на школьные пятерки и четверки. А могли бы знать, если бы кто-нибудь из нас владел иностранным языком и просто говорил на этом языке с детьми со дня рождения…
Итак, условия для развития надо подготавливать заранее. Для этого и нужна – все равно: в доме ли, в детском ли учреждении – гораздо более богатая обстановка, чем та, в которой сейчас растут дети во многих семьях.
И широкое поле деятельности
Конечно, под богатой обстановкой я понимаю не ковры, хрусталь, польскую мебель и тому подобное. Все это предназначено больше для взрослых, а ребенку от такого богатства пользы мало: полированным миром вещей-недотрог можно лишь любоваться, а делать в нем ничего нельзя[11].
Правда, для ребятишек в возрасте до двух лет даже простое разглядывание предметов и их изображений занимает до 20 процентов всего времени их бодрствования и является важным развивающим фактором. Но чем старше становится ребенок, тем менее его удовлетворяет одно созерцание, и он тянется к каждому предмету рукой, начинает его пробовать сначала «на вкус», потом «на стук», потом на всякое другое его применение. Но ведь хрусталь для этого не годится. А вот чем раньше малышу попадают в руки карандаши, мел, бумага, клей, ножницы, молоток, картон, краски, пластилин, кубики – все то, чем можно работать (действовать, строить, делать), – тем богаче условия его развития.
Мы рано заметили, что малыши предпочитают манипулировать не игрушками (они им быстро надоедают), а предметами домашнего обихода, которыми пользуются взрослые: кухонной утварью, письменными и швейными принадлежностями, инструментами, приборами… А заметив это, разрешили малышам «войти» в наш взрослый мир и исследовать его неигрушечные свойства и опасности. Мы уже писали в первом разделе книги, как мы начинаем знакомить малышей с этим сложным миром реальных вещей. Того же принципа самостоятельности мы придерживаемся и в дальнейшем, не требуя от малышей «не брать без спроса», но требуя «класть на место». При этом, приветствуя исследовательскую деятельность, мы запрещаем ломать, рвать, портить вещи просто так – со зла или от нечего делать.
Доступность вещей не означает, однако, что детям позволено все трогать и брать без разрешения. У нас есть вещи – и их действительно огромное большинство, – которыми дети могут пользоваться в любое время по своему усмотрению. Перечислять их бессмысленно: это все то, что не входит в две запретные категории: чужие и ценные вещи. Под «чужими» понимаются буквально чужие, а кроме того, личные вещи на папином или мамином столе, в дедушкиной комнате, в чьей-то сумке или портфеле, которые неприкосновенны. Эти вещи можно брать только с разрешения. На ценные вещи также налагался безусловно строгий запрет – это часы, магнитофон, фотоаппараты, пишущая машинка и т. п., то есть тонкие механизмы, которые ребенок по незнанию может легко испортить. Мы не прятали их от детей, не убирали подальше, но давали понять с первого же знакомства, что эти вещи трогать нельзя. И я не помню случая, чтобы по вине малышей что-нибудь из дорогих вещей вышло из строя, хотя они были всегда доступны, а дети часто оставались с ними наедине.
Думаю, так получалось потому, что подобных запретных вещей было очень немного и они не были детям совершенно незнакомы. Обычно малыши рассматривали их вместе с кем-нибудь из взрослых или старших, и они переставали быть притягательными своей неизвестностью.
А главное, у детей нашими стараниями все больше появлялось других интересных, всегда доступных для них предметов, начиная от спортивных снарядов и кончая всевозможными инструментами и строительными материалами. Все это – помимо обычных игрушек, кукол, которых у детей тоже много.
В нашей комнате-мастерской можно резать, клеить, лепить, пилить, забивать гвозди, рубить, колоть, сверлить, точить. Были как-то у нас в гостях целую неделю два брата – двухлетний Витя и шестилетний Дима. Как же они были довольны, что молотки бывают разного роста и гвозди тоже и что доску можно прибивать гвоздями к обрубку бревна на полу. С каким усердием они вколачивали в бедную доску гвозди один за другим! Получалось это у них все лучше и лучше. А мы с их мамой-доктором глядели на «мастеров» и говорили друг другу: «Как же не хватает малышам в современной квартире вот такого настоящего дела!»
Мы старались идти навстречу любым намерениям детей что-то делать, проявить себя в каком бы то ни было творчестве. Заметили, что малыш любит писать мелом, – сделали из куска линолеума доску; заметили, что его интересует в «Детской энциклопедии» карта, – повесили большую карту полушарий на стенку. Так у нас на стенах появились таблицы сотни и тысячи, буквы печатные и письменные на плакате, на кубиках, измерительные приборы, большие деревянные кирпичи, конструкторы, всевозможные игры и, конечно, книги, множество книг – от сказок и книжек-малышек до энциклопедий и научно-популярной литературы.
Вот это-то мы и называем богатой обстановкой. Потому что для ребенка в ней открывается богатое поле деятельности.
Один профессор, вспоминая свое детство, удивлялся, с какой живостью и точностью он может представить себе рисунок на обоях в детской и даже форму трещин на белом потолке. Так почему же, недоумевал он, не дать для запоминания «на всю жизнь» таких сгустков человеческих знаний, какими являются географическая карта или таблица Менделеева? Эти первые впечатления могут непроизвольно возбудить интерес к какой-то области знания и даже развить определенные способности ребенка.
Те, кто знаком с биографией женщины-математика Софьи Ковалевской, могли обратить внимание на такую деталь: стены ее детской были оклеены страницами из математической книги. Но мало кто верит в связь между этими страничками с формулами и чертежами и ярким математическим талантом девочки Сони.
У нас в семье, видимо, точно так же «сработала» таблица Менделеева, на которую обратил внимание в «Детской энциклопедии» трехлетний Антон. А позже начались дымы, запахи, вспышки, появился конструктор «Юный химик», целая стена в мастерской, забитая химической посудой и химикатами. Потом – химико-механический техникум, победа в химической олимпиаде и, наконец, химфак МГУ.
Любимые учебные пособия
Этой чуткостью и восприимчивостью детского ума мы постарались воспользоваться и в обучении грамоте, счету, в знакомстве детей с мерами длины, веса, времени, с чертежом, планом и так далее.
Касса больших (60 миллиметров) письменных букв, согнутых из проволоки, не только позволяла составлять слова-поезда: «МАМА», «АНЯ», «ДОМ», но и обучать составителя поездов письму. Он не догадывался об этом, но, составив «поезд», обязательно «проверял все вагоны», обводя пальчиком все буквы по порядку.
Дедушке трудно рассмотреть на маленьком термометре за окном, какой сегодня морозец. Ему помогут малыши Ваня и Люба – они покажут точно такое же значение на учебном термометре метрового роста. Очень крупные деления и подвижная красно-белая ленточка позволяют установить любую температуру, какая бывает на нашей земле.
Со стены можно снять и часы с большим циферблатом, в которых часовая стрелка передвигается в 12 раз медленнее минутной, как на настоящих часах, но показать они могут любое время – стоит только малышу покрутить шестеренку сзади. Эта игрушка позволяет ребятишкам на несколько лет раньше сверстников освоить часы и измерение времени.
Есть у нас «игрушка», которая учит завязывать узлы. На рамке из дюралевых уголков и трубок в верхней половине завязаны образцы: 14 различных узлов, от самых простых до очень сложных вроде альпинистского «узла укорачивания». А в нижней – 14 «концов» из капронового шнура позволяют завязывать копии этих узлов, что и взрослым не всегда удается.
Чтобы малыши познакомились с картой и планом, у нас есть и глобус, и план дома, физическая карта мира и учебная школьная, где рядом с планом местности изображен и ее рисунок. Уже пяти-шестилетние ребятишки с удовольствием находят, где на плане дорога, лес или село, нарисованные на рисунке, или наоборот. А когда научатся читать, то задают друг другу задачи по карте мира и знают не только материки, океаны и моря, но и много государств, столиц, рек и гор и любят совершать путешествия по суше и по морю.
Даже простая на первый взгляд таблица сотни дает малышам много пищи для размышления и возможности задавать друг другу массу задач. Сначала они просто показывают пальчиком числа и называют их по порядку: кто дальше. И быстро уясняют, что после «двадцать девять» идет не «двадцать десять», а «тридцать», то есть усваивают порядок чисел, а потом начинают сосчитывать разные предметы. Когда все числа уже знакомы, мы даем задачки: кто быстрее найдет число 27, 49, 93? Затем по этой же таблице ребята овладевают сложением, находя, например, сумму чисел, расположенных по вертикали, горизонтали, диагонали. При этом они изобретают разные способы сложения и быстро привыкают к математической терминологии.
С началами геометрии дети знакомятся по разнообразным геометрическим фигурам, вырезанным из цветной бумаги и приклеенным к стене. Здесь же указаны основные линии фигур и их названия: высота, медиана, диаметр, радиус… И малыши очень рано отличают угол от треугольника, квадрат от ромба, круг от окружности и т. п. А в строительных наборах есть и шары, и цилиндры, и конусы, и пирамиды. И мы называем все эти геометрические тела их «математическими именами».
В нашей мастерской учебными пособиями фактически служат и измерительные приборы: весы, динамометры, секундомеры, штангенциркули и др.; и разнообразные материалы: от фанеры и жести до всевозможных пластмасс; и разные инструменты для обработки дерева и металлов, в том числе электроинструменты, требующие умения и осторожности в обращении.
Наконец, игры. В первую очередь это конструкторы: пластмассовые с крупными деталями для малышей, конструкторы-механики и даже большой электронный конструктор, которым увлекаются старшие.
Особое место среди всех учебных пособий занимают наши развивающие игры, которые мы назвали «ступеньками творчества». Это игры необычные, они родились в общении с детьми и при их непосредственном участии. В них можно играть уже на втором году жизни, как только малыш начинает различать форму и цвета, и в них же с удовольствием играют подростки и даже взрослые.
Что же такое развивающие игры? При всем разнообразии они объединены под общим названием не случайно: все они исходят из общей идеи и обладают одними и теми же характерными особенностями.
Лучше всего проследить это на примере. Вот игра «Сложи узор». Шестнадцать ее кубиков окрашены необычно – все шесть граней по-разному. К ним приложены почти сто рисунков с узорами, начиная с простейших, доступных детишкам в полтора-два года, и кончая очень сложными, с которыми справится не всякий взрослый. И каждое это усложнение узора малыш должен понять и преодолеть самостоятельно, как бы сделать для себя маленькое открытие.
Первые узоры могут быть легкими, то есть ниже его возможностей, но, поднимаясь, как по лесенке, от узора к узору, он подходит и к таким, которые заставляют его напрячься полностью, включить все умственные и волевые способности на полную мощность. Этот процесс очень радует ребенка – он видит свои успехи, испытывает огромное удовлетворение от того, что «было трудно, а получилось!», – и просит еще.
Но вот на каком-то этапе малыш остановится – не сумеет его осилить; например, дошел до узора, где нужны двухцветные грани («домик», «фонарик»). Он крутит кубики и так и сяк – нет, «домик» никак не получается! Значит, он добрался до потолка своих нынешних возможностей. Это критическая точка и для ребенка, и для старшего: подсказывать ни словом, ни жестом нельзя! Можно только утешить огорченного малыша и обязательно обнадежить его: «Еще и еще раз попробуешь – получится!» И когда завтра или через несколько дней или даже недель эта ступенька наконец будет преодолена – ребенок воспримет это как большое достижение и почувствует желание двигаться все дальше и дальше. И это действительно достижение – он самостоятельно решил ту задачу, которая вчера ему не давалась, была ему не под силу.
И при этом ему никто не подсказывал, не показывал. Он додумался сам, что крыша домика должна получиться из двух кубиков, сложенных особым образом: оказывается, прямой угол может получиться и так! Это целое открытие! А оно влечет за собой сдвиг в пространственном воображении, в умении комбинировать. Сделан пусть крохотный, но шаг в развитии творческих способностей!
Подобную картину можно наблюдать и во время игры в «Уникуб», в «Кирпичики», «Внимание»: те же задания-ступеньки, то же максимальное напряжение интеллектуальных сил, та же радость совершающегося открытия и как результат – развитие каких-то сторон творческих способностей ребенка.
В основу развивающих игр положены два принципа обучения – «от простого к сложному» и «самостоятельно по способностям». Это позволяет разрешить в игре сразу несколько проблем.
Во-первых, такие игры дают пищу для ума с самого раннего возраста.
Во-вторых, их задания-ступеньки всегда создают условия, опережающие развитие способностей.
В-третьих, поднимаясь каждый раз самостоятельно до своего потолка, ребенок развивается наиболее успешно.
В-четвертых, развивающие игры могут быть очень разнообразны по своему содержанию, а кроме того, как и любые игры, не терпят принуждения и создают атмосферу свободного и радостного творчества.
В-пятых, играя в эти игры со своими детишками, папы и мамы незаметно для себя приобретают очень важное умение – сдерживаться, не мешать ребенку самому размышлять и принимать решения, не делать за него то, что он может и должен сделать сам.
Первая же попытка ввести развивающие игры даже в небольшой дозе (два-три раза в неделю по полчаса) в практику работы со старшей группой детского сада показала, что темп умственного развития малышей может возрасти почти вдвое.
Конечно, игры – вовсе не какой-то эликсир талантливости, принимая который «через день по столовой ложке», можно достичь желаемых результатов. Развивающие игры не могут заменить «этих грязных железок» и верстака с инструментами, не могут освободить от необходимости творческого подхода к любым жизненным ситуациям. Это только одно из средств развития способностей, и оно будет тем действеннее и полезнее, чем меньше будет противоречий между принципами, которые легли в основу этих игр, и принципами, на которых строится вся система обращения с детьми в семье.
Вместе с детьми
Да, очень нужен для малыша в квартире уголок не только с игрушками, но и со спортснарядами, и с рабочими инструментами, и со строительными материалами. И еще очень важно: в этом уголке должно быть место не для одного, а для брата, сестры, товарища. И для папы или мамы – обязательно, иначе может получиться так: купили, достали, сделали, развесили, установили… а все зря – ребенку скучно. Что же нужно, чтобы ребенок взялся за дело, занимался им увлеченно и добился результатов?
На этот вопрос мы одно время не могли дать верного ответа. Говорили обычно так: «Главное – создать условия для разнообразных занятий и впустить туда ребенка, предоставив ему максимальную свободу деятельности. А там уж все пойдет само собой». И держались мы этого заблуждения довольно долго. Просто не замечали, не осмысливали собственного большого участия в самых разнообразных делах малышей.
А заставило нас задуматься об этом одно обстоятельство. У нас появился рояль. Кроме того, я накупил разных музыкальных инструментов: гитару, балалайку, «Мелодику», ксилофон. Нам подарили трехрядную гармонь, губную гармошку. Появились ноты, самоучители, даже настенный плакат – схема клавиатуры рояля. Но все это лежало мертвым грузом, почти не вызывая интереса у малышей. «Почему?» – огорчались мы и не знали, что предпринять: сами-то играть мы не умели. Так прошло два, три, четыре года. Потом старший сын поступил в педучилище, в программе которого обязательны музыкальные занятия. И заиграл наш старенький рояль. Мы очень радовались Алешиным скромным успехам… Вот тут-то неожиданно и началось повальное увлечение музыкой всех ребят. Эти раньше непонятные для них запятые и точки на пяти линейках вдруг зазвучали разными голосами и стали сливаться в знакомые мелодии. Это было чудо, которое оказалось доступным каждому. За какие-нибудь два-три месяца четверо старших овладели нотной грамотой. Правда, музыкальный слух так и остался у них неразвитым – поздновато, наверное, оказалось, – но младшие «пошли как на дрожжах», даже мелодии несложные стали сочинять.
Тогда-то мы и призадумались: оказывается, обстановка – это еще не всё. Стали вспоминать. Мастерская у нас была сначала совсем крохотная – три квадратных метра, но работали там малыши вместе с папой или с кем-нибудь из старших приятелей. Всегда у нас было так: если мама шьет, обязательно примостится рядышком еще одна «швея»; если папа пишет, то рядом на том же столе, на тех же листах бумаги, с тем же серьезным видом работает еще один «писатель» или «художник». А общая работа или просто даже работа рядом – это обязательно интерес и к процессу труда, и к его результатам друг у друга, это повод для разговора, это обмен мнениями и критическими замечаниями, общая радость, когда получилось хорошо у кого-нибудь, короче, это общение в самом лучшем его варианте – в совместной деятельности. При этом и времени не так уж много тратится: ведь отдельных специальных «уроков» мы не проводили.
Вспомнили кое-что, очень важное. С самого начала у нас повелось так: мы старались не делать за малыша то, что он сам может сделать, не думать и не решать за него, если он сам может додуматься и решить. Наоборот, мы еще и подсовывали ребятишкам то задачки на сообразительность, которые они очень любят до сих пор, то разные житейские задачи: как перевести через шоссе «невнимательную маму», как не потеряться в зоопарке или что делать, если потеряешься; как найти свое место в театре, как заплатить деньги в кассу и проверить сдачу и т. д. Заранее подобные ситуации мы, конечно, не планировали, но старались не упускать возможности воспользоваться ими, чтобы ребенок САМ сообразил, решил, сделал, проявил себя, преодолел боязнь, нерешительность.
Вообще в любых занятиях детей мы стараемся поощрять творчество, не навязывать своих мнений, а тем более решений, не торопимся обязательно предотвратить ошибку или сразу указать на нее. Ребятишки поэтому редко обращаются с просьбами: «Мам, помоги; пап, покажи!» Даже, наоборот, протестуют: «Не смотри, я еще не сделал» – и пытаются до всего докопаться сами, нам же показывают какой-нибудь конечный результат. В случае неудачи мы стараемся не упрекать, не стыдить, а вот если получилось что-то хорошо, не скупимся на похвалу.
Л. А.: Тут важно, чтобы получалось действительно хорошо, не кое-как. Надо признаться, бывало у нас – хвалили не всегда по заслугам, и прошло немало времени, пока мы поняли, что это сильно вредит ребятам. Чем? Ну, во-первых, отсюда идут ростки тщеславия, когда незаслуженная похвала не смущает, не тяготит, а радует, вызывает удовлетворение. А во-вторых, это приучает к небрежности, к низкому качеству работы, к «тяп-ляпству», к неумению выкладываться в деле до конца. А зачем выкладываться? И так похвалят!
Помню, я долго не могла решиться выразить неудовольствие по поводу наспех сделанных подарков, которые преподносили малыши нам или друг другу к разным праздникам. Беру в руки, в душе огорчаюсь: сделано хуже, чем мог бы, труда и старания вложено немного, но смотрю на сияющие глазенки, и не хватает духу поругать или упрекнуть. «Спасибо, – говорю, да еще и похвалю: – Молодец, мне очень нравится». Как я сейчас себя за это ругаю! Почему я тогда не вспомнила мудрую сдержанность своего отца, который никогда не выражал восторгов по поводу наших с братом поделок, а всегда оценивал их примерно так: «Ничего, молодцы, но, знаете, вот здесь можно все-таки было и получше сделать». Помню отчетливо: мы выкладывались до последней степени доступного для нас совершенства, чтобы заслужить вот такую его нещедрую похвалу. И научились ценить качество в своей работе, которого так не хватает некоторым из наших ребят.
Всему, о чем мы сейчас рассказали, мы сначала не придавали большого значения. Видимо, все складывалось как бы само собой потому, что нам было просто интересно с детьми и мы никогда не оставались равнодушными к тому, что и как они делают, что у них получается. Это был не контроль, не слежение, не опека, не уроки с проверкой, а совершенно искренний интерес к жизни ребятишек, к их разнообразной, кипучей деятельности.
Гарантия от перегрузок
«А не вредна ли такая сплошная и интенсивная деятельность? Не перегружен ли мозг ребенка информацией? Не ведет ли это к переутомлению, расстройству сна, раздражительности?» – такие опасения нам высказывают нередко.
А мы удивляемся: какая же тут может быть перегрузка, если ребенок занимается по своему желанию тем, что ему интересно, и столько, сколько сам хочет? К тому же известно, что лучший отдых – это смена формы деятельности. А для наших ребят это не проблема, потому что возможностей для такой смены очень много.
Больше того, возможны сочетания занятий. Доска для мела у нас была рядом со спортивными снарядами, и мы могли, например, наблюдать такую картину: кто-то из малышей пишет примеры на доске, а другой решает их, вися на турнике вниз головой или раскачиваясь на канате. Эта непринужденность, раскованность в чем-то приближается к игровой. Фактически это и была игра, в которой главное – свобода творчества, свобода проявления своих возможностей, проба сил. При этом возникает естественное соревнование. Каждому хочется проявить себя как можно лучше: кто точнее решит, кто лучше придумает, кто быстрее сообразит, кто выразительнее прочитает и т. д. В таких условиях, насыщенных радостью, эмоциональным подъемом, стимулировалась большая интенсивность умственного труда, которой никогда не добиться в условиях принудительных занятий.
И тут, правда, есть свои опасности, которые мы тоже не сразу рассмотрели: соревнование не должно переходить в соперничество, когда желание во что бы то ни стало быть первым порождает зависть, злость, неприязнь к соперникам. Тут уж не до радости и эмоционального подъема. Мы сначала принимали детские слезы за естественную реакцию на неудачу, проявление так называемой «спортивной злости». Однако дело оказалось посложней. Когда я однажды увидела, как «побежденный» готов кинуться в драку с «победителем», какие при этом были и у того и у другого чужие глаза, я ужаснулась: злость-то оказалась далеко не спортивной. К счастью, это понимание пришло к нам не слишком поздно, и мы постарались изо всех сил исправить положение: стали учить малышей радоваться успеху другого так же, как своему.
Что же касается перегрузки, то, по-моему, она возможна только тогда, когда родители по своему усмотрению будут определять, чем, когда и как должен заниматься их ребенок. Иногда они, наслышавшись о трудностях современной школьной программы, о непременной разносторонности развития, стремясь «ничего не упустить», не жалея средств, силой тянут ребенка в «вундеркинды». Учительница по музыке, учитель по французскому, с бабушкой – на фигурное катание, с дедушкой – в бассейн, с мамой с 6 до 7 чтение, с папой с 8 до 9 ариф… то бишь математика. Ребенок сам себе не хозяин, за него решают другие, к тому же нередко против его желания, без учета его интересов и сил, помимо его собственной воли. Как же в таких условиях найти оптимальную дозировку и по времени, и по количеству материала для занятий? Переборщить очень и очень нетрудно. А результаты? Ребенок начинает тихо ненавидеть все, чем приходится заниматься, и рвется на улицу, в свободную стихию никем не контролируемых отношений и дел.
Предоставив своим ребятишкам максимум свободы, мы, как мне кажется, избежали сразу трех зол: и перегрузки, и отвращения детей к нужным и полезным делам. А еще мы избежали тяги к уличным соблазнам, которые оказываются куда примитивнее и скучнее, чем насыщенная разнообразной деятельностью домашняя жизнь.
Главный итог – любознательность
Б. П.: Иногда думают, что мы в своей семье просто перенесли школьные знания в более ранний возраст, то есть дошкольников фактически «натаскивали» за два-три класса, потому-то им в начальной школе и делать нечего. Думаю, что все рассказанное выше должно убедить читателя, что «натаскивания» у нас не было.
Правда, некоторые могут сказать: «Чтобы натаскать, необязательно заставлять, давить, принуждать. Кроме кнута, для подчинения существует еще и пряник, кроме страха, бывает еще и соблазн». «Прочитаешь – конфетку дам», «Таблицу умножения выучишь – велосипед куплю», «Реши, Вовочка, задачу – с папой в зоопарк пойдешь». Наверно, это даже хуже, чем просто заставлять. Явное принуждение может возбудить не только страх, но и протест, жажду свободы и справедливости, а вот такая «купля-продажа» ничего, кроме соображения типа «что я с этого буду иметь?», в ребенке не возбудит. Мы никогда не пользовались этим купеческим способом для возбуждения у ребенка желания чего-то достичь.
Готовим обед вместе: в таком возрасте малыши с радостью готовы помогать взрослым во всем. 1961 год
Мы радуемся успехам ребят, их движению вперед, их открытиям, но не сулим за это никаких сладостей и златых гор, никаких выгод и привилегий. Детей увлекает сам процесс познания, созидания, творчества. Ими руководит не страх, не расчет, а интерес. Наградой им за все усилия становится гордое сознание: «Я могу!», «Я умею!», «Я сам сделал!» И удовольствие: «Я помог… я обрадовал… я сделал хорошо!»
Интересно, что по мере расширения и углубления знаний о мире желание детей еще больше узнать только возрастает. Как сильное, тренированное тело жаждет движения, так и развитый ум жаждет деятельности, причем хочет не столько усваивать, сколько исследовать. Вот это-то мы и наблюдаем у своих детей. Академик Н. М. Амосов в своем отзыве на наш доклад в Академии педагогических наук сказал о наших ребятах так: «Основное качество их интеллекта – не натасканность, а смышленость. Они легко усваивают новое. Они не столько эрудиты, сколько решатели проблем».
Именно это, мы думаем, и есть главный итог умственного развития наших детей до школы.
А внимание, усидчивость, дисциплина?
Мы все время говорили: желание ребенка, интерес, свобода деятельности – вот что нужнее всего для его успешного развития. Как же ребенок после такой вольной жизни выдерживает школьную дисциплину и множество ученических обязанностей?
Верно, противоречие вроде бы налицо. У нас познание окружающего мира направляется собственными интересами и увлечениями ребенка, а в школе – систематическое усвоение знаний: программа, урок, учитель, учебник. Надо, должен, обязан. Все «хочется – не хочется» – только во внеурочное время, а его остается так мало…
Много страшных прогнозов нам пришлось выслушать еще до того, как старший пошел в школу: «Они у вас будут недисциплинированные, невнимательные, неусидчивые, из-за этого будут плохо усваивать материал. Им будет очень трудно в школе».
Возражать было нелегко – ведь все было еще впереди. А теперь, когда старшие уже окончили школу, а остальные тоже учатся, можно сказать, что эти прогнозы не оправдались. Учиться всем ребятам оказалось совсем не трудно: мы уже писали о том, что на всю начальную школу они тратили один-два года и оказывались в 5‑м классе кто в десять, кто в девять, а кто даже в восемь лет. Да и в старших классах они справлялись со школьной программой без особых усилий и каких бы то ни было перегрузок: на домашние уроки, например, тратили не больше полутора-двух часов в день, да и то в основном на письменные задания.
Как это все получалось? В младших классах еще могли сказаться – и действительно сказывались – приобретенные до школы знания и умения (беглое чтение, владение устным счетом, умение писать). А в старших классах? Здесь выручало не что-то ранее усвоенное, а умение сосредоточиться, внимательно слушать, понимать и осмысленно запоминать материал уже на уроке, во время объяснений учителя. Школьные дисциплинарные требования тоже оказались для наших ребят не слишком обременительными. Правда, особой усидчивостью они не отличались, особенно старшие сыновья, однако и хлопот учителям их поведение не доставляло. А аккуратность и добросовестность старших девочек всегда вызывали самую высокую похвалу учителей.
А еще что важно – все наши школьники не нуждались в каком-либо контроле и постоянном подстегивании: они справлялись со своими обязанностями в основном вполне самостоятельно.
Значит, противоречие между нашей «вольницей» и школьной жизнью оказалось нестрашным? Да. Но оно могло бы оказаться даже губительным, если бы не одна очень существенная сторона нашей жизни, которая помогла нам этого избежать. Это трудности нашего быта. Парадокс? Нет. Именно благодаря им малыши наши узнали серьезные трудовые обязанности с самого раннего возраста.
И трудовые обязанности
«Хочется» и «надо»
Л. А.: Очень хорошо помню, как удивляли нас два прямо противоположных мнения о нас наших близких. Правда, они наблюдали наших ребятишек несколько со стороны, так как вместе с нами постоянно не жили. Дедушка изредка приезжал погостить и каждый раз в той или иной форме осуждал нас: «Вы слишком распускаете своих ребят, все им позволено, никаких обязанностей. Вырастут бездельниками и через несколько лет вам на шею сядут». Бабушка жила в другом доме, мимо которого малышам приходилось ходить то за водой, то за углем и дровами. Она жалела внуков и тоже была нами недовольна: «Да что же вы на них столько дел взвалили, и отдохнуть некогда бедным».
Теперь-то я понимаю, что каждый из них видел в основном одну сторону жизни ребят: дедушке, привыкшему к беспрекословному подчинению и строгому порядку, не понравилась слишком вольная жизнь детей, которым было предоставлено «слишком много прав». А доброй, мягкосердечной бабушке, привыкшей всю жизнь обслуживать кого-то, казалось несправедливым взваливать на детей «слишком много обязанностей».
А на самом-то деле, наверное, ребячья вольная жизнь уживалась с обязательными делами, которые надо было делать без всяких «хочется – не хочется». И таких дел в доме было много, потому что ни газа, ни водопровода, ни центрального отопления у нас тогда не было. А мы оба работали, и не было никого, кто мог бы нам постоянно помогать в домашних делах. Никого, кроме детей.
Я не хочу сказать, что помощь малышей с самого начала была совершенно необходима. Да и какая от маленького помощь – одна морока: его старания чаще всего лишь хлопот добавляют. Но зато как раз в это время он хочет помочь, пытается делать все, что делают папа или мама. Как хорошо, что мы поняли это и его помощь приняли, не отвергли. Причем это не стало педагогическим приемом «приобщения к труду». Было просто любопытно: а как он справится, а что он сумеет, будет ли он доволен своей работой? И оказалось, что вместе работать интересно и весело.
Правда, это благополучное начало не исключило последующих сложностей на «трудовом фронте», может быть, потому, что мы сами не во всем были согласны друг с другом.
Б. П.: Безусловно. Я с самого начала считал, что детям можно и нужно поручать гораздо больше домашних дел, чем это допускала мама, которая предпочитала делать многое сама, не перекладывая на детей даже простое.
Для себя или для других?
Л. А.: Это верно. Мне хотелось, чтобы не я перекладывала дела на детей, а чтобы дети сняли эти дела с нас сами, по собственной инициативе. А это само собой не получалось. Не сразу мы поняли, что надо говорить не так: «Оля, бери полотенце и помоги мне» или: «Алеша, наколи для меня лучинок на растопку», а так: «Ребята, давайте-ка маме поможем посуду вымыть!» (говорит папа) или: «Алеша, а что, если на растопку щепочек папе заготовить – вот он обрадуется!» (говорит мама). Тогда получается забота не о себе, а о другом!
Мы ошибались, когда просто поручали дело, давали какое-то задание, заставляли выполнять до конца, но не всегда обращали внимание ребят на то, что работу надо сделать еще и потому, что кому-то нужны помощь, внимание, забота. Работа в таком случае выполнялась не как взятая на себя часть общего дела, а как навязанная извне скучная повинность, от которой хочется увильнуть. И вот уже мы слышим: «А почему я, а не Антон?», «Алеше меньше копать досталось, а он мне не хочет помочь…» Пришлось поломать голову: как же вернуть детям это желание помочь, которое у годовалых проявляется как бы само собой?
Б. П.: Выход мы искали в том, что вместе с ребятами стали делать что-то нужное не только для собственной семьи и дома, а для других, знакомых и незнакомых людей.
Всей семейной «бригадой», со школьниками и дошкольниками, мы убирали дрова и уголь у бабушки, расчищали беговую дорожку на улице – для всех соседских ребятишек, участвовали в ремонте школьного помещения, ездили строить дом для наших друзей, возили книги в библиотеку – всего не упомнишь. Вот в такой общей работе для других, дружной, веселой, бескорыстной, и рождается не только настоящая, действенная забота о людях, но и взаимопомощь, желание выручить друг друга.
Об одном жалею: редки они у нас все-таки были, эти трудовые десанты, надо было бы проводить их почаще. А то слишком много у современных детей, в том числе и у наших, всяких занятий только для себя: играть, читать, заниматься спортом, решать задачи, делать опыты и тому подобное – все для себя! А что они делают для других?
Микроскопические дозы?
И сколько? Сколько затратили сил, времени, старания, какой получили результат – и по количеству, и по качеству, – все это чрезвычайно важно. Я настаиваю на том, что должен быть оптимум трудовой нагрузки, чтобы ребенок смог п
