Читать онлайн Как мы портим наших детей: коллекция родительских заблуждений бесплатно
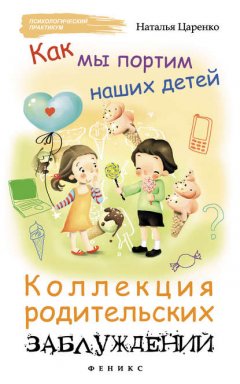
У меня есть ответы на все твои вопросы, но, клянусь, ты не будешь их слушать, пока тебя не разгладит Великим Катком Жизненного Опыта.
Ричард Бах. «Мост через вечность».
Будучи детьми, все мы мечтаем, что, когда вырастем, вспомним все ошибки наших родителей и не повторим их ни за что!
Однако как только на руках оказывается наше собственное чадо, немедленно выясняется, что все гораздо сложней, чем казалось когда-то: и дети все разные, и родители – живые люди с трепетными нервами, да и память у многих короткая.
Поэтому освежим ее в данной книге, где собрана коллекция родительских ошибок.
Зачем? Чтобы научиться быть объективными и исправлять свои заблуждения и промахи вовремя, а еще – по-настоящему вырасти: ведь если у одних из нас хватает личностной зрелости свои ошибки отслеживать и анализировать, то другие с убийственной настойчивостью наступают на одни и те же грабли.
С видами «граблей» мы с вами и познакомимся сейчас подробно.
Глава 1
Коллекция наказаний
– А там есть трудности?
– Еще какие!
– А опасности?
– Сколько угодно!
«В стране невыученных уроков» – мультфильм Ю. Прыткова.
Главное оружие родителей – нет, не пистолеты или хотя бы рогатки. Главное – это наказания!
Некоторые свято уверены в их силе и действенности, других же этот термин отталкивает, ассоциируясь исключительно с насилием и подчинением.
Действительно, многие наказания – пирровы победы по сути своей: они свидетельствуют, что добром и разумом мы не смогли добиться от ребенка желаемого поведения. Ну – или не успели. Да, вот такие мы – неидеальные. Но возможно ли это вообще? И все ли наказания следует «отменить»?
Как всегда, истина не лежит с краю. Главное – помнить: имеет смысл стремиться быть хорошими родителями, а не образцово-показательными. Перфекционизм, как мы все хорошо знаем, – это дорога к неврозу: вы ведь не Господь Бог, чтобы предусмотреть и пресечь все на свете, но и не Мать Тереза, чтобы все на свете простить.
И, тем не менее, хотя мы и уверены в том, что истинное воспитание должно строиться на любви и доверии и обязано апеллировать к разуму, а не к тому месту, на котором сидят, излишне гуманистически настроенные родители регулярно беспомощно разводят руками, констатируя: «Никаких слов мой сын не слышит», «Я ей фразу – она мне двадцать» или «Дочка, даже если выслушает меня, все равно сделает по-своему».
Однако и сторонники драконовских мер обескуражены бывают не меньше: «Сколько его ни лупи, все равно не доходит», «Она постоянно хамит и огрызается в ответ», «Хоть кол на голове теши»…
Что же получается? «Мир без границ» – штука неэффективная: и родители чувствуют себя, как на пороховой бочке – ведь дети растут неуправляемыми, и сами чада обречены таким воспитанием на нелегкую судьбу. «Беспредельщиков» и «пупов земли» не любит никто, и если родители вынуждены терпеть и пожинать плоды своих педагогических усилий, то окружающие и сама жизнь рихтуют жестко, разрушая стереотип «мне все можно» – порой беспощадно.
Но ведь «ежовые рукавицы», сомкнутые нами на детском тельце, ранят его и уродуют душу ничуть не меньше, вынуждая ребенка, подобно колобку, бежать из родительского дома куда подальше с риском угодить в пасть какого-нибудь хищника.
Как же быть? Реально ли это вообще – справиться со своими детьми? Ведь просто разводить руками и констатировать факт собственного педагогического бессилия, признавать свое поражение – это не выход. Как же обозначить им границы дозволенного, чтобы не превратить их мир в тюрьму, но и самим не стать заложниками концепции «это же ребенок, ему можно»?
Попробуем разобраться по принципу «от противного». В данном случае – от самого противного – от наказаний. Проанализируем арсенал средств, наиболее часто используемых нашими соотечественниками, на предмет их эффективности и перспективности и попробуем прийти к выводу, что на самом деле имеет смысл использовать.
Итак, что такое непослушание по сути своей? Это может быть бунт или протест против «неподобающего обращения». Но чаще это проверка границ дозволенного, изучение законов действия человеческой психики и построения человеческих отношений, которые «наследнички» отрабатывают в первую очередь, конечно же, на нас, родителях, – с целью определить, насколько мы душевно сильны и морально устойчивы, а значит, насколько надежны в тех ролях (защиты и опоры, а также нравственных ориентиров), которые на себя берем, рожая детей.
А что такое наказания на самом деле? Наказания – это попытки обрисовать эти самые границы дозволенного. Вроде бы дело это правильное, отчего же работает данный механизм не всегда с гарантией и иногда не так, как мы предполагаем, давая порой совершенно неожиданные эффекты и последствия, обратные ожидаемым?
Видимо, где-то мы «даем осечку». Где и как именно? Давайте разбираться.
Прошли те времена, когда ребенок считался чем-то вроде неполноценного, незавершенного взрослого, этаким чистым листом, на котором удобнее всего писать розгами. Еще столетие назад (и уж тем более – веками ранее) особых прав у ребенка не было – одни лишь обязанности, а за любые проступки неотвратимо полагались наказания, причем порой и жестокие, и унизительные. Жестокость порождала жестокость: люди, воспитанные в страхе и погоняемые кнутом, строили мир вокруг себя в соответствии со своими представлениями о жизни как о суровом испытании, о жестокости – как о естественной и неотъемлемой его составляющей. Видимо, в первую очередь этим объясняются болезненные ритуалы и обряды наших предков, жестокие пытки и казни, уготованные тем, кто вступал в конфликты с обществом или с властью, – и одновременно приятие такого положения вещей человечеством, получавшим в массе своей удовольствие от кровавых зрелищ на протяжении веков.
Однако с тех пор мир существенно переменился. Педагоги и психологи доказали, как пагубно влияют жесткое принуждение и унижение, побои и запугивание на малышей, как закрепляются эти детские травмы в нашем сознании и становятся нашими постоянными спутниками в жизни, существенно ее усложняя… Итог – в последние десятилетия случился парадоксальный переворот в подходе к воспитанию: наказание и жестокость отождествили и постарались по возможности от них отказаться – совсем. В результате подросло поколение детей, выросших в парадигме «мир вращается вокруг меня, и что бы я ни делал, мне за это ничего не будет», и мы получили новую проблему: общество людей уже не агрессивных, а равнодушных, безразличных и эгоистичных. Даже сложно сказать, что страшнее, так как безразличие в перспективе всегда заканчивается жестокостью. Выходит, мы придем к тому же, от чего ушли? И почему – потому что отказались от наказаний?
Опять же, видимо, да. Вспомним, с чего мы начали наш разговор: наказания по сути своей – это установление границ дозволенного в этом мире. Не рисуют их родители – нарисует жизнь, сработает принцип естественного отбора.
Однако какими они должны быть, наши современники уже не знают точно. Мы живем во времена перемен, в том числе и на переломе воспитательных стереотипов и концепций, и уже определенно знаем, «как не надо» – но еще очень слабое понятие имеем, как же следует воспитывать детей.
По данным опроса Левада-Центра[1], наказав ребенка, испытывают чувство вины и облегчение одновременно около 25 % наших соотечественников, испытывают именно чувство вины – 38 %, испытывают в большей степени облегчение лишь 8 %, и еще почти 30 % не чувствуют ни того, ни другого (видимо, воспринимая наказание лишь как правильную реакцию на проступок, и не более того, что является наиболее здоровым подходом к вопросу).
К слову, чувство вины возникает преимущественно у женщин (42 % опрошенных ответили так), а чувство облегчения больше проявляется у мужчин (10 %).
Еще в прошлом веке этот показатель – «облегчение у мужчин, наказывающих своих детей» – был существенно выше: традиционно основой семейного уклада были страх и послушание перед главой семьи, это считалось нормой, и мужчина, наказавший ребенка, ощущал удовлетворение от выполненного долга, а не муки совести от того, что причинил ему боль (насколько это правильно или неправильно, мы еще неоднократно обсудим на страницах этой книги).
Современные отцы уже достаточно давно переложили веками принадлежавшее им право осуществления наказаний на женщин, а те с этим правом не знают толком, что и делать: и «сердце кровью обливается», и «достал, паршивец». Противоречивые чувства, одним словом. Почему? Потому что столетиями «полицейские функции» принадлежали не мамам, а папам, и это было правильно, поскольку и эмоциональности в процесс привносилось меньше (а значит, не страдал так явно принцип справедливости), и последовательности было больше (а значит, не страдала эффективность). Женщина, поддавшись эмоциям, может за один и тот же проступок и подзатыльник дать, и рукой махнуть, может прочитать часовую нотацию, а может окатить демонстративным ледяным молчанием. Как быть ребенку, как не потеряться в такой непоследовательности, как впитать основные ориентиры на тему «Что такое хорошо и что такое плохо?», как твердо усвоить, что вот это самое – нельзя никогда, если раз пять уже «прокатило»?
Как, наконец, сохранить какие-либо ориентиры, если родители сами не уверены в правильности своих действий? Ведь, наказывая детей, наши современницы ощущают и чувство вины («Я – плохая мать!»), и чувство страха («Если я накажу его, он меня перестанет любить!»)…
Психологи из Австралии Дэвид Эпстон и Майкл Уайт провели любопытный тест: предложили заполнить анкету, состоящую из «зеркальных» вопросов: «Испытывали ли вы чувство вины из-за того, что слишком долго кормили ребенка грудью?» – «А из-за того, что слишком рано перестали это делать?»; «Считали ли себя виноватой, потому что вышли на работу сразу после рождения детей?» – «А из-за того, что слишком долго оставались дома?»; «Чувствуете ли себя виноватой из-за слишком сильной эмоциональной близости с ребенком?» – «А из-за того, что на самом деле далеки от него?». Эта анкета дает возможность наглядно сделать выводы о степени противоречивости установок социума, в котором мы живем. Им невозможно соответствовать – следовательно, невозможно и не испытывать чувство вины…
Кроме того, не только общественные ожидания – и сами родители существенно изменились за последние сто лет: если еще недавно они удовлетворялись лишь послушанием и уважением со стороны детей, то теперь для ощущения психологического комфорта и собственной полноценности и состоятельности как родителя нам необходима любовь детей и их дружба. Именно поэтому родители пытаются построить отношения с детьми «на равных», то есть наделив всех членов семьи равными правами, что оказывается нежизнеспособной конструкцией в силу неравных обязанностей, неравной ответственности за семью и неравного жизненного опыта.
Опрос, проведенный среди читателей журнала Psychologies, свидетельствует о том, что в России примерно по 10 % родителей придерживаются полярных взглядов – что «без наказаний невозможно эффективное воспитание» и что «любые наказания недопустимы» – и еще 14 % слишком поддаются эмоциям: могут наказать, но потом сожалеют об этом. Однако большинство подходит к вопросу адекватно, полагая наказания приемлемыми, если они оправданны и не чрезмерны. А опрос, проведенный Левада-Центром в 2007 г. о частоте наказаний, также демонстрирует близкую картину: часто наказывают детей около 10 % россиян, никогда – 13 %, остальные – по ситуации: «в исключительных случаях» – около 30 %, «иногда» – примерно 45 %.
Что же касается «арсенала средств», применяемых нашими соотечественниками, то в лидерах оказались физические меры: отшлепать ребенка считают правильным 62 %, выпороть ремнем – 14 %, дать пощечину – 2 %.
Значительная часть россиян уверены в эффективности лишения ребенка чего-либо для него существенного: удовольствий и развлечений, прогулок – 37 %, просмотра телевизора или игр на компьютере – 20 %, карманных денег – 14 %, сладостей – 11 %, решают конфисковать любимую игрушку – 7 %. Есть даже приверженцы одного из наиболее старинных правил Домостроя: отправить провинившегося ребенка спать без ужина считают правильным 1 % опрошенных.
Некоторые высказываются за методы изоляции: перестать разговаривать считают нужным 17 %, запереть в комнате – 5 %.
В этой книге мы подробно поговорим об эффективности – в кавычках или без – этих способов педагогического воздействия.
Известный американский психолог Эрик Эриксон установил прямую связь между эмоциональным здоровьем детей и уверенностью в своей воспитательной концепции их родителей. Если же родители и сами не знают, как правильно, а тем более, не могут договориться между собой о том, на что и как они реагируют, вырасти здоровой и полноценной личностью ох как непросто.
Ведь ребенку важно чувствовать себя защищенным, это – базовая потребность детства. И защита эта подразумевается не только как блокирование любых неприятностей из внешнего мира, но и как защита от саморазрушения, от своих собственных агрессивных порывов, пока еще не сформировалось умение помогать себе самостоятельно и регулировать поведение своими силами. В качестве такой защиты выступают определенные житейские правила и нормы, нарушать которые нельзя никому – ни детям, ни взрослым (об этом стоит особенно крепко помнить!), и ответственность за выполнение порядка именно на родителей и возложена. Более того, если никаких санкций вслед за нарушением не последует, ребенок теряет ориентиры относительно «можно и нельзя» и ощущает себя беззащитным – и перед самим собой, и вообще перед миром, в котором нет никаких четких законов и от которого никогда не знаешь, чего ждать. Проводя аналогию, отмечу, что, если выпустить мальчишек с мячом на поле, объяснить правила и ввести штрафы на неспортивное поведение, получится футбол. А если упустить объяснения и штрафные баллы, то будет игра без правил (если она вообще состоится)…
В русском языке не зря слова «наказание» (санкции за невыполнение) и «наказ» (предписание, инструкция) – однокоренные. И наказание следует за неисполнением «наказа», то есть в случае нарушения правил, известных ребенку. А значит, на самом деле воспитание – это отработка принципа ответственности за свои поступки. До ребенка необходимо донести такую мысль: «Ты можешь выбрать любое поведение, но отвечать за его последствия (перед родителями, перед сверстниками, перед своим телом и душой), тебе неизбежно придется». Причем важна именно последовательность родителей и неизбежность последствий, поскольку на примере нашего общества мы прекрасно знаем, что бывает, когда строгость законов с лихвой компенсируется необязательностью их исполнения.
Однако весь фокус не только в том, ЧТО мы делаем, но и в том – КАК.
Благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад, и даже из самых лучших побуждений мы можем испортить ребенку и психику, и жизнь вообще. Ведь суть в том, чтобы при любых обстоятельствах уважать личность ребенка, то есть – не унижать, не оскорблять и не срывать на сыне или дочери свои обиды и злость за факт выявления родительской некомпетентности.
И здесь есть 5 правил, важность которых трудно переоценить.
Во-первых, твердость и последовательность – не синонимы жестокости и неумолимости, и, если мы не улавливаем эту грань, вреда от наших санкций будет не меньше, чем от их отсутствия.
Во-вторых, справедливость кары и ее соразмерность поступку прямо определяют эффективность того, что мы делаем: если за опоздание из школы домой на 10 минут и за обман, оскорбление брата или одноклассника следует одно и то же наказание – оно неадекватно, и, стало быть, дискредитируется и наш авторитет как арбитров, и само понятие о справедливости.
Есть и третий фактор – степень раскаяния. Если ребенок искренне и глубоко сожалеет, переживает, даже горюет о своем поступке – он наказал уже себя сам, и куда строже, чем могли бы мы как родители. Так стоит ли подливать масла в огонь? Но если чадо отделывается дежурно-фальшивым: «Ну, извини», наказание необходимо хотя бы для того, чтобы включилось осознание проступка (и тут важно не перейти грань адекватности, чтобы вместо раскаяния не вызвать озлобленность).
В-четвертых, важен и еще один аспект: ребенок должен быть уверен в том, что родители любят его, что бы он ни натворил. Что осуждают они его ПОСТУПОК, а не ЕГО САМОГО. Что наказывают за его вину, а не потому, что его не любят.
И последнее: ребенку чрезвычайно важно понимание, что мы, родители, найдем в себе силы простить его. Не станем спотыкаться о проступок и навсегда ставить на ребенке крест, а пойдем дальше, сделав выводы и исправив по возможности последствия. Не будем припоминать все предыдущие грехи при каждом удобном случае, а ограничимся конкретным прегрешением при «разборе полетов». Словом, для ребенка важна уверенность в нашем великодушии.
Как видите, нюансов множество, и учесть их все сгоряча, на эмоциях, сложно. Именно поэтому и существуют такие книги, как эта, чтобы мы уже заранее «переварили и усвоили» необходимую для взаимопонимания информацию и в критический момент сумели отреагировать правильно, а не как попало.
Так какие же наказания адекватны и действенны?
Традиционно самыми эффективными являются наказания «от самой жизни». Их предпочитают философски настроенные родители, полагающие, что ребенок не глуп и сам способен разобраться в том, что такое хорошо и что такое плохо. Выскочил раздетый на улицу – лежи в постели с температурой и глотай таблетки. Дергал девчонок за косички и насыпал им песок за шиворот – смирись с тем, что никто из них не хочет с тобой теперь водиться, а на твоем портфеле написали краской: «Артем – дурак». В школе сачковал и расслаблялся, не прислушиваясь к родительским аргументам о пользе образования – не обижайся, что пути в престижные места работы и в вузы для тебя закрыты. Словом, умел покататься – умей и саночки возить, то есть данный метод отлично учит детей принимать на себя ответственность за любые свои поступки и их последствия, воспитывая самостоятельность и помогая взрослеть. Жизнь делает все сама, справедливо полагают родители, придерживающиеся этой теории, и они правы, но лишь отчасти. С одной стороны, нужно быть совсем уж дремучим субъектом, чтобы постоянно наступать на одни и те же грабли. Но, с другой стороны (и это мы отлично знаем по себе) далеко не всегда получается учиться на своих или чужих ошибках, а ведь совершение даже одного промаха может быть фатальным, если он реально опасен (а в таких ситуациях маленький ребенок оказывается регулярно), и у слишком уж отстраненно-созерцательных родителей ребенок рискует как минимум своим здоровьем. Ребенку-дошкольнику сложно «отвечать за все свои поступки», поскольку воля у него еще только формируется, а умение предвидеть последствия своих действий тоже пока слабенькое в силу ограниченности жизненного опыта – так что не перекладывайте на него свою долю ответственности. Спокойно наблюдать за тем, как ребенок дразнит явно недружелюбно настроенного бродячего пса, сигает с мостика в незнакомом озере, топит в ведре котенка, чтобы посмотреть «что будет», или же крадет чипсы в магазине, не стоит, поскольку последствия всегда предсказуемо негативны, а то и трагичны.
Еще один вариант эффективного наказания – «лишение значимого» – в широком смысле слова. Лишая ребенка удовольствия и подкрепляя объяснениями, почему это случилось, мы добиваемся куда большего, чем применяя грубую силу или оскорбления, однако фокус здесь в том, что силен этот аргумент лишь для тех, кто знает только такой тип наказаний. Ведь тот, кого регулярно гоняют ремнем или веником, вполне вероятно, и за наказание-то подобные санкции не посчитает, хмыкнув что-то вроде: «Да не очень-то и хотелось». На самом деле – хотелось, и очень, это всего лишь защитная реакция… Но мы-то рассчитывали добиться не построения защиты, а осознания и раскаяния… А значит, «торпеда» в данном случае мимо прошла. Правильный вывод отсюда не тот, что «бить лучше», а тот, что «физические наказания обесценивают любые другие», и битый ребенок – существо, до которого любые другие, более «слабые» аргументы доходят с трудом. Родители в таких случаях говорят, что «мало дали» и что «до него вообще ничего не доходит», но ведь они сами спровоцировали такую ситуацию… Проводя аналогию, можно сказать, что если лечение пустячной простуды мы начинаем сразу с мощных антибиотиков, то тем самым лишаем организм шансов справиться с болезнью самостоятельно – и впоследствии, кроме «лошадиной дозы» лекарств, действительно ничего уже не поможет.
С этим видом санкций (лишение чего-то важного) тесно связана еще одна воспитательная необходимость – строго контролировать адекватность наказания проступку, ведь несправедливость моментально обесценит все наши педагогические потуги. Чувство меры в данном случае – это наше все: если за единожды забытую «сменку» в школе выставляют неуд по поведению за всю неделю, а дома по этому поводу ребенка лишают возможности пойти на день рождения к другу, то ребенок сделает из всего случившегося единственно возможный вывод: мир чудовищно несправедлив, и это заставляет его не меняться самому в лучшую сторону (стать внимательнее), а ощетиниваться и занимать оборонительную позицию.
И помните: ограничивать ребенка можно в удовольствиях или бонусах, но ни в коем случае нельзя отказывать в удовлетворении жизненно важных потребностей. Жестоко и, к слову, противозаконно лишать сна, еды, прогулок – вы не надзиратель концлагеря, а родитель, и как бы малыш ни был виноват, держите себя в руках и не скатывайтесь в Средневековье. Чувство меры и здравый смысл – главные рычаги управления ребенком.
Но наиболее эффективны наказания, направленные на «ликвидацию последствий» проступка. Это, во-первых, дает ребенку прочувствовать ответственность за него, а во-вторых, делает это наглядно и образно, то есть в максимально доступной для ребенка форме. Отскребая от небрежно брошенной жвачки пол, отмывая свой стол, испачканный красками, стирая измазанные во время игры в футбол брюки, ребенок злится на себя (и, возможно, на вас), но одновременно исправляет положение и избавляется от этого чувства – повод, как говорится, исчезает на глазах.
Важно осознавать и собственную мотивацию: «правильным» будет наказание с целью объяснить и не допустить повторения проступка, а не с целью «отвести душу» – эти моменты дети чувствуют отлично. Наказания с целью унизить, «поставить на место» – поступки недостойные, они говорят не о нашей правоте, а о нашем бессилии.
И конечно, мы должны понимать, что любое наказание – это последнее средство (после напоминания и предупреждения), поскольку маленький ребенок контролирует свои поступки пока еще недостаточно хорошо, а воля пока не сформирована в должной мере. Если мы будем сразу «хвататься за оружие», то рискуем вступить с ребенком в отношения позиционной войны, в которой нет победителя. Ведь очень важно определить для себя, чего именно мы хотим от своих детей: послушания любой ценой или же понимания.
А напоследок – коротенькое руководство относительно того, что делать, если праведным гневом вас «накрыло» уже сейчас. Ведь пока мы читаем книги, вроде бы все понимаем прекрасно, но когда ребенок в третий раз красит кошку гуашью или режет в лапшу отцовские галстуки, все наши знания куда-то испаряются, поскольку вскипает разум возмущенный…
Раз: глубоко дышим и считаем как минимум до пяти. (Вообще традиционно советуют – до 10, но не все из нас флегматики.) Вентиляция легких ведет к насыщению крови (а значит и мозга) кислородом, что включает разум и не дает разбушеваться эмоциям, а еще предоставляет нам небольшую отсрочку реакции, что помогает хоть немножко успокоиться и сгоряча не наломать дров.
Два: предоставляем проштрафившемуся право голоса – ведь даже в суде дают слово обвиняемому, а вы ведь не относитесь к сыну или дочке как к преступникам, не так ли? К слову, в процессе «дачи показаний» может выясниться, что ваш ребенок не так виноват, как вам показалось вначале, или же вина на самом деле лежит вовсе и не на нем. Начинать «процедуру» лучше не зловещим: «А ну, рассказывай!!!», а по возможности нейтральным: «Так как все было на самом деле?» – иначе вряд ли стоит рассчитывать на искренность и вообще на диалог.
Три: если еще есть необходимость, высказываем свои претензии и «накипевшее», но не за все пять или десять лет, что ваше чадо живет на свете, а за конкретный проступок, который вас расстроил или возмутил. Высказанный негатив дает возможность «выпустить пар», и вам может стать настолько легче, что и необходимость в суровом наказании отпадет. Ведь на самом деле львиную долю подзатыльников дети получают не собственно за провинность, а за истрепанные нервы родителей, за невысказанные их переживания.
Четыре: выбираем санкции соразмерно проступку, обязательно объясняем ребенку, в чем состоит его ошибка, и главное – как можно исправить ситуацию.
Пять: что бы ни случилось, находим в себе силы для прощения и для того, чтобы помириться (если ребенок маленький – в тот же день). Согласно русской пословице, нельзя ложиться спать с ссорой в сердце, а главное – не забудьте в пылу баталии, что вы с ребенком не враги друг другу, а семья, так что жить вам надо по принципу не «кто кого», а «мы вместе несмотря ни на что».
Пугаем
Знаешь, кто это такие? О, брат! Это жулики! Они замышляют зловещие преступления на крыше! Тебе страшно? А мне нет.
«Малыш и Карлсон» – мультфильм Б. Степанцева по книге Астрид Линдгрен.
Арсенал «воспитательных мер» у нас, родителей, как мы уже знаем, велик и объемен, и первыми в этом списке идут именно «пугалки», как мера профилактическая.
Впрочем, не менее часто мы прибегаем к запугиванию и как к способу наказания.
Насколько же эффективно это средство?
Представьте картинку: маленький скандалист бузит посреди улицы или магазина, исступленно стуча ножками и издавая вопли, непереносимые по децибелам, и доведенная до белого каления мама не выдерживает: «В милицию тебя сдам сейчас же!!!» (вариант для ребенка помладше – «Отдам Бабе Яге или вот тем дяде/тете!»).
Для тех, кому такое обещают в первый раз, данное средство срабатывает обычно мгновенно. Но эффект длится недолго, да и достигается дорогой ценой.
Во-первых, конфликт не разрешен и в любой момент может продолжиться с той же точки, на которой прекратился – как проигрыватель с позиции «пауза».
Во-вторых, причина недоразумения не устранена: если маленький шантажист при помощи истерики пытался выжать из вас шоколадку, то запугиванием вы не объясните порочность такого подхода вообще, и в следующий раз сцена в магазине повторится. Ведь, по сути, вы использовали один и тот же метод – шантаж (он – истерикой, вы – страхом), а значит, лишь подкрепили в ребенке мысль, что это – тактика действенная.
В-третьих, в такую игру можно играть только один раз. Максимум – два, с детьми забывчивыми. Потому что, однажды обнаружив родительский блеф («Я орать не перестал, а все равно никакой бабай не появился!»), малыш больше на ваши «страшилки» не купится.
А в-четвертых (и это главное!) – в особо удачных с нашей точки зрения случаях, то есть когда малыш нам поверил, – в его душе поселяется страх. И в дальнейшем вашей проблемой будут уже не столько непослушание, сколько именно страхи и даже, возможно, неврозы. Ведь, согласитесь, детишки разные, и если «пугалки» у сангвиника в одно ухо влетят и в другое вылетят, то в душе мнительного меланхолика поселятся навсегда. Воображение дошкольников смешивает мир реальности и фантазии, и для них совершенно правдоподобны и на самом деле страшны все наши Бабки Ежки и Кощеи Бессмертные. Так что если родители злоупотребляют этими образами, они выходят со страниц сказок и начинают жить в квартире и в снах ребенка, и тогда появляются ночные кошмары и даже дневные страхи – когда, казалось бы, и мама-папа рядом, а все равно малыш боится. Почему? Да потому что мы уже поселили в его душе уверенность, что есть такие всемогущие силы, которые заберут его, если вести себя будет плохо, и папа с мамой не просто не смогут помешать – они вроде бы даже с одобрением к этому относятся… Следовательно, защиты от них ждать не приходится. Так ребенок теряет веру в родителей и доверие к миру, начиная верить больше в злых волшебников, чем в добрых.
А главное, боязнь не добавляет послушания. Страх порождает истеричность, а истерика означает неуправляемость. А ведь, припугнув, мы же хотели как раз обратного? Верно, а получилось – как всегда.
Ну а запугивание реально существующими людьми – вещь и вовсе опасная. Пугая ребенка врачами и уколами, вы прочувствуете в полной мере, насколько были неправы, когда окажетесь на приеме у стоматолога или отправитесь в поликлинику с банальным визитом к педиатру. (А представьте, что будет, если малыш, не дай бог, заболеет серьезно?)
Если ваш малыш потеряется и вам придется обращаться в милицию, вы поймете, как осложнили ему жизнь, запугав в свое время «дядями милиционерами» – ведь ребенку очень трудно будет пойти на контакт с сотрудниками правоохранительных органов.
Если слишком рано поселить в сознании ребенка мысль, что любой чужой – потенциально опасен и только о том и думает, как бы его похитить, ваш малыш окажется в мире, где никому нельзя доверять и все вокруг – скрытые враги.
Не стоит путать формирование разумной осторожности и насаждение страхов перед определенными людьми: для детской психики это может оказаться непосильной ношей.
К слову, вопросом родительских «страшилок и пугалок» уже озаботился автор книги «Как правильно пугать детей» Станислав Востоков. Книга предназначена вроде бы для малышей, но на самом деле и для нас, взрослых: смешные истории помогут детям понять свои страхи и справиться с ними, а их родителям – на чужих ошибках научиться, как делать не надо.
Кричим
Ох, какая мука – воспитывать!
«Малыш и Карлсон», мультфильм Б. Степанцева по книге Астрид Линдгрен.
Более темпераментные родители предпочитают звуковые эффекты.
Если запугивание – мера скорее превентивная, то атака голосом применяется для немедленного приведения воспитуемого объекта в состояние надлежащего внимания и послушания. Родитель, умеющий гаркнуть зычным голосом, обычно быстро добивается требуемого эффекта, однако есть и еще один бонус: не только наследник утих, но и родитель высказался. Двойное облегчение!
Однако больше плюсов у данного воспитательного метода не наблюдается, а вот минусов – изрядно.
Первый подводный камень заключается в том, что крик – это всегда падение ваших акций. Случается, что у родителей просто сдают нервы, когда ребенок их игнорирует, «мотает нервы», дерзит, поступает назло, то есть в ситуации открытого конфликта. Такое поведение – признание своего бессилия и страха, как бы грозно при этом ни выглядели мама или папа. Уверенный в себе человек говорит спокойно, крик же – это всегда слабость.
Впрочем, родители – не роботы, и порой любой из нас может подобную слабость допустить. Однако в таком случае есть лишь один момент, которым можно ситуацию отчасти оправдать и отчасти же исправить: попросить прощения за свой срыв. Дети имеют на это такое же право, как и наши супруги, как и партнеры по бизнесу. Ведь, наорав на подчиненных или коллег на работе, мы извиняемся (если, конечно, хотя бы минимально претендуем на звание цивилизованного человека) и уж тем более просим прощения у родных в случае ссоры. А вот по отношению к собственным детям у нас отчего-то существует ошибочный в корне стереотип о том, что «извиниться – значит уронить свой авторитет». Не бойтесь, корона с вас не свалится, а вот пользы будет немало: ребенок поймет, что вы умеете признавать свои ошибки (и, значит, научится и сам этому ценному в социуме качеству), а еще возникнет мостик, пусть и хрупкий, от войны – к миру, от громов и молний – к свету и улыбке. Согласитесь, кто-то всегда должен быть первым, чтобы растопить лед. Так что возьмите на себя эту роль, ведь ребенку это сделать труднее!
Единственное предостережение – не злоупотребляйте извинениями. Ведь если вам приходится произносить их слишком часто – значит, и срывы вы позволяете себе тоже чаще допустимого. На эту тему существует замечательная восточная притча о мудреце и его вспыльчивом сыне. Однажды старик посоветовал сыну забивать по гвоздю в забор всякий раз, когда он с кем-либо поссорится. Тот так и сделал, однако спустя некоторое время сказал отцу, что не видит смысла в данном уроке: и ссориться меньше не стал, и забор весь утыкан гвоздями. На что мудрец посоветовал вытаскивать клещами из забора гвоздь всякий раз, как сын сумеет хоть с кем-нибудь помириться. Тот внял совету, наладил отношения со всеми, кого обидел, и обрадовался: «Это был действительно мудрый совет: мне и правда удалось помириться со всеми врагами. Правда, теперь весь наш забор в дырах!» В ответ мудрец заметил: «Так и с человеческими душами, сынок. Всякий раз, когда ты обижаешь кого-то, ты забиваешь в его душу гвоздь. И даже если ты помиришься с ним и вынешь свой гвоздь оттуда, дыра-то все равно останется…»
Так что если вы не умеете контролировать свои эмоции – придется учиться, иначе вы рискуете превратить души своих детей в решето.
Кстати, хорошей профилактикой перехода на крик является… зеркало. Многие родители приходят в себя и начинают возвращаться от эмоций к конструктиву, поймав свое перекошенное отражение: руки в боки, рот набок, пена на губах, глаза мечут искры!
Вы только представьте, каким видит вас сейчас ваш ребенок… И если наблюдает он эту картину перед собой слишком часто – подумайте, какой образ вашего «Я» формируется в его сознании.
Так что когда вас «понесло» – мысленно поглядите на себя со стороны, содрогнитесь и… сбавьте обороты!
Но вернемся к разговору о подводных камнях.
Второй ловушкой родительского крика является то обстоятельство, что в ответ вы всегда – гарантированно – получаете только отрицательную эмоцию. У малыша это может быть испуг, причем особенно «громкие» и грозные или же слишком часто бывающие несдержанными родители могут спровоцировать своей аффективной вспышкой невротические проявления у ребенка – к примеру, малыш может уписаться от страха, у него может начаться заикание.
Но даже в «варианте-лайт» испуг всегда плохой помощник в воспитательном процессе, поскольку может вызвать истерику или же усилить ее (наверное, вы уже сталкивались с эффектом катализатора, когда ваш крик провоцировал ребенка на совсем уж неуправляемое поведение), – а может, напротив, спровоцировать у ребенка состояние торможения, когда раздражитель (ваш громкий крик) превышает адаптационные возможности его организма, и ребенок на глазах «тупеет»: вы на него орете, а он словно не слышит вас, не реагирует. В результате у вас дрожат руки, колотится сердце, вы глотаете валерианку – а конфликт так и остается неразрешенным, взаимопонимание не достигнуто. То есть эффект не просто нулевой – он в существенном минусе.
У подростка же крик вызывает протестную реакцию по принципу «Я ему слово – он мне двадцать», причем, учитывая тот факт, что в этом возрасте ребята еще менее сдержанны, чем взрослые, вы рискуете услышать в свой адрес тоже много интересного. И, конечно, эффект катализатора может привести к последствиям еще более печальным – в основном они используют стратегию ухода – из нормальных отношений с вами, из дома вообще и даже из жизни в целом – подростки принимают решения нередко спонтанно и они порой неоправданно «круты» в выборе мер. Однако нам, взрослым, легче контролировать себя, а главное, как бы там ни было, ответственность за то, что происходит в детско-родительских отношениях, лежит все же в первую очередь на нас, родителях.
Третий нюанс: наш крик может являться следствием ситуации, вообще к ребенку отношения не имеющей, и это по меньшей мере нечестно. В этом случае сын или дочь выполняют функцию громоотвода, и причина нашего срыва на самом деле не столько в их проступке или плохом поведении (это лишь повод), сколько в тех обидах, которые нанесли нам другие, и мы не в силах им ответить. К примеру, вы поссорились с мужем или женой, а ребенок – их маленькая копия со всеми характерными недостатками – путается у вас под ногами, и вот вы срываетесь, выдавая «воспитательный текст», адресованный на самом деле взрослому обидчику. Вы вернулись с работы, где получили начальственный нагоняй – и тут под горячую руку попадаются сын или дочь, на которых вы срываетесь и говорите все то, что не посмели бы сказать более сильному… Тем самым вы демонстрируете модель поведения «унижать слабого можно», – и не удивляйтесь потом, если в старости, когда расклад сил («кто в доме хозяин») изменится с точностью до наоборот, вы также окажетесь на месте униженного ни за что – «громоотвода».
Оскорбляем
Ничто не остается без последствий. Бросьте в пруд камень – и вы уже немного изменили вселенную.
Сомерсет Моэм. «Острие бритвы».
Мы порой совершенно не задумываемся, каким страшным оружием является наша лексика – тот набор слов, который льется из ваших уст в адрес отбившегося от рук отпрыска. Увы, редко кто способен удержаться в рамках литературных норм в состоянии вспышки гнева, и тогда в ход идут слова тяжелые, злые, хлесткие – бранные, а порой даже нецензурные.
Дети все это не просто слышат – они включают наши «перлы» в свой словарный запас и, конечно же, повторяют – поначалу по отношению к сверстникам, а спустя годы уже в ваш собственный адрес (с весьма узнаваемыми интонациями!).
Порой некоторым кажется, что ругательства в устах малышей звучат забавно, но очень быстро дети взрослеют, и «детские шалости» перестают вызывать умиление, в особенности когда адресатами брани становимся мы сами. Да и дневник наследника, испещренный записями вроде «Ругался матом в классе», заставляет нас краснеть, потому что перед собой очень трудно (а главное – бессмысленно) делать удивленное лицо и задавать риторический вопрос: «И где только он этого понахватался?!»
Поэтому, когда вы ссоритесь с ребенком, то как бы ни были «на взводе», следите не столько за громкостью, сколько за тем, ЧТО вы кричите. Децибелы вам простят, а вот обидные эпитеты, оскорбительные сравнения – не всегда. Тем более, что такие слова подобны минам замедленного действия: они западают глубоко в память и сработать могут в самый неожиданный момент, причем не факт, что в ваш адрес. Возможно, взрыв достанется супругам или даже детям ваших детей, если они однажды неловко наступят на «любимый мозоль». Поэтому, держите себя в руках, насколько это возможно: слова ранят непоправимо больно, особенно малышей.
А наиболее осторожными нам нужно быть с детьми противоположного пола. Ведь, оскорбляя сына, мать моделирует ситуацию, в которой возможной становится грубость из уст любимой женщины. А значит, взрослый сын, вполне вероятно, будет мириться с аналогичным поведением жены, то есть станет сносить скандалы и оскорбления из уст любимой женщины: он с детства усвоил эту семейную модель…
Оскорбляя дочь, отец создает вероятность того, что в мужья эта девочка, повзрослев, выберет человека несдержанного, вспыльчивого, который будет с нею груб… Ничего удивительного, ведь это стало уже давно привычным – принимать унижения от любимого человека.
Итак, помните: дети перенимают большинство наших привычек, как позитивных, так и негативных. А значит, в будущее сын или дочь понесут истеричную модель поведения, применяя ее в том числе и по отношению к собственным малышам, ведь поведенческие стереотипы мы подсознательно копируем из родительской семьи.
Навешиваем ярлыки
Мы не хотим знать практически ничего про тех, кого любим.
Чак Паланик. «Бойцовский клуб».
В пылу ссоры – а иногда и просто в воспитательных целях – мы порой любим раздавать определения относительно личности наших наследничков, их характера, внешности, успешности, друзей и даже будущего.
Кто из нас не слышал (в свой адрес или в адрес любого другого ребенка): «неумеха», «лентяй», «кривые руки», «она у нас такая стеснительная», «не реви, ты же мальчик!»
Встречаются и такие фразы: «Старшая у нас умница, а младшей не повезло…» или даже: «Колония по тебе плачет!»
Главная опасность подобных высказываний в том, что они являются своеобразными программами, определяющими поведение ребенка как в настоящем, так и в будущем.
Разберем наиболее типичные из них.
«Ах ты грязнуля!», «Свинтус!» и им подобные выражения, повторяемые слишком часто, поселяют в голове ребенка уверенность в том, что любая грязь – это просто ужасно, и он невротически начинает ее бояться. Почему невротически? Потому что страхи бывают реальные и придуманные, касающиеся не существующей пока угрозы, живущей больше в нашем воображении. Последние как раз и приобретают постепенно нездоровый характер, когда, например, страх испачкаться постепенно перерастает в фобию. Так случается, если зерно попадает в благодатную почву: и ребенок чувствительный и мнительный, и родители такие же, неустанно, с нотками истерики в голосе напоминающие о недопустимости никакого беспорядка…
Как и на Солнце есть пятна, так и любой человек имеет право на мелкие несовершенства, не так ли? Вот только подобные аргументы таким детям неведомы… Согласитесь, человек опрятный и человек, начинающий паниковать при обнаружении любой складочки на одежде, пятнышка на руках, пыли в квартире или червоточинок на яблоке, – две большие разницы, и вряд ли вы мечтали о втором варианте, делая замечания относительно чистоты. Подобные фобии лишают человека многих простых радостей: рисовать красками, играть с песком, лепить из глины или пластилина, лазить по деревьям, гладить животных – и, следовательно, изрядно отравляют жизнь, делая ее слишком уж ненатуральной, тепличной. Такие детки всегда аккуратны и выглядят словно картинки из глянцевого журнала, но слишком уж их жизнь напоминает кукольную…
Помните: дети легко отмываются, да и стираете вы не руками, как ваши бабушки, так что все поправимо!
«Неумеха», «Руки-крюки», «Две руки, и обе – левые» – такие слова укрепляют ребенка во мнении, что он все делает не так, что он сам и все его попытки что-то сотворить несовершенны и потому никому не нужны и не нравятся, что у него никогда ничего не получается… А значит, не стоит и стараться!
И ребенок стараться постепенно перестает. Перестает даже пробовать. Ведь все равно диагноз уже поставлен, а кому же еще верить, как не любимым маме и папе? И если уж они говорят, что все получается плохо – значит, так и есть. «И правда, – думает ребенок, – вот какие у мамы вареники выходят ладные, а у меня – какие-то кривые комочки; вон как папа классно катается на коньках, мне никогда так не научиться…» Ребенок начинает сравнивать себя с другими (всегда не в свою пользу) – и заранее опускает руки, ведь результат и так уже известен!
Дайте детям право на ошибки в процессе деятельности, иначе они эту деятельность полноценно не освоят никогда, а постоянные одергивания постепенно формируют пассивно-нелюбопытное отношение к миру, когда проще не сделать, чем попробовать и получить очередной родительский окрик или увидеть гримасу неудовольствия на вашем лице.
«Лентяй!» – любимое словечко деятельных мам и пап, которое они употребляют по любому поводу: и когда ребенок действительно поленился и не сделал, но чаще – при любом отрицательном результате: когда не выполнил, потому что не понял как, когда не сумел распланировать день и не успел, когда просто забыл (ну а разве с вами такого не случается?).
Навешивая такой ярлык, мы лишаем ребенка инициативы. Логика его проста: «Есть ли смысл стараться, если можно и не напрягаться? Слово для меня все равно уже придумано, на него все и спишем. Лентяй я – и что?»
Конструктивнее с радостью отмечать каждый случай проявления трудолюбия (тогда хотя бы будет стимул приложить усилия!), чем раз от разу тыкать носом в «диагноз» – подобная критика от лени не вылечила еще никого, а вот упрямство от нее растет, как на дрожжах.
«Ты такой неосторожный», «Вечно с тобой что-то случается» – это те самые программы, которые в народе называют «сглазом». Подумайте, как это работает: парализованный родительской уверенностью в том, что с ним непременно произойдет что-то плохое, ребенок в критической ситуации поведет себя пассивно или запаникует, не попытается справиться самостоятельно, а в ужасе зажмурится и предоставит решение своей судьбы случаю – и все: неудача, а то и беда, обеспечены.
Поэтому не надо бегать за ребенком по площадке с криком: «Сейчас упадешь!» Вероятность того, что так и произойдет, в этом случае увеличивается в разы. Нет смысла кричать малышу: «Отойди от собаки, она тебя сейчас укусит!» (хотя пес стоит спокойно и дружелюбно помахивает хвостом): в испуганном организме выделяется гормон адреналина, обладающий для собак четко различимым запахом – так пахнет жертва! Следовательно, если страх буквально провоцирует животное на агрессию, то разве можно своими действиями вызывать этот страх в ребенке?
Очень часто случается, что тревожные родители, и сами обладающие изрядным количеством страхов, делятся своим «богатством» с детьми, создавая в их жизни дополнительные трудности. Оцените, легко ли вам жить со всем своим багажом страхов и опасений, и трижды подумайте, чем «нагрузить» этим голову своего ребенка.
«Ну что ж ты такой тупой?!», «Ты что, совсем дурочка?», «Вот глупый!» – это уже не просто программы, но еще и оскорбления. Давая такую оценку умственным способностям сына или дочери, вы сами рисуете «потолок», выше которого им не подняться. Как в анекдоте: «Доктор сказал в морг – значит, в морг».
Ребенок утверждается во мнении, что его в семье считают недотепой, что дорога ему одна – в дворники, улицы мести, а значит… правильно, вы уже знаете: старайся или не старайся – результат одинаковый. А если не видно разницы, как говорят в рекламе, – зачем платить дороже? Зачем учиться, повышать свой уровень, узнавать новое? Так мы сами убиваем в ребенке любовь к знаниям – ведь никто еще не научился любви из-под палки…
Более того, такими словами мы накладываем ограничение на всю дальнейшую карьеру сына или дочери, на его успешность и возможность достижений. Установка «ты дурак» априори подразумевает, что родитель – умнее, и запрещает, как говорится, сверчку покидать свой шесток, блокирует все попытки ребенка вырваться из рамок навязанного стереотипа и доказать, что он может больше.
Вместо оскорбительных ярлыков гораздо лучше поможет практическая помощь, попытка дать еще один шанс, детальные объяснения, припоминание собственного опыта…Но ведь это – дольше и требует душевных трудозатрат. А обозвать тупицей всегда легче… Вот только самый простой путь обычно редко приводит к результату, и высокоинтеллектуальным родителям стоит об этом помнить.
«Плакса», «Рева-корова!», «У тебя всегда глаза на мокром месте!» – насмешки над слезами и над проявлением негативных эмоций. «Будь мужчиной, прекрати реветь!», «Мальчики не плачут!» – вариация на ту же тему, усугубленная привитием гендерных стереотипов.
Такие родительские действия приводят к тому, что ребенок учится замыкаться в себе, не умеет «отреагировать» горе, печаль, тоску, а значит, не способен совладать с этими чувствами.
Здесь три ловушки. Во-первых, со своими несчастьями ребенок очень быстро перестает обращаться к родителям – кому хочется вместо понимания, утешения и совета получить ярлык и насмешку? Так из отношений исчезает доверие, причем доверие в особо кризисные, тяжелые моменты. За помощью ребенок к вам теперь уже вряд ли придет…
Во-вторых, человек, воспитанный по принципу «все эмоции под контролем», зажимает негатив в себе, не умеет дать ему цивилизованного выхода, тем самым накапливая, аккумулируя его в душе. Это является причиной возникновения так называемых психосоматических заболеваний – расстройств здоровья, вызванных перегрузкой психики. Малыши особенно подвержены этому, так как эмоций у них пока еще через край, даже если их все время пытаются держать в узде.
Однако, взрослея, такие люди перестают (явно, по крайней мере) огорчаться и печалиться, отращивают себе шкуру толщиной в дециметр – и начинают требовать того же от других. Выращенный по этой методике мужчина будет (о нет, не обманывайте себя!) не рыцарем без страха и упрека, а тем самым «бесчувственным животным», которое даже не заметит, что обидело женщину (жену, маму, сестру, дочку, подругу) интонацией, взглядом или пренебрежением. Такие тонкие материи для него недоступны, и «прекрати реветь» услышит уже его спутница. Выращенные по этой методике женщины становятся «железными леди», не прощающими никому ошибок, не способными на эмпатию (понять и «прочувствовать») ближнего своего…
И ничего удивительного: запрет на чувства у таких людей был наложен еще с детства, их беды были не важны для родителей, не имели права на существование – той же монетой они платят человечеству, вырастая.
А что же надо? А надо всего-навсего понимание. И если мы видим, что слезы искренние – ребенок должен получить от нас участие и утешение. Если слезы являются попыткой манипуляции, их игнорируют или переключают эмоции на другое. Но ни при каких обстоятельствах не высмеивают.
«Ты просто ужас!», «Не ребенок, а непонятно что!», «Стихийное бедствие какое-то!», «Это просто кошмар!» Ребенок, особенно маленький, не в силах постигнуть сути обвинений (ведь ничего конкретного «предъявлено» не было!), однако понимает из интонации и выражения лица, что является причиной сильного родительского расстройства, что вызвал неудовольствие – словом, как говорится, надежд не оправдал. Кому приятно чувствовать себя причиной разочарования, в особенности людей самых любимых – родителей?
В результате ошибки или плохое поведение не устраняются (ведь ребенку не объяснили, в чем причина), а значит, неудовольствие со стороны родителей продолжается. Но как же что-то исправить, если не знаешь, что именно нужно этим непонятным взрослым?
И порочный круг замыкается: неудовлетворенность и негатив становятся взаимными, со временем лишь нарастая.
Чтобы так не происходило, всегда конкретизируйте свои претензии, объясняйте, чем именно вы недовольны, что именно и как нужно исправить. И помните: обобщение – враг понимания, оно всегда – заведомая ложь, так что не стоит начинать фразы с «ты всегда» или «ты никогда» – ребенок зацепится за их очевидную несправедливость, и суть ваших упреков уже не воспримет.
«Что ж ты так вырядился?!», «Нечего перед зеркалом вертеться, там и глядеть-то не на что!» – эти слова нередко надолго западают в память и создают у ребенка убежденность в собственной физической непривлекательности, ущербности, безвкусии. Иногда это остается на долгие годы, а то и навсегда.
Дочка, услышавшая (в особенности от папы), что у нее «толстая попа», «некрасивые ноги» или «плохие волосы», пронесет этот комплекс через всю жизнь. Кто-то, пряча «проблемные» ноги, перестает носить платья и юбки, кто-то всю жизнь стрижется коротко, – тем самым существенно обкрадывая свою женственность, поскольку акцентируется не на своих достоинствах, а на попытках скрыть недостатки. Между тем давно известно, что уверенная в себе, любящая и принимающая себя женщина всегда привлекательнее той, кому достались классическое лицо и фигура, но взгляд при этом – загнанный.
Ну а мальчик, выросший с убеждением, что «нечего тебе за собой смотреть – не девчонка!», нередко не усваивает элементарных правил ухода за своим телом, забывает, что мужчина не должен быть вонюч и волосат (мы давно уже не пещерные люди!), и порой не придает значения своему внешнему виду уже настолько, что для него не является проблемой надеть мятые или несвежие вещи или неделю ходить с нечищеными зубами.
И то и другое – следствие родительской программы «Будь сер и незаметен». Конечно, не следует впадать в крайности и культивировать в детях стремление стать «гламуренышами», но и желание задавить в ребенке стремление познать возможности своего тела, своей внешности и грамотно ими пользоваться тоже является нечестной попыткой уменьшить данный ребенку природой потенциал.
«Жадина-говядина!» Нет легче способа воспитать убежденного жадину, чем заставлять делиться! Щедрость – движение собственной души, оно не может быть навязано извне и прививается не иначе, чем личным примером. Когда мы не трясемся над своими вещами, когда не жадничаем и радушно угощаем пришедших в дом друзей, когда умеем отдать другому лучший кусочек и предложить самую вкусную конфету (даже если осталась последняя), ребенок и сам привыкает поступать так же. В противном случае «принуждение к щедрости» сродни лекциям курящих родителей о вреде никотина.
Лет до двух ребенок вообще воспринимает свои игрушки и вещи как часть себя, поэтому ему категорически трудно принять идею отдать что-то из своих «сокровищ» другому. Он реагирует на это так, как реагировали бы вы на предложение отдать руку. В этом возрасте задача родителей – научить не защищать «моееее!», а меняться, играть по очереди – да, в первую очередь личным примером, подключаясь порой даже к играм на детской площадке. А как иначе малыш усвоит нормы «хорошо и плохо»?
Ну а что касается более старших, то предоставьте ребенку самому решать, что делать с его вещами, и в особенности с подарками. Поставьте себя на его место: муж дарит вам телефон и поминутно выхватывает из рук и показывает, что и как с ним делать, подруга презентует косметику или классные джинсы – и тут же просит дать ей попользоваться «на время» или «по очереди». Вам будет неловко и неприятно, не так ли? Совершенно то же чувствует и ваш ребенок, когда ему дарят игрушки или сладости и тут же указывают список лиц, с которыми следует поделиться. Если в более раннем возрасте вы заложили правильный фундамент, ребенок пройдет «тест на щедрость». Если мама с папой и сами всегда поставят на стол коробку конфет, подаренную пришедшими гостями, а не спрячут заботливо в сервант, ребенок рано или поздно сделает правильные выводы. Ну а для ускорения процесса и собственной подстраховки от педагогических конфузов не дарите вкусных подарков исключительно лишь ребенку – раздав сладости всем присутствующим, вы и преподаете наглядный урок щедрости и умения делиться, и не создаете провокационных моментов.
«Будь хорошим мальчиком!» Первый вопрос, возникающий в голове ребенка, слышащего такую фразу: «А я что, плохой?», «Я недостаточно хороший?» Подобные родительские фразы выдают тот факт, что они не уверены в сыне или дочери, не доверяют их способности справиться и быть на высоте.
И если в ребенке силен дух противоречия или же он просто находится в кризисном возрасте (в три года или в тринадцать это проявляется примерно одинаково), то, вполне возможно, попробует назло вам показать, как хорошо он умеет быть плохим.
Ну а мнительного, слабого духом ребенка такие слова убедят в том, что родители в него не верят.
Вместо этой фразы грамотнее было бы сказать: «Я знаю, ты справишься», «У тебя получится», так как это гораздо эффективнее, и настраивает на позитив.
«Он у нас этого никогда не делает!», «Она такая нежная и болезненная!», «Он этого вообще не ест!» – когда мы часто произносим нечто подобное, то лишаем ребенка воли решать самостоятельно, что он любит и не любит, делает или не делает, чувствует или не чувствует, словно в анекдоте о бабушке, в десятый раз зовущей внука с балкона: «Мишенька!!» – «Что, бабуля, я уже замерз или я хочу кушать?» Но шутки шутками, а наложить стереотип на поведение ребенка нам, взрослым, проще простого. Приводя ребенка впервые в детский сад со словами: «Он у нас боится деток», «Она такая стеснительная», мы гарантированно спровоцируем малыша на скованное, зажатое поведение. Представив новичка в классе как «мальчика, который не дружит с дисциплиной», классный руководитель, скорее всего, получит «вечного нарушителя» (а можно было дать ему шанс проявить себя по-другому!). Заявляя за ребенка, что «он этого не любит», мы не даем ему шанса попробовать и самому решить так это или нет, поскольку, вполне возможно, ему не нравятся котлеты лишь в мамином исполнении, а бабушкины или «садиковские» он ел бы с удовольствием – если бы его не убедили в том, что он этого делать не будет.
«Ты никогда не слушаешь, что я говорю», «Ты такая непослушная!» – это последняя из распространенных «программ», которые прописываются родителями своим детишкам. Убеждая ребенка в том, что он невнимателен, непослушен – словом, плох, мы провоцируем его на то, чтобы доказать на деле, как мы правы. Помните пословицу о том, что если человека сотню раз назвать свиньей, он захрюкает? Она как раз об этом.
Итак, давайте задумаемся: откуда маленькие дети узнают, какие они? Конечно, с наших слов. Мы – главные ориентиры в их мире, и если мама или папа (до определенного возраста – непререкаемые авторитеты) о чем-то говорят, включая и оценку личности ребенка, значит, это истина в последней инстанции.
Самооценка ребенка складывается из наших, родительских оценок, даже брошенных мимоходом, в общении со своими приятелями или родственниками, когда нам кажется, что «ребенок все равно не слышит». Большинство наших комплексов подарены нам папами и мамами, даже если мы не отдаем себе в этом отчета, поскольку не помним, откуда что взялось. Но ведь нам ужасно неуютно и некомфортно с ними, не правда ли? Так стоит ли награждать подобным наследством наших сыновей и дочек?
Применяем физические наказания: от шлепка до ремня…
Неправда, что страдания облагораживают характер, – иногда это удается счастью, но страдания в большинстве случаев делают человека мелочным и мстительным.
Сомерсет Моэм. «Луна и грош».
Согласно данным опроса, проведенного в 2007 г. Левада-Центром по заказу журнала Psychologies[2], около 80 % современных российских родителей используют физические наказания при воспитании своих детей.
Посетители крупного российского сайта для родителей kid.ru подтверждают это: около 86 % родителей применяют физические наказания к своим детям (кто иногда, а кто и частенько) – и только 7,5 % считают их категорически неприемлемыми.
Подавляющее большинство тех, кто положительно ответил на этот вопрос, позволяют себе только шлепки по руке или по попе, более «тяжелую артиллерию» применяют лишь около 15 %, и еще около 2 % считают допустимыми пощечины.
Каковы же причины того, что телесные наказания столь распространены в нашем обществе?
Главная – в нашем менталитете: уровень агрессии людей так высок, что физическое насилие стало практически нормой, распространившись буквально на все сферы жизни. Это и дремучее бытовое хамство друг другу на улицах, в магазинах и в транспорте, это и агрессивно-беспорядочный стиль вождения большей части автовладельцев, это и стиль ведения бизнеса нашими соотечественниками, и, к сожалению, многое, многое другое – этот список можно продолжить на страницу.
Неудивительно, что поток агрессии давно затопил и семьи, став, увы, нормой общения дома для многих россиян. В этом и состоит главная опасность «невинных шлепков» – буквально с младенчества в сознании детей формируется парадигма о том, что бить других людей – это нормально, ведь папа и мама поступают так в отношении их самих (а частенько – и в отношении друг друга). Наши дети переносят этот стереотип в свои игры и отношения, закрепляя его в сознании на всю жизнь, и со временем, когда годы проходят и расстановка сил меняется, уже пожилые родители жалуются на жестокость своих взрослых детей, на побои, пренебрежение и издевательства.
Причина вторая: многими мгновенный эффект ценится выше отдаленных перспектив. Люди не привыкли, не хотят думать хотя бы на пару шагов вперед, им кажется, что победить в данной конкретной ситуации означает одержать победу вообще. Однако зачастую она оказывается победой пирровой, когда проигрываем мы больше, чем выигрываем. Между «эффективнее» и «быстрее» сторонники физических наказаний выбирают «быстрее», так как альтернативный путь – объяснять, давать возможность убедиться на собственном опыте – это слишком долго и трудоемко. Врезал – и порядок. Но, выигрывая тактически, вы всегда в этой ситуации проигрываете стратегически.
Причина третья: ударив непослушного ребенка, родители «спускают пар», дают выход своим негативным эмоциям. Они, увы, не умеют делать этого цивилизованными способами, а уровень агрессии в обществе в целом и в головах отдельных граждан у нас чрезвычайно высок, как мы уже говорили, вот и выплескивается через край. При этом взрослые испытывают облегчение, и оттого в их сознании закрепляется ущербный стереотип: ударить – хорошо. По крайней мере, самому полегчало. Безусловно, под влиянием эмоций любого из нас может «занести», однако, когда вы успокоитесь, объяснение своего поступка и извинения необходимы. Не стоит задабривать сына или дочь и «искупать вину» подарками или «послаблением режима», но объяснить, что именно довело вас до срыва, нужно. Это, возможно, станет первым шагом от конфронтации к взаимопониманию.
Причина четвертая: люди просто не умеют наказывать по-другому, поскольку действует закон наследования поведенческих стереотипов. Если человека самого били в детстве, он наследует родительскую модель поведения зачастую даже в тех случаях, когда знает, как не надо, и умом понимает, что ударить – это неправильно. Но вот реагировать правильно не умеет – не имеет опыта, не видел он других вариантов в действии, и в критический момент актуализируется именно то, что опробовано на собственной шкурке. Многие боятся признаться сами себе в тех негативных чувствах, которые испытывали и до сих пор испытывают к собственным родителям – ведь социум такого не одобряет!
А у многих не укладывается в голове: как это вообще возможно – воспитание без ремня? Даже если они прочитали немало книг и статей об «альтернативных методах воспитания», все равно до конца не верят, что это реально работает.
Некоторые, правда, получают от собственных родителей такую мощную дозу насилия, что она начинает действовать как противоядие: своих детей пальцем не трону! Но для этого нужно иметь очень сильный характер, который не сломали даже такие «воспитательные меры».
Причина пятая: физические наказания имеют слишком глубокие корни – гораздо глубже, чем просто опыт родительской семьи: корни эти уходят в столетия и тысячелетия.
Деды и прадеды, а также их деды и прадеды – и так до семьдесят седьмого колена – жили по законам насилия, о чем мы уже говорили.
Кроме того, еще совсем недавно, каких-нибудь сто-двести лет назад, дети не представляли такой ценности, как сейчас. Контрацепция и медицина не были развиты, рождаемость и смертность детей были высоки. Следовательно, рожали много и понимали, что выживут не все – соответственно и отношение к детям было иным. Наиболее адекватно оно отражено в пословице: «Бог дал – Бог взял». Одни останутся на этом свете, другие – нет, одни вырастут хорошими людьми, другие – нет (не просто так родилась поговорка «в семье не без урода»!). Естественно, так, как в наше время, над детьми не тряслись. Могли и ударить, могли и вообще розгой забить – это было в порядке вещей.
А в Спарте «бракованных» младенцев и непослушных детей вообще сбрасывали со скалы – совершенно радикальный метод, и возиться не надо.
В те времена подобное было актуально, поскольку соотносилось с уровнем развития общества и его текущими нуждами. Однако наш современный мир изменился, и его реалии и возможности – также, поэтому тащить старый уклад в новый монастырь, по меньшей мере неразумно: не приживется и вступит в конфликт с реальностью, что мы и наблюдаем в современном обществе.
Итак, подведем итог: почему детей бить нельзя?
Во-первых, любой удар – это акт насилия, вне зависимости от того, пришелся он по попе или по щеке, вне зависимости от того, какой смысл вы сами в него вкладываете, – сухой остаток все равно будет таким: «Бить – можно!» В дальнейшем эта концепция будет перенесена вашим ребенком на всех остальных людей, включая вас – в перспективе.
Во-вторых, таким образом мы навязываем детям порочную модель разрешения конфликтных ситуаций: побеждает только сила!
Когда люди с такой жизненной концепцией сталкиваются с другими силами – с разумом и чувствами, с законами природы и общества, – им бывает непросто принять тот факт, что необходимо считаться с чем-то (и с кем-то) еще.
В-третьих, физическое наказание – это признание поражения: значит, у вас не нашлось аргументов, не хватило влияния, не вышло грамотно построить отношения – таким образом, чтобы ребенок вас слушал и слышал – без крайних мер. Кроме того, ребенок делает еще один вывод: своими действиями он может довести вас до того, что вы не сможете владеть собой, а значит, он психологически сильнее вас и может вами управлять. Фактически так и есть – и больше всего вы злитесь именно по этой причине.
В-четвертых, это малоэффективно: когда ребенок понимает, почему он не прав, и внутренне соглашается с вами, признает свою вину (а так бывает, если вы не ленитесь объяснять свои запреты и нормы, делитесь своими мыслями об устройстве мира и о том, что такое хорошо и что такое плохо, а не только раздаете подзатыльники и руководящие указания) – он легче следует правилам, чем будучи вынужден покоряться и быть хорошим в буквальном смысле из-под палки. В этом случае наказание не дает настоящего урока, и в следующий раз он снова поступит так же – если будет думать, что вы не увидите, не узнаете – словом, если будет полагать, что поступок останется безнаказанным. То есть причина конфликта не устраняется, а значит, отношения будут только обостряться.
В-пятых, страдает ваш авторитет, ведь любая конструкция, построенная на страхе и под давлением, шатка и непрочна. Авторитет силы всегда слабее авторитета знаний и опыта, а именно знания и опыт позволяют понять, что пинок далеко не всегда рождает крылья.
В-шестых, получить шлепок, а тем более – удар по губам, по затылку или щеке – это унижение. Особенно страшно, если подобное происходит публично, при свидетелях – а ведь родители обычно не церемонятся: могут и при друзьях огреть, и при одноклассниках. Многие дети переносят это настолько болезненно, что несправедливость способа наказания затмевает им ощущение собственной вины – следовательно, снижает КПД ваших действий практически до нуля.
В-седьмых, когда такие наказания повторяются часто, ребенок ощущает себя нелюбимым, плохим, не оправдавшим надежд, недостойным – и эмоциональная сторона ваших отношений стремительно ухудшается. Помните один из главных принципов справедливых наказаний – осуждать проступок, а не самого ребенка? С физическими наказаниями это не получается, ребенок неизбежно принимает все «на личный счет». А главное – исчезает доверие: ребенок старается без нужды не рассказывать ничего о себе и своих делах: а вдруг вам это не понравится и он получит очередную «воспитательную порцию»?
И восьмая, последняя причина: ребенок, безусловно, очень хорошо и рано начинает понимать, что ему нельзя, однако для него обычно так и остается неясным, что же можно? Его мир при таком раскладе весь состоит из сплошных «нельзя», из ограничений и запретов. Именно поэтому из такого неуютного мира очень хочется сбежать. Куда угодно – из дому (бродяжничать), из реальности (в виртуальные пространства), из жизни вообще… Когда дети подрастают, они порой прибегают к суициду как к жестокому и простому, но очень действенному способу навсегда отравить своему воспитателю остаток дней. И с таким решением вы не совладаете при помощи ремня или подзатыльника…
Итак, давайте серьезно задумаемся над тем, что для нас важнее: послушание и страх – или умение любить и уважать. Подчинение – или понимание. Ведь каждый находит то, что ищет….
Лишаем прав и свобод: ну-ка, марш в угол!
Не люблю я выносить смертные приговоры. И вообще мне пора.
«Маленький принц». Антуан де Сент-Экзюпери.
К экспрессивным способам воспитания, то есть к физическим наказаниям и крику, прибегают люди в основном темпераментные, плохо умеющие сдерживать порывы и контролировать себя. Однако существует и другая категория родителей – это люди более уравновешенные, флегматичные, спокойные, и наказывают они детей в другом стиле.
Чаще всего такие мамы и папы практикуют разнообразные меры временной изоляции буйного чада.
Вариантов здесь множество: «Десять минут сидения на штрафном стуле, чтобы подумать над своим поведением», «Отправляйся в свою комнату – пока ты ведешь себя так, к людям тебя выпускать нельзя!» – так пытаются воздействовать родители-гуманисты.
«Марш в угол!», «На колени! На гречку!!» – это варианты людей более несдержанных, склонных к подавлению.
Есть и более экзотические способы повлиять на непослушных отпрысков: к примеру, запереть в темной ванной комнате или в кладовке – наказание «историческое», так делали веками наши предки, что даже нашло свое отражение в сказках. Добрая, в общем-то, девочка Мальвина поступила с Буратино аналогичным образом – из лучших побуждений и для его же блага.
Наказание арестом в той или иной форме – явление в наши дни уже не массово распространенное, но все еще популярное. Оно действительно дает эффект, но только в случае, если соблюдены следующие условия:
• наказание по длительности и значимости адекватно самому проступку;
• смысл наказания – заставить задуматься над своим поведением, притормозить резвое дитя и дать ему время остыть, а не унизить (эти нюансы дети улавливают очень чутко).
Унизительно, к примеру, поставить ребенка не просто в угол, а непременно на колени, да еще на какую-нибудь крупу. (Кстати, попробовали бы сами – любопытно, как долго бы выдержали?)
Унизительно принуждение к извинениям: «Будешь стоять в углу, пока не попросишь прощения!» Просить прощения ребенок должен с открытым сердцем, по собственной инициативе, осознав свою вину – тогда от извинений будет польза. А вот если они цедятся сквозь зубы, сквозь злые слезы – эффект от них обратный: обычно в семьях, где слишком часто практикуют такие методы, вырастают либо люди, не способные просить прощения в принципе, либо сломленные духом, готовые к извинениям из страха наказания и стремящиеся «прогнуться», даже если они правы.
А изоляция ребенка в темном и тесном помещении чревата возникновением главным образом страхов – от боязни темноты до клаустрофобии (боязни замкнутого пространства). Ну и, конечно, теплоты и доверия в отношения этот способ тоже привносит мало. Снова вспомним Буратино: от своей благодетельницы и воспитательницы Мальвины он попросту сбежал – и немало деток, готовых на побег в том или ином смысле слова из дома, где с подобными наказаниями «переборщили».
Одним словом, чувство меры – это наше все
Бонус от изоляции виноватого ребенка в том, что это позволяет родителям сохранить в конфликтной ситуации олимпийское спокойствие. Ведь вовремя отправленный в свою комнату ребенок не увидит их непедагогично перекошенных физиономий и не услышит всего того, что могло бы перепасть на его долю, если бы он мозолил родительские глаза и дальше.
Правда, не со всеми подобный педагогический прием срабатывает. К примеру, удержать на месте гиперактивного ребенка дольше 5 минут – задача чрезвычайно сложная, так что для него наказание действительно будет очень чувствительным, если вам вообще удастся привести его в исполнение (прикрутить скотчем к стулу, как вы понимаете, – это не наши методы). А вот флегматик постоит в углу, не особенно напрягаясь, так что эффект для него будет уже другим.
Помимо свободы передвижения, многие родители считают правильным лишать ребенка и других прав и свобод. В частности, как уже было сказано, почти 40 % родителей лишают провинившееся чадо удовольствий, каждый пятый прибегает к запрету на просмотр телевизора и на «общение» с компьютером, почти 15 % российских детей штрафуют – то есть урезают карманные деньги, около 10 % лишают сладкого в прямом смысле слова, а 1 % российских родителей считают себя вправе лишить ребенка даже еды.
Мы уже говорили с вами о том, что лишение прогулки, пищи, одежды – вещи недопустимые. И не только потому, что это противозаконно. Эти потребности (в пище, здоровом образе жизни и безопасности) являются базовыми потребностями человека, и если мы лишаем их кого угодно, хоть ребенка, хоть взрослого, тем самым мы активизируем его инстинкт самосохранения, то есть вызываем в основном протестные реакции – соответственно, послушания и понимания этот способ не добавляет.
Есть и еще один вид «лишений» – некоторые родители прекращают общаться с провинившимися детьми. Этот способ довольно распространен, к нему прибегает около 17 % мам и пап – кто на день, а кто и на неделю и даже больше. Здесь важно помнить, что, несмотря на «несерьезность» подобной меры на первый взгляд, на самом деле это наказание очень мощное, и чем дольше длится «период молчания», тем выше растет стена непонимания и взаимной обиды между родителями и детьми. Как бы родители ни объясняли сами себе целесообразность такого подхода, суть его не меняется от любых красивых слов, в обертку которых его заворачивают, – это не что иное, как психологическое насилие.
Внимание родителей и их любовь – самое важное в жизни ребенка, особенно маленького, поэтому лишиться их – наиболее тяжелое наказание из всех возможных. «Меня не любят, я не нужен» – это все равно что «мир рухнул». Если такое наказание используется как привычное, ребенок постепенно отдаляется от родителей, а в будущем модель прохладно-отстраненных отношений с близкими он перенесет и в свою семью, и наказание отчуждением будет практиковать и по отношению к жене, и по отношению к собственным детям.
Давим авторитетом
С самой глубокой древности старики внушают молодым, что они умнее, – а к тому времени, как молодые начинают понимать, какая это чушь, они сами превращаются в стариков, и им выгодно поддерживать это заблуждение.
Сомерсет Моэм. «Пироги и пиво, или Скелет в шкафу».
Существует категория родителей, которые больше всего на свете хотят быть авторитетными для своих детей. Однако авторитет бывает разный. Есть авторитет понимания, а есть авторитет силы, и вот для тех, кто авторитет ставит во главу угла воспитания, наиболее приемлемым обычно оказывается второй вариант.
Именно такие родители слишком «давят», требуя безоговорочного послушания, не особенно утруждая себя объяснениями, на одном лишь основании, которое они считают достаточным: «Я сказал!»
Именно они требуют железной дисциплины, жестко наказывая за любое уклонение от предписанного курса, и не утруждают себя тем, чтобы учитывать еще чье-либо мнение (других членов семьи, самого ребенка), кроме собственного. Ребенок для них – не человек с собственными желаниями и мыслями, а главным образом объект воспитания. Поэтому такие родители сосредотачиваются на целях (по критерию достижения которых судят об успешности – своей и ребенка), а сам процесс достижения чего-либо для них, как правило, вторичен. И вопросы о том, насколько ребенку «в воспитательном процессе» удобно, комфортно, не слишком их заботят.
Именно для таких родителей чрезвычайно важна успешность ребенка. Им свойственно «любить с условием»: ребенок почувствует их расположение только в случае, если он оправдывает ожидания, а если нет – его тщательно рихтуют, порой сводя на нет личность вообще. Ведь что может остаться, если ежедневно «полировать»?
В результате такие мамы и папы получают детей послушных и управляемых, но совершенно безынициативных, – в них уже сломан стержень, сами они ничего не хотят и привыкли лишь исполнять («ведь с нами тот, кто все за нас давно уже решил») – и вполне вероятно, что всю жизнь они проживут «ведомыми», а то и просто тихими неудачниками. Вырастая, они становятся людьми тревожными, мнительными, чрезвычайно зависимыми от оценок, – и максимум, где они добьются «побед», – это в семейных баталиях, в процессе муштры уже своих собственных детей: ведь поведенческие стереотипы – штука чрезвычайно живучая…
Наиболее сильно проявляются негативные последствия подобного воспитательного стиля в подростковом возрасте, ведь в этот период как никогда нужен авторитет понимания и как никогда неуместен авторитет силы, – ключи к взаимопониманию с подростками авторитарным родителям не доступны….
Что же делать, если вы ловите себя на том, что часто грешите именно таким подходом к детям? В первую очередь, задуматься не о текущей ситуации, а о перспективах.
Ломая своего сына, вы делаете его не просто послушным – вы делаете его управляемым и покорным всякому, кто превосходит его по силе (физически и морально). Подавляя личность, волю маленького человека, вы воспитываете послушного «винтика» – в своей взрослой жизни он вряд ли будет не просто лидером, но и хотя бы человеком, самостоятельно принимающим решения, касающиеся его жизни: какую профессию выбрать и где работать, когда и с кем вступать в брак и т. д.
Кроме того, имея властную мать, он будет ориентирован на типаж сильной женщины, которая будет им управлять. Следовательно, и жену он выберет такую же, то есть в будущем окажется способен на сильные чувства лишь к тем, кто им руководит и даже, возможно, унижает. Но самое главное, что мальчики, привыкшие с детства к психологическому насилию, с удовольствием (именно – с удовольствием!) совершают насилие (физическое или психологическое) в отношении собственных семей – жен и детей (а возможно, постаревшим родителям тоже достанется). Потому что постулат «давить на слабого можно» уже впечатался в сознание.
Родителям девочек также имеет смысл серьезно задуматься о том, какую основу характера ваших дочек вы закладываете, добиваясь от них идеального послушания любой ценой. Мало кто отдает себе отчет в том, что тем самым воспитывает девушку, не умеющую противостоять насилию. Именно они выбирают себе в мужья людей властных и деспотичных, именно они чаще всего становятся жертвами насильников – просто потому, что не могут дать отпор, не умеют сказать «нет». И это они же, доведенные до состояния полной душевной опустошенности многолетними унижениями, в состоянии аффекта способны на страшные поступки (так называемый «бунт раба»), наказание за которые им придется отбывать многие годы – колонии переполнены женщинами с подобной судьбой. Есть и другой сценарий: девочки, воспитанные в строгом подчинении, порой становятся «железными леди» – циничными, непробиваемыми, глухими к эмоциям окружающих. Таких называют «мужик в юбке», причем мужик не в лучшем своем проявлении… Бывает, с возрастом их характер смягчается, в особенности если жизнь наглядно продемонстрирует старую истину о том, что «спорить с тренером по борьбе может только тренер по стрельбе», то есть против любой силы найдется другая сила. Но иногда, как говорится, с возрастом не приходит мудрость, возраст приходит один.
Так что же получается – авторитет не нужен? Отнюдь. Авторитет исключительно необходим. Весь вопрос в том, какими методами мы его добиваемся.
Итак, первый принцип – воспитывайте своим примером, а не словами. «Делай, как делаю я» – это работает. «Делай, как я говорю» – не работает. Ни одно правило не будет исполняться, если оно не соблюдается и родителями. Ребенок на примере папы и мамы должен убедиться, что вся жизнь вокруг – это жизнь по правилам, и необходимо научиться увидеть в них не только ущемление своих интересов, но и защиту. Если вы хотите, чтобы ребенок рос щедрым, не заставляйте делиться, а будьте сами щедры ко всем друзьям и знакомым. Если вы хотите, чтобы подросток звонил, когда задерживается, так должны поступать все члены семьи. Нашим детям легче поступать правильно, когда в их кругу, среди их близких так принято.
Второй принцип заключается в единстве требований и постоянстве. Все, чего вы хотите добиться от ребенка, необходимо формулировать четко и всегда одинаково (иначе ребенок ваши требования просто не поймет и не запомнит), не меняя, как говорится, правил игры в процессе самой игры. Кроме того, ваше непостоянство убеждает ребенка в том, что родители и сами толком не знают, чего хотят, – а это позиционирует вас как людей несерьезных, следовательно, также работает против авторитета.
Третий принцип – соблюдайте хоть небольшую, но дистанцию, продиктованную разницей в возрасте. Совсем «на равных», какими бы идеями вы ни руководствовались, не получится: ответственность на вас и на детях лежит все же разная, обязанности тоже. Так что если вы собираетесь уравнять себя и ребенка в правах – это будет несправедливо. Не только потому, что, по сути, ущемляются интересы родителей, а еще и потому, что это будет фальшиво: ведь истинного равенства все же нет… Так что грамотная позиция взрослых будет «на несколько шагов впереди», и правильная их роль – «ориентир», а не «равный», как бы демократично и внешне гуманистично это ни звучало.
Четвертый принцип: не ленись объяснять все свои запреты, решения и поступки. Понимание гораздо эффективнее слепого подчинения, и если ваш ребенок будет вашим идейным сторонником, если ему понятны будут ваши принципы, резоны и мотивы, слушаться ему будет гораздо легче. А еще у него будет чувство, что с ним считаются, его уважают и что ограничения и требования не просто ваши прихоти, а продиктованы его же интересами.
Принцип номер пять: не угрожайте. Если ребенок нарушает правила, о наличии которых осведомлен, если он явно забылся, заигрался, – предупредите его: тогда он будет знать, на что идет, упорствуя в своих заблуждениях. Если же со стороны ребенка – явный вызов и попытка проверки границ дозволенного, накажите его, не ограничиваясь грозными обещаниями, поскольку невыполненные угрозы роняют ваши акции до нуля: ребенок быстро понимает, что ваше слово расходится с делом, а значит, всерьез вас воспринимать не обязательно.
И последний, шестой принцип: относитесь к ребенку как к другу. Однако это легче сказать, чем сделать – трудно понять, что имеется в виду под этим постулатом. Чтобы облегчить себе задачу, проведите простой тест «Что я могу себе позволить в отношении своих друзей?». Отвечайте «да» или «нет»:
• командовать;
• распоряжаться их вещами;
• нервничать из-за того, что они поступают по-своему;
• публично указывать им на их недостатки;
• решать за них, с кем дружить.
А теперь ответьте, что вы можете позволить по отношению к своему ребенку, и сравните результаты.
Делаем выводы: ваш ребенок – ваш друг?
Чрезмерно требуем
Так, у вас и собака есть… Ну ничего, я сделаю из нее человека!
«Малыш и Карлсон» – мультфильм Б. Степанцева по книге Астрид Линдгрен.
Как известно, любая воспитательная система в той или иной степени предусматривает наличие требований – в разумных пропорциях и используемых по мере необходимости. Однако не всегда мы помним об этих двух условиях, и тогда требования начинают работать не на нас и наших детей, а против нас.
Одним из ошибочных вариантов является чрезмерность обязанностей. При таком подходе ребенок воспитывается по сценарию «Золушки» – у него никаких прав, одни лишь «ты должен». Нагрузка у него не по годам велика, он все время живет, словно встав на цыпочки, из последних сил дотягиваясь до планки требований, к нему предъявляемых. Это подрывает физические и моральные силы ребенка – и взрослый бы не выдержал постоянной жизни в таком режиме, что уж говорить про малышей.
Если вы понимаете, что это – ваша проблема, постарайтесь встать на место своих сына или дочки и честно ответить на вопросы. Смогли бы вы в их возрасте справиться с таким же объемом обязанностей? Успевали бы все? И – какой ценой (уставали бы, хватало бы времени на общение с друзьями или хобби)?
А теперь подумайте, как ребенка можно разгрузить: отмените часть обязанностей, возложенных на него, оставьте глоток воздуха, то есть время на то, чтобы просто гулять, дружить, общаться. И проанализируйте, как так вышло, что все это вы навьючили на свое дитя, какие ваши амбиции и нереализованные мечты и планы вынужден воплощать ваш ребенок – за вас?
Безусловно, чрезмерно требовательные родители руководствуются «серьезными» соображениями: если ребенок не привыкнет к «высокой планке», он так навсегда и останется слабаком, не способным достигать вершин, человеком, не умеющим добывать себе место под солнцем, а значит, пропадет в современном мире людей, жестко ориентированных на успех.
Однако при этом упускается один нюанс: истинно успешным будет лишь тот, в ком потребность побеждать заложена не с помощью многочисленных тычков и понуканий извне, а является внутренней сутью и необходимостью. А те, кого всю жизнь подхлестывали и кричали в спину: «Давай!!», будут добиваться чего-либо только с помощью волшебного пинка. И если рядом не окажется человека, придающего ускорение, вся их бурная энергия застопорится и рано или поздно прорвется соматическими заболеваниями.
Главная сфера, в которой наиболее ощущается родительский нажим, – это, конечно же, учеба. Современные дети в большинстве своем испытывают хронический стресс, связанный с учебной деятельностью, вернее, со страхом оказаться неуспешным, неверно оцененным, не в числе первых – лузером, одним словом.
Сегодня многим родителям недостаточно, чтобы ребенок учился хорошо и с интересом. Во главу угла ставятся не знания, а оценки, важным оказывается не увлеченность какой-либо наукой, а балл аттестата и результаты тестов, так как именно это «определяет возможность поступления в вуз и дальнейшую самореализацию». На самом деле самореализацию определяет увлеченность, интерес к познанию. Если этого нет, в вузе юноше или девушке делать нечего, все равно специалист из них получится никакой, ибо им все равно, «на кого учиться» и чем в жизни заниматься – лишь бы «устроиться». При таком подходе эффективность учебы и работы будет невысока и, строго говоря, трата денег на высшее образование такого человека нерентабельна. Успехов в науке и в бизнесе достигают не случайные люди, пусть и с отличным аттестатом или красным дипломом, а люди творческие, искренне любящие свое дело. Много таких ребят выпускают наши школы? То-то и оно. Главное, что убивается подходом «оценки прежде всего», – это интерес к познанию.
Однако именно баллов и требуют родители прежде всего, поскольку мало кто настолько компетентен и располагает временем, чтобы проверить уровень знаний ребенка самостоятельно: легче ориентироваться на формальные показатели школьных достижений – отметки в дневнике и табеле. По поводу оценок регулярно практически в каждой семье, где есть школьники, бывают споры и даже скандалы, причем стресс испытывают не только дети, которых держит в напряжении страх не соответствовать ожиданиям родителей и учителей, но и сами взрослые, которые переживают и нервничают так, словно находятся на ипподроме.
Родители пребывают в уверенности, что, если ребенку постоянно указывать на его недостатки, он будет стремиться их исправить. На самом деле это не так. К достижениям наиболее эффективно мотивирует похвала за шаги в верном направлении, а не ежедневное «пиление» – как раз оно заставляет ребенка сомневаться в своих силах и испытывать постоянное чувство вины и некомпетентности, а в результате либо запускать учебу («Что бы я ни делал – все равно будет плохо, так какой смысл?»), либо всю жизнь доказывать себе и родителям, что «Я – могу!»», не получая кайфа от достижений, а постоянно словно бы оправдываясь. Внешне успех может выглядеть одинаково – разница лишь в цене, которую человек за него платит, и в количестве потраченных усилий, а значит, разным будет, так сказать, КПД.
Причинами такого поведения родителей являются, чаще всего, их собственные страхи, нереализованные амбиции, непонимание сути оценочной системы и сути образования.
Страхи. Мы не уверены в том, что в этой стране сможем в обозримом будущем обеспечить достойный уровень жизни себе и своим детям, и боимся, что ребенок окажется «неконкурентоспособным» на рынке современности, не сумеет выглядеть хорошим товаром и грамотно себя продать. Нас не интересуют глубинные сущности – важнее упаковка, ведь она способствует привлечению внимания и дает больше шансов выделиться среди прочих. Хватит ли у ребенка сил и способностей, чтобы добиться успеха в соревнованиях длиной во всю жизнь, на которые мы его подрядили – вопрос десятый, «главное – начать, а там посмотрим».
Именно поэтому страх проиграть в жизни самим толкает взрослых на то, чтобы застраховать ребенка от этого риска. Самый простой способ – при помощи оценок, хотя на самом деле стоило бы делать ставку на воспитание воли и характера, однако это процесс слишком трудоемкий.
Нереализованные амбиции. Родители в детстве также могли подвергаться прессингу: «Давай, вперед!» – и не оправдали надежд, не стали теми великими и могучими, какими их видели собственные папы и мамы, так что по закону компенсации они пытаются теперь переложить свою миссию на плечи детей. Это, безусловно, нечестно, но широко распространено, причем такие родители не отдают себе отчета в том, что происходит на самом деле, и ослабляют нажим только после осознания того, что свои проблемы они пытаются отыграть при помощи наследников.
Непонимание сути оценочной системы. Оценка – отражение ситуации на текущий момент, но никак не отражение динамики и картины вообще. Четверка для отличника – понижение уровня, но для троечника – достижение. Тройка по одному предмету совершенно не означает слабых знаний по другому. Низкие оценки могут быть свидетельством не только отсутствия знаний или лени, но и несложившихся отношений с преподавателем. Словом, вариантов множество, и, как вы понимаете, оценки – вещь совершенно субъективная, а не объективная.
Непонимание сути образования. В нашем обществе принято считать, что процесс получения образования заканчивается с получением аттестата зрелости. Вот даже название придумали этому документу соответствующее: выпустился из школы – все, умственно созрел. Максимальный срок продления этого периода – до окончания учебы в вузе, и уж с получением корочек мы считаем себя действительно окончательно образованными. На самом деле это не так, процесс познания длится всю жизнь, и учиться можно (и нужно!) от рождения до смерти, если в человеке живо главное – интерес к миру. Восточные культуры поддерживают именно этот подход, а вот наш менталитет предусматривает конечность процесса, так что документ об образовании – своеобразная могильная плита нашего интеллекта: что на ней напишут, то и является окончательным диагнозом, из-за чего и ломаются копья вокруг оценок.
Так что же такое грамотная требовательность?
Во-первых, это своеобразное «подтягивание» ребенка из так называемой зоны ближайшего развития в зону успехов, то есть перевод его потенциальных возможностей в разряд реальных достижений, а если проще – помощь в реализации заложенного в него потенциала. Требовательные родители постоянно поощряют движение вперед, новые достижения и искренний интерес к чему-либо, требуя не внешней «широты» знаний, а глубины.
У каждого свои активы: кто-то одарен литературно, кто-то – математически, у кого-то способности к точным наукам, у кого-то к искусству, и важно увидеть эту «спящую почку» в вашем ребенке, чтобы дать ей возможность максимально пойти в рост, а не тормозить этот процесс, требуя успевать по всем фронтам.
Есть дети, которым все дается легко, но их относительно немного. Есть и другие – те, кому необходимо упорно развивать свою сильную сторону, пусть даже она не слишком ярко выражена и всего одна, иначе из такого ребенка вообще ничего не получится.
Во-вторых, в понятие «требовательность» можно включить еще и умение родителей добиваться своего рациональным путем, а не конфликтным. К примеру, то время, которое вы потратите на чтение нотаций по поводу неуспехов вашего ребенка, можно было бы использовать гораздо продуктивнее, объяснив ему все, что он не понял – то есть ликвидировав причину неудачи, – тем самым добившись своей главной цели: у ребенка будут знания. Попутно вы сможете пообщаться с ребенком (Вы часто это делаете? Вопросы «как дела?», «Ты поел?» и «что было в школе?» – не в счет!), а может, даже узнать что-то новое для себя. Но это, конечно, более сложный путь, чем просто отругать и выпустить пар.
Все запрещаем
Большинство из нас воспитывали так, чтобы мы были хорошими, а не настоящими; приспосабливающимися, а не надежными, адаптивными, а не уверенными в себе.
Дж. Холлис
Определенная часть родителей в качестве превентивных мер используют многочисленные запреты – в надежде на то, что они уберегут чадо от ошибок и плохого поведения.
Чаще всего к этому способу прибегают авторитарные родители и те, кто склонен к гиперопеке. При этом нередко складывается ситуация «нельзя ничего»: запрещено общение с друзьями, которые не нравятся родителям (наберется плохого!); запрещено ездить в походы с одноклассниками (вдруг что-то случится!), запрещено ходить домой из школы самостоятельно (мал еще – всего 10 лет!)… Ребенок словно отгорожен от реальной жизни частоколом ограничений, живет за забором запретов – а значит, не умеет принимать решения относительно того, что можно и что нельзя, и больше всего на свете хочет вырваться на волю, а, дорвавшись до неограниченных возможностей, наконец позволить себе ВСЕ! Кто не слыхал историй о девочках-отличницах, уезжавших учиться в столицу, и, вырвавшись из-под родительской опеки, пускавшихся «во все тяжкие», о мальчиках «из хороших семей», которые при малейшей возможности сбегали из этих семей в сомнительные компании и уходили в мир наркотиков?
У детей с сильным характером чрезмерные запреты вызывают протест: здесь физика солидарна с психологией в том смысле, что действие равно противодействию – чем сильней нажим, тем активней сопротивление (при этом в характере расцветает негативизм, формируется склонность противоречить просто из принципа).
Слабые же легко ломаются при таком подходе, лишаются инициативы и набираются страхов: подчеркивая возможные негативные последствия любых поступков, родители напрочь отбивают желание что-то делать по собственной инициативе, и человек вырастает абсолютным растением.
Если это ваша проблема, вы вряд ли сможете (и сочтете нужным) переключиться на режим «возможно все», да это и не имеет смысла.
На самом деле есть запреты разумные, продиктованные здравым смыслом и охраняющие интересы детей и родителей, а есть запреты «неправильные», продиктованные нашими страхами и ограничивающие возможности развития.
«Правильные» запреты учат ребенка сдерживать свое «хочу», контролировать свое поведение – и одновременно, как ни странно, успокаивают: ведь если запреты едины для всех, то они являются факторами стабилизирующими. К примеру, безопаснее слушаться запрета перебегать улицу на красный свет и в неположенных местах; безопаснее жить в обществе, где нельзя убивать себе подобных, запрещено красть и лгать: соблюдая такие запреты, мы рассчитываем на то, что и другие будут следовать этим правилам – и в таком обществе жить спокойно. А вот в социуме, где одним – можно, а другим – нет, где одних накажут, а другим – сойдет с рук, жить опасно и дискомфортно – мы знаем это по себе, поскольку ситуация в нашей стране, сложившаяся с соблюдением правовых норм, плачевная.
«Неправильные» запреты унижают и подавляют личность, делают ребенка марионеткой, вынужденной быть послушной тем, кто будет дергать за ниточки. Опасность такого воспитания в том, что марионетке все равно, кто будет за эти ниточки дергать: вы со своей пропагандой «разумного, доброго, вечного» или предводитель уличной шпаны, утверждающий, что ограбить случайного прохожего – это круто.
Кроме того, существует определенная разница и между правилами и ограничениями. Правила регулируют, регламентируют нашу жизнь, подсказывают, что, как и когда сделать правильно. Ограничения же говорят о том, чего делать нельзя. Именно поэтому многие стремятся их нарушить – из чисто детского чувства протеста против попыток сузить рамки нашей свободы и желания проверить, как далеко можно зайти. В норме дети переживают этот период в три года, а затем – лет в тринадцать, но некоторые могут застрять в этой фазе на всю жизнь.
Чтобы эффективно применять правила в жизни семьи, привить детям сознание их обязательности и даже необходимости, вы можете на семейном совете создать и написать (так нагляднее) собственный «семейный кодекс», предусматривающий правила для ВСЕХ: умываться и чистить зубы каждое утро; заниматься спортом; предупреждать, если задерживаетесь или опаздываете; не повышать друг на друга голос и не поднимать руку; уважать труд и собственность других членов семьи (то есть, к примеру, не топать грязными ботинками по свежевымытому мамой полу, не выбрасывать солдатиков младшего братишки, не ставить чашку с чаем на папины бумаги).
И помните несколько секретов: правила обязательны к исполнению, иначе правилами они быть перестают. Правила едины для всех, иначе они теряют смысл. Правил не должно быть великое множество – вы просто в них запутаетесь: в первую очередь определите приоритетные для себя моменты. За их нарушение предусмотрено наказание, иначе они не работают. А еще ребенок быстро растет, и ваш «свод законов» придется периодически пересматривать. Это не каменные скрижали, на которых нечто выбито раз и навсегда: что-то будет нуждаться в доработке, что-то – в переделке, что-то – в дополнении, а что-то можно будет отменить – по мере взросления сына или дочери.
Ну а с целью сделать конструктивными и эффективными наши запреты психологи традиционно рекомендуют разделить их по «цветовым зонам» – словно по цветам светофора.
Красный свет – это «железный запрет» на все, что недопустимо категорически, ни при каких обстоятельствах: обижать маленьких, унижать стариков, мучить животных, ругаться матом, не ночевать дома – в каждой семье список получится свой, но в любом случае он должен быть существенно короче списков из «желтой» и тем более «зеленой» зоны.
Желтый цвет символизирует вариативность решений – сюда относится все то, что обычно запрещено, но иногда возможно. К примеру, девочке, занимающейся гимнастикой, нельзя сладкого, но в собственный день рождения, безусловно, можно сделать исключение из правил; подростку нельзя являться домой позже десяти вечера – но если случилось что-то внеплановое и ребенок позвонил домой, предупредив, не стоит его наказывать. В «желтый сектор» можно отнести и все то, что решается коллегиально, на семейном совете, а не лично ребенком: взять ли в дом кем-то брошенного котенка, сколько денег выделяется на карманные расходы, когда возвращаться домой с прогулок, ехать ли на дачу к друзьям с ночевкой и т. д.
А вот в зеленый сектор стоит отнести все то, что ваши дети вправе решать самостоятельно. Этот круг наиболее широк, ведь чем свободнее доступ в большой мир, тем слабее, образно говоря, желание сорваться с поводка. Доверие взрослит, и не оправдать его – переживание куда более сильное, чем страх наказания, если, конечно, атмосфера в вашей семье здоровая. Но если вам кажется, что все слишком запущено и доверием ваше чадо, скорее всего, злоупотребит, наиболее разумным будет посещение психолога всей семьей – не с целью «исправить» ребенка, а с целью наладить взаимоотношения всех ее членов.
Жестко контролируем
Тот, кто идет не в ногу, слышит другой барабан.
Кен Кизи. «Пролетая над гнездом кукушки».
Для некоторых родителей актуальны не столько запреты, сколько стремление непрерывно «держать руку на пульсе», быть в курсе малейших нюансов жизни ребенка и по возможности контролировать решительно все, что с ним происходит.
Тем самым в своем сознании они создают иллюзию собственного всемогущества: ведь думать, что проконтролировать можно все, могут лишь боги – ну и те, кто себя к ним причисляет.
На самом же деле стремление к тотальному контролю – свидетельство наличия у нас страхов (так мы пытаемся защититься от опасностей) и нашей слабости (так мы чувствуем себя уверенней и значимей).
Кроме того, желание контролировать – это оборотная сторона одиночества, опасения, что ты не нужен, не важен: ведь контролирующий родитель всегда при деле, без него ни один винтик не сдвинется, ничто не будет сделано «как надо», «никто и пальцем не пошевелит» – словом, он дирижер семейного оркестра, без которого все будут играть не в лад, по крайней мере, сам он в этом уверен. Нет, он не пробовал дать членам своей семьи шанс научиться жить без контроля и напоминаний. Он заранее уверен (а на самом деле – боится!), что у них ничего не получится, поэтому сам все решает за всех.
Правда, принятая однажды роль контролера приводит к тому, что окружающие либо вообще теряют всякую самостоятельность, либо, что чаще, активно или по-тихому протестуют. «Если я не проконтролирую, в этом доме не будет сделано ничего!» – такая горькая фраза говорит о том, что это «ничего» нужно в первую очередь «контролеру», а никак не его окружению. Когда ребенку холодно, он и сам шапку не снимет, но когда на улице температура +10, а его «пасут» от дома до самой школы, чтобы не снял шапочку и не простудился, он будет в ярости (ну или схитрит – «забудет» ненавистный предмет одежды в раздевалке). Когда старший сын голоден, он, если не безрукий инвалид, в состоянии приготовить, разогреть (или хотя бы купить) себе дежурное блюдо сам. Звонить ему с работы каждые полчаса с вопросами: «Ты поел? Ты все нашел?» – означает, что вы приравниваете его к умственно отсталому, который не в состоянии обеспечить собственные элементарные нужды. Имейте в виду, что спустя пару лет дети не просто отучатся действовать самостоятельно, но еще и начнут обвинять вас в том, что о чем-то не напомнили, что-то не проверили… По собственной инициативе перекладывая на себя ответственность за жизнь других, вы учите их снимать с себя эту самую ответственность всеми правдами и неправдами.
«Контролеры» не прилетают к нам с других планет – они вырастают либо в семьях, где был принят такой же жесткий контроль, где необходимо было отчитываться за каждый шаг и оправдывать каждое свое действие, либо в семьях, где родители были людьми чрезмерно спонтанными, необязательными, непоследовательными и непредсказуемыми – и ребенок так устал от этого, что в свою взрослую жизнь перетащить такой сценарий был просто не в состоянии (как порой вырастают абсолютными, убежденными трезвенниками дети алкоголиков). В обоих случаях под маской контроля прячется страх – утратить свою независимость (в первом случае) или же утонуть в хаосе (во втором).
А еще такой стиль жизни становится присущ тем, для кого собственная халатность или недосмотр стали причиной серьезных проблем или даже трагедии. К примеру, гиперконтролирующей может вырасти старшая сестра, по недосмотру которой однажды потерялась и заблудилась младшая, мама, у которой погиб или был тяжело травмирован первый ребенок – словом, обжегшись на молоке, люди дуют и на воду, пытаясь избежать опасности повторения беды. А значит, опять за контролем стоят страхи.
Итак, как ни крути, контроль – это всегда страх. Страх перед изменчивым, непредсказуемым миром, который держит нас в напряжении всю жизнь – ведь в любой момент все может измениться и пойти не тем путем, который мы считаем единственно правильным. По этой причине «контролерам» очень тяжело жить, их жизнь – сплошной стресс.
«Контролеры» не гибки, им трудно заставить себя пойти на компромисс и допустить, что все может происходить не только так, как хочется им, но и как-то по-другому. Причем не все в жизни полярно и черно-бело, не всегда «не по-моему» означает «неправильно», и более того, иногда жизнь подкидывает такие задачки, где нет вариантов «правильно-неправильно» вообще – есть просто разные пути решения. Но мыслить такими категориями «контролеры» отказываются, это просто не умещается в их голове.
ПОМНИТЕ: постоянно контролируя ребенка, мы непрерывно напоминаем ему, как мало ему доверяем, а еще о том, что он – всегда маленький и несмышленый в наших глазах. Одних это оскорбляет, другие же вживаются в роль инфантильного дитяти и не вырастают из нее никогда. То, что доставляет вам удовольствие, пока ребенку три года или тринадцать, будет дико раздражать, когда сыну или дочери стукнет уже тридцать три: все води за ручку, как маленьких!
Однако нельзя сказать, что контроль не нужен. На самом деле контроль – это показатель зрелости личности, умение обуздывать свои желания, расставлять приоритеты, считаться с интересами других, следовать своим решениям и доводить до конца начатое. Пока самоконтроль у ребенка не сформирован, родителям приходится брать эту функцию на себя. Все дело – в дозах.
Отсутствие контроля вообще не менее пагубно и разлагающе действует на психику, но об этом мы поговорим позже. А гиперконтроль порой ведет к полному крушению идеалов и сильнейшим душевным потрясениям, когда жизнь вдруг подбрасывает испытание, наглядно демонстрирующее нам, насколько немногим на самом деле мы можем управлять: болезнь или смерть друзей и близких; развод после долгих лет брака, когда «ничто не предвещало»; нежданная любовь на склоне лет – из тех, что называют лебединой песнью; банкротство фирмы, где вы всю жизнь усердно работали; ограбление; авто– или авиакатастрофа, стихийное бедствие и даже внеплановая беременность – этот список можно продолжать и продолжать.
Итак, снова мы приходим к тому, что истина никогда не находится с краю (в мире полного хаоса или в мире попытки контролировать все) – она всегда посредине. Найти эту золотую середину и есть наша задача. Остается главный вопрос: как?
Если вы узнали черты «контролера» в себе, надо учиться отпускать вожжи, иначе жизнь окончательно превратится в нервотрепку, а вы сами в глазах окружающих – в задерганного невротика, который и сам не живет, и другим не дает (что в значительной степени соответствует реальному положению вещей).
Самое главное – осознать, что понимание гораздо ценнее подчинения, и порой человеку необходимо получить некий негативный, но собственный опыт, чтобы чему-то научиться. Так, дети родителей, пользующихся «поводками» (специальными шлеечками для контроля за детьми, которые учатся ходить, – чтоб не падали!), начинают ходить самостоятельно и уверенно позже других, и уж точно позже, чем сделали бы это сами без медвежьей услуги мам и пап. Ведь подобная «помощь» лишает ребенка опыта самостоятельного владения телом, умения подниматься после падения, умения рассчитывать и контролировать движения.
Дети, выросшие в манеже, как правило, нелюбопытны и нелюбознательны, у них отсутствует интерес к познанию мира – его «убили» уже в возрасте до года.
Дети, каждое домашнее задание которых проверяется, не умеют работать самостоятельно и в классе показывают результаты хуже, чем дома.
Дети, каждое действие которых контролируется, быстро учатся врать и притворяться такими, какими их хотят видеть, чтобы избежать вмешательства в личное пространство.
Научитесь отпускать!
• Определите этапы жизни своего ребенка (грудничок, дошкольник, младший школьник, подросток) и те границы, которые вы отводите для него.
• Пересмотрите их с точки зрения того, не ущемляют ли они возможности развития, а главное, для кого они удобны (только честно!) – для вас или для ребенка?
• Хвалите за удачно проявленную самостоятельность, а не пилите за ее отсутствие – поверьте, это эффективнее.
• А чтобы было за что хвалить – дайте ребенку получить собственный опыт в той сфере, которая безопасна для жизни. Понятно, что глупо и безответственно было бы выпускать его на шоссе, чтобы он усвоил, что там опасно. Но дать возможность побродить по лужам (в резиновых сапогах, к примеру), пособирать каштаны или камушки (руки потом можно просто помыть), вернуться из школы домой самостоятельно (в век мобильных телефонов он точно не потеряется), покататься на велике или на роликах без вашей физической и моральной поддержки, приготовить своими руками ужин или пирог – просто попробуйте!
• Умейте дослушать до конца, когда дети делятся с вами своими секретами, рассказывают о том, что с ними произошло. Если вы сразу начинаете обвинять в глупости и безалаберности, если на середине фразы перебиваете советами на тему «как на самом деле надо было» – больше вам ничего не расскажут, и ваша тревожность только увеличится, а значит, возрастет напряженность в отношениях и стена между вами и детьми укрепится.
• Контролируйте себя, а не других. Мы способны управлять своими действиями, мыслями и поступками, но в отношении остальных можем только надеяться на взаимопонимание, иначе рискуем жестоко разочароваться.
• Не пытайтесь «влезть в голову» сына или дочери. Попытка контролировать действия может быть и во благо, и во зло, но попытка контролировать мысли, заставить «думай как я» – это всегда от лукавого.
• Вспомните свое детство и собственные ощущения, когда вам казалось, что вы перед родителями, как на рентгене. Это теперь вы считаете, что все правильно. А как было тогда? Только честно!
Обращаем внимание только на плохое
Да, я учился на своих ошибках и, уверен, могу повторить их с блеском.
Джонатан Коу. «Круг замкнулся».
Случается, что родители практически не обращают внимания на собственного ребенка, пока он ведет себя хорошо. Не мешает – и слава богу. Но стоит ему вытворить НЕЧТО – и на его буйную головушку обрушивается шквал долгожданного родительского внимания.
Что происходит в этом случае?
Вы лишаете ребенка смысла вести себя хорошо. Подумайте сами: родительское внимание – самая большая ценность на свете (по крайней мере, для дошкольника – точно), но награждаются им не хорошие поступки, а плохие. Следовательно, чтобы родители наконец отвлеклись от телевизора, компьютера, работы и переговоров по телефону, нужно сделать бяку, желательно крупную.
В случае, если вы подмечаете в первую очередь недостатки своих детей, а не достоинства, высказываете главным образом претензии, у них нет причин стараться ради вас: ведь это все равно бесполезно, вы не заметите и не оцените.
Чтобы понять, ваша ли это проблема, постарайтесь в течение одного дня записать все фразы, адресованные вами ребенку Если, помимо бытовых моментов, львиную их долю будут составлять замечания, вам необходимо кардинально пересмотреть свою воспитательную позицию.
Ниже мы еще поговорим о том, как сильно портит ребенка обилие похвал и сиропа в отношениях, однако отсутствие добрых слов вообще – еще хуже: это полностью лишает мотивации, а значит, дает ребенку разрешение вести себя как ему вздумается.
ПОМНИТЕ: никто из нас не рождается совершенным. Дети – вообще чистый лист, и лишь от нас зависит, что будет написано на нем. Поэтому если вам не нравится «картинка», подумайте, с кого и кем она написана.
Как бы ни возмущало вас поведение сына или дочери – дайте им шанс с вашей помощью стать умнее и лучше, а значит, хвалите за любой шаг, сделанный ребенком в верном направлении.
Правда, здесь есть один подвох: невозможно поощрить поведение, которого не бывает. Нельзя похвалой подкрепить самостоятельную работу над домашними заданиями, если этого не происходит никогда; невозможно поощрить интерес к учебе или к чтению, если его нет; нереально похвалить за помощь по дому, если ее не дождешься. Так что для того, чтобы появилась возможность положительными эмоциями подкрепить желаемое, моделируйте и провоцируйте ситуации успеха: попросите учителя дать индивидуальное творческое задание, за которое будет обещан щедрый бонус; расскажите в форме приключенческой истории главу из учебника; пожалуйтесь на плохое самочувствие и позвольте себе без сил свалиться на диван в конце тяжелой рабочей недели, обязав ребенка приготовить ужин: есть захочет – сделает!
Обращайтесь с ребенком так, будто перемены к лучшему уже наступили. Ребенок неспортивен и неуклюж? Не ерничайте по этому поводу, а пойдите вместе в турпоход с хорошей компанией, где он на практике поймет, почему и для чего нужно быть ловким, сильным и выносливым; подарите ему шустрого и активного щенка, который так или иначе заставит его много двигаться, причем на свежем воздухе.
А справившись со своими «не могу и не хочу», сделав то, что раньше казалось просто невозможным, ребенок будет очень горд собой и, скорее всего, захочет повторить достижение – особенно если вы его наконец заметите и одобрите.
Даже самые вредные девчонки и самые противные мальчишки на самом деле очень хотят быть хорошими и любимыми. Поэтому если продемонстрировать наглядно, что значит быть хорошим по вашей системе ценностей, убедить в том, что вы уверены: ребенок справится – он будет тянуться изо всех сил, чтобы оправдать доверие.
Если трехлетнего ребенка похвалить за самостоятельность и умение одеваться – он за пару дней освоит даже нелегкий навык натягивания колготок. Если двенадцатилетнюю девочку похвалить за хозяйственность и высказать предположение, что она способна даже пожарить картошку и сварить бульон – она это сделает не хуже бабушки или старшей сестры, чтобы доказать вам, как вы правы! Если назвать сына-школьника при гостях «самым ответственным членом семьи», он единственный не забудет наутро купить корм кошке и вынести мусор. И если вам хочется закрепить успех и сделать так, чтобы эти обязанности остались за ребенком, не скупитесь на добрые слова: отмечайте и выделяйте все то хорошее (даже его слабые росточки), что вам хотелось бы развить в сыне или дочери.
Делайте щедрые авансы, будьте уверены, что у детей все получится – и тогда шансы вырастают в разы, ведь когда в тебя верят, это окрыляет!
Игнорируем детей и их потребности
Убить тех, кого любишь, это не самое страшное. Есть вещи страшнее. Например, безучастно стоять в стороне, пока их убиват мир. Просто читать газету. Так чаще всего и бывает…
Чак Паланик. «Колыбельная».
Еще один пагубный сценарий детско-родительских отношений – гипопротекция. Это такая ситуация, когда родитель к ребенку не чувствует ничего. Ни злобы, ни раздражения – это плюс, но ведь и радости, приязни – тоже никакой.
И вот это НИЧЕГО оказывается пострашней и рукоприкладства, и криков, и запугиваний, потому что когда к тебе относятся так, будто тебя нет, то хочется, чтобы действительно не было…
Так случается, если родители слишком инфантильны, слишком заняты собой и своими проблемами, слишком эгоистичны – но в любом случае нередко это действительно приводит к катастрофе. Пытаясь каким угодно способом привлечь внимание мамы и папы, ребенок может перепробовать все на свете: от роли «идеального» – до воровства, хулиганства, алкоголизма и приводов в милицию. Надо понимать, что в данном случае любые асоциальные проявления, любая агрессия, направленная как на других, так и на себя, на самом деле не что иное, как крик о помощи: «не любите меня хорошим – так заметьте хотя бы плохим, почувствуйте, что я вообще СУЩЕСТВУЮ!»
Увы, родители, которым наплевать на ребенка, практически никогда не бывают столь чутки, чтобы уловить и прочесть это скрытое послание. Именно поэтому дети из равнодушных, эмоционально холодных семей (пусть внешне и финансово совершенно «благополучных») находят приют в плохих компаниях: не дождавшись дома тепла и понимания, они «летят туда, где принимают» – на улицу, ведь там рады всем.
Однако есть и трагический вариант развязки: нередко эти девчонки и мальчишки прибегают к самоубийству как к последнему шансу обратить на себя внимание.
ПОМНИТЕ: главные потребности детей – не еда, одежда и крыша над головой (хотя и это тоже важно, ведь это базовые потребности, необходимые для выживания).
Но для настоящей, полноценной жизни ребенку нужны забота, внимание, теплое и доброе отношение, понимание и приятие.
Без этого любой ребенок зачахнет, как цветок без воды.
Разве есть в жизни что-либо более прекрасное, чем поиск ответов на вопросы?
Айзек Азимов. «Прелюдия к Академии».
Еще одна острая потребность ребенка – информационная.
Как известно, малыши (да и те, кто постарше) просто обожают задавать вопросы. В пять лет с их помощью они изучают, как устроен мир, в пятнадцать – преимущественно как устроены души и мозги родителей, друзей и всего «ближнего круга».
И не дай вам бог отмахиваться от этих вопросов, отделываться банальностями типа «подрастешь – узнаешь» или давать ответы «от балды», наобум.
Убив любознательность в трехлетнем ребенке, вы и рады бы ее воскресить в тринадцатилетнем подростке, но поздно – у вас уже растет человек, которому ничего не интересно и ничего не нужно. А оставляя без внимания вопросы старшего ребенка, вы сами создаете стену между ним и собой, словно щелкаете по носу: «Не лезь, отстань, надоел!» Очень быстро ребенок перестает вам надоедать – но и вам до него уже не достучаться.
Приучив ребенка к неточности формулировок и к собственной необязательности и некомпетентности, вы получите точную свою копию, которая очень вам не понравится, будучи гротескно преувеличена пубертатным периодом.
Кроме того, убедив подобным поведением ребенка в том, что родители «все равно ничего не знают», вы уроните собственный авторитет до минимально возможной планки, и придется очень постараться поднять его с глубин в случае необходимости.
А главное, не получив желаемого дома, ребенок будет удовлетворять свой интерес в других местах: у друзей во дворе, на случайных сайтах в Интернете – и кто знает, какая именно информация осядет в результате в его голове.
Так что не ленитесь отвечать на вопросы, найдите на них время даже в случае жесткого цейтнота. И пусть первоначально вы не готовы дать доступный и правильный ответ на какой-либо вопрос, – не бойтесь сказать об этом и обязательно назначить время, когда подготовитесь и сможете удовлетворить любопытство.
Отвечая на детские вопросы, помните три правила:
• Будьте терпеливы – важно уметь дослушать до конца и дать понятный и исчерпывающий ответ.
• Будьте искренни и честны, даже когда ребенок спрашивает вас, получали ли вы в детстве двойки от учителей и подзатыльники от собственных родителей (имейте в виду, они всегда могут навести справки у бабушек и дедушек).
• Будьте ненавязчивы: отвечайте только на те вопросы, которые заданы, ведь «наполняя» ребенка информацией, которую он не запрашивал (а значит, которая пока для него неактуальна), мы глушим его умение и желание задавать вопросы и притупляем сообразительность, так как даем готовые ответы, хотя могли бы вместо этого дать шанс подумать самому: радость открытия, как ни крути, сильнее радости от просто познания.
Когда ребенок о чем-нибудь спрашивает, Джек, ради всего святого, не увиливай, а отвечай. Дети есть дети, но они замечают увертки не хуже взрослых, и всякая увертка только сбивает их с толку.
Харпер Ли. «Убить пересмешника».
Ну и, конечно же, ребенку обязательно нужно полноценное общение с вами даже в конфликтной ситуации, то есть всегда необходима обратная связь.
Выше мы уже говорили о том, что порой родители перестают разговаривать с детьми в качестве наказания за проступок.
Наказание это очень сильное, чувствительное, оно роняет самооценку и, по сути, является эмоциональным шантажом.
В перспективе лишение общения, наказание холодностью, «игнором» и демонстративной неприязнью всегда существенно нарушает отношения родителей и детей, поселяет в них страх и тревожность, ожидание худшего и неверие в то, что тебя искренне любят (раз готовы в критический момент отвернуться). Они способствуют отчуждению и охлаждению, углубляют трещину, зародившуюся однажды от непонимания или обиды, до размеров крепостного рва, который не перейти; а главное, так глубоко «въедаются» в сознание, что передаются затем из поколения в поколение как семейный сценарий.
Из дома, где царит эмоциональный холод, хочется сбежать, как из дворца Снежной королевы. Оглянитесь вокруг – неужели таким воспринимается и ваш дом?
Нет? Чудесно, это значит, что вашему ребенку с вами повезло.
Нелюбовь: остужаем холодным отношением
– А где же люди? – вновь заговорил наконец Маленький принц. – В пустыне все-таки одиноко…
– Среди людей тоже одиноко, – заметила змея.
Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц».
Однако бывает, что в семье случается самое худшее: ребенка не наказывают, не игнорируют даже – его просто не любят. А порой и не просто не любят, а отчаянно ненавидят – иногда боясь себе в этом признаться, а иногда и совершенно открыто.
Отвергают своего ребенка (тайно или явно) по разным причинам. Это может быть нежеланная (в особенности в случае насилия) беременность; сложные и травматичные для матери роды, стоившие ей здоровья; расставание с отцом ребенка после рождения малыша; появление на свет ребенка «не такого», как ждали – больного, другого пола, чересчур похожего на нелюбимого супруга или родственника (из тех, кого считают позором семьи). Во всех этих случаях малыш может быть воспринят родителями как плохой, неприятный, его заранее будут считать будущим негодяем или неудачником, от него не ждут ничего хорошего.
О любви и ласке речь даже не идет – в лучшем случае ребенка просто терпят.
Чаще всего его воспитывают по сценарию «Золушки» – он является «отбросом» в семье, ему достается все самое худшее, а внимания не достается совсем.
Родители (или один из них, чаще мать) считают сына или дочку помехой в реализации своих планов (работа, карьера, образование, красота, здоровье, новый брак или сохранение имеющегося).
Не всегда все так просто и лежит на поверхности: современные родители, в отличие от времен Шарля Перро, отдают себя отчет, что в нашем детоцентристском обществе нелюбовь к ребенку социумом не одобряется, поэтому отвержение не проявляется явно и демонстративно, но признаки его бывают заметны даже постороннему человеку практически всегда – и уж тем более их чутко улавливают дети.
В таких семьях ребенку постоянно напоминают, как много для него сделали и как много он сам должен сделать, чтобы оправдать вложенные в него силы и средства и компенсировать неудобства, связанные с его рождением на свет; его просвещают относительно того, сколь многим и существенным пожертвовали родители; нелюбимым детям непременно, но как бы вскользь, случайно сообщают, что «мама могла бы сделать аборт – и вся жизнь сложилась бы по-другому», – ну и т. д.
Тон, которым обращаются к ребенку, несет в себе отчетливо различимое послание: «Тебя не любят! Ты не нужен, ты мешаешь!»
Представьте, каково это: жить в отсутствии любви и ласки… Взрослому неуютно и хочется зябко поежиться, а что же можно сказать о маленьком ребенке, для которого родители – это буквально целая Вселенная? Вся личность ребенка строится из кирпичиков любви и добра, которые закладывают родители. Но если не вложено ничего из этого – и человека как такового нет…
Подобный семейный сценарий часто приводит к возникновению невротических расстройств и даже к отставанию в развитии (что лишь усугубляет ситуацию: больной ребенок еще большая обуза!).
Во время Второй мировой войны фашистами в концентрационных лагерях были проведены жестокие эксперименты, в ходе которых был обнаружен так называемый «эффект госпитализма». Впервые это понятие описал австро-американский психоаналитик Р. Спитс в 1945 г., исследовавший его причины, проявления и последствия у младенцев и детей, долго находившихся в больницах или, будучи разлученными с родителями, находились в лагерях, приютах и других «казенных домах». Согласно Спитсу, госпитализм проявляется как замедление психического и физического развития. Наблюдается отставание в овладении своим телом и речью, низкий уровень адаптации к окружению, плохой иммунитет и т. д. Последствия госпитализма у детей являются долговременными и зачастую необратимыми, в тяжелых случаях он приводит к смерти. Явления госпитализма, по Р. Спитсу, возникают не только в заведениях, где уход за детьми и их воспитание осуществляются при полном или частичном отсутствии матери, но и в семьях, где матери не любят своих детей и практически не уделяют им внимания, в лучшем случае осуществляя только уход.
Если бы это действительно было вашей проблемой, вряд ли вы бы читали эту книгу. Но если имеете отношение к ребенку из такой семьи – включитесь в ситуацию, насколько позволяют силы, потому что любому человеку, особенно маленькому, как воздух необходимо ощущение, что он кому-то нужен и любим. Этим, возможно, вы спасете жизнь этого ребенка – в прямом или переносном смысле.
Однако все может сложиться еще хуже – речь идет о случаях жестокого обращения с детьми. Это ситуации, когда эмоциональное отвержение проявляется открыто и беззастенчиво, воспитание построено на телесных наказаниях, моральном давлении, унижениях и издевательствах, и целью таких «воспитательных мер» является не столько коррекция плохого поведения, сколько стремление «поставить на место», сделать больно в том или ином смысле: избить, отобрать и выбросить любимую игрушку, заставить унижаться и просить прощения ценой каких-либо жертв.
Не часто встречается такое отношение со стороны обоих родителей, как правило, нелюбимым ребенок оказывается только одного из них. Однако достаточно и этого, ведь если подавляющий родитель властен и агрессивен, то второй вряд ли сумеет исправить ситуацию.
Перспективы детей в таких семьях безрадостны, хотя многое зависит от крепости нервной системы ребенка и окружения, которое способно (или, увы, неспособно) компенсировать ему хотя бы отчасти такое отношение со стороны отца и матери: ведь даже самые забитые и позабытые дети порой находят поддержку, тепло и утешение у доброй соседки или учителя, которые воспитывают и вкладывают в них больше, чем родные. Ну а если найти такую добрую душу не повезет, нелюбимый, отвергаемый ребенок с очень большой вероятностью вырастет агрессивным и недобрым: подобное рождает подобное.
Если вдруг после прочтения этих строк вы осознали, что нечто отдаленно похожее имеет место в вашей жизни, если вы понимаете, что что-то очень глубинное и очень существенное нарушено в вашем сознании, в вашем отношении к ребенку – следует обязательно обратиться за психологической помощью. Самоанализ – это еще не все, и даже понимание причин не способно переломить ситуацию: вам придется серьезно перекраивать свою картину мира, и без помощи специалистов вы вряд ли справитесь с этим самостоятельно.
Вам будет необходимо научиться двум вещам.
Первая из них – понимание того факта, что не бывает «любви с условием»: я любил/любила бы тебя, если бы ты был… (умнее, красивее, мальчиком или девочкой), если бы ты родился… (раньше, позже, от другого отца) и т. д. Ребенок не просил вас дарить ему жизнь и приводить его на этот свет, и единственное, чего он ждет от вас, раз уж ему случилось родиться, – это любви.
Вторая вещь – это приучение себя к этому чувству по системе Станиславского, как актеры вживаются в роль. Говорите почаще: «Я тебя люблю», «Я тебе так рада!», «Я счастлива, что ты у меня есть». Обнимайте ребенка как можно чаще, не бойтесь целовать его и ласкать – этим вы не испортите его, напротив!
Пройдя терапию у психолога, разобравшись в истоках своих чувств и научившись с ними справляться, вам будет легче решиться на это. Главное, что тормозит родителей в подобных ситуациях, – чувство вины: «Все уже так испорчено, что ничем и никогда не исправить…» На самом деле дети прощают нам очень многое, гораздо больше, чем мы этого достойны, и даже матерей, оставивших своих малышей в детдоме, повзрослевшие дети порой продолжают любить (сквозь злость и обиду – и тем не менее).
Так что если намерения исправить ситуацию искренние, стоит постараться.
Растопив лед отчужденности, вы получите такой водопад признательности, на который не могли и рассчитывать, и «терапия любовью» после многих лет неприятия может совершить чудеса с любым самым забитым и запущенным человеческим существом – если, конечно, оно еще способно вам поверить.
Очень рекомендую посмотреть фильм «Искусственный разум» Стивена Спилберга. Главной темой в нем являются непростые взаимоотношения матери и ее приемного, «не настоящего» ребенка, проходящие весь спектр эмоций: от неумения выражать свои чувства – до страха и даже ненависти, от отчуждения – до отчаянно-пронзительной любви. Однако для осознания того, что любовь эта все же возможна и существует, нужно было потерять все…
Глава 2
Коллекция поощрений
Сейчас вы, вполне возможно, думаете, что эта глава попала сюда по недоразумению: ведь поощрения – это, наоборот, хорошо, а кашу маслом, как известно, не испортишь!
Однако не все так просто…
Переборщить можно с чем угодно: и с негативом, и с позитивом. И на поверку выясняется: неизвестно, что влияет на характер более пагубно – передозировка строгости или попустительства, холодности или чрезмерной, слепой любви.
Ошибаемся мы и с похвалами, и с подарками, и с опекой, и с досугом – и в основном проблема заключается в том, что всего этого мы даем ребенку излишне много.
Как же найти баланс? Как научиться любить, не душа в объятиях?
Здесь на все эти вопросы мы постараемся найти ответы вместе.
Кто похвалит меня лучше всех?
Хочешь критиковать – сначала похвали, болван.
«Обыкновенное чудо» – фильм Марка Захарова по пьесе Евгения Шварца.
Похвала – один из наиболее мощных и действенных воспитательных приемов, она, словно живительный бальзам, может творить с детской душой чудеса.
Это в буквальном смысле двигатель прогресса, поскольку доброе слово способно сдвинуть в правильном направлении даже самых «отпетых».
Кажется, чего уж проще – похвалить ребенка. Однако, если подумать, выясняется, что хвалить надо уметь, а еще надо хорошо понимать, каких ошибок не следует допускать при этом.
Первая ошибка – злоупотребление похвалой. Когда мы хвалим ребенка слишком часто, когда буквально каждый его шаг и чих сопровождается восхищенными возгласами и комплиментами – похвала обесценивается. Даже самый вкусный торт, который можно есть ежедневно и без ограничений, быстро превращается из любимого лакомства в дежурное блюдо, от которого – никакой радости. Когда «поглаживания» получить слишком легко, их ценность значительно снижается.
Злоупотребляют похвалами обычно родители, души в своем чаде не чающие. Умиляет их в ребенке решительно все, и своих чувств они не скрывают. Но весь фокус в том, что, если одинаково легко получить похвалу и за будничные вещи, и за значимые поступки, мало кто станет напрягаться и стремиться к тому, чтобы порадовать родителей сильнее: те и так пребывают в круглосуточной эйфории от своего чада.
Вторая ошибка – это хвалить слишком редко. В отличие от предыдущего сценария, скупые на похвалу родители слова доброго не скажут, как бы ребенок ни отличился. Они считают, что любые достижения сына или дочери в порядке вещей, они для того и родились, чтобы стараться изо всех сил. На самом деле ребенок выкладывается в первую очередь именно для мамы и папы, ожидая увидеть на их лице хотя бы одобрительную улыбку: участвует в спортивных соревнованиях, побеждает на школьных олимпиадах…
Чтобы получить отдаленное представление о том, как подобную ситуацию воспринимает ребенок, попробуйте представить свои чувства от поведения авторитетного и уважаемого шефа, который, как бы усердно вы ни работали, не повышал бы зарплату, не награждал премиями, не устраивал бы праздников для коллектива и даже простое «спасибо» цедил бы сквозь зубы? Верно, первым пропало бы желание работать, а следом за ним – и уважение к начальнику. В точности то же самое происходит и с ребенком – у него постепенно пропадает стимул для хорошего поведения и достижений. Причем родители еще и приговаривают: «Да за что его хвалить-то? Все равно никогда ничего хорошего не делает». Однако парадокс в том, что у таких скупых на похвалу родителей вырастают порой и очень старательные дети: те, которым все не верится, что родители не отметят ни одной из побед, и все время кажется, что, наверное, все дело в том, что победы недостаточно значимы. Чуть ли не всю жизнь они стоят на цыпочках, стараясь дотянуться до высоченной родительской планки, но она, словно линия горизонта, на самом деле недостижима. Ведь дело не в ребенке, а в родительских особенностях: в заблуждениях о том, что похвалой можно испортить; в эмоциональной холодности, в чрезмерной требовательности, в унаследованном от собственных родителей поведенческом сценарии.
Третья ошибка – это похвала уничижительная, которая и звучит-то как оскорбление. Думаю, все мы хоть раз в жизни слышали (хорошо, если не в свой адрес) нечто вроде: «Ну ведь можешь же, если захочешь, балбес!» или «В кои-то веки даже ты стал похож на нормального человека!» Хочется верить, что читающие эту книгу понимают, как гадко звучат подобные «поощрения» и как коробит от них любого ребенка. Естественно, такие слова не вдохновляют на подвиги – напротив, от них становится горько. Ведь подлинный их смысл состоит не в похвале (пусть и коряво выраженной), а в том, что, несмотря на достижение, ребенка все равно считают недотепой. Так что, уважаемые мамы и папы, задумывайтесь над тем, что и как вы говорите, и – хотели бы вы услышать нечто подобное в свой адрес.
Последняя ошибка – похвала незаслуженная. Если вашему ребенку больше 5 лет, он уже вполне способен отличить заслуженное поощрение от случайно выпавшего на его долю. К примеру, если старшая сестра убрала игрушки за младшим братишкой, а похвалили его, он может даже отказаться от вкусной конфеты, предложенной в виде поощрения, – ведь он этого не заработал! Впрочем, если такие бонусы и «ошибки» случаются часто, – увы, ребенок привыкнет присваивать себе чужие заслуги.
Еще одной разновидностью незаслуженной похвалы является поощрение процесса, а не результата. К примеру, если ребенок без способностей к музыке, тем не менее, честно отбывает положенные часы в музыкальной школе, а дома усердно, но бесталанно барабанит гаммы, причем без особого удовольствия – странно было бы его за это хвалить и вообще каким-либо образом поощрять продолжение бесплодной траты усилий, которые он мог бы гораздо более продуктивно потратить на что-нибудь еще, к чему душа лежит и есть склонность. Если ребенок, приучаясь к горшку, получает похвалу не тогда, когда сделал свои дела куда положено, а за одно лишь намерение, то есть за факт высадки на пресловутую посудину, он очень долго будет осваивать сей предмет и бухаться на горшок по первому требованию, ожидая привычной похвалы, – но свои нужды справляя в штанишки, как только с горшка встанет.
Важно понять, что награждать одно лишь старание – значит поощрять отсутствие результата, награждать неуспех. Отмечая своим вниманием не тех, кто добивается цели, а тех, кто просто вкалывает, мы поощряем усердие, а не достижение, что не всегда хорошо. Ведь если усердие означает трудолюбие – один разговор, но если поощряется лишь «имитация бурной деятельности», это может закрепиться надолго уже как поведенческий стереотип.
Незаслуженно похвалить можно и в случае, если поощряем мы то, к чему ребенок не прикладывал усилий. К примеру, бессмысленно хвалить за красоту и за способности (и то и другое просто получено в дар от природы, а не «нажито непосильным трудом»). И как бы вам ни нравились эти особенности ребенка – восхищайтесь ими про себя или же отмечайте просто как факт, а не достижение.
Глупо хвалить ребенка и за то, что во время отсутствия родителей он не разнес дом: «Молодец, как хорошо себя вел – ничего не натворил!» Ведь если помощь по хозяйству или отличная учеба будут награждаться так же, как и НЕделание чего-либо: не нашкодил, ничего не сломал, не дразнил кошку, не подрался с сестренкой, – то кто станет напрягаться?
Сюда же можно отнести и похвалу за то, что ребенок «сделал все, как ему сказали»: если именно за это хвалить слишком часто, мы рискуем лишить ребенка самостоятельности. Ведь подтекст подобной похвалы таков: «Молодец, не проявил инициативу, сделал все по-моему».
Итак, теперь, когда мы с вами выполнили «работу над ошибками», давайте попробуем определиться: как же хвалить правильно?
Главных правил здесь всего четыре: похвала должна быть соответствующей ситуации, соразмерной достижениям, заслуженной и необидной.
Именно при выполнении этих условий похвала достигнет своей цели, то есть подвигнет ребенка стать еще лучше… А ведь мы именно этого и добивались, не так ли?
ВАЖНО ПОМНИТЬ: оттого, как мы хвалим своих детей, зависит их самооценка, и будет ли она завышенной, правильной или заниженной – определяете в первую очередь вы.
Заваливаем подарками
Мы добиваемся любви других, чтобы иметь лишний повод любить себя.
Дени Дидро
Когда мы очень сильно любим свое чадо, нам хочется давать ему, давать и еще раз давать – свое внимание, душу и, конечно же, все, что он попросит. Поэтому любвеобильные родители (а также бабушки и дедушки!) задаривают свое ненаглядное дитя, буквально заваливают его подарками – символами своей любви и расположения.
Однако за обилием подарков всегда стоит что-то еще.
Задаривание может быть компенсацией каких-то своих «прегрешений» перед детьми или внуками. К примеру, слишком много работающие родители таким образом пытаются – как правило, тщетно! – восполнить недостаток своего внимания.
Гиперщедрость может быть и попыткой «поднять свои акции» в глазах ребенка или остальных членов семьи, показать, как на самом деле нужно о нем заботиться и как вы буквально ничего для него не жалеете.
Задаривая ребенка, вы даете и себе самим повод гордиться собой. Особенно это важно в тех случаях, когда родители подсознательно чувствуют, что, кроме подарков, им нечего больше дать: слишком мало времени и души они способны вложить – а ведь на самом деле ребенку требуется именно это.
Обилие подарков может быть и оборотной стороной одиночества и ощущения ненужности: делая их, вам хотя бы таким образом удается «выбить» из ребенка благодарность или хотя бы ее внешнее подобие (так бывает с одинокими и не слишком любимыми бабушками и дедушками).
Подарки, наконец, могут быть даже подкупом: таким образом родные надеются добиться от ребенка хорошего поведения, то есть ответного дара. Одним из смыслов «рога изобилия» является желание поставить ребенка в позицию должника, надеясь на управляемость взамен (как правило, зря: напрасно рассчитывать на его ответную лояльность, ведь задариваемые дети быстро утрачивают чувство реальности и начинают считать, что покупки по первому требованию должны быть в порядке вещей – как говорится, «не стоит благодарности»).
Любой подарок на самом деле несет в себе частицу души дарителя, призван быть напоминанием о нем и связующим мостиком – так давайте же пользоваться этими волшебными достоинствами даров во благо, а не во зло.
Ведь «рог изобилия» может однажды иссякнуть: наш мир так нестабилен, что поручиться за свое финансовое благополучие в ближайшем обозримом будущем могут только супероптимисты.
Уверены ли вы, что ваше ненаглядное сокровище будет хорошо к вам относиться, что бы ни случилось, даже если вы будете являться домой без положенной игрушки или сладостей? Ведь приучив ребенка получать подарки по поводу и без, мы тем самым ставим под угрозу настоящие отношения – просто дружбу, просто приязнь, просто любовь – без подношений, в чистом виде. Не факт, что избалованное изобилием материальных выражений любви наше чадо сможет оценить нематериальные моменты счастья и тех людей, которые их предлагают.
Любовь к подношениям чрезвычайно живуча, и, вероятнее всего, этот стереотип потянется за подросшим «наследником» и в его взрослую жизнь. Именно такие ситуации порождают карикатурные типы женщин (а теперь уже и мужчин), требующих бонусы за любое проявление привязанности (фактически готовых продать свою любовь, выбирая не того, кто обладает какими-либо достоинствами, а всего лишь того, кто может платить больше). Как это называется, я не стану озвучивать – но, надеюсь, перспектива вдохновит вас пересмотреть свои позиции, если вы найдете в своей семье признаки того, что описывается в этой главе.
Как же на самом деле правильно делать подарки – так, чтобы не случилось «перебора», но и не скупясь?
Во-первых, запомнить: дело не в цене. Дело в том «закодированном послании», которое вы вкладываете в подарок, в том, насколько вы умеете его выбирать.
Так, лучшими подарками для детей, вопреки распространенному мнению, являются не сладости и модные игрушки, а те игры, которые могут чему-нибудь научить, развить какие-то способности, открыть новые горизонты.
В разы лучше даже самого помпезного торта или самого навороченного трансформера абонемент в бассейн или на теннисный корт, удочка, телескоп, поездка в какое-то интересное место.
Во-вторых, важно помнить правило Дейла Карнеги: рыбу ловят на червяка, а не на землянику со сливками, даже если вы ее очень любите.
Это значит – дарите ребенку те подарки, о которых мечтает он сам, а не те, которых в свое время не хватало вам, и потому до сих пор хочется.
Если у вас в детстве было мало игрушек, вы будете заваливать ребенка именно ими; если всегда хотелось сладостей, которые семья не могла себе позволить, теперь вы дадите наследнику возможность ни в чем себе не отказывать. Однако спросите себя: может, пора уже выйти из этой плоскости и попробовать дарить что-то еще?
Если мечтой вашего детства был огромный железнодорожный набор или большой набор «Лего» – перед тем как покупать эту махину, которая займет как минимум половину вашей гостиной, поинтересуйтесь у ребенка, а хочет ли он такой подарок сам? Вдруг его больше интересуют конструкторы или модели машин и самолетов? Если же вы этого не сделаете, велик риск, что полвечера чадо из вежливости просидит рядом с вами, наблюдая, как вы восхищенно возитесь с составными частями, бормоча при этом: «Сейчас, сейчас я тебе покажу – это же красота!», минут пять понаблюдает за объектом в действии – после чего утратит интерес к роскошному подарку навсегда, обидев вас до глубины души. А ведь на самом деле – на что обижаться? Вы реализовали свою несбывшуюся когда-то мечту, вот и радуйтесь. А ребенок имеет право мечтать о чем-то совсем другом.
В-третьих, подарок должен быть таким, чтобы нести только добро и радость, а не быть яблоком раздора.
То есть если бабушки-дедушки покупают ребенку ту игрушку, которую отказались купить родители, причем не по бедности, а из неких идейных соображений, такой подарок только внесет разлад в семью.
Если вы дарите мальчишке «сувенирную» рогатку или выделяете деньги на пистолет с пульками – не дерите его за уши, когда соседи придут жаловаться на подстреленного кота: вы сами спровоцировали эту ситуацию.
Если вы дарите одному из братьев редкую коллекционную машинку, а другому – отчего-то «просто конструктор», вы непременно инициируете если не ссору, то обиду (друг на друга или на вас – за несправедливость) – детям ведь все равно, что подарки одинаковы по цене: важно, что они различны по мальчишечьей ценности.
В-четвертых, избегайте чрезмерно дорогих подарков. Дети быстро все ломают – порой даже не из вредности или безалаберности, как полагают взрослые, а по причине, скажем, желания узнать, «как оно внутри устроено». Кроме того, маленький ребенок еще не способен «заценить крутизну» многотысячного презента, а вот остальные родные и близкие – вполне, и они неизбежно зададутся вопросом: для чего вы дарите именно такой подарок? Заявить о правах на главенство в семье? Продемонстрировать свою исключительность? Поставить на место тех, кто такого не может себе позволить?
В-пятых, не дарите ерунду. Лучше просто мороженое или кулек конфет, чем бесполезное дежурное «не пойми что» из ближайшего ларька, которому вы и сами не нашли бы применения, или даже дорогущее нечто из разряда «ни уму ни сердцу». В эту категорию относятся все подарки, которые не несут смысловой нагрузки, ничему не учат, не могут быть использованы в сколько-нибудь осмысленной сюжетно-ролевой игре. Все, что не развивает, не дает возможность ребенку увлечься, а не просто развлечься, лучше оставьте в магазине.
И последнее: не дарите детям деньги. Дошкольники и младшие школьники растратят подаренную сумму на мелочи, подростки же получат искушение попробовать освоить на эти деньги нечто такое, что раньше было недоступным, и не факт, что вам понравится их решение.
А главное, деньги в подарок демонстрируют, как мало вы озаботились выбором, красноречиво свидетельствуя о том, что вам лениво было поинтересоваться у ребенка, о чем он мечтает и чего ему не достает.
Подарочный сертификат в этом смысле может стать компромиссом в случае, если ни вы, ни ребенок действительно так и не пришли к определенному варианту на тему того, что ему хочется в подарок.
Платим за оценки и помощь по дому
– Деньги вперед! Утром – деньги, вечером – стулья или вечером – деньги, а утром – стулья.
– А может быть, сегодня – стулья, а завтра – деньги?
Илья Ильф, Евгений Петров. «Двенадцать стульев».
Есть категория родителей, которые считают финансовое поощрение нормальным и эффективным. Им кажется, что таким образом можно подвигнуть ребенка на трудовые подвиги дома и в школе.
В принципе, ход их мыслей можно понять: стимуляция рублем может сыграть роль морковки перед осликом: хочешь получить – иди вперед. Тем самым мы легально обеспечиваем удовлетворение финансовых запросов ребенка и ставим его в прямую зависимость от успешности учебы (ведь многие не только выдают денежные премии за успехи, но и штрафуют за плохие оценки или проступки) – свои карманные деньги ребенок зарабатывает, а не получает «просто так».
Тем не менее, этот подход имеет несколько «но».
Во-первых, основным критерием успешности сразу же становятся школьные отметки, а об их объективности и вообще о правильности такого подхода мы с вами уже говорили в главе о чрезмерных требованиях: акцент моментально перемещается со знаний на академическую успешность как таковую, что далеко не всегда одно и то же.
Во-вторых, девальвируется само понятие получения образования: ведь познание мира, получение знаний – это само по себе бесценно, и никакие дензнаки не должны двигать этот процесс – только внутренняя потребность в развитии. Если такой потребности нет, а есть лишь банальное стремление заработать, то, как только финансовый источник иссякнет, пропадет и рвение к учебе.
В-третьих, карманные деньги у ребенка школьного возраста, безусловно, должны быть. Без навыка обращения с собственными деньгами ему сложно научиться грамотно распределять и планировать свои расходы. Но ведь вы все равно выделяли бы ему некую сумму, не так ли? Так стоит ли ее привязывать непременно к внешним показателям школьных успехов?
Есть и еще одна причина, делающая путь оплаты получения знаний тупиковым: привыкнув с детства к материальному поощрению своих усилий, с большой вероятностью такой человек и свои профессиональные обязанности будет выполнять не из любви к профессии, а за взятки, хотя бы даже и символические, борзыми щенками.
Ну а что касается оплаты домашних обязанностей, то, делая такой «ход конем», мы снова одерживаем пиррову победу: пусть за определенную сумму ребенок будет готов пропылесосить или сходить за продуктами, но сможете ли вы после этого добиться от него помощи «задаром»? Оплачивая ему выполнение домашних обязанностей, мы тем самым убиваем в ребенке стремление помогать просто так, чтобы облегчить труд родителей, из желания сделать приятное или просто из интереса научиться чему-либо из «прикладных умений», чтобы быть самостоятельней. В наше время человечество слишком уж сосредоточилось на том, что мы – сапиенсы, человеки разумные, и совсем забыло, что нужно быть хотя бы немного еще и habilis, то есть людьми умелыми.
У премирования за помощь по хозяйству есть и еще один подвох: так мы приучаем сына или дочь ориентироваться только на конечный итог. К примеру, пообещав выплачивать ребенку еженедельную премию за уборку своей комнаты, вы можете столкнуться с тем, что чистоту вы сможете наблюдать только в условленный «расчетный день», хотя в течение недели там будет беспорядок.
Существенным минусом финансовых отношений с ребенком является еще и то, что они порой разрушают нормальные отношения с родственниками. Оплачивая, к примеру, старшему ребенку время, когда он выполняет обязанности «няньки», оставшись с младшим, или же выплачивая премии за уход за старенькой бабушкой, вы провоцируете ситуацию, когда подросток может начать воспринимать членов своей семьи не как близких людей, а как некие источники дохода, как объекты деловых интересов, что, согласитесь, родственные узы не укрепляет.
Чтобы прочувствовать всю нелепость финансирования реализации естественной (по идее) потребности развиваться и узнавать новое или же нормальной в семье взаимопомощи, всякий раз, когда вы пытаетесь заплатить ребенку за это, подумайте, как выглядело бы, если бы муж или жена платили вам за каждый эпизод выполненного «супружеского долга», за приготовленный домашний ужин, за починку мебели или сантехники…
Однако совсем без материальных поощрений тоже не получится: мы вполне можем презентовать ребенку поездку в интересное место или оплатить исполнение какой-то его мечты по итогам учебного года, выделить некую денежную сумму для покупки того, что ребенок давно хотел, – то есть поощрить, подводя глобальные итоги за год или полугодие или же премировав за выдающиеся успехи вроде победы в предметной олимпиаде или в спортивных соревнованиях. Но сводить текущие результаты учебы к получению на руки дензнаков нельзя: это обесценивает саму идею образования, которое каждый из нас получает для себя, а не для родителей – и, конечно, не потому, что за это заплатят.
Усердно кормим
Мне ничего не надо. Только, может быть, гору шоколада, какой-нибудь торт огромный и пребольшой-большой кулек конфет – и все!..
«Малыш и Карлсон» – мультфильм Б. Степанцева по книге Астрид Линдгрен.
Проблемы лишнего веса, нездоровых пищевых привычек и плохого обмена веществ (со всеми сопутствующими заболеваниями) стали бичом современных детей.
Обилие высококалорийных сладостей, снеков, фаст-фуда и прочего пищевого мусора на прилавках магазинов и даже в школьных столовых, казалось бы, должно заставить нас хотя бы дома приложить все усилия для организации рационального питания ребенка – ведь от этого, в конце концов, зависит его здоровье и, как следствие, во многом и дальнейшая судьба.
Однако, вопреки всем законам здравого смысла, даже в нашем просвещенном XXI веке немалое количество родителей предпочитают качеству – количество, полезности – калорийность, сбалансированности – внешнюю атрибутику (оформление и популярность блюда).
Многие становятся в буквальном смысле жертвами рекламы, активно (я бы даже сказала – агрессивно) пропагандирующей сладкую газировку, меню а-ля Макдональдс и «пищу быстрого приготовления», напичканную разнообразными химическими добавками для усиления вкуса и длительности хранения.
На первый взгляд кажется, что лучшим выходом в деле сохранения здоровья наших детей и внуков было бы введение ограничений на применение этой «информационной атаки». Но на самом деле важнее не пытаться переделать мир глобально, а начинать с себя, формируя в своей семье правильные пищевые привычки, закладывая основы здорового пищевого поведения. Ведь детям не знакомы никакие вкусы, кроме тех, которые предлагают им родные, так что все зависит только от нас.
Все в буквальном смысле в наших руках, поэтому прививать детям полезные пищевые привычки нужно с рождения, ведь лучший пример – это личный пример. Бонус: мы и сами получим от этого выгоду: переход к здоровому питанию благотворно отразится на нашем обмене веществ и, как следствие, на весе, состоянии кожи, волос и ногтей, тонусе и самочувствии. Если все в семье едят здоровую пищу, то и ребенок, глядя на них, усвоит те же нормы.
Ведь перспективы злоупотребления «вредной» едой отнюдь не безобидны. К примеру, если вместо полезных меда, орехов и сухофруктов (которые не только вкусны, но и легко усваиваются и полностью перерабатываются организмом) семья употребляет высококалорийные сладости и мучные изделия (сдобу, печенье, тортики и конфеты), если количество мучного существенно превышает долю овощей и фруктов (в норме – наоборот) – ребенка в будущем ждет нарушение обмена веществ и ожирение. Подсчитайте, сколько калорий на самом деле тратят сын или дочка, много ли двигаются, занимаются ли спортом – и сопоставьте с количеством калорий, которые они поглощают ежедневно. Если пополнение калорий покрывает энергозатраты – все в порядке, но если существенно, с большим излишком превышает – надо понимать, что этот излишек осядет в организме ребенка и в перспективе заметно осложнит ему жизнь: нарушенный обмен провоцирует множество заболеваний, а излишняя полнота ограничивает возможности развития.
Если вместо картофеля, каш и вермишели твердых сортов родители предлагают детям пищевые суррогаты быстрого приготовления, – они формируют привычку употреблять блюда с усилителями вкуса, в результате чего нормальная, ничем не приправленная «домашняя» еда кажется куда менее вкусной, чем «искусственная», и ребенок будет предпочитать именно ее. Однако, помимо эффекта привыкания, усилители вкуса, входящие в состав фаст-фуда, в буквальном смысле отравляют организм, наполняют его шлаками и затрудняют усвоение пищи, приводя к гастритам и язвам. Если естественные напитки (вода, соки, морсы, квас, молочные напитки, чаи) заменяются на сладкую газировку, в детский организм тоже гарантированно попадают многочисленные химические добавки: красители, усилители вкуса, углекислота и сахар, которые вместе с токсикацией несут еще и лишние калории. Именно искусственный сахар (в отличие от природной фруктозы, содержащейся в натуральных соках) в этих напитках является одной из главных причин появления кариеса и лишнего веса, ведь дети любят сладости и выпивают «вкусной» водички очень много (подобные напитки не утоляют жажду, а, наоборот, возбуждают ее, поскольку слюна не может смыть подсластитель со слизистой полностью, во рту сохраняется приторный вкус, и в результате все время хочется пить).
– Поверь мне, не в пирогах счастье…
– Ты что, с ума сошел? А в чем же еще?
«Малыш и Карлсон» – мультфильм Б. Степанцева по книге Астрид Линдгрен.
Как же правильно организовать питание в доме, где есть ребенок?
Во-первых, есть то, что действительно нравится, что на самом деле вкусно, не давиться полуфабрикатами, не обманывать себя продуктами быстрого приготовления, а все же постараться приготовить то, что вы будете есть с наслаждением. Не стоит враждовать со своим организмом и заставлять поглощать всякую гадость только для «пополнения энергетического запаса» – наплевательское отношение к еде зачастую отражает аналогичное отношение к себе и своему здоровью. Надеюсь, вы не хотите закрепить этот стереотип в собственных детях? Тогда не ленитесь готовить вкусно, уважайте себя.
Во-вторых, есть всем вместе. Вы можете сто раз повторить, как правильно сидеть за столом, как держать нож и вилку, пользоваться салфеткой и красиво есть, но если сами вы глотаете дежурный бутерброд на бегу или утаскиваете свою тарелку к компьютеру, чтобы частично перенести потом ее содержимое на пальцы, мышку и клавиатуру – ребенок правил поведения за столом так и не усвоит. Помимо прочего, совместные обеды и ужины еще и сплачивают семью – когда еще у вечно занятых родителей найдется время сесть лицом друг к другу, поговорить о чем-то всем вместе! А еще неплохо бы всей семьей обсуждать меню: нужно делать акцент не только на пользе, но и на том, чтобы учитывались интересы и вкусы всех живущих в доме.
В-третьих, не делать культа из размеров порции. В нашей стране «хорошо» поесть – означает много поесть. «Ты плохо поел!» – кричит мама вдогонку убегающему из-за стола ребенку, имея в виду, что съел он не все предложенное. И почему-то не приходит в голову, что поел он, может быть, очень даже неплохо, если ему было при этом вкусно, сытно и красиво. Традиционно наши мамы и бабушки ставят в прямую зависимость детский аппетит и свое звание хорошей хозяйки и поэтому испытывают острое чувство вины и комплекс неполноценности, если ребенок ест немного.
Однако вспомните себя в детстве – на самом деле мало кто из нас наворачивал все, что дадут, за обе щеки. Были блюда любимые и нелюбимые. Были колебания аппетита в зависимости от самочувствия (да и сейчас вы, наверное, мало едите, если заболеваете и чувствуете себя неважно). Да и растут дети рывками, так что в одно время «топлива» нужно много, в другое – чересчур и привычная порция. А уж настроение! Сколько недоеденных обедов было выброшено именно из-за его отсутствия, сколько подзатыльников получено!
В-четвертых, не давить в себе гурманов! Не глотайте еду, как утки, распробуйте содержимое тарелки, попробуйте вкус, оцените аромат, насладитесь сервировкой (кстати, не поленитесь ее обеспечить) – и проговорите все это для ребенка, поделитесь впечатлениями, объясните, какие приправы дают аппетитный запах, как готовится блюдо, какова его история (если вы это знаете; а если нет – «гугл» вам в помощь: так в качестве приятного дополнения к обеду вы еще и расширите свой кругозор).
В-пятых, есть красиво! Учите ребенка пользоваться ножом и вилкой – это эстетично и пригодится ему в будущем. Красиво есть – это значит уважать тех, с кем вы оказываетесь за одним столом, и привить ребенку хорошие манеры было бы нелишним. Однако правильно вести себя за столом – это лишь один аспект данного правила; блюда тоже должны быть хотя бы минимально украшены, интересно декорированы (в любых кулинарных журналах и журналах для родителей есть масса советов о том, как выложить блюдо в виде домика, мордочки, смайлика, с глазками и и т. д.) – тогда ребенку и есть интереснее, и еда кажется вкуснее, а значит, меньше шансов, что кормление будет проходить с боем. Вспомните, как приятно, когда в ресторане вам подают красиво украшенное блюдо. Попробуйте и сами следовать этому правилу.
В-шестых, не быть консервативными. Пробуйте новые вкусы, новые сочетания, делайте меню разнообразным. Дети, конечно, консерваторы, но если есть на завтрак две недели подряд одни лишь оладушки или мюсли – потеряет аппетит кто угодно.
В-седьмых, не торговаться и не шантажировать едой. Как часто можно наблюдать картинку: дитя с завидной ловкостью уворачивается от ложки в маминых руках, отказываясь поглощать заботливо приготовленный полезный супчик. На какие только хитрости не идут бедные родители, чтобы накормить свое чадо! И самолетиком ложка летит, и всех зверей и кукол покормить приходится, и книжка со сказками идет в ход, и даже звонок папе применяется порой как тяжелая артиллерия: «Сейчас приедет с работы и накажет тебя!» А сколько при попытке накормить дается нелепых обещаний, сколько родителей прибегают к шантажу и подкупу – лишь бы поел наконец. «Доешь – получишь конфеты», «Если покушаешь хорошо, пойдем в парк на качели», «Ешь, а то не куплю машинку!» Тем самым мы закрепляем в ребенке мысль, что при помощи еды он может манипулировать нами как ему заблагорассудится, выклянчивать подарки или просто дергать за нервные окончания (что некоторые тоже, увы, находят приятным).
И последнее (но отнюдь не по значимости) правило: кормить лишь тогда, когда дети действительно проголодались, а не просто «когда положено» – тогда проблема аппетита стоять не будет. Ребенок ведь потому и не ест, что его буквально пичкают едой и слишком настаивают на своем. Не голоден? Не вопрос, свободен от еды до следующего приема пищи. Только уж будьте последовательны, это не значит, что ребенок имеет право тут же налопаться пряников. Не хочет есть – значит, еды не будет никакой, иначе и к ужину аппетит не появится. Когда действительно голоден, он сметает с тарелки все. Вы когда-нибудь слышали, чтобы уговаривать «съесть хоть ложечку» приходилось сельского ребенка, набегавшегося за день на свежем воздухе, или малыша из бедной семьи, в которой недоедают? А наши бабушки и дедушки еще помнят времена войны и послевоенной разрухи, когда вопрос насчет «поешь, ну пожалуйста!» не мог стоять в принципе.
Опекаем!
Из мальчика, который не может постоять за себя, вырастет мужчина, на которого нельзя будет положиться ни в чем.
Халед Хоссейни. «Бегущий за ветром».
Порой родители – из тех, кого традиционно принято считать Очень Хорошими и Заботливыми Родителями На Пять С Плюсом – настолько старательно выполняют свою роль, что буквально душат ребенка своей опекой и заботой.
Они совершенно не чувствуют границ между собственной личностью и личностью ребенка, для них сын или дочь – естественное продолжение и «часть себя», мысль об отдельности родного существа для них кощунственна в принципе. Им кажется: все, что нравится папе и маме, должно априори нравиться и ребенку. Но это еще полбеды – хуже, что они подменяют жизнь ребенка своей собственной, и у него уже не остается шансов иметь свои мысли, чувства, совершать собственные поступки и положенные по возрасту ошибки и уж тем более – принимать самостоятельные решения. Такие родители создают отношения симбиоза, когда «взаимопроникновение» становится настолько тесным, что это уже переходит границы разумного.
За всем этим стоит, безусловно, страх, что с ребенком случится что-то непоправимое, едва только вы отойдете от него хоть немного. Страх этот порождает недоверие: родители не верят в здравый смысл ребенка, в его силы и способность справляться со своей жизнью самостоятельно. Обычно такое поведение присуще людям тревожным, неуверенным в себе (и как следствие – в сыне или дочери), а еще тем, для кого собственная личность не представляет особой ценности, не имеет наполненности: тот, кто полноценно не живет сам, не дает нормально жить и другим.
Таким родителям ужасно трудно «отпустить» ребенка в большую жизнь – в детский сад, в первый класс, в подростковый мир, в студенчество. Если бы они могли выбирать, то оставили бы любимое чадо при себе навсегда… Эти мамы и папы всю жизнь считают своих детей маленькими, несамостоятельными и нуждающимися в заботе, даже когда они и сами становятся родителями.
Если вам кажется, что это – ваша проблема, подумайте о том, что большую часть жизни ребенку так или иначе придется провести без вас, и поэтому, как это ни дико для вас звучит, ваша задача – стать в глобальном плане ненужными. То есть для принятия решений, совершения поступков и несения за них ответственности родители повзрослевшему ребенку уже не нужны – все это он может (и должен!) делать сам.
Рано или поздно он вырастет и заживет собственной жизнью, и в этой жизни за ручку водить его вы не сможете. И слава богу. Вы не проживете жизнь за него, вы не сотворите ему его судьбу – и это тоже к лучшему.
Поэтому начинайте ребенка постепенно «отпускать». Процесс этот долгий и имеет много этапов: годовалого малыша отпускают, чтобы он сделал самостоятельные шаги, трехлетку – чтобы отправлялся в садик, первоклашку – чтобы освоил роль школьника и друга, подростка – чтобы учился контролировать свои порывы и отвечать за свои поступки, юношу или девушку – чтобы сами выбрали свой путь после окончания школы.
Как это делается?
Нет, конечно же, такой волшебной кнопки в голове, нажав на которую мы сможем включить в себе эту программу разумного дистанцирования – осваивать эти принципы придется, прилагая усилия. Вряд ли это получится быстро, но в данном случае руководствуются тем же принципом, что и при поедании слона: делать это надо по кусочкам. И на свободу отпускать – по шажочкам. Сегодня делегируем ребенку такие-то полномочия, через неделю – еще что-то, через месяц – еще немного расширим список. Составьте перечень всех известных вам приемлемых и неприемлемых для вас детских «прав и свобод» и тщательно проанализируйте все «возможные» пока аспекты: так ли уж вы уверены в их абсолютной абсурдности?
Коме того, важно научиться еще и занимать себя, поскольку «живут жизнью детей» обычно те родители, собственная жизнь которых более ничем не заполнена – нет серьезных увлечений или любимого дела. Ищите себе увлечение, хобби, интересное занятие – это существенно поможет вам снять напряжение и страх за невостребованность собственной жизни, который в основном и толкает нас к поглощению жизни наших детей, то есть к гиперопеке.
Гиперопека подразумевает не только регламентацию каждого шага, но и недостаточность обязанностей. Сначала родители считают ребенка слишком маленьким, поэтому ограждают от любых усилий и ответственности. Однако неизбежно наступает возраст, когда дети уже вроде бы должны и многое уметь, и стремиться применить эти умения на практике, «пробовать крылышки», но из-за многолетней гиперопеки эти крылышки отмирают, и нет ни инициативы, ни навыков, ни желания… И те родители, которые отбирали пылесос у трехлетки и не пускали в магазин десятилетнего, могут уже не особенно рассчитывать на то, что в подростковом возрасте их повзрослевшее дитя будет хотя бы минимально напрягаться в плане помощи по дому.
Понимая, что сказанное в какой-то мере относится и к вашей семье, постарайтесь наделить ребенка посильными и адекватными возрасту обязанностями, постаравшись при этом мощно их мотивировать – в соответствии с его интересами. Конечно, если сын или дочь всю свою сознательную жизнь ничего тяжелей тарелки не поднимали, а умелость рук тренировали исключительно посредством компьютерной мышки, им очень непросто будет заставить себя вот так вдруг начать ходить за продуктами в близлежащий магазин (а зачем, мама все равно мимо него с работы идет!), самостоятельно выгуливать собаку в 7 утра или пылесосить квартиру по воскресеньям. Но если призом за уборку будет, к примеру, разрешение пригласить друзей в дом и устроить небольшой праздник или же в награду за купленные овощи мама приготовит любимый картофель-фри или торт «Наполеон», до которых вечно руки не доходят из-за занятости, – возможно, лед тронется, и процесс пойдет.
Растим «пуп земли»
Наш дорогой Карлсон снова здоров, и ему полагается пошалить!
«Малыш и Карлсон» – мультфильм Б. Степанцева по книге Астрид Линдгрен.
Распространенной ошибкой нашего детоцентристского времени является воспитание ребенка как кумира семьи (раньше о таких говорили – «пуп земли»): чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало!
Все интересы в такой семье сосредоточены на маленьком сокровище, любое желание принца или принцессы исполняется тут же и беспрекословно, запретов почти не существует, а если кто и попытается возразить, чадо легко справится с этой проблемой, закатив истерику. Видеть деточкины слезы (а скорее – выдержать вопли) не в силах никто, поэтому ребенок очень быстро добивается от родителей идеальной управляемости. Развлечения ребенка порой разрушительны для окружающего пространства, однако семья оправдывает любые «художества» простой фразой «это же ребенок!»
Итог такого подхода, как правило, плачевен – практически ни один ребенок в таких условиях не сможет сохранить адекватное отношение к себе и окружающим и уберечься от звездной болезни.
Чаще всего так ведут себя родители, которым ребенок дался непросто; те, кто долго его ждали; и те, которые связывали огромные надежды с появлением малыша (рассчитывая либо реализовать через сына или дочь все, что не удалось в свое время самим, либо «спасти» настоящее, чаще всего – подправить супружеские отношения). Увы, во всех случаях развитие ситуации видится нерадостным.
Ребенок, чье появление на свет или первые годы жизни были проверкой на прочность для родителей (сложные беременность или роды, тяжелое заболевание с угрозой жизни или здоровью), сталкивается с их стороны с так называемой фобией утраты ребенка. Родители будут не просто молиться на него, но и оберегать сверх всякой меры, ограничивая возможности жить так, как все «обычные» люди, что закрепит в нем инфантильность и ощущение исключительности. Если сына или дочь растить в концепции «бедному больному ребенку ничего нельзя запрещать и ни в коем случае нельзя расстраивать», то в дополнение к заболеванию можно получить еще и деформацию личности. Чаще всего случается так, что ребенок давно уже крепок и здоров, а испорченный слишком трепетным отношением родных характер – остался. Даже больному ребенку дайте возможность жить нормальной жизнью, чтобы он мог стать психологически полноценным человеком.
Долгожданный ребенок, родившийся поздно (у родителей зрелого возраста) и живший в атмосфере всеобщего поклонения и восхищения, вероятнее всего, вырастет совсем не таким, как надеялись отец и мать, и станет для них в старости не опорой, а испытанием. Да и ему, неизбежно рано оставшемуся одному, будет в жизни непросто, ведь все остальные вряд ли станут сдувать пылинки, как это делали в родительской семье.
Дети, на которых родители возложили миссию получить все, что не смогли они, живут словно за двоих, получая двойную порцию игрушек, сладостей и поблажек. «У нас детство было трудное, так пусть хоть дети оттянутся!» – эта позиция в наши дни, увы, очень распространена. Когда дети еще совсем малыши, папе и маме доставляет огромное удовольствие их баловать и выполнять любую прихоть, перенося на себя ситуацию и представляя, как здорово было бы и самим прожить подобное детство. Идиллия дает трещину года в три, когда ребенка накрывает первый возрастной кризис и он становится неуправляемым. А окончательно образ ребенка-ангелочка рушится в подростковом возрасте, когда вследствие такого воспитания у ангела вырастают рожки, которыми чадо способно забодать и всю свою семью, и окружающих (и делает это с удовольствием!). Даже если формально некоторые ограничения и имеются (чтобы соблюсти приличия), ребенок их нарушает, поскольку все равно с него не спросят ровным счетом ничего. Он действительно все решает сам: где и как долго гулять, драться или нет, брать чужое или нет, пить или не пить, курить или не курить и сколько денег взять у мамы из кошелька – и более того, считает себя вправе регулировать жизнь всей семьи, подчиняя окружающих своей воле и становясь настоящим домашним тираном.
Дети, которые рождены с целью «подлатать» брак родителей, становятся либо самым большим разочарованием в их жизни (ведь миссия их невыполнима изначально: проблемные браки не способен скрепить надолго никакой ребенок, и перекладывать ответственность за сохранность семьи на малыша как минимум нечестно), либо последней радостью, единственным утешением, когда брак распадается: всю нерастраченную любовь и нежность мать (это на 90 % материнский сценарий) изливает на ребенка. Здорово, если ей удается себя контролировать, но чаще этот водопад затапливает их обоих, и спустя много лет маму ждет еще одно разочарование, на этот раз в сыне или дочери: «Я вложила в тебя все сердце, а ты!..» – вот горький итог слепой материнской любви, все прощающей и все разрешающей. Не отдавайте свое сердце, пусть оно останется при вас. Научите лучше сердце ребенка чувствовать и сопереживать.
Что же делать, если вы узнали свою семью в одной из этих картинок?
Постараться честно оценить, действительно ли ваш ребенок лучше ВСЕХ на свете. Даже если он действительно гений и вундеркинд, самый красивый, самый сильный и вообще самый-самый (родителям поразительно трудно быть объективными) – это не означает, что все это прямым текстом нужно ребенку сообщать. Мы уже говорили с вами в главе о похвалах, что восхваление того, к чему ребенок не прикладывал усилий, что дано самой природой, не просто бессмысленно, но и опасно. Если ребенку много дано – с него и спрос другой, и счет выше, но уж никак не за счет окружающих. Но когда эмоции по отношению к любимому чаду зашкаливают, то хотя бы выражайте их правильно: не восхищайтесь: «Ты у меня самая лучшая на свете!», а говорите: «Я тебя люблю!»
Не обрекайте детей своей чрезмерной любовью на нелегкие испытания в жизни – ведь залюбленным, заласканным чадам, ни в чем не знающим отказа, нередко приходится больно биться о реалии жизни. И дело не только в том, что им неоткуда больше будет получать такого мощного потока любви и приятия (шансов же на искреннюю любовь других людей, кроме мамы и папы, у «пупа земли» немного). Проблема еще и в том, что привычка позволять себе в буквальном смысле все иногда заводит очень далеко – настолько, что даже самые любящие родители не помогут, хотя именно они являются прямыми виновниками подобных ситуаций. Мы постоянно видим в новостях истории о зарвавшихся, забывших законы природы и общества представителях «золотой молодежи», воспитанников «хороших семей», которые доводят до беды себя и тех, кто волей случая оказался возле них, сбивая их автомобилями на большой скорости, избивая и даже убивая, как правило, будучи под кайфом алкоголя или наркотиков. Откуда? Все имеет свои причины.
Если родители закроют глаза на то, что их трехлетнее дитя утащило чужую игрушку из сада (он не нарочно!); если просто разведут руками, когда десятилетнее чадо застанут за мучительством соседского кота (это вообще был не он!); если будут оправдывать и покрывать двенадцатилетнего сына, избившего в драке одноклассника и снявшего об этом видео (его спровоцировали!); если заплатят владельцу автомобиля, вдребезги разбитого (вместе с папиным) пятнадцатилетним подростком, взявшим отцовскую машину «просто покататься», – то в семнадцать родителям, вполне возможно, придется «улаживать» последствия вечеринки, на которой он с группой подвыпивших друзей изнасилует одноклассницу – и это лишь начало большого пути. Мамы и папы, ослепленные любовью, иногда всю жизнь так и живут с закрытыми глазами, не видя то, что удобно не видеть – потому такие последствия становятся для них полной неожиданностью, которую они не готовы принять и с которой они порой больше не смогут жить…
Если это ваш случай, вам придется взять себя в руки, запастись огро-о-омным терпением (поскольку чем более запущена ситуация, тем с большим сопротивлением вы столкнетесь), и наконец-то сформулировать и установить разумные рамки, которые позволят вашему ребенку усвоить границы дозволенного и недозволенного. В будущем ему это очень пригодится: ведь если правила игры не установите вы – это сделает жизнь. И гораздо жестче.
При этом имейте в виду, что придется быть последовательными: ведь если строгость ваших законов будет компенсироваться необязательностью их исполнения – грош им цена, не стоит и начинать.
Воспитание практически совсем без наказаний дает хорошие плоды в очень редких случаях: когда ребенок от природы имеет подходящую нервную организацию (так называемый сенситив), то есть он и сам по себе ответственный, собранный и совестливый. Однако будем честны сами перед собой: таких детей немного, так что для остальных отсутствие санкций за проступки – медвежья услуга; их собственной воли совершенно недостаточно для самоконтроля, а внешних побудительных факторов у них нет. Чаще всего это также дорога к беспределу и безответственности.
Ребенок, лишенный понятия о границах допустимого, постоянно находится в тревоге: ведь, привыкший не считаться с правами и интересами окружающих, он в любой момент готов к тому, что и по отношению к нему люди будут вести себя точно так же. Отсюда и повышенная конфликтность, агрессия (такой ребенок словно живет все время в состоянии повышенной боевой готовности), отсюда и постоянное недовольство собой и миром: он может разбросать игрушки, кидаться едой, подраться – и все это, казалось бы, без причины. Будучи не в состоянии контролировать свои агрессивные всплески (ведь он вообще не умеет, не привык себя в чем-либо ограничивать), ребенок, тем не менее, мучается беспокойством: ведь он и сам не знает, как далеко может зайти – разрешено-то все (на словах, может, и нет, но по факту – точно известно, что ему за это все равно ничего не будет. А еще в глубине души ребенок ощущает тягостное чувство вины: он же прекрасно понимает, что общество такого поведения (а значит, и его самого) не приемлет.
Не бойтесь утратить любовь ребенка, не стыдитесь его воспитывать – ведь вы действуете для его блага. Это не только ваше право, но и ваша обязанность, не стоит об этом забывать. Когда вы боитесь сломать личность сына или дочери, боитесь любых насильственных действий, чаще всего слишком преувеличиваете (даже попытка надеть зимой на ребенка колготки перед прогулкой некоторыми родителями воспринимается как посягательство на его личную свободу). Подумайте лучше о другом: человек, волнующийся о том, не пережмет ли он с дисциплиной, сумеет соблюсти баланс (пережимают как раз те, кто не задумывается ни о чем подобном). Но ведь гораздо хуже будет получить «плоды воспитания», не знающие никаких границ. То, что не смогли осилить родители, рихтовать будет сама жизнь, а она делает это порой очень круто… Поэтому лучше, если формированием личности будете все же заниматься вы сами – твердо, но уважая ребенка.
Телевизор с компьютером – лучшие друзья!
Начинаем нашу очередную передачу из жизни привидений! Убедительно просим увести ваших детей от наших голубых экранов.
«Малыш и Карлсон» – мультфильм Б. Степанцева по книге Астрид Линдгрен.
Когда у нас появляется ребенок, мы полны благих намерений. Мы думаем о том, как много разумного, доброго и вечного постараемся вложить в его головку, мы уверены, что посвятим все свои силы воспитанию этого маленького существа… Однако реальность грубо вторгается в наши хрустальные мечты.
Надо успеть хотя бы приготовить поесть, а ребенок буквально «висит» на вас… что же делать? Правильно, необходимо воспользоваться телевизором как нянькой. («Ну ведь всего на часик!»)
Надо накормить несносное дитя, отворачивающееся от ложки и застывающее только под магическим мерцанием экрана с мультиками, – придется прибегнуть к последнему средству (знаем, что вредно, но не ходить же ему голодным!).
Надо дитя как-то развлечь, но что же делать, если читать оно не любит, а на улице плохая погода, прогулка не задалась? Пусть хоть на компьютере поиграет или телевизор посмотрит, что ли…
Вы заняты: спешно составляете отчет или заканчиваете взятую на дом работу (а порой и просто сидите в «Одноклассниках»), и вам совершенно не до сына или дочери. Чем бы занять их, чтобы не мешали? Включить им «ящик» – и тогда не будет ежесекундно слышаться: «Мам!» и «Пап!»
На работе пришлось задержаться допоздна, а ребенок один дома! Если бы не телевизор – точно разнес бы жилище, а так, слава богу, сидел спокойно.
Ребенок заболел и целыми днями вынужден находиться дома или в больнице. Без телевизора с ума сошел бы от скуки!
Очевидно, любовь к телевизору возникла как следствие нежелания думать.
Даниэл Киз. «Цветы для Элджернона».
Итак, как видим, поводов воспользоваться «теленяней» в нашей жизни великое множество. Сначала мы еще пытаемся придерживаться твердых позиций и пока еще помним о вреде голубого экрана (что-то такое мы неоднократно читали или слышали), но постепенно все больше начинаем воспринимать телевизор и компьютер как помощников, как благо, позиционировать их как награду: кто не слышал сакраментального «сделаешь уроки – можешь смотреть телевизор (играть в компьютер)?
Фактически они уже члены семьи (некоторые с ними даже разговаривают, даже проводят в их компании больше времени, чем с родными и друзьями). В современном доме телевизор выполняет функцию вечернего костра, вокруг которого собирается племя с целью развлечься, весело провести время. И одновременно телевизор – универсальный заполнитель пустоты, ведь когда людям не о чем друг с другом поговорить, но страшно себе в этом признаться, этот домашний психотерапевт залатывает информационные и духовные дыры семейного пространства, создавая иллюзию, что все в порядке.
Наиболее притягателен телевизор для детей, для них – это целый мир, ворота в сказку, а для более старших – в параллельные пространства, в которых они могут представить и себя в качестве главных героев. По той же причине так популярны и компьютеры. По сути, оба этих достижения современной цивилизации не что иное, как бегство от реальности, которая не устраивает, в другие миры, где жизнь устроена совершеннее, возможностей – не в пример больше, а риска ошибиться – в разы меньше.
Принцип создания телепрограмм и игровых компьютерных программ, по сути, един: обязательны яркие, динамично меняющиеся картинки (именно это является причиной формирования у современных детишек так называемого клипового сознания – привыкнув с рождения к такому формату, длинных сюжетов они уже не воспринимают, так как устают следить за ними и быстро теряют нить событий, а значит, гаснет интерес и сразу переключается внимание).
Кроме того, в телемире детей привлекает обилие фантастических возможностей (чем только ни наделены герои фильмов: небывалой силой и выносливостью, умением читать мысли, летать, как птицы, мгновенно перемещаться в пространстве и выживать после чудовищных катастроф).
И конечно, необычайно привлекательна насыщенная событиями жизнь. В реальности лишь немногие дети могут похвастаться тем, что побывали во многих странах мира, летали на самолетах, плавали на кораблях, путешествовали по горам, видели пустыни, слышали речь многих народов мира. Но странно было бы обвинять детей в тяге к приключениям и разнообразию: разве мы сами-то в большинстве своем живем насыщенно и интересно, разве много у нас новых эмоций и ярких впечатлений и разве не поэтому мы тоже ищем в телевизоре потерянный рай?
Традиционно считается, что время, проведенное перед телевизором или компьютером, – это отдых. Однако это совсем не так: мы должны понимать, что на самом деле это – нагрузка и на зрение, и на нервную систему, и, конечно, на психику.
Телевизор – это просто маленькое прозрачное окошко в трубе духовного мусоропровода.
Виктор Пелевин. «Чапаев и Пустота».
Главная проблема состоит в том, что телевизор и компьютер подменяют живых людей и реальное общение, буквально крадут у нас возможности поиграть, погулять и почитать с родными, пообщаться с друзьями. Глядя в экран или монитор, мы упускаем возможность смотреть в глаза близким, не успеваем дружить, выражать свою любовь и благодарность, становимся более закрытыми, и души наши усыхают. Поразительно, но, похоже, всех это устраивает: дети не «дергают» родителей вопросами и просьбами, взрослые не «грузят детей» разными заданиями, разговорами и поручениями… И в результате становятся все дальше друг от друга.
В современных семьях именно телевизор с компьютером – друзья и воспитатели детей: по данным ЮНЕСКО, более 90 % дошкольников (то есть практически все!) смотрят телевизор свыше 4 часов в день. Многие ли родители могут похвастаться, что столько же времени ежедневно они проводят со своими детьми в тесном общении (не находятся рядом в одной комнате, а именно общаются, играют, разговаривают, гуляют)?
Еще одна проблема в том, что информационные источники колоссально перегружают детский мозг сведениями, процентов на 90 бесполезными: ребенок либо не в состоянии их понять, либо они для него неактуальны, либо сами по себе являются мусором. В особенности здорово засоряют сознание, конечно же, реклама и различные телешоу – и именно их дети любят больше всего. Причин здесь много: и яркая, динамичная манера, в которой делается эта видеопродукция – длинный фильм современный ребенок осиливает с трудом, зато постоянно меняющиеся рекламные кадры – без проблем (потом с этой особенностью восприятия намучаются школьные педагоги и сами родители: сколь-нибудь длинное произведение, которое к тому же надо прочесть, а не просмотреть, ребенку просто не осилить). Объем внимания, и так небольшой у малышей, не увеличивается (тренироваться-то не на чем), а переключается оно с легкостью (спасибо рекламе и мультикам, сформировавшим так называемое клиповое сознание), и, значит, слушать учителя на уроке тоже будет ой как трудно. А главное, маленькие потребители рекламы быстро «подсаживаются» на все то, что им внушается с экрана, и делают именно то, на что и рассчитывают рекламодатели: буквально вынимают душу из родителей просьбами «купить такую же штуку, как по телевизору».
Третий подводный камень телевидения: оно способствует отставанию детей в речевом развитии, что стало уже бичом современных малышей. По сравнению с детьми XX века, они в большинстве своем не умеют красиво или хотя бы понятно выражать свои мысли, не могут вести диалог, то есть не умеют слышать собеседника и не перебивать его. Хорошо разговаривают в наши дни лишь те детишки, которые от природы имеют аудиальный (на слух) тип восприятия мира, то есть те, что и так заговорили бы раньше и с хорошим словарным запасом. Остальные (визуалы и кинестетики) говорят неважно.
На первый взгляд – какая разница, слышит ли ребенок живую речь или же речь с телеэкрана? На самом деле, огромная. Чтобы научиться хорошо, с легкостью разговаривать, нужно общаться с реальными людьми, поскольку любая беседа лишь на 30 % состоит из слов, а всю остальную информацию мы получаем из мимики, жестов, поз, выражения лица, тембра голоса… Полноценно все это можно уловить лишь «вживую» – подумайте, как обедняется представление о человеческом общении у «теледеток». Большая часть любого послания ускользает от них, вот почему мы сегодня имеем еще одну проблему – эмоциональную глухоту, толстокожесть современных детей.
Кроме того, современные детишки не умеют не только сами высказываться, но и вести беседу: слышать, осмысливать услышанное и делиться информацией, а не только получать ее. Они индивидуалисты, привыкшие, что телевизор развлекает их персонально, и ждущие от любого собеседника аналогичного поведения. Представляете, что получается, когда встречаются два таких от «одиночества». А если двадцать? Вот и типичная модель общения в современном школьном классе: толпа глухих, громко кричащих каждый свое.
Наши девчонки и мальчишки переполнены информацией, которую не в состоянии использовать, поскольку она получена бессистемно. В результате ребенок, много раз слышавший в той или иной форме, к примеру, о морских обитателях, не может рассказать об этом сам.
Страдает и четкость речи, внятность произношения: герои мультфильмов и сериалов говорят быстро и не всегда понятно, а телеведущие и герои шоу – зачастую еще и совершенно безграмотно. В результате многих слов ребенок просто не понимает, но, поскольку сюжет летит быстро, переспросить не успевает – и так и привыкает небрежно относиться к словам и не особенно вникать в их суть: не понял чего-то – ну и ладно. Так слова в буквальном смысле становятся для ребенка «пустым звуком».
Телевидение, друг Даниель, это Антихрист, и, поверьте, через три-четыре поколения люди уже и пукнуть не смогут самостоятельно, человек вернется в пещеру, к средневековому варварству и примитивным государствам, а по интеллекту ему далеко будет до моллюсков эпохи плейстоцена. Этот мир сгинет не от атомной бомбы, как пишут в газетах, он умрет от хохота, банальных шуток и привычки превращать все в анекдот, причем пошлый.
Карлос Руис Сафон. «Тень ветра».
Четвертая проблема: телевизор крадет у детей воображение и фантазию. Есть колоссальная разница между простым потреблением уже придуманного другими людьми видеоряда и процессом чтения, когда мы включаем детский мозг на полную мощность, заставляя рисовать самостоятельно картинку происходящего, представлять себе героев истории. В результате малыш создает в своем воображении уникальный мир, а значит, развивается его творческий подход к жизни. Ребенок становится полновластным хозяином сюжета: он может нафантазировать не только сказочных героев, но и продолжение истории, переместить сюжет в жизнь и выдумать новую игру на его основе – словом, создать свою сказку. Никакой самый интересный мультфильм этого не даст. В этом случае фантазия отдыхает, а ребенок постепенно привыкает к потребительству, к тому, что ничего не надо выдумывать самому, а значит, постепенно теряет эту способность и в дальнейшем будет выбирать стандартные готовые развлечения: покупные игрушки, компьютерные игры, где при всем кажущемся многообразии сюжетов они все равно заданы кем-то другим, и бесконечные однотипные мультфильмы. Действительно, зачем напрягаться, если для него (вместо него!) все уже готово? Эту жизненную парадигму дети, подрастая, несут по жизни, и становится уже даже интересно (а если честно, скорее страшно): что будут делать следующие поколения, когда окончательно утратят практические навыки, а главное – нормальную для человека тягу к познанию и к развитию? Вопрос этот, увы, риторический, поскольку ответ, к сожалению, слишком очевиден.
Логическим продолжением нашего анализа становится проблема негативных изменений детской личности – душевная пустота. Моральные ценности, которые пропагандируются современной масс-культурой и транслируются посредством телевизора, заведомо ведут в тупик. Обратите внимание на послания фильмов, телешоу, рекламы, компьютерных игр: развлекаться, потреблять, поменьше задумываться (не напрягаться), бить первым, утешать себя мыслью, что все равно всегда все можно начать с начала – это проигрышные жизненные стратегии. Практически не транслируются «в народ» парадигмы о необходимости создавать (а не только потреблять), дарить людям себя (а не использовать окружающих), быть умным (а не пробивным), интеллигентным (а не «крутым), уметь отвечать за свои поступки (а не рассчитывать на «перезагрузку» и вторую серию).
Пробелы могли бы заполнить родители, но, к сожалению, они очень мало времени проводят со своими детьми, чтобы на конкретных жизненных примерах можно было изучить все нюансы морали и этики, да и разговаривают они со своими наследниками не так уж много. Следовательно, ситуация вроде этой: «Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо?» – возникает все реже: дети предпочитают не задавать вопросы (все равно не факт, что ответят), делая выводы, основанные на том, что видят вокруг. А как мы уже выяснили, как минимум 4 часа в день они видят телеэкран. Еще 8 часов они спят, часов 5–6 проводят в школе, примерно 2 часа уходят на еду и дорогу в школу и обратно, – и вот простая арифметика подсказывает, что у телеэкрана дети проводит буквально все свободное время… Следовательно, все знания о жизни им поставляет телевизор. Не из реальности они берут картинку мира, а просто потребляют все, что считают необходимым вложить им в головы даже не отцы и матери, а создатели телепрограмм. У этих детей входит в привычку слепо верить всему, что говорят «из ящика», ведь для них это окно в мир. Они растут легко внушаемыми…за их будущее тревожно. Почему же так происходит? Да просто потому, что большинство родителей добровольно согласились на то, что воспитывать их детей будут другие люди. Им так удобней…
Страдает и физиология. Кто не слышал о расцвете СДВГ – синдрома детской гиперактивности и дефицита внимания, – а ведь пару десятков лет назад таких детей было относительно немного. В наши дни – как минимум треть в каждом классе. Эта проблема включает в себя неспособность концентрировать внимание дольше 5 минут, высокую отвлекаемость, быструю утомляемость от любых умственных усилий, что влечет за собой низкий интерес к учебе, рассеянность, раздражительность (кому приятно чувствовать себя отстающим, некомпетентным?), неспособность запомнить содержание урока или разговора (спасибо мультикам и рекламе, сконструировавшим клиповое сознание у детей: мелькнула картинка – тут же переключились на другую), несформированный познавательный интерес – дети ничем не интересуются, ничего им не надо, поскольку не в состоянии всерьез чем-то увлечься (и если бы могли выбирать, щелкали бы мышкой или пультом круглосуточно, в ущерб даже беготне на улице, что совсем уж нездорово и не похоже на нормальное развитие). Гиперактивные дети очень подвижны, им, наоборот, активное движение жизненно необходимо, чтобы выплеснуть всю свою энергию в мирное русло. Но если ребенок целые дни проводит в замкнутом пространстве, сидя у экрана, то естественное для растущего организма расходование физической энергии невозможно – как следствие нарушается обмен веществ. Благодаря низкой подвижности все больше современных детей становятся либо излишне полными, либо просто неловкими, неуклюжими и неспортивными. Но как бы там ни было, а энергия в ребенке бьет ключом, и, если ее некуда потратить продуктивно, выход она все равно найдет, но уже нецивилизованный: дом переворачивается вверх дном в те краткие минуты, когда дитя отрывается наконец от экрана и вихрем проносится в пространстве, изрядно искажая его.
По телевизору показывают жуликов! Ну чем я хуже! Безобразие!
«Малыш и Карлсон» – мультфильм Б. Степанцева по книге Астрид Линдгрен.
И наконец, нельзя не сказать о существенном повышении детской агрессивности и жестокости. Безусловно, человечество переживало и более страшные времена – каннибализм, процветавший на рассвете нашей цивилизации, зверства средневековья, когда нормой были изощренные пытки и сжигание на кострах инакомыслящих, концентрационные лагеря двадцатого столетия…
Наше же время отличается одной особенностью: люди жестоки, но при этом равнодушны. Они не получают садистского удовольствия от унижения и причинения страданий, как их далекие предки, они этого просто не замечают, по головам идя к своим целям. И страшно, что это характерно не только для взрослых.
Откуда же это берется в наше просвещенное и декларирующее гуманистические идеалы время?
Ответ очевиден: преимущественно все оттуда же, из масс-медиа, кино, из новостных выпусков и компьютерных игр… Нажмите кнопочку – и любой канал в изобилии предоставит вам насилие, кровь и слезы. Эти три кита – основа любых теленовостей, любой информационной интернет-подборки; ведь такое «цепляет» зрителя наиболее сильно, активизируя глубинные инстинкты. Кто у нас положительные герои? Парни с квадратными челюстями и выражением лиц ласковых убийц, они «во имя справедливости» готовы положить вокруг себя горы трупов, и это воспринимается как норма (сказали же вам – герой положительный!). И наши дети воспринимают этих ребят именно так, без сомнений и оговорок. Как мы уже говорили, они внушаемы, а еще – пока не умеют видеть полутонов, не обладают достаточным жизненным опытом, чтобы критически осмыслить все, что видят на экране. А шансов осмыслить уже и не будет: привыкнув к такому образу «добра с кулаками» (не просто с кулаками – с ядерными боеголовками!), человек будет считать это нормой уже всегда. Кстати, обратите внимание, в какой обстановке мы (всей семьей!) просматриваем видеосюжеты, заставившие бы у наших совсем еще недалеких предков кровь застыть в жилах: пьем чай, развалившись в удобном мягком кресле. Идиллия…
Вот так равнодушие и становится нормой жизни: мы смотрим на человеческую боль и страдания – и жуем печенье.
Но не только очерствением одаривают нас экраны. Агрессия пробуждается в наших детях благодаря увлечению в основном боевиками и играми, не любыми, конечно, а теми, что направлены на разрушение и уничтожение. Если в сюжетах присутствует торжество тупой силы, а погружение в эти миры происходит регулярно – деструктивная темная энергия проснется в сознании ребенка наверняка.
Что же делать – выключать телевизор совсем? На самом деле, было бы неплохо так и поступить. Пару дней у вас будет что-то вроде ломки, голода, но потом вы научитесь получать удовольствие от того, что количество информации, провоцировавшей стрессы и эмоциональные перегрузки, снизилось в разы, и никто не рассказывает, как вам думать, не подсказывает, каким шуткам смеяться, не ужасает событиями, героям которых вы ничем не можете помочь. А главное – вы обнаружите, что у вас образовалась куча свободного времени, которое можно использовать во благо: дайте ребенку возможность активно общаться с окружающим миром и получать новые (настоящие!) впечатления.
Телевизор – отличное средство узнать порой новости (если вам недостаточно подборки в Интернете), посмотреть хороший фильм, но превращать его в члена семьи, включать постоянным фоном в свою жизнь – это чересчур.
А как быть с компьютером? Так же – использовать по назначению, но без передозировки. Мы все почему-то забыли, что компьютер вообще-то создан изначально для работы, а не для обеспечения круглосуточного досуга. Работа детей – получать знания, так что компьютер с выходом в Интернет – окно в большой мир, если его правильно использовать. Однако на деле мы распахиваем пошире отчего-то именно те окна, которые ведут на скотный двор и в другие неприглядные места, а потом удивляемся, отчего в нашем доме, образно выражаясь, плохо пахнет.
Постарайтесь забыть о любых играх, не несущих позитив, не дающих пищи для ума. Не потакайте темным уголкам своей души, в которых прячутся насилие и жестокость, готовые поднять голову и встать во весь рост, если только им это позволят.
Почему я адресую это вам, родителям? Да потому, что, как мы уже неоднократно говорили, дети пишут картину мира с нас, и потому, если картина эта страшненькая, исправлять что-либо нужно начинать исключительно с себя.
Глава 3
Коллекция заблуждений на тему «Что такое хорошо и что такое плохо?»
Помимо поощрений и наказаний, в наших отношениях с детьми существует еще множество других моментов: детский сад и школа, друзья и домашние зверушки, ложь и стремление к идеалу, семейные нескладушки между родителями и вмешательство родственников в воспитательный процесс – словом, нам есть где набивать шишки.
В этой главе мы постараемся понять, какие неприятные открытия возможны на этом пути, и что делать, чтобы обойти все «кочки» и не споткнуться там, где это сделали уже тысячи родителей до нас.
Удивляем своей непоследовательностью
Сначала детей учат ходить и говорить, а потом – сидеть и молчать.
Старый анекдот.
Одним из принципов эффективного воспитания, как мы уже знаем, является последовательность, неизменность и предсказуемость нашего поведения, требований, наказаний. Стабильность, другими словами.
Однако многие из нас, родителей, – натуры спонтанные, да и жизнь порой вносит неожиданные коррективы в наши планы и характеры, поэтому нередко детям очень сложно успеть за сменой наших мировоззренческих концепций и воспитательных подходов. Как говорится, люди меняются, но забывают сказать об этом друг другу – отсюда и конфликты.
Однако самое сложное, когда родственники не только непредсказуемы, но и не могут договориться друг с другом относительно того, кто и как себя ведет, кто и как реагирует на поступки ребенка, какие наказания и поощрения используются. Ребенок просто теряется: одно и то же сегодня разрешается, а завтра запрещается, папа говорит – можно, мама – нельзя, у бабушки все зависит от настроения, у дедушки – от самочувствия… Вспомните басню Крылова «Лебедь, рак и щука» – и результат такого воспитания можно себе представить наглядно.
Чего взрослые могут требовать от ребенка, если не могут прийти к консенсусу? Когда воспитательный подход колеблется от авторитарного до либерального, когда родители то строги, то закрывают на все глаза, то требовательны, то жалостливы – ребенку чрезвычайно трудно определиться, во-первых, чего же на самом деле от него хочет семья, а во-вторых, как к нему относятся родители, любят ли, и кто из них – больше? Ведь все так нестабильно и непредсказуемо: вчера наорали, а сегодня жалеют, вчера отругали за невычищенную обувь и беспорядок в комнате, а сегодня того же самого даже не заметили… Ребенок начинает искать лазейки, лавировать между нашими громами и молниями – и хитрить. И конечно, начинает игнорировать и наши требования, и нас самих. Подтекст здесь таков: «Дорогие родители, вы сами не знаете, чего хотите и как вам надо (либо вам просто все равно и наплевать), значит, я сам буду решать, что мне делать».
В семье, где стиль взаимодействия с детьми неустойчив, дети растут виртуозными манипуляторами. В наше время многие мамы и папы признают, что бывают непоследовательны и действуют несогласованно друг с другом – вот только мало кто правильно оценивает масштабы бедствий.
Наиболее распространенная проблема формулируется так: «Вроде бы все делаем правильно, «по
