Читать онлайн Американские дети играют с удовольствием, французские – по правилам, а русские – до победы. Лучшее из систем воспитания разных стран бесплатно
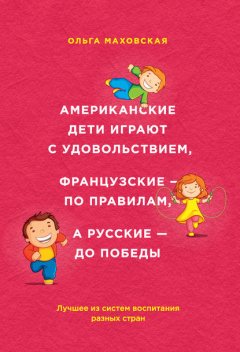
© Маховская О.И., текст, 2015
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2015
* * *
Из этой книги вы узнаете:
✔ Почему родителям важно знать, как воспитывают детей в разных странах – см. Введение
✔ Почему США и Франция взяты в качестве сравнения систем воспитания – см. Введение
✔ Сравнительные таблицы по системам воспитания – в каждой главе в рамках ее темы
✔ Как национальные особенности влияют на подход к воспитанию детей – см. Главу 1
✔ Что родители могут взять на заметку из иностранных систем воспитания, чтобы дети росли счастливыми и успешными – см. Главы 2, 3
✔ Что важного могут почерпнуть из книги мужчины-отцы – см. Введение
✔ Рекомендации для родителей – в конце каждого раздела
✔ Каковы особенности темпераментов у русских, французов и американцев – см. Главу 1
✔ Что нужно учитывать при воспитании детей с разным типом темперамента – см. Главу 1
✔ Как определить темперамент – см. экспресс-тесты в конце каждого раздела
✔ Как отличаются представления о семье и воспитании у разных народов – см. Главу 2
✔ Чем отличаются модели американской, французской и русской семьи и как это сказывается на подходе к воспитанию детей – см. Главу 3
✔ Как влияют на воспитание и формирование личности ребенка пищевые привычки американцев, французов и русских – см. Главу 4
✔ Чем отличается подход к школьному образованию во Франции, России и США и чем опыт других стран может быть полезен родителям – см. Главу 4
Введение
Почему родителям из России так важно знать, как воспитывают детей в Европе и Америке?
Россия, Франция и США – три страны, три ветви христианства (православие, католичество, протестантизм), три символические соперницы, которые дополняют и укрепляют друг друга, три ментальных ориентира и три системы воспитания! В век глобализации, когда детям предстоит выбирать, где жить и работать, передовой российский родитель торопится забежать вперед, чтобы выбрать для своего ребенка самое лучшее.
Женщины Северной Америки Памела Друкерман, Кэтрин Кроуфорд, Карен Ле Бийон, написавшие книги о французском воспитании, попытались убедить весь мир в том, что француженки знают секреты не только привлечения и удержания мужчин, но и воспитания здоровых и послушных детей. Известная ирония состоит в том, что написанные американками и канадкой книги о французской культуре воспитания получили огромную популярность в России.
Отношения между Францией, США и Россией никогда не были безоблачными, но, безусловно, эти три страны давно образовали «любовный треугольник», который удерживается благодаря колоссальному взаимному интересу. Когда я начинала исследования систем воспитания и образования в разных странах, у меня за спиной был единственный крупный проект такого рода, американский. Полвека назад американцы интересовались не французскими системами питания и воспитания, а нашими – тогда советскими – подходами!
Всплеск интереса американцев к системе образования и воспитания советских детей начался с прорыва русских в космос.
На Америку произвел колоссальное впечатление очередной «холерический» всплеск страны, которая каких-то пятнадцать лет назад триумфально прошлась по Европе, выиграв почти в одиночку Мировую войну. Более половины американцев посчитали, что запуск спутника ударил по престижу и величию Штатов.
Если страны или люди завидуют друг другу, значит, у них есть большой потенциал к развитию. России всегда было чем поделиться и чему поучиться у других стран.
Так появился центр по изучению образования в России, который возглавил прославившийся благодаря этим исследованиям Урио Бронфенбреннер. Его труд «Два мира, два детства», изданный в начале семидесятых годов прошлого века, стал классическим. Считается, что в нем было проведено первое систематическое сравнение наших систем воспитания.
Ученые, к которым я принадлежу, фундаментальнее журналистов. Мы разбираем вселенную на атомы, ищем первопричины! Готовьтесь к серьезному погружению.
Ну а пока исторический факт.
Популярный журнал «Лайф» в 1964 году установил наблюдение за двумя школьниками шестнадцати лет – советским Алексеем Куцковым и американским Стивеном Лапекасом. В течение месяца за ребятами буквально следовали по пятам, сравнивая набор изучаемых в школе предметов, отношение к учебе, книги, которые, они читают, содержание занятий в свободное время. Результаты потрясли Америку – советский мальчик опережал своего сверстника по образованности на два года! Интересно, что потом жизнь участников эксперимента была связана со службой в авиации: Стив стал пилотом, а Алексей даже был как-то отобран в отряд космонавтов. Хотя в космос так и не слетал.
Основным критерием успеха воспитания и образования в прошлом веке была академическая успеваемость ребенка. Сегодня, когда образование стало доступным, в качестве такого критерия родители выбирают счастье ребенка.
Так получилось, что мои научные экспедиции проходили именно во Франции и США. А предметом исследований были практики воспитания в этих странах. Предмет совпадал с личной заинтересованностью: я растила сына Федора, и ему пришлось в течение года учиться сначала во французской средней школе, а потом в американской public school. К концу написания этой книги он уже защитил кандидатскую диссертацию по психологии и стал финалистом и стипендиатом той же программы научных обменов Фулбрайт, по которой мы с ним впервые отправились в США.
Можно сказать, что свой интерес к межкультурным исследованиям я передала по наследству, и я не удивлюсь, если сын напишет свою книгу о том, как русскому по происхождению и языку ребенку жилось и училось в столь различных культурных контекстах.
Очень долго психологи делали вид, что существует какой-то универсальный человек, «идеальный ребенок» без национальной и культурной принадлежности, с универсальным внутренним устройством.
После того как турбулентность миграционных процессов стала нарастать, а информационные технологии совершили революцию, мы все больше сталкиваемся с индивидуальными и культурными различиями, и теперь именно в них видим причины непонимания и неуважения между людьми.
Не все родители считают, что культурные, типологические, индивидуальные особенности – источник новых способов взаимодействия с миром, которые мы пока не освоили и не оценили. Иное пока чаще раздражает и даже вызывает агрессию: «У нас так не принято!»
Интерес родителей к практикам воспитания в других странах указывает на определенную зависть – мы хотим позаимствовать методики, подсмотреть приемы, как вырастить образованных, счастливых и состоятельных людей. Но это хорошая продуктивная зависть, которая расширяет горизонты, а не злобно сужает зрачок.
Солидарность и взаимообмен между воспитателями развиваются на фоне исторически сложившегося противостояния между тремя лидерами в мировом символическом пространстве, законодателями приоритетных направлений, хранителями традиций и первооткрывателями технологий.
В советские времена европейцы ходили в друзьях и соратниках у американцев, олицетворяя свободу и демократию во всем мире, каждый на своем полушарии. Вместе они противостояли «красной заразе», «империи зла», участвовали в смертельном соревновании под названием «гонка вооружений», которую теперь бы сравнили с игрой-стрелялкой, симулятором с ограниченным запасом жизней и ресурсов.
Но все равно, первое, что делают «настоящие» американцы, добравшись до Парижа, так это начинают искать свой «Макдоналдс», чтобы, наконец, поесть. Если спросить американца, вернувшегося из Европы: «Ну и как?», он ответит с интимной доверительностью, требующей сочувствия: «Макдоналдсы» во Франции хуже американских. Не те продукты. Я чувствую, что много холестерина».
Образные сравнения рядовых американцев чаще носят гастрономический характер. Их интерес к французской кухне не случаен. По мере того, как население России набирает в весе, нам их образность становится все ближе.
Помню, в начале перестройки, когда мы буквально голодали, из-за чего выглядели, видимо, особо одухотворенно, мой американский коллега, специалист по русской поэзии Лэрри, наверное, чтобы сделать мне приятное, сказал:
– Мне нравится Мандельштам. Когда я его читаю, я чувствую, как по горлу растекается чистый мед!
Меня чуть не вывернуло наизнанку. От предложения съесть великого покойного поэта…
Из-за этноцентризма европейцев, о которых еще недавно говорили как о рыцарях древней цивилизации – Старого Света, в Америке их до сих пор называют «еврососисками». Сосиска в данном случае олицетворяет гибкий, податливый хребет европейца, который еле держится на ногах и не тверд в своих решениях. Их называют также «евронытиками», «евроидами», «европниками». Слово «геморрой» стало активным синонимом для всех дел с европейцами.
Стоило укреплять евро, чтобы тратить их на витиеватую, бестолковую и безрезультативную дипломатию, вино, отдых, бюрократию и социальные программы. Вот кто настоящий иждивенец и паразит на мировом теле. Сексуальные коннотации обвинений сводятся к одному: американец – полноценный гетеросексуальный самец, а европеец – это конченый голубой или Eu-nuch – евнух. Французов кроют так часто и повсеместно, что, кажется, достаточно произнести слово «француз», чтобы кабак взорвался от гогота здоровых, краснолицых «ковбоев».
Смягчает американский антиевропеизм счастливое невежество американцев, чьи познания о Франции сводятся к тому, что это «где-то далеко».
Антиамериканизм во Франции уходит корнями в презрение к Англии и всему англосаксонскому. Активистская стратегия хороша в бейсболе, но подводит в частной жизни, считают французские обыватели. Чтобы что-то выросло – от кактуса до большого чувства, – нужно уметь брать паузы, ждать, тихо восхищаться, млеть, то есть периодически вести себя пассивно.
У нас, русских, амбивалентная психология. С одной стороны, «Поспешишь – людей насмешишь», с другой – «Под лежачий камень вода не течет», «Без труда не вытянешь и рыбку из пруда».
Правда, последние пословицы звучат скорее как уговоры, наконец, подняться из положения лежа и хоть что-нибудь сделать.
Надо сказать, что имперские амбиции французов давно воплощаются главным образом в символической плоскости, нацелены на умы потребителей.
Никто лучше французов не научился торговать образованием, воспитанием и манерами.
Они первыми стали торговать воздухом, нематериальными ценностями. Причем опережают они нас и американцев в гуманитарной сфере, оценив ее перспективность: какими бы развитыми ни были технологии, определять их развитие будет человек. Русские и американцы продолжают конкурировать в сфере новых технологий, понимая под научно-техническим прогрессом именно технический прогресс.
Интересно, что первые сеансы психоанализа и первые сеансы кино прошли именно в Париже в 1889 году. Франция увидела в кино гуманитарную технологию, Америка – информационную. Американцы активно практикуют психотерапию, чтобы стать еще более эффективными менеджерами. Французы ходят к терапевту, чтобы гармонизировать жизнь в целом и отношения с близкими людьми. Русские приходят к психологу часто только затем, чтобы научить его жить.
Антиевропеизм американцев носит скорее характер ситуативно обостряющегося колита, аллергии на протестные движения со стороны «дряхлых европейцев», которые вместо того, чтобы тихо сидеть себе в домах престарелых, пытаются влиять на погоду на улице выкриками и демагогией. Американцы, недолго думая, начинают действовать. Бездействие и отсутствие инициативы дома, в школе, в офисе, на улице, в постели считается в Америке тягчайшим грехом. Даже маргиналы, вроде Форреста Гампа или Макмерфи из «Полета над гнездом кукушки», могут вызвать восхищение и снискать национальное признание, если они хоть куда-то двигаются.
Но внешний вид, психологическая устойчивость и выдержка французов, их умение выигрывать переговорные марафоны, соблюдая букву закона, вызывают уважение даже у американцев. О том, какой воли требует внешне созерцательное и высокомерное поведение французов, можно судить по мгновенной, как бросок кобры, реакции на любое поползновение на территорию, капитал и власть французского гражданина. Бескомпромиссно, мощно, точечно. Если спросить рядового американца, с чего бы он начал свое путешествие по Европе, тот, скорее всего, ответит: «С Франции!»
Бытовому (кстати, мужскому, агрессивному по характеру) этноцентризму во всех разновидностях приходит на смену женская солидарность и взаимопомощь.
Эта книга в своей стратегической, концептуальной части адресована нашим папам. Они привыкли оценивать любое событие в планетарном масштабе. А в своей тактической, методической части – мамам, которые ждут подсказки на каждый день, для конкретного случая, потому что озабочены тем, чтобы их ребенок вырос воспитанным и благополучным.
Книги о воспитании, о взаимоотношении между полами пишут женщины. Мужчины мыслят отдельностями, им важно разделить территории. Женщины мыслят связностями, им нужен избыток коммуникаций, информации, поддержки и открытая перспектива, чтобы они чувствовали себя спокойно.
Независимые, критически мыслящие родители, чуткие к культурному разнообразию, смогут отринуть занавес из негативных стереотипов и начать внимательно изучать системы воспитания в странах, достижениями которых восхищается весь мир.
Осознать различия между американской и французской (европейской) системой воспитания чрезвычайно важно, потому что россияне очевидно тяготеют к американскому образу жизни с его идеями личного успеха и неограниченного обогащения и в то же время рассчитывают воспитать гармоничных и умиротворенных, как европейцы, детей.
Идеалы культуры, образования, личных отношений у нас часто европейские, а методы достижения и правила жизни – жесткий коктейль из проамериканской (воображаемой) и советской (ностальгической) практик. С кухней легче: кухни мира сами приходят к нам вместе с шеф-поварами и тренерами по питанию.
Система воспитания существует только в контексте – сначала семьи, потом школы, общества в целом. Как бы мы ни хотели стать подобными французам или американцам, какие бы чудеса адаптивности мы ни проявляли, и мы, и наши дети сможем усвоить только часть их образа жизни и мировоззрения. Хотелось бы, чтобы это была лучшая часть.
Размышляя над различиями в системах воспитания, я продумывала простые схемы и таблицы сравнений: у нас так – у них вот так, у нас вот как – у них не так… Много раз потом во время встреч, международных конференций, конгрессов я обсуждала свои таблицы и схемы со специалистами и родителями из разных стран. Я внимательно следила за реакцией слушателей, с облегчением вздыхала, когда замечала, как они радостно узнавали себя в описываемых персонажах, «кружочках», «квадратиках».
Сравнительная психология – самый сложный раздел науки и практики, потому что она требует многомерной оптики. Завтра искусством многовариантного зрения должны будут овладеть дети, чтобы выжить в эпоху глобализации.
Вся жизнь может уйти на поиск простых и ясных решений, схем, формулировок. Я бы предпочла пользоваться чужими открытиями, опираться на опыт предыдущих исследователей.
Но в том-то и дело, что жизнь меняется быстрее, чем психологи успевают ее осмыслить. И даже книга, которую я пишу, чтобы помочь молодым мамам и папам, сверстникам моего сына, устаревает на глазах. Я предлагаю рабочую версию. А продолжение напишем мы с вами, дорогой читатель.
ВНИМАНИЕ: РЕКОМЕНДАЦИИ, СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ, ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ!
В каждой главе, помимо случаев из моей психологической практики, вы найдете схемы, таблицы, с помощью которых я показываю различия между воспитанием у «них» и у «нас». Они позволяют последовательно перейти к рекомендациям по воспитанию и отказаться от «дурных» практик, которые мы используем по старинке, потому что нас так воспитывали.
В конце каждой главы вы сможете пройти экспресс-тест – и по завершении чтения книги станет ясно, кто вы как родитель по темпераменту. А вернувшись к ответам, вы пройдете тренинг «оптимизации темперамента», потому что в качестве тестового материала выбраны типичные ситуации, с которыми российский родитель, как и французский или американский, сталкивается каждый день. Ошибаются все родители, но не все знают, как было бы лучше поступить.
1. Тип темперамента, который получают в наследство родители и дети разных стран
Полный круг темпераментов. Разные темпераменты и способы разрешения конфликтов: Волк, Лиса, Сова и Заяц
Читая эту главу, вы, дорогие родители, узнаете о том, что старинная типология темпераментов до сих пор работает, определяя культурный ландшафт, а также системы воспитания на всей планете. Вы легко научитесь различать четыре типа темперамента – холерик, сангвиник, меланхолик и флегматик. На помощь придут знакомые по русским сказкам звери – Волк, Лиса, Сова и Заяц. Вам помогут рекомендации, как использовать сказки, чтобы сформировать гармоничные отношения ребенка с миром, в котором живет много разных людей.
Все родители одинаково хотят сделать счастливыми своих детей, но на деле делают их по-разному несчастными. Так бы я перефразировала Льва Толстого, которого очень волновали вопросы воспитания.
Каждая система воспитания формирует определенный характер. Характер и есть основной транспортер к счастью. Непоследовательность в воспитании, когда родители утром принимают одно решение, а вечером другое, когда мама и папа не могут договориться, приводит к формированию невротичности у детей. Тяжелый невротик несчастен по определению. Хотя сами родители жалуются на нехватку времени, я бы назвала именно непоследовательность главной проблемой воспитания у современного родителя.
Начнем с упражнения. Выберите по отдельности «образ счастья», «ценные характеристики» (те, которые вы хотели бы воспитать в ребенке прежде всего) и общее впечатление о его темпераменте. Совпадают? Если да, я могу вас искренне поздравить, если вы сомневаетесь, давайте изучим особенности темперамента ребенка, а также вашего собственного, чтобы узнать, наконец, что мы можем ждать от ребенка, что можно в нем усилить, а от чего можно легко отказаться.
УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «РАЗВИВАЕМ ЧУТЬЕ»
Определитесь, какое счастье вы прочите своему ребенку
В ходе научных экспедиций, которые требовали длительного проживания в США и Франции, я обратила внимание, что в разных странах «педалирует» определенный тип темперамента.
Система воспитания выбирается органично темпераменту воспитателя, потому что в своих решениях и действиях мы опираемся на интуицию и чутье. Каждый родитель выбирает знакомые ему по опыту, органичные его темпераменту методы воспитания. Так он прививает ребенку свои собственные привычки и реакции.
Различия между французской, американской и русской системами воспитания обусловлены различиями между «идеальными моделями темпераментов и характеров», которые прививают детям их воспитатели – родители, няни, педагоги.
Американские родители стараются вести себя как сангвиники, чтобы их дети могли стать успешными лидерами и грамотными потребителями. Французские папы и мамы – как интеллектуальные флегматики, аристократы, чтобы дети могли раскрыть и почувствовать уникальные стороны жизни, оставаясь с нею в гармонии. Русские родители демонстрируют два сопряженных темперамента. Как возбудимые холерики, мы хотим контролировать и направлять не только ход событий, но и эмоции окружающих. «Русские воюют до победы!» Как ранимые меланхолики, мы хотели бы рассказать миру обо всех страданиях человечества – в деталях и нюансах, используя все богатство художественных средств, особенно поэзию, балет, живопись, кино.
Большинство родителей предпочтут, чтобы их дети были жизнерадостными сангвиниками, потому что с ними легче договариваться. Но именно среди сангвиников много плутов, пройдох и обманщиков. Буратино, Лиса, Карлсон, которых обожают дети всех стран, вовсе не отличаются высокими моральными качествами, целеустремленностью и работоспособностью, без которых не бывает настоящего успеха.
«Сангвиническая модель» поведения обеспечивает социальную защиту, поэтому мы так охотно демонстрируем или приписываем себе дружелюбие и коммуникабельность.
Между поведением и генетикой есть множественные, но не прямые и не однозначные связи, из которых не так просто выбраться. Привычки поведения прививаются детям в комплексе, вне зависимости от генетического темперамента. Иногда это похоже на переучивание левшей правшами. Жизнерадостный от природы ребенок рождается в семье военного с жесткими методами воспитания и день за днем учится быть жестоким, непримиримым и агрессивным, подавляя природные восторг и радость.
Говоря об «идеальном темпераменте», я имею в виду целостную систему способов взаимодействия ребенка с миром, которые поощряются и продвигаются в определенной культуре. Хотя теории о национальном характере и титульной модели личности постоянно заходят в тупик из-за огромного количества индивидуальных различий, я уверена, что есть несколько ключевых, принципиальных для той или иной культуры отличий, по которым мы распознаем «своих». Как кросс-культурный психолог, я понимаю, как трудно осознавать сходства и различия. Ведь когда нам нравится человек, мы полагаемся на симпатию, а не на формальную оценку его характеристик.
Темперамент – это устойчивые стратегии выстраивания отношений с окружающим миром, людьми и самим собой.
Наиболее ярко темперамент проявляется в конфликтах. Глубина и направленность конфликтов разная. Темперамент напоминает ландшафт, огромную матрицу со взгорьями и впадинами, плюсами и минусами, а темпераменты жителей разных стран различаются по рельефу. И хотя березы растут, а медведи водятся не только в России, почему-то именно эти символы называют русскими…
Теория темперамента хотя и восходит к античному врачу Гиппократу, в последующем была подтверждена и реинтерпретирована многими учеными, которые искали основание для четырех типов темперамента в конституции, генотипе, типе высшей нервной деятельности, климатических условиях проживания народа и т. д.
Четыре темперамента описывают все многообразие базовых характеров, почти так, как три основных цвета (красный, зеленый, синий) лежат в основе всего многообразия красок. Цивилизованный человек с развитой рефлексией и достаточной психологической культурой должен уметь использовать весь арсенал, черпать краски из разных источников, создавая собственное полотно. Но чтобы научиться виртуозной импровизации, нужно уметь опираться на базовые цвета, видеть различия и противоречия.
Сказочные персонажи помогут вам научить детей распознавать людей с разными типами темперамента, видеть их слабые и сильные стороны, понимать основные конфликты между ними, а также прогнозировать поведение.
Обучение базовым, темпераментным различиям в поведении людей – хороший способ формирования эмпатии, способности к пониманию и сочувствию, без которых ваш ребенок, если и будет успешен, не сможет стать по-настоящему счастливым.
Четыре типа темперамента могут быть прекрасно персонифицированы четырьмя животными – Волк (холерик), Лиса (сангвиник), Заяц (меланхолик), Сова (флегматик). В культурах других народов это может быть Слон, Жираф, Шакал и Змея. Но нам ближе те животные, которые обитают в российских лесах и на прилегающих к ним равнинах. К тому же тройка Волк, Лиса и Заяц, как пресловутые Бывалый, Балбес и Трус, главные персонажи в русских народных сказках, архетипические образы.
Палитра темпераментов – основные краски
Психологи используют сказки для психотерапии детей, но сказки в целом – прекрасный экзистенциальный конструктор, содержащий множество вариантов того, как герои могут жить и взаимодействовать в мире. Для этого нужно не только читать и разыгрывать уже известные сказки, но и сочинять собственные сюжеты для героев с устойчивыми амплуа.
ТИПЫ ТЕМПЕРАМЕНТОВ И ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Соотношение с типами личности и астрологическими типами
Мы свои национальные особенности чаще всего ассоциируем с характером Медведя. Медведь у нас в олимпийской и партийной символике. Медведь, который редко выходит на спарринг, по той простой причине, что равных ему нет, а со своими, с медведями, он не дерется. Непобедимый, благородный патриот леса. Помимо недюжинной силы в нем есть мягкость и доброта, нужно только подходец найти, как в сказке про Машеньку и Медведя.
Большой, неповоротливый, мощный, с тяжелой лапой и неровной походкой, самый сильный в наших краях зверь, Медведь фигурирует и в страхах, которые мы наводим на иностранцев.
Но в сказках есть зверь и попроще, чем Медведь, – Волк! В отличие от Медведя, Волк – агрессивный и жадный хищник, вечно голодный и рыщущий в поисках добычи.
Холерик и меланхолик – Волк и Заяц – облюбованы отечественным фольклором. Они презирают друг друга ровно за то, за что каждый из них превозносит самого себя. Волк кичится агрессивностью, которую считает силой, а Заяц гордится моральным обликом вечной жертвы. Благодаря Волку Заяц поддерживает хорошую форму и расширяет свой ареал. Благодаря Зайцу Волк удерживает доминирующие позиции. Если учитывать, что ролевая матрица холерика предназначена мужчинам, а меланхолика – женщинам, то вы легко можете вспомнить супружеский союз с вечно печальным, измученным женским лицом и надменным, жестким, как будто отрубленным лопатой, мужским. Классическая пара.
Никто, кроме жалостливого меланхолика, готового к добровольной жертве, не уживется с опасным в агрессии холериком. Никому, кроме холерика, не пригодится неуверенный в себе меланхолик, преданный и нуждающийся в покровительстве и защите от других хищников.
Союз Лисы и Волка – тоже фольклорный ансамбль, достойный восхищения. Лиса делает ставку на хитрость, маневренность, умение сладко петь, а Волк – на силу своих лап и острый нюх. Лиса питается с разных столов: сангвиник любит ходить по гостям, тусить, развлекаться, питаться уже готовой добычей. Кусочек сыра, оброненный тщеславной Вороной, вполне устроит Лису. Сангвиники не любят трудиться, хотя готовы распевать о своих трудовых подвигах, зато они легко и ловко, без стеснений оценивают и используют чужой ресурс. Только отвернитесь!
Главный конфликт между сангвиником и холериком, Лисой и Волком, лежит в области доверия. Холерик не доверяет никому, кроме себя, закладывает в любой сценарий допуск на то, что подельник может предать. Сангвиника больше мучит вопрос широты и интенсивности контактов. Лиса понимает, что огромный круг ее друзей будет вызывать ревность у Волка, поэтому она постарается внушить Волку, что дружит только с ним. А остальные связи «на стороне» будет скрывать. Волк рано или поздно обнаружит, что Лиса плетет интриги у него за спиной, и постарается раз и навсегда порвать с нею.
Беда только в том, что другие звери, послабее, кажутся Волку еще менее надежными и интересными. Надежды на них мало. Да и сами звери, все, кроме Лисы, обходят Волка стороной, не хотят связываться от греха подальше. Вынужденный, тревожащий Волка союз, с которым он готов мириться до тех пор, пока его роль лидера не оспаривается. Не самый большой компромисс, на который идет Лиса, чтобы чужими, мощными лапами загребать жар.
Заяц вообще избегает всяких конфликтов. В способности быть незаметным, уносить ноги, если запахнет жареным, его скромное счастье. В сказках для малышей Заяц часто плачет и жалуется. Бедное животное получило шанс на более веселую жизнь только в известном советском мультфильме «Ну, погоди!». Там он и поет, и танцует, и хитрит, и составляет достойную конкуренцию Волку. Дело в том, что авторы наделили Зайца чертами Лисы!
Флегматика в лесу представляет Сова. Сову раздражают суетливые социальные игры, сложные взаимоотношения между зверями. Основные интриги Сова предпочтет пропустить, смыкая глаза с восходом солнца. Вроде: «Глаза бы мои вас не видели!» Все, что нужно, она уже давно знает: тысячи лет животный мир живет по одним и тем же законам: хищники сражаются за сферы влияния, сильные поедают слабых, слабые жалуются на тяжелую судьбу, но не брезгуют подбирать крошки за сильными… Сова выше этого. Она переживет большинство обитателей леса.
Пассионарным жителям леса Сова кажется скучной, даже нудной, равнодушной и надменной. Она непонятна и странна: все носятся в поисках пищи, а она спит на дереве, и ничего ее не колышет, если только сильный ветер не зашатает дерево, на котором десятилетиями живет Сова.
Основные конфликты между Волком, Лисой, Зайцем и Совой отображены в таблице.
БАЗОВЫЕ КОНФЛИКТЫ
представителей разных темпераментов
КТО ВЫ ПО ТЕМПЕРАМЕНТУ? ЭКСПРЕСС-ТЕСТ 1
Какие животные вам нравятся?
1. Зоопарку я предпочту цирк – там ловкие, тренированные, красивые животные, которые могут доставить радость людям. ______.
2. Самое нужное и преданное животное – собака. ______.
3. Мне жалко брошенных, покалеченных и потерянных зверюшек. ______.
4. Я не люблю животных. ______.
Рекомендации для родителей
1. Рассказывая сказки, мы сообщаем ребенку и свое отношение к тому или иному типу темперамента.
2. Обсуждая сказки, обратите внимание на черты характера героев, преимущества и недостатки.
3. Обратите внимание, персонажи каких темпераментов преобладают в сказках, которые вы рассказываете. Не слишком ли много там хищников? Не привили ли вы ребенку любовь к сказкам о несчастных героях – Хромой Уточке, Золушке, Зайце?
4. Обсуждая сказку с ребенком, поговорите о том, из-за чего ссорятся персонажи. На чьей стороне правда? Как еще можно разрешить конфликт, ведь сказку можно переписать заново?
5. Чтобы ребенок лучше почувствовал разницу между характерами, поиграйте в перевертыши, поменяйте Волка и Зайца местами! Поменяйте местами Машеньку и Медведя, Лису и Ворону. Будет весело и поучительно.
6. Спросите, кто из персонажей больше всего нравится вашему ребенку? Это очень важно! Прежде чем выбрать кумиров из мира взрослых, дети выбирают идеалы из сказочных персонажей.
Типичный американский родитель – вечно улыбающийся сангвиник-оптимист
Вы узнаете, что такое командный подход к решению проблем. Почему сангвиники не переносят одиночества. Мы поговорим об искусстве плетения интриг, сетей и связей. О приступах оптимизма, энтузиазма и счастья. И о том, во что никогда не поверит сангвиник… Я предложу вам рекомендации, как поощрять в ребенке черты сангвиника и как научить его дружить с детьми этого темперамента.
Американцы даже на парадных официальных портретах и приемах улыбаются. Умение шутить над собой и другими считается хорошим тоном. Титульный герой-американец, чтобы очаровать всех, должен демонстрировать оптимизм, настрой на удачу, открытость и человеколюбие. Более того, он должен не только красиво и просто говорить, но действовать. Впрочем, «активизма» для того, чтобы стать настоящим национальным героем, тоже маловато. Герой должен быть командным игроком, как член национальной сборной по бейсболу или астронавт, который каждую секунду будет чувствовать плечо товарища, а принимая решения, не забудет об интересах других.
Командное мышление американцы формируют уже у детей.
Это не значит, что их учат строиться в шеренги, организовываться в группы по типу наших октябрятских звездочек или пионерских отрядов. Универсального состава команды нет. Это может быть семья, детсадовская группа. Вопрос, сколько человек будут решать задачу, определяется характером самой задачи. Иногда и один человек может работать как фабрика.
Как только я стала выезжать на международные конференции с десятками участников со всего мира, пришлось обнаружить простых американских менеджеров от науки, которые спокойно в одиночку проводили форумы. У нас десятки людей будут бегать, сбивая друг друга с ног, дублируя функции, страхуя и контролируя друг друга («на всякий случай!»).
Как-то в глухом штате Миссисипи, на родине Пресли, в Мемфисе, я спросила «простого американского парня» Джона, как ему удается справляться с таким ответственным делом, в чем секрет его стрессоустойчивости? Я думала, он воспримет вопрос как комплимент и расплывется в улыбке удовольствия. А он зыркнул на меня по-снайперски, надвинул ковбойскую шляпу на нос, из-за палящего зноя, точно так, как в вестернах Сержио Леоне, и промычал:
– Делов-то (Big deal)! Компьютер, телефон, расписание и список участников у каждого. Попробуй потеряйся, детка.
(Ну, конечно, «детка» – это я уже от себя добавила, чтобы завершить образ самоуверенного ковбоя, на которого смахивал Джон.)
Потом я узнала от президента нашей Международной ассоциации по кросс-культурной психологии, что оргкомитет состоит из бывших летчиков, которые воевали во Вьетнаме. А кросс-культурной психологией они стали заниматься уже позже, после очного знакомства с местным населением страны, которое так и не удалось завоевать.
– Это очень по-американски: познание во взаимодействии. Мы – хорошие практики. Больших теорий мы ждем из России и Германии. Философы и писатели оттуда.
– Война – слишком экстремальный способ познания другого народа. Что вы говорите своим детям?
Он засмеялся:
– Чтобы они никогда не воевали с русскими. Будет хорошо, если и вы своим детям скажете нечто похожее. Табу работают.
Американцы не всегда смеются над тем, над чем смеемся мы. Об особенностях национального юмора чуть позже, но они определенно смеются больше, чем мы. И я не встретила пока ни одного американца, который бы ныл, как ему тяжело, как он несчастен и обижен на жизнь. С жалобами – к «шринку», психоаналитику, так, чтобы никто не слышал. Интимные процессы должны протекать скрыто, нужду справляют без свидетелей.
Команда по-американски – это и есть разнородная группа людей, которые быстро распределяют функции, но играют на общий результат. Мы тоже так делаем, например, на субботниках, в те редкие и потому уже запоминающиеся дни, когда вся семья занята уборкой или когда все вместе «рубим оливье» на Новый год.
Тут я задумалась. Наши команды исполнителей, которые пришли мне на ум, женские. Я и мои подруги обсуждаем, я и мои подруги убираем, я и моя подруга рубим пресловутый салат. Мужчины обсуждают политику – это очень важно! Политика, если ее не обсуждать, умрет, как птица без полета. А детей уже давно вытеснили в детскую, вручив им лото, шахматы и вазу с фруктами, чтобы не мешали…
Вот главное отличие русской команды от американской: исполнительные функции в команде достаются женщинам, командирские – мужчинам, а дети – пока «путаются под ногами», «лезут под руку» и «никого не слушают».
Уровень консолидации в наших семейных командах послабей. А дети не привлекаются к работам на равных. В семье принято относиться к ним, как к маленьким и беспомощным.
У них даже астронавты не летали в космос в одиночку, всегда командами. Их киногерой не задает предельную точку напряжения, на которую способен человек, грань между жизнью и смертью. Он считается победителем, если выживет, а не погибнет. Киноиндустрии и Америки, и России внесли заметный вклад в формирование и тиражирование образа героя, которому нет преград ни в море, ни на суше. Но мотивация у героев и высшая точка их напряжения разная: наш герой сражается до последней капли крови, их герой – пока не придут свои, которые всегда близко, уже рядом, на связи…
Улыбчивость, общительность, мобильность, терпимость и энтузиазм – набор черт классического сангвиника.
Но у любого темперамента есть проблемные стороны.
Сангвиник не любит одиночества. Американцы считают одиночество большой проблемой, а умение завязывать контакты, поддерживать их и сообща решать проблемы – важными социальными навыками. Для русского человека, который вначале присматривается, прикидывает, что перед ним за человек, хорош он или плох, нравится он ему или не нравится, знакомство с первым встречным кажется проявлением опасной неразборчивости. Люди такого темперамента не настроены на глубокие и вечные отношения, они предпочитают связи более поверхностные и краткосрочные.
Миф о великой и вечной любви пронизывает все уровни жизни американцев, как детей, так и взрослых. В американских домах выставлено напоказ много открыток, мишек с подушечками в форме сердечек и просто сердечек, на которых вышито, как будто выведено кремом на торте, «I love you». Среднестатистический ребенок в США каждый день не меньше семи раз слышит признание в любви! Как после этого можно сомневаться в своей исключительности?
Сангвиник ни за что не поверит, что его не любят!
Все выдающиеся американцы, любимцы нации, актеры, певцы и президенты, включая последних Буша, Клинтона, Обаму, с экранными образами которых прожил последнее десятилетие весь мир, сангвиники. Знаменитый тренер общения Дейл Карнеги тоже из Америки.
Умение выступать на публике, адаптироваться к любой аудитории, шутить, отыграть репризу к удовольствию присутствующих, сделать эффектный жест, хорошо выглядеть при любых обстоятельствах, во всем видеть только хорошее, или, прежде всего, хорошее и разумное, демонстрировать важность людей (а не вещей и денег) в своей жизни, превозносить семью… Вспомните речи оскароносцев, которые благодарят родителей, супругов и детей.
Сангвиники легко и охотно демонстрируют социально одобряемое поведение, но это не значит, что они так ведут себя всегда!
То, что составляет силу любого темперамента, в предельном продолжении составляет и его слабость. Так, сангвиника может подвести страсть к новизне. Веселый мальчик Кай садится в санки к загадочной Снежной королеве и пропадает без вести. Веселый и любопытный Буратино не слушает советов Папы Карло и попадает в лапы мошенников, таких же, как он, сангвиников и пройдох Лисы Алисы и Кота Базилио.
Сангвиник может заиграться, потерять контроль. Драйв и кайф – важные для него состояния, главный итог игры, не важно, чем она закончится. Целеустремленностью обычно отличается холерик, который в американских мультфильмах представлен агрессивным котом Томом, который гоняется за проворным и всепобеждающим мышонком, сангвиником Джерри.
Из цветов сангвиники предпочитают открытый, радостный светло-желтый. Считается, что этот цвет выбирают люди, которые еще не пережили горя, больших потерь, инфантильные и бесшабашные.
Есть люди, которые не просто стараются во всем видеть позитив, но и считают, что ходить только по светлой стороне улицы – это единственно правильное мировоззрение.
Игнорирование темной стороны жизни опасно. Это приводит к тому, что проблемы не решаются вовремя и принимаются к сведению тогда, когда уже ничего сделать нельзя.
У американцев ценится сообразительность, сметливость, быстрота реакции и другие оперативные навыки. Готовиться к жизни некогда, нужно жить. Они не очень любят рутинную работу.
Сангвиники не склонны к размышлениям, тем более к поиску смысла жизни. Они его уже давно нашли. Он – в удовольствии. Сангвиники склонны широко разбрасывать социальные сети. Собственно идея социальных сетей пришла от них.
Рассказы о своих достижениях американцы считают неотъемлемой частью самой работы.
Иначе зачем трудиться, если ты не получишь за это ни грамоты, ни премии, ни публикации в газете? Социальное признание – тот вид минимального подкрепления, который каждый – от малыша до еще держащегося в седле старого ковбоя – должен получить за свои усилия и даже за свою мечту стать президентом, астронавтом или голливудской звездой. На стенах американских домов висят те дипломы и грамоты, которые пылятся у нас на дальних антресолях, как артефакты ханжеского советского времени, когда мы тоже были социабельными энтузиастами.
ТРИ РУССКИХ ПОГОВОРКИ,
которые очень нравятся американским родителям
1. «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». Большинство благ к человеку приходит через контакты.
2. «Не было счастья, так несчастье помогло». Любая неприятность, если ее точно оценить и вовремя на нее среагировать, может стать ключом к решению более важной проблемы.
3. «Не надо печалиться, вся жизнь впереди, надейся и жди». Запев про то, что оптимисты живут будущим, в предвкушении прекрасных перемен.
КТО ВЫ ПО ТЕМПЕРАМЕНТУ? ЭКСПРЕСС-ТЕСТ 2
Сколько друзей вам нужно?
1. Чем больше, тем лучше. Новые события – новые друзья. ______.
2. Настоящий друг – один, проверенный жизнью. Друг познается в беде. ______.
3. Даже самые верные друзья отправляют нас в отставку. Человек приходит в жизнь один и уходит один. ______.
4. Невозможно найти друга, когда вокруг так много глупцов. ______.
Рекомендации для родителей
1. Обязательно устраивайте и посещайте детские праздники, чтобы ребенок не смущался публичных выступлений и контактов, не избегал в будущем массовых мероприятий.
2. Не ждите, что ребенок сам подружится с детьми. Присмотритесь не только к возможным друзьям ребенка, но и к их семьям. Ведь дети будут ходить друг к другу в гости. Познакомьтесь вначале с родителями, чтобы понять, ищут ли они новых друзей для своего ребенка?
3. Хотя бы раз в неделю делайте что-то вместе по командному принципу, распределив обязанности, каждому по силам, так чтобы вместе начать и закончить общее дело. Весело, например, делать командой уборку.
4. Придумайте смешные награды, вымпелы из альбомного листа, медали из желудей, значки из репейника. Награждайте ими по заслугам детей! А после церемонии награждения не выбрасывайте, спрячьте в особую коробочку. Перебирая награды, мы «подкачиваем» положительную самооценку.
5. Если ребенок стремится общаться с вашими взрослыми друзьями, когда те приходят в гости, не прогоняйте его! Лучше помочь ему высказаться, похвалить, а потом попросить послушать и других. Иначе можно сформировать коммуникативный барьер на всю жизнь.
Француз – трезвомыслящий флегматик, стремящийся к оригинальности: особенности национального «Нельзя!»
Из этой главы вы узнаете, что такое аристократическая сдержанность и здравый смысл. Что французы никогда не паникуют, потому что считают это плохим тоном и невоспитанностью. О том, как французская мама контролирует свои эмоции, чтобы ребенок научился жить самостоятельно. И что ни один запрет французского родителя не устанавливается навсегда. А также вы найдете рекомендации, как воспитать аристократическую сдержанность в условиях российского быта.
Если говорить об отличиях французской культуры от американской, то французам присущ историзм. Они все события рассматривают в развитии и точно знают, что некоторые проблемы проходят со временем и не все вершины можно покорить простым приложением усилий. Иногда нужно просто подождать. Так выращивают плоды. Так растят детей, не требуя от них немедленно и сразу хорошего поведения.
В отличие от русских матерей, которые занимают две крайних позиции – терпеливо сносить все или, наоборот, не давать спуску, не потворствовать ни в чем своим детям, французские матери определяют время, за которое ребенок должен успеть сделать домашнее задание или завязать шнурки на ботиночках, и наблюдают за тем, как справляется ребенок. Если он слишком тянет, вмешиваются, помогают, подсказывают.
Французы предпочитают контролировать не детей, а отдельные действия и поступки. А тотальному контролю предпочитают точечный контроль, включаясь в определенный период.
Это не значит, что все остальное время французская мать не помнит о ребенке, бросает его на произвол судьбы, спохватываясь и нервничая только тогда, когда он что-то делает не вовремя. Это значит, что все, что обычно делает русская мать (стоит над душой, торопит, клянется, что она не встречала такого недотепу, пытается сделать вместо ребенка то, что он пока не успевает, и т. д.), французская мать выполняет во внутреннем плане.
Французские родители считают склонность к гиперконтролю своей тяжелой психологической проблемой, с которой придется справляться, поскольку ребенок растет и нуждается во все большей самостоятельности. Паника и ужас, в которые впадают все матери мира, преодолеваются французскими матерями раньше, чем к этому готова гиперопекающая мать из России.
Однажды мы отправились на пляж в пригороде Нанта с моими французскими приятелями и их дочкой Ноэль. Семилетняя Ноэль, которая не умела плавать, расположилась на скейтборде и потихоньку подгребла к своему отцу, который собирался в тот день «хорошенько поплавать». Этот безумец отплывал все дальше и дальше от берега, приглашая следовать за собой и дочку. Постепенно, к моему ужасу, они удалились на приличное расстояние. Поскольку я уже изучила побережье и опробовала его дно на глубину, я точно знала, что там, где они висели, как поплавки, мирно перебрасываясь фразами, обрывки которых доносил ветер, было достаточно глубоко, до дна не достать, опасно.
Я уверена, что отец контролировал ситуацию и готов был подхватить девочку в случае, если бы она перевернулась из-за неосторожного движения или внезапно набежавшей сильной волны. Но все равно меня трясло. Успокоилась я только тогда, когда они вернулись на берег – радостные и отдохнувшие, а не напряженные и обеспокоенные, как я могла бы ожидать, проживая на свой лад рисковый заплыв. Папа и дочь наслаждались общением, мама девочки спокойно спала, а я боролась с кошмарами в своей голове.
Я вспомнила, что когда мой сын впервые отправлялся во французскую школу на другой конец Парижа, я также испытывала панику, а воображение рисовало мне страшные картины крушений и столпотворений в метро, в которые неизбежно попадал мой десятилетний мальчик.
Виной тому не только повышенная нервозность родителей в России, привычка беспокоиться и страховаться, но и небезопасная обстановка в Москве – городе, в котором мы жили прежде.
После опыта проживания и работы в Париже я поняла одно: если ты стала мамой, тем более мамой мальчика, нужно готовиться к бесстрашию, которое со временем должно перевариться в привычку вести себя сдержанно. Иначе ребенок вырастет неуверенным невротиком и проведет всю жизнь в ожидании неприятностей на каждом шагу.
– Как ты думаешь, – спросила я как-то мужа, – почему мы такие тревожные и нервные? Я чувствую себя истеричкой рядом с невозмутимой Флоранс.
Флоранс – это наша соседка, которая терпеливо ждет, пока ее дети перебесятся перед лифтом и войдут в него, не прекращая игры и не обращая внимания на стоящих рядом чужих взрослых. Наши дети приучены отслеживать хотя бы краем глаза передвижение взрослого, ориентироваться на него и улавливать малейшие перемены в его настроении. Достаточно было бы строгого взгляда, чтобы дети затихли и вели себя послушно, не шумя и не прыгая.
– Почему мы нервничаем? На всякий случай. Паника – способ мобилизации. Внутренний набат. И потом, это способ предупредить неприятности у дикарей. Так заигрывают с Фатумом, судьбой: «Я знаю, что опасность рядом, и я отдаю ей должное!» Ритуальный страх язычника, который хочет откупиться от неприятностей. Ничего рационального в этом, судя по всему, нет. Но мы так привыкли. Живем в боевой готовности на случай войны.
– А ты разве не боишься за нас, за сына?
– Я не боюсь. Но я переживаю! Мужчин учат держать страх под контролем. Страх мешает воспринимать события адекватно. Перекашивает картину мира. Это как надеяться попасть в «десятку», когда руки и хвост дрожат, – засмеялся муж.
Я поняла, что муж размышлял на эти темы.
– Значит, французы более мужественные? – решила подразнить его я.
Наслышаны мы о том, как они сдали страну Гитлеру, дожидаясь, пока он не выдохнется в России…
– Думаю, они более адекватные. И они щадят своих детей, не треплют им нервы своими страхами. Они пользуются рассудком, который подсказывает, что жить с дрожащим хвостом нерационально. Даже детям. Еще раз повторяю: охотник, у которого дрожат руки, никогда не попадет в цель.
Когда мой особенный муж раздражался, обсуждение заканчивалось. Он считал себя умнее меня и всех французов, вместе взятых. Он – настоящий русский!
Кстати, когда мы с сыном оказалась в университете Нанта, новый знакомый эмигрант из России – двадцатисемилетний Алексей, которого вывезли родители в возрасте 15 лет из Кемерово, теперь уже сам отец маленького Левушки, вызвался отвезти нас в один из портовых дотов на берегу Атлантики.
Во время Второй мировой войны в огромных железобетонных ангарах стояли немецкие подводные лодки. В период оккупации город превратился в трудовой лагерь, французов использовали как рабов на строительстве египетских пирамид. Я еще раз убедилась, что французы – не из тех, кто кипятится, сразу хватается за топор или ружье, а из тех, кто умеет ждать нужного часа.
Сдержанность и рассудительность французов не раз выводили меня из себя, как флегматик выводит из себя холерика. Слишком часто мне казалось, что французские родители совершенно не переживают из-за своих детей.
Когда я не выдержала и поделилась наблюдениями со старой русской эмигранткой Еленой Бестужевой, которая всю жизнь проработала секретарем в русско-французской культурной ассоциации, она только пожала плечами.
– Я не думаю, что то беспокойство, которое вы излучаете, – это и есть материнская любовь. Советские матери напоминают цунами, торнадо, не оставляющие ни малейшего шанса инициативе ребенка. Конечно, французы переживают за детей, но не больше, чем следует.
– Разве это не холодность – выбирать меру своим чувствам? – удивилась я.
– Не холодность, а искусство! Соразмерять усилия и чувства с возможностями и желаниями других людей, тем более возможностями ребенка, – это большое искусство. Не в этом ли цель воспитания?
– И вы считаете, что это проблема советских матерей? А до революции все было по-другому?
– До революции точно все было по-другому. Но русские всегда ведут себя пассионарно. Чувство меры – это не наша сильная сторона. Пожалуй, политика тут ни при чем. Мы всегда были такими.
Наша пассионарность проявляется не только в борьбе и на войне, но и в родительстве.
Аристократическая сдержанность и глубокое равнодушие к любому проявлению низкой, вульгарной культуры спасает от того, чтобы вовлечься в губительные не только для репутации, но и для психики игры. Сдержанность, на мой взгляд, – краеугольный камень французской системы воспитания.
Французские родители не поддаются на провокации, демонстрируя чудеса стрессоустойчивости по отношению к детям. Аристократический стандарт поведения не просто реликт старой культуры. Он бережно хранится, культивируется, отслеживается и приумножается. Он проявляется в манере одеваться, манере говорить, стиле одежды, практике еды и пития. Завидная невозмутимость и монументальное спокойствие, за которыми могут кипеть большие страсти, – вот кто такие французы.
Французские родители напоминают французских политиков. До поры до времени они безмятежно наблюдают за шалостями детей, граждан своей маленькой страны, но, если те переходят демаркационную линию, сразу врывают на этом месте мощный пограничный столб с табличкой «Нельзя!». Если вы еще думаете, что французы ведут себя взбалмошно, делают, что хотят, и позволяют вольности, уверяю: хотя слово «свобода» написано на знамени французской революции, у них достаточное количество табу.
В отличие от русского родителя француз не кричит по всякому поводу «Нельзя!» как пожарная сирена, но, сказав это, не только готов обосновать свое требование, объяснить даже малышу, почему нельзя, но также не отступать от табу, пока не появится достойная контраргументация. Особенность нашего национального «Нельзя!» в том, что оно обозначает чаще «Нельзя, пока я здесь. Не будет меня, делай, что хочешь!». Основной аргумент российского родителя: «Нельзя, потому что я так сказал!»
Интересный разговор произошел у меня с Пьером, мужем русской по происхождению Алины, матери четырех детей, двое из которых – от русского мужа-олигарха, убитого в Париже в суровые девяностые.
– Наша свобода модерируется. Мера свободы всегда может быть довольно точно согласована. Для этого нужен разговор, обсуждение. Но русские молчат, как партизаны. Когда я хочу что-то выяснить у Алины, понять, почему она себя ведет так или иначе, она запирается и молчит. Когда я хочу обсудить с ней вопросы воспитания, понять, почему она так жестко наказывает детей, она начинает сердиться.
– Вы думаете, она что-то скрывает?
– Если бы. Хуже. Она не знает, чего хочет. Если бы она скрывала ответ, это было полбеды. Она его не знает. А в результате, когда она запрещает что-то детям, это похоже на смертную казнь. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
После этого разговора я вспомнила, а какие у нас самые важные запреты, которые даже не обсуждаются.
ТРИ ФАТАЛЬНЫХ «НЕЛЬЗЯ» В РУССКОМ МИФЕ,
о которых никогда не узнают французские дети
1. Не есть! Запреты на еду и предупреждения об ее опасностях звучат в известных сказках: «Не садись на пенек, не ешь пирожок!», «Не пей, Иванушка, козленочком станешь!», «Колобок, Колобок, я тебя съем! – …И от тебя уйду!».
2. Не учиться! Недоросль из одноименной повести Фонвизина, Незнайка из рассказов Носова.
3. Не жить! Спящая красавица из поэмы Пушкина, «Анна Каренина» Льва Толстого – про женщин, которые умерли без любви, одна до, а другая – после встречи с возлюбленным. Все равно не жить.
КТО ВЫ ПО ТЕМПЕРАМЕНТУ? ЭКСПРЕСС-ТЕСТ 3
Как вы реагируете, если на ребенка жалуются? Представьте, что воспитатель детского сада жалуется на то, что ваш ребенок не слушается и мешает проводить занятия. Ваши действия?
1. Вы разворачиваетесь к ребенку и начинаете его стыдить. ______.
2. Широко улыбаетесь и благодарите воспитателя за то, что ребенку уделяется особое внимание: ведь так он быстрее станет лидером! ______.
3. Вы обрываете воспитателя на полуслове и требуете, чтобы ребенка оставили в покое, прекратили его несправедливо критиковать и преследовать! ______.
4. Вы ничего не отвечаете, берете ребенка и уходите: воспитатель – временная фигура, плохо образованная тетка, не стоит того, чтобы тратить на нее время и мозги. ______.
Рекомендации для родителей
1. Если ребенок шалит, капризничает или совершил оплошность, не спешите реагировать сразу, отведите ребенка в сторону и попробуйте поговорить без посторонних.
2. Если ребенок проголодался, не стоните от счастья в умилении, что дитятко хочет кушать, а вместе вымойте руки, накройте на стол, а только потом приступите к трапезе.
3. Учить ребенка грамотному поведению в опасных ситуациях нужно не на словах. Берите за руку и – вперед! Показывайте, комментируйте, постепенно расширяя зону свободы ребенка.
4. Если вы хотите научить чему-то ребенка, разбейте сложное действие на отдельные операции. Уделите внимание каждой из операций, не требуйте, чтобы ребенок исполнил все и сразу!
Русский – пассионарный холерик, как у Толстого, или мечтательный холерик, как у Чехова
Мы поговорим об амбивалентности русской ролевой матрицы и секретах русской харизмы. О том, чему нас научили классики и в чем разница между наставлениями Достоевского, Гоголя и Чехова. О том, что мы, русские, активные или репрессированные холерики, то есть меланхолики. Я расскажу, как совладать с гипервозбудимостью детей русского происхождения, и предложу рекомендации, как воспитать сильного духом ребенка.
Всем досталось по одному титульному темпераменту, а нам два противоположных, созависимых.
Холерик и меланхолик, агрессивный и тревожный, возбудимый и мерцающий переливами всех красок, неудержимый экстраверт и безутешный интроверт, невменяемый борец и безнадежный ипохондрик…
Храбрость и трусость нужны друг другу как элементы одной ролевой матрицы. Наша культурно-ролевая матрица сложна – она амбивалентна.
Русские литературные герои, на примере которых учатся до сих пор наши дети, штудируя романы XIX века, поражают своей безграничностью – широтой души и высотой идеалов.
Русских считают по праву самыми сильными людьми в мире.
Победа во Второй мировой войне, пьедесталы на Олимпиадах, прорыв в космос производят сильнейшее впечатление на людей из разных стран. Восторг, ужас, изумление. Русские никого не оставляют равнодушными, потому и сами неравнодушны. Нам есть дело до всего, что происходит на планете.
Одна из самых любимых и читаемых книг в России «Маленький принц» французского летчика и писателя Экзюпери. Герой этой книги, Маленький принц, любим, потому что каждое утро наводит порядок на своей Планете. Человек из России внутри несет бесконечный Космос, раз уж чувствует силы сберечь Планету. Более того, мы считаем, что усилием воли можно планету заставить вертеться в другую сторону.
В маленьком человеке нужно развивать и психологическое, и социальное, и символическое «Я». Иначе произойдет застревание, как говорят психологи, гиперпроекция «Я» на реальность. А тогда уже трудно понять, с чего начинать – с себя или с вечно неспокойного мира. Идти к психологу или на митинг, совершать революцию на глазах у всего мира? Мотив «жить ради людей» часто расшифровывается не как «ради близких», а ради вообще всех людей на свете, даже тех, кто еще не родился.
Русские начинают свой день не с чистки зубов, а с просмотра новостных лент, чтобы узнать, «какая в мире обстановка». Наши новостные выпуски начинаются не с прогнозов погоды, как у американцев, которые с утра прикидывают, какие калоши им обуть, а с тревожных сообщений со всего мира. Когда планета в огне, проблемы семьи и собственной личности кажутся мизерными и недостойными внимания.
Небрежение к вопросам частной жизни происходит во многом из-за слишком большого масштаба линейки, с которой мы к ней подходим. Мы недооцениваем людей и события, из которых и состоит личное счастье.
Сильные люди, которые могут сделать нечто, недоступное большинству, навсегда окутаны харизмой. Французы ценят эксклюзив. В Америке знают Толстого (в основном благодаря экранизациям, в том числе пародии Вуди Аллена «Любовь и смерть»), Гагарина, Барышникова, изобретателя телевизора Зворыкина, то есть тех, кто так или иначе связан с шоу-бизнесом, потому что полет в космос – это тоже шоу. Во Франции с восхищением вспоминают представителей первой волны русской эмиграции – Дягилева, Шаляпина, Бунина, то есть представителей искусства – символический капитал, за счет которого живет и современная эмиграция из России. Да и мы.
Литературный миф о русском национальном характере, как мне кажется, был осознан и закрепился в литературных мифах в XIX веке. Великие писатели создали великие сюжеты сродни архетипическим, библейским, которые потом как «Отче наш» усваивали и переваривали последующие поколения.
Если говорить про типы темпераментов в русской литературе, то герои Толстого – почти все возбудимые холерики, а герои Чехова – почти все мечтательные меланхолики.
Классическая литература в XIX веке стала главным каналом трансляции русской ролевой матрицы, значимых для нас способов взаимодействия и поведения.
Обучаясь в школе, мы усваиваем ценности, идеалы героев. На уроках литературы они обсуждаются, как если бы были живыми людьми.
Гоголь вывел на сцену русской жизни, акцентуировал и сильные, идущие до конца фигуры вроде Тараса Бульбы, и тревожно-мнительных персонажей, маленьких людей, чиновников с шинелями или Хомы из «Вия». Поэтому Гоголь, на мой взгляд, самый панорамный русский писатель.
Среди гоголевских персонажей в «Мертвых душах» почти все холерики. Самый яркий Ноздрев – прямолинеен, беспардонен, хамоват, громок. Плюшкин, чахнущий над остатками злата Кощей, тоже холерик. Холерик ориентирован на материальный мир, а не на людей. Вещи, деньги, власть, положение, физические удовольствия он ценит выше психологических этюдов и социальных связей. Попробуй у него что-то отбери. Холерик готов взять, но отдавать ему трудно: самому нужно. Желания и границы своего «Я» блюдет, но чужие нарушает охотно и без церемоний – по праву сильного. «Кто сильнее, тот и прав», «Против лома нет приема!» – принципы холерика.
Пушкинский Евгений Онегин – не русский человек, а, скорее, залетевший к нам из Европы Чайльд Гарольд. Толстой верно оценил и отразил масштаб национального характера. Главные герои его произведений – пассионарии, холерики. Пьер Безухов и Наташа Ростова, старый и молодой князья Болконские, капитан Тушин, Анна Каренина и Вронский, Левин, Катюша Маслова и Нехлюдов. У большинства персонажей Толстого были реальные прототипы. Писатель сохранил даже портретное сходство с ними. Но главное в характере – поступки, иногда экстравагантные, но всегда сильные, на пределе напряжения, на грани жизни и смерти.
Образ дубины народной войны со всей ее грозой и величественной силой отражает агрессию в национальном характере. У русских всегда была готовность сражаться до последней капли крови. «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет!» Читатель может недоумевать: а разве есть варианты? Но это читатель из России. Европейца такая кровожадность и невменяемость пугает, он склонен к играм по правилам, без излишних жертв и запредельного, нечеловеческого, напряжения.
Роль Чехова в национальном самосознании – особая, потому что он единственный описал частную жизнь маленького человека вне исторических и нравственных координат. Он попытался разобраться в желаниях человека, столкнулся со слабостью его «Я». Его герои – не масштабные личности, а кое-как живущие люди, которые иногда впадают в экзальтацию, совершая необычные поступки. А потом снова – сплин, скука, меланхолия…
У русских до сих пор нет частной жизни. Масштабные идеалы и национальные мифы о «настоящих» делах героев провоцируют на поступки, в которых заинтересовано общество, но которые чаще всего не решают никаких личных проблем.
Достоевский – особая тема для психологов, которых писатель ставил в один ряд со шпионами. Ну да, мы проникаем в души и узнаем секреты граждан, он прав… Только недоверчивый холерик мог сделать такое наблюдение.
У холериков взрывной характер. «Еxplosive» – именно так обозначают в своих рассказах американские и французские мужья русских жен. Скрытные, неуправляемые, сильные.
«Русские женщины – очень сильные и своенравные (voulnerable), возможно, они самые сильные женщины на свете. Они привыкли принимать решения сами, – размышлял Пьер, французский муж моей русской знакомой. – Я долго думал, почему моя русская жена себя так ведет? Ваша страна много воевала, наверное, произошел естественный отбор. Женщинам приходилось принимать решения самим, не обсуждая с мужчинами… Жена жалуется на то, что я ее контролирую. Но ведь она сама знает про меня все. Опасения, что кто-то ее контролирует, – только обратная сторона ее своеволия!»
По мнению одного из американских мужей и отцов, Джона, русские отличаются повышенной агрессивностью и готовностью в случае конфликта не снижать напряженность в отношениях, а, наоборот, нагнетать ее, доводить до максимума.
– Такой способ направлен на продавливание своих решений, а не на обсуждение общих планов, с учетом желаний всех участников конфликта. Так ведут себя варвары. Они применяют силовые приемы.
– Моя жена никого не спрашивала, когда решила эмигрировать. Ее не остановили даже дети.
Любая русская женщина ответила бы на это замечание:
– Дети не обуза. Напротив, русская женщина становится бесстрашной, если у нее есть дети. «Ради детей» – это очень сильный мотив.
У нас действительно поощряется самоотверженность матерей. Думать об этом больно. Но именно эти качества матерей-героинь обеспечили выживание детей в тяжелые военные годы, в длительные периоды разлук с мужьями, нищеты и стихийных бедствий. Социальные гарантии настолько низки и ненадежны, что людям приходится полагаться на себя. Оглядываясь назад, я могу с горечью сказать, что у нас еще не родилось ни одного поколения, которое бы выросло в нормальной полной семье. Война давно уже кончилась, но на карте нашей ментальности до сих пор ведутся тяжелые кровопролитные бои.
Историк и социолог Ксения Касьянова в конце 70-х – начале 80-х годов прошлого века провела масштабное исследование с помощью батареи клинических методик и пришла к выводу, что большинство россиян – эпилептоиды. Эпилептоидность – акцентуация характера, это такой ритм внутренней жизни, для которой характерен синусообразный рисунок: постепенное нарастание напряжения, разрядка и резкий спад, с последующим низким плато. Такая амплитуда похожа на рисунок эпилептического припадка. Припадок – это крайняя форма проявления внутренней жизни человека с таким характером. Так ведут себя холерики по темпераменту.
Природа холерика такова, что у него бессознательные формы поведения часто преобладают над осознанностью. Поведение подчиняется самым сильным инстинктам и желаниям. Это люди с очень сильным, гипертрофированным «Я», те, которые считают, что ближайшее окружение должно состоять из покорных людей, признающих их безусловный авторитет. Оценивают они людей с точки зрения преданности, надежности и полезности.
Не бывает плохих и хороших темпераментов. Это лишь динамическая характеристика. Выбор – повести себя благородно или подло – человек совершает на основании системы ценностей, которые привиты ему с детства.
Счастье холерика в обладании и властвовании, а не в радости, разделенной с другими. Холерики чрезвычайно выносливы и целеустремленны.
Простые задачи, легкие в общении люди нас, русских, не интересуют. Нам нужно сворачивать горы! Масштабные идеи вроде мировой революции чрезвычайно возбуждают наше воображение. Как говаривал красный маршал Климент Ворошилов, «мы не только умеем воевать, мы любим воевать».
Но в моменты спадов (а синусоидный рисунок повторяется и в более продолжительной перспективе) человек такого типа предпочитает полную неподвижность и может прослыть Обломовым или Емелей на печи.
Повышенная возбудимость холерика позволяет ему быстро – и порой чрезмерно – мобилизоваться. Наша привычка громко говорить, как будто вокруг глухие, размашисто ходить, хлопать дверью, чуть что – давать по лбу или возмущаться, как будто мир полон несправедливости и всякому терпению уже пришел конец, – все это реликты мобилизационной активности и готовности кричать «Караул!» при любых намеках на опасность. Из состояния полного покоя холерик делает резкую вертикальную стойку, но, когда возвращается к исходному положению, засыпает сразу и надолго.
Гипервозбудимость детей, на которую жалуются наши мамы, во многом стимулируется повышенной возбудимостью самих родителей.
В семье, где разговаривают, стараясь перекричать друг друга, ребенок растет тревожным, нервным, с готовностью то ли расплакаться, то ли закричать. Поскольку дети чаще всего не знают или не понимают истинных причин перевозбуждения в семье, немотивированные агрессия, печаль, страхи, подавленное состояние или неукротимое желание куда-то бежать – вот на что жалуются дети и подростки, когда пытаются разобраться в своих чувствах.
ТРИ СПОСОБА СОВЛАДАНИЯ
с проявлениями гипервозбудимости – гневом, страхом, агрессией
1. Гнев – это возмущение по конкретному поводу. Его не следует подавлять, его нужно уметь выразить – без ущерба для себя и окружающих. Ребенку нужно помочь выразить свою претензию.
2. Страх вызывает желание или спрятаться, или бежать. Очень важно оценить угрозу. Но поговорить о страхах можно после того, как напряжение спадет. Лучший способ снять напряжение и успокоить ребенка – прижать его к себе и погладить по голове, создать чувство психологической защиты. Потом можно предложить ему вместе нарисовать или слепить то, что вызывает ужас. Если ребенок понимает, что страхами можно управлять, он успокаивается.
3. Если гнев ситуативен по происхождению, а страх касается отдельных сторон жизни, то агрессия – целостная личностная характеристика. Чтобы совладать с нею, нужно менять образ жизни – свой и ребенка. Как правило, агрессия – показатель накопленного дефицита любви.
Экзальтация, неестественная радость, бравада – с одной стороны, и ностальгия, тоска – с другой, перепады настроения, тревожное ожидание будущего, чувство обреченности и брошености – все, что прекрасно отражено, описано и сыграно в нашей культуре, мы выносим из детства.
Кстати, дети при этом держат маму за руку, но небрежение к «младшим по званию», «мелким» таково, что мамы уверены: дети ничего не слушают, потому что им это неинтересно, а если и слушают, то ничего не понимают. А если и понимают, никому не расскажут. А если и попытаются рассказать, то никто им не поверит. А если и поверит, то можно будет сослаться на глупость ребенка, а потом всыпать ему так, чтобы неповадно было.
Наши дети молчат.
Еще одна важная черта холерика – негативизм, склонность отрицательно реагировать на любую инициативу. А сказав «Нет!», уже не сходить с места.
Ребенок перестанет обращаться к родителям, если будет постоянно натыкаться на резкий и категорический отказ выслушать его.
В глубине души мы считаем: детские вопросы глупые, детские жалобы слабые, детские просьбы дерзкие.
Холерики лучше всего выживают в условиях иерархии. Строго выстроенная сверху вниз вертикаль отношений – наиболее понятна и справедлива для большинства россиян. Она держится на суровой дисциплине. Она не терпит возражений. Команды не обсуждаются. Самое главное, считают наши родители, – это воспитать послушного ребенка.
Не исключено, что именно в результате репрессивного воспитания и появляются слабые или псевдослабые типы (страдающие синдромом выученной беспомощности), которые ведут и чувствуют себя как классические меланхолики.
Иван Тургенев считал, что в России проблема «отцов» и «детей» неистребима, а мощное поколение «гамлетов», готовых пойти на принцип и погибнуть за идею, сменяется поколением «дон кихотов», слабых инфантильных фантазеров.
КТО ВЫ ПО ТЕМПЕРАМЕНТУ? ЭКСПРЕСС-ТЕСТ 4
Что для вас важнее?
1. Достигать цели. ______.
2. Наслаждаться жизнью, общением, путешествиями. ______.
3. Не нарушить моральные заповеди. ______.
4. Не тратить время на банальности, нужно заниматься чем-то особенным, эксклюзивным. ______.
Рекомендации для родителей
1. Каждый раз, когда вы отказываете ребенку, говорите решительное «Нет!», остановитесь и честно ответьте себе на вопрос: вы отказываете, потому что он просит чего-то запредельного, или вы просто хотите напомнить, кто в доме хозяин?
2. Хотя бы иногда уступайте ребенку роль командира. Вы увидите, как он вас копирует и как вы выглядите в его глазах.
3. Заведите правило: прежде, чем принимать решение, важное для всей семьи, поинтересуйтесь, готовы ли все члены семьи последовать за вами.
4. Давая вслух нелестные характеристики друзьям и родственникам, мы внушаем ребенку недоверие к людям. Нужно принять: общение для некоторых людей – это способ поделиться радостью, для некоторых – способ защиты. И лишь немногие заводят контакты из меркантильных соображений, чтобы вами попользоваться.
Приемы совладания с детьми разных темпераментов
Мы поговорим о том, как особенности темперамента ребенка, если их не учитывать, становятся непреодолимым препятствием в общении. Какие тактики лучше использовать, если ваш ребенок – холерик или меланхолик. Что такое оптимальный уровень достижения и как его корректировать.
Дети с сильным темпераментом особо нуждаются в физической активности. Если удерживать их в спокойном состоянии, они будут уставать психологически и поэтому капризничать, проявлять агрессию. Иногда родители, не учитывая особенностей ребенка, исходят из того, что возбудимые дети требуют особого покоя, изоляции, а их нервная система нуждается в охранном режиме. В ход идут даже нейролептики! В то время как дело обстоит ровно наоборот: занятия спортом, продолжительные прогулки на воздухе, подвижные игры – прекрасные способы удовлетворить физические потребности ребенка сильного темперамента. Когда такие дети подрастают и сами выбирают уровень нагрузки, обнаруживается, что у них прекрасные сон и аппетит, и настроение становится более устойчивым.
Очень часто в жалобах именно наших мам слышны признаки холерического темперамента ребенка.
Если сравнивать продуктивность людей четырех типов темпераментов, то обнаружится, что для достижения одной и той же цели каждому из них необходимо разное количество усилий.
Холерик отличается необычной силой, и плохо, если он не умеет соизмерять свои намерения с поставленной целью.
Холерик готов прилагать максимальные усилия, ему нравятся трудные задачи, он любит психофизическое напряжение, но именно эти особенности могут мешать холерику «попасть в десятку».
Иногда ему приходится «делить себя на два», чтобы попасть в цель. Если холерик первый раз берет в руки клюшку для гольфа, его мяч летит гораздо дальше лунки, в которую он целился. Слон в посудной лавке – вот как ведет себя холерик в ситуациях, которые не требуют размаха и силы.
Оптимальный уровень достижения демонстрирует сангвиник. Дети-сангвиники поражают нас своей адаптивностью и обучаемостью. Они чрезвычайно ловки, неугомонны, соотношение их усилий и цели сбалансировано.
Меланхолик, напротив, нуждается в усилении, в поддержке и в заверениях, что у него все получится, хотя и не сразу.
Флегматики стоят особняком, они хотели бы сами определять правила игры, критерии успеха. Если ребенку-флегматику что-то по-настоящему интересно, он может заниматься любимым делом часами. Но если интеллектуального интереса нет, флегматик не справится и с простыми действиями, которые, кажется, не требуют ни ума, ни ловкости. Флегматик предпочтет делать что-то уникальное, в одиночку, в покое, без внешнего контроля. Его восхищает перспектива сделать что-то экстраординарное, что никто ни до него, ни после него не сможет сделать.
Дети-флегматики с высоким IQ упрямы, настойчивы и неутомимы. Они требуют дополнительной информации, задают много вопросов – гораздо больше, чем их сверстники. Кажется, их любопытство никогда не удовлетворится, они настоящие марафонцы в интеллектуальных играх. При таких очевидных достижениях, ребенок может уворачиваться от того, чтобы чистить зубы по утрам, потому что это скучно. И потому что это делают все, любой сможет.
Известный всему миру математик Перельман, живущий уединенно в своей скромной квартире в Санкт-Петербурге, – яркий пример социальной индифферентности и интеллектуальной увлеченности. Он – настоящий европеец, исходящий в решениях из запросов своей личности. И он – флегматик по темпераменту.
Нестабильность, неуравновешенность, эмоциональный размах – вот общий радикал холерика и меланхолика и главное отличие русских от европейцев и американцев.
ВЕРНЫЕ СПОСОБЫ РАСШАТАТЬ ПСИХИКУ РЕБЕНКУ,
усилить эмоциональную нестабильность
✓ Кричать на ребенка при любом мало-мальском нарушении, отклонении от заданной установки.
✓ Постоянно менять тактики воспитания.
✓ Если мама сказала «Да!», папа непременно должен сказать «Нет!».
✓ Таскать ребенка с собой по магазинам, гостям, парикмахерским.
✓ Публично стыдить.
✓ Сравнивать с другими детьми, вслух и не в его пользу.
✓ Насильственно кормить.
✓ Бить.
✓ Высказывать желание убить собственного ребенка.
✓ Рассказывать, что дети, особенно свои, неблагодарные твари, обуза.
✓ Клясться, что никогда в жизни вы не родите больше ни одного ребенка.
✓ Требовать молчать, когда разговаривают старшие.
✓ Оставлять ребенка одного в темной спальне, даже если он жалуется, что ему страшно.
✓ Брать на похороны и заверять, что все умрут.
✓ Обещать сводить в зоопарк в «следующее воскресенье» и в последний момент отказаться, и вообще постоянно менять планы.
✓ Ругать за глаза при ребенке гостей, которые только что ушли.
✓ Использовать ребенка в качестве психотерапевта.
✓ Предрекать конец света, плохую погоду, рост цен, катаклизмы, что-нибудь обязательно плохое.
✓ Проявлять сильные эмоции еще до того, как сообщена причина возмущения, агрессии, крика, рева.
✓ Напиваться и буянить при ребенке.
✓ Неделями не обнимать ребенка, почти не видеться, а потом наброситься на него с объятиями и подарками.
✓ Признаваться в любви и снова надолго исчезать.
✓ Все время врать ребенку, равно как и рубить правду-матку в глаза, пока он не заплачет.
✓ Не покупать ему того, что он хочет, даже на день рождения.
За эмоциональность и непредсказуемость нас любят в мире и нас же боятся. Наблюдать издалека или в формате сцены, киноэкрана, хоккейного поля за сильными, самоуверенными людьми – особое удовольствие. Они кажутся грациозными и мощными. Другое дело в реальной жизни…
Один американский папа рассказывал, что после русской жены он два года ходил по психоаналитикам, но после снова женился на русской. «Русские страстные, искренние и живые!» – такое оправдание он придумал.
В Америке же я встретила бизнесменов, которые обанкротились, вложив все свои средства в рыболовецкие трейлеры во Владивостоке. Их попросту «кинули». В разговоре американцы, которые потратили остатки средств на адвокатов, но так ничего и не отыграли, говорили о России с восхищением: «Страна, которая запустила в космос первого человека, обязательно еще чем-то удивит мир!» Говоря психологическим языком, у них сформировались созависимые отношения с русским мифом. Мы тоже не можем пока выбраться из своего мифа о героизме и непобедимости. Спасительный и мобилизующий в условиях войны, он чрезмерен в контексте уютных квартир, он разрушает нашу частную жизнь – как слон в посудной лавке.
КТО ВЫ ПО ТЕМПЕРАМЕНТУ? ЭКСПРЕСС-ТЕСТ 5
Что вы считаете главным в воспитании ребенка?
1. Строгость и последовательность. _____.
2. Понимание и сочувствие к его потребностям. _____.
3. Любовь и обожание. _____.
4. Хорошее образование. _____.
Рекомендации для родителей
Три стратегии, как амортизировать эмоциональную возбудимость ребенка.
1. Похвалить и успокоить ребенка, который чем-то расстроен, испуган или раздражен. Именно в такой последовательности: похвалить и успокоить. Когда мы хвалим ребенка, мы даем понять, что понимаем, что и почему он делает. Успокоение направлено на снижение эмоционального возбуждения.
2. Успокаивать ребенка надо без негатива. Не используйте фразы наподобие: «Не делай так!», «Не беси меня!», «Не кричи!», «Не смей мне перечить!». У детей холерического темперамента ваше «Нет!» вызовет протестную реакцию. Предлагайте позитивно: «А мне понравилось, как ты делаешь…», «Было бы интересно посмотреть, что получится, если…», «Как бы нам…».
3. Предваряйте яркие события в жизни ребенка, походы в гости, на праздники рассказами о том, что будет там происходить. Агитируйте ребенка участвовать в коллективных мероприятиях, обещайте быть рядом. Не пугайте людьми, давая им нелестные характеристики, а наоборот, подчеркивайте достоинства, формируйте у ребенка интерес к новым знакомым. А по завершении событий не забудьте передать или напомнить ребенку комплименты, если кто-то успел обратить внимание на него. Социальные страхи «лечатся» общением и положительной обратной связью со стороны окружающих.
Национальные особенности принятия решения
Вы узнаете, почему мы скрываем правду от своих детей, в отличие от американцев, которые готовы говорить с ребенком обо всем. Мы поговорим о структуре принятия решения у русских родителей. И о том, почему русский родитель усиливает контроль и критику, вместо того чтобы объяснить и потренировать новые навыки у ребенка.
Говорить правду детям у нас не принято. Считается, что ребенок, во-первых, ничего не поймет, а во-вторых, если узнает правду, будет шокирован. Когда мы подозреваем американцев в том, что они что-то скрывают за лучезарными улыбками, мы приписываем им свои черты. Российский родитель в силу привычки держать тылы прикрытыми и от детей будет скрывать истинные намерения.
У холериков и меланхоликов всегда есть второй план, который они скрывают, чтобы оставаться неуязвимыми. У сангвиников нет второго плана.
Есть много тем, на которые говорить с детьми действительно непросто, но в том-то и состоит суть воспитания, чтобы искать общий язык с ребенком, объяснять ему сложные вещи.
Второй, и третий, и четвертый планы есть у французских родителей. У них множественное зрение. Если русский родитель часто меняет тактику ровно на противоположную (у нас «от любви до ненависти один шаг»), американский родитель может гарцевать, менять траекторию движения, как ковбой, уходящий от преследования. А французский родитель будет перебирать варианты развития событий в уме, проверяя наиболее эффективные из них на практике, и только после этого совершит одно верное действие.
Все три культуры различаются по акцентам в универсальной структуре деятельности.
В соответствии с отечественной теорией П.Я. Гальперина, деятельность состоит из трех этапов – планирования, исполнения и последующей оценки результата, каждый из которых может протекать во внешнем или внутреннем плане.
Французы склонны к тому, что выражается в русской пословице «Семь раз отмерь, один раз отрежь!». Они склонны к демагогии. Так считают русские и американцы. Французские родители много разговаривают с детьми. Нам это кажется избыточным.
Американцы, кажется, хорошо помнят, что любая активность имеет смысл, только если достигнута заранее поставленная цель. Начинать что-то и не завершать совсем не в их духе. Поэтому американский родитель уделяет особое внимание тому, чтобы задачи, которые он ставит перед ребенком, были в принципе достижимы. Иначе неудачи снизят мотивацию достижения, а в перспективе сделают ребенка безвольным и безынициативным.
Российский же родитель всю душу вкладывает в поиск недостатков в исполнении детьми домашних заданий, мелких поручений, уроков… Глядя на результаты своего труда, мы прежде всего смотрим, что бы еще поправить? Точно так критично оцениваем мы достижения наших детей.
Хитрость такого родителя состоит в том, что он все время поднимает планку. Он как бы говорит: «Ты никогда не станешь таким умелым, как я!» При таком раскладе ребенок никогда не почувствует себя победителем.
Типичная ошибка наших пап и мам в том, что, усмотрев хотя бы мелкий недостаток, они дают оценку ребенку в целом: «Ты – неумеха», «Ты всегда меня подводишь», «Я так и знал…». Отрицательная оценка как личности ребенка, так и результатов деятельности гасит самооценку у ребенка.
Склонность родителей критиковать ребенка деформирует всю структуру деятельности. Детское желание сделать что-то интересное, красивое или полезное сменяется стратегией на избегание неприятностей, защиту от родительской агрессии, уход от наказания.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Акцент на том или ином этапе деятельности не означает, что в национальных системах воспитания упускаются целые фрагменты взаимодействия с миром. Контроль за тем, что делает ребенок, есть и у французов, и у американцев. Но, насколько я успела отследить, французские родители контролируют процесс самостоятельного исполнения ребенком задания, подсказывая только в особо трудные моменты. Обучение проходит по типу мастерских, в которых каждый ученик занят индивидуальным заданием, но всегда может обратиться за помощью к мастеру.
Методика «активного слушания», известная российским родителям по книгам Ю.Б. Гиппенрейтер, лишь частный случай принципа обратной связи с ребенком, который культивируется французами.
Американцы не отыгрывают решение обратно, если оно уже принято. За этапом принятия решения следует этап исполнения. Нужны особые усилия, чтобы инициировать пересмотр дела. Французы размышляют, принимают решение в процессе его исполнения, как модистка шьет платье с постоянными примерками и подгонками. А мы?
В нашей манере принятия родительских (да и государственных) решений есть большая доля волюнтаризма. Мы идем не от анализа внешней ситуации, парциально, как американцы, или процессуально, как французы, а как своенравные люди, которые пытаются ситуацию, ее участников продавить под свои сильные желания. Решения вытекают из «Я так хочу!», «Я так сказал!», «Я всегда так поступаю!». Родительская позиция выражается в приказах: «Как я сказал, так и будет!», «Нет, ты будешь меня слушать!», «Мое слово – закон!», «Мое решение не обсуждается!». Ну и знаменитое «Яйца курицу не учат!». Согласитесь, этот безапелляционный тон больше подходит для режимных учреждений.
Непоколебимость считается у нас признаком силы духа. Своим детям мы завещаем никогда не сдаваться, всегда отстаивать свою точку зрения, под которой иногда подразумевается первая пришедшая в голову мысль.
Французы не принимают решения раз и навсегда. Принятие решений может затягиваться на годы. Примером такой «тягомотины» являются французские суды.
Как сказала моя коллега, социолог Мартин Бургоз, принятие решений для французов – это упоительный процесс, который может закончиться самым неожиданным образом.
После всегда несколько шокирующего опыта встреч с другими культурами я пришла к выводу, что в «процессуальном способе принятия решения» есть смысл: человек все время должен быть в тонусе, не расслабляться, обращать внимание на людей и обстоятельства. Для него важна обратная связь – с участниками событий, со свидетелями и экспертами. В контексте воспитания – родитель корректирует свое решение с учетом настроения ребенка, сложившихся обстоятельств, своего ресурса, помощи других членов семьи и прочих факторов.
Если понаблюдать за тем, как ведет себя наша мама с малышом в магазине, можно убедиться в том, что ребенок воспринимается как груз, обуза, препятствие, вещмешок, с которым предстоит совершать покупки. Пока ребенок ведет себя молча, безвольно, его можно разместить в тележке и курсировать среди полок с продуктами. Но вот он заерзал, захныкал, стал ворочаться и уже не смотрит вперед, с интересом разглядывая новые предметы, а поворачивается к маме и протягивает к ней руки. Может, он соскучился, испугался или устал? Вне зависимости от того, чего хочет ребенок, мать начинает его гасить, глушить окриком, с ужасом оглядываясь по сторонам, как будто опасаясь санкций со стороны окружающих.
Не пройдет и минуты, как обязательно подскочит какая-нибудь тетенька из покупателей, которые ходят в магазин из любопытства, и потребует:
– Мамаша, успокойте ребенка!
Или какой-нибудь дяденька сделает «козу», испугает малыша, доведя его до крайней степени истерики:
– Вот я тебя сейчас забодаю!
Или кто-то потребует вывести нерадивую мамашу из магазина, чтобы не будить полусонных кассиров и не нарушать покой покупателей. Очень часто дети нам мешают. Очень часто дети нас раздражают. Складывается впечатление, что они нас умиляют, только когда, перекормленные, молча пялятся по сторонам, с признаками недоразвития.
Французы поражают нас своей беззаботностью. Кажется, они знают секрет, как ловко и быстро достичь совершенства во всех сферах. У них не трясутся руки от мысли о предстоящей неудаче, их дети не боятся идти домой, где их ждут строгие родители, их не мучают комплексы неполноценности. Их детям незнакомо чувство вины за непосильные страдания, в которые они повергают папу и маму.
Возможно, мысли счастливчиков устремлены вперед, в будущее, в то время как неудачники постоянно оглядываются, боясь повторить ошибки.
Равнодушие французов к критике и рефлексиям, когда дело уже сделано, однажды в интервью российскому каналу выразил известный комик Пьер Ришар. На вопрос, как он относится к критикам кино, он ответил:
– Никак. Из десяти критических заметок обязательно попадется одна плохая. Зачем я буду нервничать? Я хочу наслаждаться жизнью, получать удовольствие от того, что я делаю!
Наш родитель обязательно припомнит ошибки ребенку, чтобы «поставить его на место».
Моя подруга Даниэль, послушав нравоучения своего русского мужа, тоже прочитала ему мораль:
– Зачем ты напоминаешь ребенку о плохих оценках? Гораздо полезнее напоминать об успехах. Ошибки содержат важные подсказки. Запоминать нужно только их подсказки. Если он забыл от волнения выученное дома стихотворение, то в следующий раз нужно учить не стихотворение. Нужно найти и запомнить способы совладания с тревогой.
Отношение американцев к критике известно. Оно выражается в философии полупустого стакана. Для оптимиста он наполовину полон, для пессимиста – наполовину пуст.
Призывы во всем искать не только рациональное, но и позитивное зерно принадлежат американцам. В том, что позитивное начало есть во всем, они уверены абсолютно.
С их одержимостью может сравниться только российская паранойяльная склонность во всем выискивать проблемную сторону, а в людях, включая маленьких детей, этих невинных ангелов, – недостатки, приписывать им опасные помыслы и готовность нанести удар исподтишка. Что делать? Вокруг одного человека – только враги. Так, на всякий случай. Другого окружают только друзья. А третий догадывается, что окружающие его люди настроены амбивалентно. От человека зависит, как люди развернутся к нему.
КТО ВЫ ПО ТЕМПЕРАМЕНТУ? ЭКСПРЕСС-ТЕСТ 6
Как вы принимаете решения?
1. Прежде чем принять решение, нужно посоветоваться с теми, кого оно касается. _____.
2. Мало принять решение, нужно назначить ответственных за его исполнение. _____.
3. Принятие решений мне дается с большим трудом. Я всегда очень нервничаю. _____.
4. В основе принятия решений должен лежать строгий расчет. _____.
Рекомендации для родителей
Как помочь ребенку, если у него что-то не получается.
1. Спросите ребенка, что особенно трудно ему дается. Любая деятельность, начиная с застегивания пуговиц и заканчивая вычислением интегральных уравнений, раскладывается на отдельные действия, действия – на операции. Навыки, как физические, так и интеллектуальные, формируются поэтапно, шаг за шагом. Важно понять, на чем «спотыкается» ребенок.
2. В основе обучения лежит повторение. Бесконечное повторение не даст немедленный эффект. Для кристаллизации навыка нужно время, паузы. Иногда ребенок не справляется с заданием сразу, но через 2–3 дня вдруг делает все легко и точно. Нужно дать ему шанс самому раскрыть свои способности.
3. Похвала мотивирует ребенка больше, чем критика. Критика и сравнение с другими детьми воспринимаются очень болезненно. Если вы не готовы поддерживать и поощрять ребенка прямо сейчас, лучше отложить обучение.
Депрессия у детей и взрослых разных типов темперамента
Вы узнаете о том, что такое депрессия для холерика, сангвиника, флегматика и меланхолика. Мы поговорим о феномене русской ностальгии и о том, как дети переживают эмиграцию. Я предложу вам рекомендации, как предупредить депрессию у ребенка.
Депрессия – устойчивое чувство подавленности, изоляции, бессилия – переживается по-разному, в зависимости от типа темперамента. Причины депрессии могут быть самые разные: дефицит любви со стороны родителей, уход близкого человека, материальные трудности, неосторожно сказанное грубое слово, плохая погода, неприятности со здоровьем.
Если холерик говорит, что у него депрессия, то чаще всего это обозначает физиологическую неудовлетворенность: недоел, недоспал, недопил… Холерики иногда впадают в уныние, если они ограничены в движении или передвижении. Нехватка материальных ресурсов, как и недостаток еды, тоже могут ввести холерика в состояние внутреннего дискомфорта. Депрессия холерика – это латентная, подавленная агрессия из-за невозможности достичь вполне определенной цели. Поэтическая меланхолия – слишком эфемерное состояние для холерика, все потребности которого удовлетворяются материально.
Если же на депрессию жалуется сангвиник, то это обозначает одно: он давно не проводил время в интересной компании и не знакомился с кем-нибудь новым. Социальная изоляция – ад для сангвиника. Если на свете есть хотя бы один человек, кроме него самого, сангвиник почувствует себя сильнее. У него появится надежда на социальную поддержку, в которой он нуждается. У него появится шанс произвести неизгладимое впечатление. Наконец, ему будет кем руководить. Сангвиники – любители и мастера групповых игр.
Депрессия флегматика – это скука, отсутствие новых интеллектуальных задач. Горе от ума. Лишние люди в России, вроде Чацкого, – это люди с мировоззрением европейцев. Интеллектуальные запросы флегматичных европейцев могут удовлетворяться в спокойной атмосфере библиотеки или в окружении критически мыслящих людей.
Считается, что именно русские знают, что такое ностальгия, меланхолия, депрессия. Если эти русские – меланхолики! Если, как чеховские герои, они привыкают жить в тоске о невозможном, о недосягаемом идеале. Сильным русским «холерического круга» ностальгия неизвестна.
Мои наблюдения показывают, что у детей, родители которых настроены конструктивно и сразу по приезде начинают активно выстраивать отношения с окружением, депрессия, тоска по дому проявляются не так ярко, переломный момент наступает уже к четвертому месяцу. У самих взрослых все процессы протекают тяжелей и дольше. «Обострение» депрессии возникает на третьем году проживания в эмиграции, когда «все потеряли интерес к тебе, никто не помогает, а сам ты еще не встал на ноги». Депрессия сопровождается потерей интереса к жизни, нежеланием и невозможностью справляться с простыми задачами.
Трудности становления идентичности подростка – это классическая проблема эмиграции. В литературных источниках второе поколение русских в эмиграции получило название «потерянного».
Наиболее подвержены риску депрессии подростки 14–18 лет.
В период бурного физического и психологического развития у подростков могут проявиться черты, которые обычно наблюдаются при тяжелых психологических травмах. Подросток не может сказать, кто он, кем он будет, любит ли он своих родителей. В этот момент особо остро чувствуется потерянность и при определении своей этнической принадлежности.
В группе юных скаутов я разговаривала с мальчиком, которого мать привезла из Киргизии, выйдя замуж за француза. Потом она развелась. «Я не знаю, кто я. Конечно, я не француз и не русский, я – черт знает кто!»
Анализ историй из жизни показал, что формирование идентичности у подростков происходит следующим образом: какое-либо событие, которое наиболее поразило впечатление подростка, как бы заливает светом, освещает вспышкой все пространство представлений подростка о самом себе. Если подросток не был активным участником этого события, он все равно может идентифицироваться с другим, ориентируясь на него как на положительный образец. Этот образец может быть социально-позитивным и социально-негативным. Его роль состоит в подкреплении положительной идентичности подростка, то есть функция подкрепления имеет психологический, а не социальный характер. Сравнивая себя с кумирами, подросток выбирает свой стиль чувствования.
Даже при самой благоприятной ситуации в новой семье дети тяжело переживают разрыв с родственниками, которые остались на Родине.
Все ускользающее вдаль и для взрослого окрашивается в яркие тона. Детская ностальгия еще ярче. Если же отношения с отчимом-иностранцем не складываются, ребенок несет непомерный груз. Вначале ему хочется вернуться с мамой домой, потом, когда становится ясно, что «вояж» затягивается и он, будучи привязан к маме, должен провести здесь несколько лет, если не всю жизнь, в планы ребенка начинают входить фантастические побеги, нереальные ситуации, в результате которых он и его мама, наконец, освободятся от тяжелой зависимости. И, наконец, наступает момент, когда по ту сторону баррикады оказывается и самый родной человек на свете – мама, которая так и не признала невозможность такой жизни, не смогла сопротивляться.
Дети, как и взрослые, уходят в себя, когда окружение не оказывает им нормальной эмоциональной поддержки, не учитывает их в своем психологическом пространстве как значимых персонажей, рассматривает их как помеху.
Чего больше всего боятся дети? Что их перестанут любить. Любовь воспринимается ими как некоторая энергетическая ткань, которой может хватить не на всех. Переключение внимания матери на членов новой семьи может вызывать ревность и тревогу у ребенка.
Приведу пример. Одна из наших встреч с мальчиком была назначена в его любимом «Макдоналдсе». Он принес с собой бумагу и карандаши, «чтобы не было скучно».
Три года назад его мать приехала в Париж вслед за французским другом, который был намного старше ее. Их объединяла любовь к театру и надежда на лучшее будущее в новом браке. Однако решено было не спешить с формальностями.
Отношения, по словам матери, ухудшились сразу после приезда. В новой семье ребенок скоро стал мешать, вызывать раздражение и получать оплеухи. Матери доставалось тоже – побои, выпихивание за дверь, оскорбления. Оба полностью находились на содержании у французского «папы», а значит, в его власти. Наша встреча произошла на фоне потери работы отцом и накануне так долго откладываемой свадьбы.
Мальчик, разукрашивая большую машинку, сказал: «О, если они поженятся, я не выдержу. Да я его убью, когда вырасту!» Потом: «Он постоянно кричит!» И наконец: «Я хочу к бабушке, там у меня тети, дяди, двоюродные сестры. Там много людей, а тут никого нет». – «Но у тебя же есть друзья?» – «Только два». – «А сколько тебе надо?» – «Сто двадцать пять!»
Последняя цифра отражала величину эмоционального голода этого хорошо одетого, уже свободно говорящего по-французски мальчика. В рисунке семьи было получено визуальное подтверждение детской арифметики: после красивого и разноцветного лимузина на самом краю листа разместилось большое количество совершенно похожих друг на друга человечков. Где-то среди них была и мама. Французский «папа» не входил в эту замечательную коллекцию.
У детей, которые постоянно находятся в состоянии эмоционального голода, не развиваются механизмы эмпатии (сопереживания), отношения с людьми схематизируются и обесцвечиваются. Неадекватное поведение родителей чревато тяжелыми психологическими последствиями для детей.
КТО ВЫ ПО ТЕМПЕРАМЕНТУ? ЭКСПРЕСС-ТЕСТ 7
Что вы чувствуете чаще?
1. Неудержимое желание перемен, радость от новых встреч и событий. _____.
2. Обиду и непонимание со стороны близких. _____.
3. Злость за то, что мне мешают реализовать планы. _____.
4. Скуку из-за того, что придется снова делать что-то заурядное. _____.
Рекомендации для родителей
1. Обратите внимание, от чего у ребенка снижается настроение. Возможно, ему просто не хватает движения?
2. Если ребенок скучает по кому-то из семьи, можно посмотреть с ним альбом семейных фотографий: депрессия – результат разрыва значимых связей с родными людьми.
3. Обнимите ребенка: депрессия может быть результатом накопленного эмоционального голода. Прикосновения и объятия – главные доказательства любви для ребенка.
4. Важный мотив «быть кому-то нужным» реализуется, если ребенок за кем-то ухаживает, заботится – это могут быть другие члены семьи – младшие братья и сестры, бабушка или дедушка, это может быть питомец, от черепахи до собаки.
5. Иногда, чтобы ребенок «ожил», нужно сходить в гости к друзьям, у которых есть дети, сверстники вашему сыну или дочери. Играя, дети заражаются друг от друга живыми эмоциями. А совместная игра – источник совместной радости.
2. Национальные образы счастья у американцев, русских и французов
Репертуар матриц счастья: между триллером и анекдотом
Поговорим о том, какого счастья желают своим детям родители разных стран. Вы узнаете, как страхи и фантазии по-разному форматируют матрицу счастья. Мы обсудим типичные анекдоты про детей, Вовочку, Тото и Джо, которые рассказывают в России, Франции и США. В конце вы найдете рекомендации, как подготовить ребенка к счастливой жизни.
Дети до шести лет мыслят образами, и счастье в их воображении всегда конкретно. Есть такой старинный психологический эксперимент. Взрослых испытуемых просят вспомнить самое первое осознанное впечатление детства. (Чего только они не вспоминают: первую еду, каких-то зверей, молодых родителей, себя в коляске, даже себя в животике у мамы. Ну, дальше только жизнь сперматозоида и яйцеклетки до роковой встречи. Вспомните и вы свое первое впечатление.) А затем испытуемых просят ответить на вопрос, каким по модальности было это воспоминание – положительным или отрицательным?
В целом по выборке получается 50 на 50. У половины людей отсчет памяти начинается с неприятных образов. У другой половины – с яркого, удивительного воспоминания. Такой расклад указывает на то, что коллективные воспоминания сбалансированы по знаку. На всякого оптимиста найдется свой пессимист.
Но другая причина «поляризации» оценок в том, что и персональные воспоминания амбивалентны. Мне, например, вспомнилось, как я сидела на пороге дома и гладила прискакавшую откуда ни возьмись лягушку. Такой она мне показалась удивительной, маленькой, круглой и холодной, как камешек, но мягкой на ощупь. И тут выскочила, тоже откуда ни возьмись, мама и стала громко кричать, махать руками, как будто я в опасности. Так и осталось в памяти – радость и ужас в одном эпизоде, выплывшем откуда-то из безмятежной детской памяти.
Для любого человека и социума важны одинаково положительные и отрицательные воспоминания. Воспоминания амбивалентны. Они таят в себе фантастические желания и гипертрофированные страхи. Но в процессе воспитания усиливается та или иная сторона психики.
Культуры воспитания делятся на те, в которых детей пугают, в воспитательных целях конечно, и те, в которых вдохновляют, поощряют.
В российской традиции – пугать детей, потому что вопросы выживания мы ставим во главу угла. Для нормальной адаптации в обществе важно не сделать что-то предосудительное, опасное, бесполезное. Так в памяти ребенка и остается отрицательная программа: «Главное – не сделать!»
В американской традиции – заражать, вдохновлять ребенка, поощрять к достижению мечты, цели. Главное – сделать!
Французы совладают с амбивалентностью эмоций, балансируя между двух полюсов. Балансирование – это их способ принятия решения. Главное – сохранить баланс, двигаясь к главной цели, не растерять способность жить и любить.
Русский и американский родители с точки зрения француза – грустный и веселый клоуны, трагик и комик, оба впадают в преувеличение.
– Вы все преувеличиваете. Хуже всего, что вы навязываете преувеличения детям, сбиваете с толку их, – жаловался мне Паскаль, французский муж Кати, эмигрировавшей из постперестроечной России с маленьким сыном от брака с русским то ли олигархом, то ли бандитом…
– Это еще хорошо, что он не все понимает по-русски. – Катя жаловалась на то, что Паскаль слишком часто вмешивается в воспитание чужого ему сына.
– А разве он понимает по-русски?
– Он догадывается по моему лицу! У него тренированы мозги. Мы так устаем от его контроля. Все видит. А не видит, так чует…
Мы уже знаем из предыдущей главы, что склонность к гиперконтролю – это наша национальная черта. Катя просто ревнует: ведь это материнская привилегия – контролировать ребенка.
Паскаль объяснял свое поведение тоже национальными, а не личными особенностями:
– Я вырос в многодетной семье, и нас учили понимать друг друга без слов. В семье важны не принципы, а нюансы, состояния и чувства всех членов семьи. Кате кажется, что я контролирую ее эмоции, поведение сына. На самом деле я проявляю внимание, пытаюсь понять, чего они хотят. Я не могу жить так, как будто мне наплевать на их чувства и на отношения в семье… Неужели у вас никто не интересуется друг другом?
Я задумалась. И ответила неожиданно даже для себя:
– Интересуются, но не вслух. Если личные вопросы задают прямо и вслух, это воспринимается как агрессия. Мы молчим. И говорим, кричим, плачем, когда происходит нечто серьезное…
Фрейд оказался прав: мотивы любого человека формируются под давлением, с одной стороны, фантазий («плюс»), с другой стороны, страхов («минус»). Родители, как правило, озабочены желаниями детей, а страхи, не менее сильные переживания, учитывают меньше. Чего бояться ребенку, когда рядом с ним сильный взрослый?
В зависимости от темперамента, в структуре переживаний ребенка преобладают положительные или отрицательные эмоции.
С высокой вероятностью можно сказать: у людей иррационального типа преобладают страхи, у людей рационального типа – фантазии.
Если переформатировать уже известный круг темпераментов, то обнаружится, что у русских преимущественно иррациональный тип взаимодействия с миром.
Самые сильные, почти маниакальные желания человека всегда сбываются. Но и страхи, если им удается воспламенить мозг человека, превращаются в навязчивые желания и тоже, увы, реализуются.
Страхи и желания – в некотором смысле одно и то же, вместе они составляют мотивацию, побуждают к действию «к» или «от». Детей раздирают такие же страсти, как и взрослых! Научить ребенка распознавать свои эмоции, желания и страхи – одна из задач воспитания.
Внутренние события людей иррационального типа развиваются на неприятном тревожном фоне. У «рационалистов» фон восприятия в основном приподнято-радостный.
Страхи заставляют нас действовать «назло», «вопреки», «наперекор», а фантазии «ради», «на радость», «вместе». Страхи отталкивают, фантазии влекут, притягивают. Балансируя между страхами и фантазиями, люди всего мира живут, любят, творят, работают, воспитывают детей…
Это только кажется, что человек погружен в хаос образов и переживаний. На самом деле они довольно стройно организованы, поляризованы, распределены между «да» и «нет», «плюс» и «минус»… И этот процесс поляризации проходит непрерывно.
Правда, не всегда в реальности и не всегда в той форме, в которой хотелось бы. В качестве заменителей желанных событий могут служить сны, сказки, разговоры, кино. Сублимация – это искусственно созданные, одобренные и закрепленные в культуре сценарии, благодаря которым реализуются сильные мотивы человека. Такие сценарии-подсказки защищают социум от варварских желаний и действий отдельных индивидов.
На страже культуры стоят архаичные табу. Все сказки, которые мы рассказываем детям, – о нарушении табу и его последствиях. В Европе детям традиционно рассказывают сказку про Гадкого утенка, который был изгнан, но не только выжил, но и стал прекрасным белым лебедем. У нас по традиции читают сказку про Колобка, который ушел от Бабки и Дедки, и – где он теперь? Его съела Лиса.
Сегодня родителям и детям доступны все сказки мира. О чем они на самом деле, как повлияют безобидные сказки на судьбу ребенка, мы разберем немного ниже. Наберитесь терпения. У каждой страны свои «песни о главном». Сравним самые простые и короткие истории – анекдоты.
Во Франции полно анекдотов о триумфе расчетливого детского ума над взрослым, путаным. Главным героем часто выступает смышленый Тото. Расскажу парочку из анекдотов от французских коллег.
Маленький Тото прибегает к маме с криком:
– Мама, мама, там шкаф упал!
– Мой дорогой, не стоит волноваться. Но, пожалуй, стоит сказать об этом папе.
– Так он знает. Он же лежит под шкафом.
Маленький Тото не хочет учить английский язык. Мама увещевает его:
– На английском языке говорит половина населения планеты!
– Вот и хорошо. Как раз столько, сколько нужно. Видишь, как все хорошо складывается!
Если французские анекдоты про Тото на тему игры воображения и логики, то русские анекдоты про Вовочку о том, что детей с сильным характером не удержать от сомнительных, а то и криминальных поступков.
Первоклассник Вовочка приходит из школы и заявляет:
– Все, в школу больше не пойду: читать я не умею, писать не умею, а говорить не дают!
Или:
Учитель по химии запер Вовочку в кладовке со словами: «Сиди там и думай!»
Так Вовочка получил первый срок. А потом понеслось…
Герои наших анекдотов агрессивны. Агрессия и есть проявление самого большого страха человека: страха смерти.
Но и у американцев есть анекдоты, в которых дети одерживают верх над родителями, но не за счет ума, как во Франции, и не за счет сильной воли, как в России, а за счет умения правильно рассчитать и остаться с выгодой. Разговор персонажей американских анекдотов – это торг, а не игра смыслов или противостояние характеров.
Телефонный разговор двух учеников.
– Алло, это – Джо?
– Да, это Джо.
– Это точно Джо?
– Не сомневайся, дружище. Джо всегда рядом.
– О, Джо, не одолжишь ли ты мне 10 баксов?
– Конечно! Будь спокоен. Я скажу ему, как только он вернется.
И снова про десятидолларовый выигрыш:
Два ученика жарко спорили, так что даже не заметили, как учительница вошла в класс.
– Эй, о чем вы спорите?!
– Мы нашли 10 долларов и решили, что они достанутся тому, кто круче соврет.
– Как вам не стыдно?! В вашем возрасте я понятия не имела, что такое ложь!
Ученики переглянулись:
– Она победила! Ваш выигрыш, мэм.
Как сказал мой знакомый американский библиотекарь Игнаций, поляк по происхождению:
– Вы заметили, как часто здесь говорят: «Я считаю… Я считаю…» Американец с пеленок не думает, а считает. Считает баксы!
Для русских счастье в произволе, для американцев – в выигрыше, празднике, для французов счастье – в умении балансировать между крайностями.
Наше отечественное представление о счастье, которое мы передаем своим детям, переопосредовано мифом о несчастье. Мы большие специалисты по несчастьям и страданиям, которые нас ожидают практически за каждым поворотом.
У американцев – другой крен: миф о нескончаемом, как мир, счастье. При таком изобилии человек просто обязан веселиться. Звучит чрезвычайно привлекательно. От одной мысли о том, что впереди так много всего интересного и прекрасного, может закружиться голова.
А вот французы в минуты принятия решений ведут себя рационально, без эмоциональных экзальтаций в ту или иную сторону.
Единица измерения счастья и несчастья у французов, на мой взгляд, это сам человек, его способности, желания, возможности. Все проблемы французы решают «по возможности».
И счастье, и несчастье должны быть соразмерными человеку, чтобы он смог их принять, усвоить и пережить.
КТО ВЫ ПО ТЕМПЕРАМЕНТУ? ЭКСПРЕСС-ТЕСТ 8
Вас радует, когда ваш ребенок…
1. Слушается. _____.
2. Хорошо ест и крепко спит. _____.
3. Веселится и играет вместе с другими детьми. _____.
4. Опережает в своем развитии сверстников. _____.
Рекомендации для родителей
1. Мечтайте вместе с ребенком о будущем, которое, конечно, прекрасно.
2. Выбирайте сказки, фильмы, в которых герой активно справляется с неприятностями, преодолевает страхи и реализует мечты.
3. Находите время поговорить о страхах и тревогах ребенка. Не отмахивайтесь: страхи сами не улетучиваются. Они влияют на самооценку и уровень притязания ребенка, определяя успех.
4. Обратите внимание, кто у ребенка любимый герой? В чем он видит счастье? Чего боится? Чем дорожит? Герои любимых сказок помогают нам понять детей, которым мы читаем книжки. Ведь малыш пока не умеет распознавать и рассказывать о своих переживаниях.
5. Страшные истории не усугубляют страхи, а помогают им сублимироваться, трансформироваться в нормальные, те, с которыми ребенок может справиться.
6. Какой бы вид деятельности вы ни планировали вместе с ребенком, учитывайте обстоятельства, события или людей, которые бы могли его испугать.
7. Во всем ищите «золотую середину». Если ребенком овладело какое-то сильное желание, помогите найти ему меру, объем, место, время исполнения.
Американский образ счастья
Мы поговорим о том, как изменилась матрица счастья у американцев и как это сказалось на воспитании детей. О методах воспитания успешного человека. О достоинствах и ограничениях американской модели счастья. Я предложу вам рекомендации, как заразить ребенка энтузиазмом и помочь поверить в свои силы.
Американские дети растут в атмосфере всеобщего счастья и успеха. В переживаниях, в восприятии жизни у них явный крен в позитив.
Основными носителями и пропагандистами привычного образа счастья с лицом-«смайликом» являются сангвиники. Ни в одной стране счастье не превозносится так активно, как в США. Этот образ запечатлен на лицах граждан страны. Умение улыбаться стало базовым социальным навыком, показателем терпимости и открытости. И благополучия!
В Декларации независимости США написано: «Все люди наделены правами, к числу которых относится стремление к счастью». (Стремление к счастью как ведущий мотив жизни человека критиковалось Ницше, русскими религиозными философами – от Соловьева до Бердяева. Они противопоставляли идее стремления к счастью стремление к смыслу.)
Счастье – это титульная, очевидная норма. Она активно продвигается, как успешный бренд. Все книжные бестселлеры о том, как стать счастливым, пришли к нам из США. А в США идеалы позитивного взгляда на мир, который и определяет способность человека быть счастливым, пришли из старой доброй Англии с ее протестантской этикой. Акцент в лозунге «Работай и будь счастлив!» сегодня сместился с процесса труда на результат: «Заработай и будь счастлив!»
Шоу-бизнес – идеальная среда для сангвиников, которые умеют комбинировать возможности других людей и направлять их себе на пользу. Вершиной фантазий Буратино стал театр – место постоянного праздника с переодеваниями и хохмами. Помните радость Буратино, которому достались пять золотых? Он сразу отправился на поиск счастливых приключений. В Америке сбылась мечта Буратино!
«Счастье, конечно, не купишь. Но можно купить яхту, которая домчит тебя до него», – говорит Джонни Депп, настоящий сангвиник по темпераменту.
Американцы – лидеры в шоу-бизнесе. Они торгуют американской мечтой, а покупает эту мечту весь мир.
Американская мечта о счастье стала и нашей манией. Суть ее можно сформулировать примерно так: «Представитель любого сословия может стать богатым и успешным! Любой может стать счастливым!»
Главным методом достижения американской мечты в самой Америке со времен Великой депрессии считали труд и упорство. Но затем представление о методах несколько мутировало и было заменено на талант и везение. Талант тоже подразумевает не столько природные способности, сколько сообразительность и ловкость.
По части скорости ориентации и ловкости сангвинику нет равных. Выполнение рутинной работы он с удовольствием делегирует другим, под великолепные обещания. Главное, чтобы те не успели сообразить, как именно будет распределяться выгода. Обещания сангвиников очаровывают нас посулами счастья и любви. Наблюдательность позволяет сангвинику заметить, что любовь, счастье, теплота притягивают всех как магнит. А чтобы снискать внимание окружающих, нужно объявить себя ангелом любви и проводником счастья. Но никакого цинизма!
Настоящий герой американского мифа о счастье станет лидером нации или семьи, а не просто халифом на час, и будет заботиться о всеобщей выгоде. Он прокормит и защитит не только себя и семью, но и других. Утешит, развеселит, подбодрит, как герои «Крепкого орешка» или «Один дома». Ловкость, обман, агрессия, неряшливость оправдываются, если они для всеобщего блага, если в результате все участники события счастливо улыбаются.
Меж тем сангвиник может быть эгоцентриком. Он готов заботиться о других при условии их ответной благодарности.
– В США неблагодарность считается одним из тягчайших грехов, наряду с ложью и нарушением общепринятых правил, – объяснила мне выпускница Гарварда Керри Сьюзарленд. – Благодарность – это память сердца. Нельзя забывать человека, который открыл тебе свое сердце. Он ничего не потребует взамен, но будет ждать ответного жеста, добрых слов, рекомендаций. Репутация – это количество благодарностей, на которые мы можем рассчитывать. Она – краеугольный камень американской мечты о счастье.
Благодарность не означает, что люди станут неразлучными друзьями и начнут ходить друг к другу в гости. Для американцев, как мы уже знаем, важна дистанция. С точки зрения русского или француза, американская приветливость носит отстраненный, формальный характер.
Когда тебе улыбаются в Америке, это означает, что тебя заметили. Если тебе улыбаются во Франции, это означает, что тебя вовлекают в интригу, исход которой неизвестен пока никому. А если тебе, глядя в глаза, улыбаются в России, это означает, что тебе доверяют и готовы идти на самый близкий контакт.
У нас улыбаются редко.
Парадокс: приветливость американца компенсируется большой дистанцией между людьми. К этому приучают и детей. Счастье – это синоним бесконечной свободы выбора и права на личное принятие решений. Большая дистанция между людьми гарантирует сохранность частных владений, в том числе детских территорий.
Когда взрослые приходят в гости в семью, они не задают детям вопросы вроде: «А что это у тебя прыщи на лице?» или: «Ну что, ты уже целуешься с девочками?». Публичная оценка (критика!) внешности или поступков – слишком агрессивный способ нарушения границ «Я» ребенка.
Взрослые не заходят в детскую без стука. Поэтому на дверях американских детских нет замков. Договор – сильнее щеколды. Никто не будет рыться в вещах ребенка…
Чувство личной свободы зависит от количества решений, которые ребенок может принимать самостоятельно.
– Вы не боитесь распустить детей? Не слишком ли много свободы? – спросила я Шона, отца троих детей.
– Маленькие граждане живут в свободной стране. При одном условии: тот, кто принимает решения, тот и отвечает за них! Ответственность – серьезный кредит. В следующий раз могут не дать.
Индивидуализм препятствует глубоким привязанностям между людьми. «Сангвиническая модель» исключает отношения созависимости. Он может посочувствовать и помочь, локально, но горе мыкать с вами до конца дней сангвиник не согласится. Бесконечным может быть только счастье, а большое несчастье – это уже «инвалидность», признак неверной ориентации человека в мире.
– Способов стать счастливым – миллион. А стать несчастным только один – отказаться от самой возможности наслаждаться любовью и счастьем, – сказала мне журналистка Кирстен Бронс.
Несколько лет она провела в России. В девяностые ее носили на руках. Она сама восхищалась русскими мужчинами, их эмоциональностью, но с горечью заключала:
– Не верят они в счастье как процесс. Как только счастье накрывает, с ними паника, как будто пришел последний час. Что такого вы говорите своим сыновьям, что они шарахаются от счастливой возможности как черт от ладана?
Кирстен, которая собиралась найти на другом конце земли свое счастье, свить гнездо, родить самых счастливых на свете русско-американских детей, через десять лет работы и жизни в Москве так и уехала домой одна, с разбитым сердцем. Россия осталась в ее памяти страной, где нельзя быть счастливым в принципе, даже если ты хорошенькая, успешная американка…
Однажды она мне показала записную книжку, список контактов в России. Там было тысяч десять записей, не меньше. Я заглянула для сравнения в свою телефонную книгу: 37 контактов в США, большинство из которых я забыла бы, как только вернулась домой. У нас помнят только тех, с кем съели пуд соли.
У меня осталось впечатление, что сангвиник – широко ориентированная матрица с множеством опций. Как телефонная станция с неограниченными возможностями для краткосрочного соединения с любыми корреспондентами в любом конце мира. Не случайно networking – создание сети контактов и агентов для продвижения Я-бренда – обязательный прием по достижению личного успеха и счастья. Загляните в любое руководство по менеджменту, рекламе или PR.
Американскому ребенку предстоит стать счастливым в условиях открытой соревновательности. Конкурс сочинений, конкурс рисунков, конкурс по баскетболу. Но не раз в месяц или четверть. Каждый день! Каждый день ребенку предоставляется возможность дерзнуть и обойти кого-то на повороте.
Когда мой сын пошел в американскую публичную школу и стал обходить по успеваемости своих сверстников из эмигрантской среды, его самооценка росла как на дрожжах. Это происходит с любым русским ребенком, который дома скучает или сидит на уроках тише воды ниже травы от контрольной к контрольной, пока не вызовут… Мы редко хвалим детей. Еще реже мы хвалим то, что они сделали. И совсем не замечаем того, о чем они мечтают.
Мечтания, витания в облаках для нас – признак неадекватности, а не процесс подготовки к будущему. А как ребенок станет известным, если он ни разу не пережил триумф?
Именно так мне объяснила традицию празднования дней рождения мама Билла, одноклассника моего сына.
– Обязательно нужно отмечать дни рождения как можно более пышно и торжественно. У нас принято чествовать именинника как оскароносца. Иначе он упадет в обморок, когда получит свой «Оскар», понимаете?
Когда мой сын Федор уже прощался с одноклассниками перед отлетом домой, ему вручили книгу пожеланий, где каждый педагог и каждый ученик, с которыми сын столкнулся за год обучения в школе, написали пожелания и напутствия. Очень трогательно, не дежурно, неожиданно. Мы думали, нас забудут, как только мы исчезнем с горизонта. Тогда я поняла: американцы не забывают хорошее, как все дети. И как дети, они искренне привязываются. Я не знаю до сих пор, какая фраза звучит сильнее: «I love you» (сейчас!) или «I miss you» – когда о тебе помнят и ждут и потом, после расставания.
Между прочим, именно американцы заставили весь мир праздновать День влюбленных, наводнив сувенирные лавки сердечками и признаниями.
И хотя я была в командировке, без мужа, на моем столе в бюро тоже появилась роза, коробка конфет, открытки. А кто-то, до сих пор не знаю кто, притащил даже кадку с маленькой пальмой и сердечком из гнутой проволоки, и мне пришлось до конца командировки поливать ее, млея от восхищения и благодарности.
– В этот день никто не должен оставаться без любви, – объяснила мне секретарь профессора Керра.
Да, если любовь – это жесты, авансы, которые мы раздаем направо и налево, то она неисчерпаема, ее хватит на всех. А если люди вокруг исповедуют другую религию – «Любовь нужно заслужить!» (то есть – никаких авансов), то этой любви никогда не дождешься. Что ни сделай, будет мало, рано, поздно, не то…
Успех и счастье – для американцев синонимы, а способы их достижения часто совпадают. Трудно представить себе счастливым американца, который не достиг успеха в определенной области. Если простая домохозяйка выиграет в лотерею миллион, ей не будут завидовать так, как голливудской звезде, которая этот миллион заработала. Потому что успех – это следствие личных усилий и предприимчивости. Лотерейный выигрыш невозможно повторить. А человек, который открыл свое ноу-хау, заработает еще не раз!
Американцы не делают ставку на удачу. Они ставят на технологию получения прибыли.
Фабрика грез, как называют Голливуд, – это и есть фабрика образов счастья. Нигде в мире звезды не получают такие гонорары, как в Америке. Счастье, а не образование и ум, как считают французы, и не сила и мощь, как уверяют русские, – самый сильный манок для американцев.
Один из ведущих американских сценаристов Пол Браун (автор сериала «Х-files») на мастер-классе, куда я была приглашена как телеконсультант, сказал: «Я прихожу к выводу, что смысл жизни человека в получении удовольствия. Люди хотят быть счастливыми, и больше ничего!»
Он прав, но в отношении американского зрителя. Зрители, которые приходят на фильмы и сериалы Пола Брауна, с детства хотят стать счастливыми. Сегодня они хотят стать счастливей, чем вчера. Собственно, Голливуд у них и сформировал установку на бесконечное счастье.
Еще одним обязательным элементом технологии счастья по-американски является оптимизм. Чтобы стать счастливым, нужно испытывать энтузиазм и уверенность в успехе. Излучающий надежду и уверенность человек притягивает внимание других, консолидирует их в группу поддержки. Счастье – это не результат, краткий миг между прошлым и будущим, это настрой, постоянное состояние. Драйв и кайф! Индустрия удовольствий – это не просто времяпрепровождение на этой грешной земле, это индустрия поддержания настроя на счастье, радость, достижения.
Чтобы удерживаться на высоком энергетическом уровне, сангвиник хватает энергию из разных источников, прежде всего, из контактов с людьми. Он инициирует контакты, побуждая других действовать по своему плану. Когда ему удается это, сангвиник переживает настоящий триумф. Вовлекая в социальные игры других, сангвиник многократно увеличивает свои возможности.
Потребление людской энергии становится настоящей проблемой. Интересное воспоминание я нашла у Анджелины Джоли: «В то время, когда другие девочки хотели стать балеринами, я мечтала быть вампиром». Верный признак того, что девочка чувствовала нехватку поддержки и любви. Чем более популярным становится человек, тем большее количество внимания и любви он требует. Не случайно киновампириады так популярны: в них отражается опыт современного человека, который ищет источники поддержки и любви вне семьи и традиционных отношений.
Вампиры в кино помолодели. «Сумерки» – это про жажду любви у подростков. Но Дракула есть даже в образовательном проекте «Улица Сезам» для дошкольников.
Вампир символизирует теорию сангвиника: люди и есть источник энергии и любви.
Вы спросите, есть ли альтернативы? Есть: холерики подпитываются от материального мира. Меланхолики питаются чем попало, остатками, им много не нужно, а флегматики – энергией космоса.
Американец-сангвиник уверен, что счастье сопровождает нас каждый день, нужно только присмотреться, вовремя протянуть руку и дернуть его к себе. К большинству так называемых неприятностей человек может приспособиться, часть из них – вообще игнорировать, пропустить мимо ушей.
«Большинство людей счастливы ровно настолько, насколько они к этому приспособлены», – говорил первый президент США Авраам Линкольн.
– Счастье и любовь во многом результат внушения и самовнушения, а не объективный, внешний фактор, – говорит Карен, моя американская коллега-психолог. Она давно в отношениях с филологом Ларри. Пара излучает благополучие, как ровный свет от лампы, без всплесков и протуберанцев, уже много лет.
– Но почему вы не женитесь?
– Мы привыкаем друг к другу. Если люди женятся через пару месяцев после знакомства, их не будут воспринимать как серьезных супругов и ответственных родителей. Основы родительства закладываются уже сейчас.
– Как вам удается не ссориться?
– Это я хочу спросить: как вам удается ссориться? – рассмеялась она. – Вы же – северный народ, а страсти, как у итальянских родственников Ларри.
– Мы не ссоримся, – почти обиделась я, – мы просто бурно реагируем друг на друга.
– Американские горки – хороший аттракцион, но не в отношениях. Каждый раз приходится задавать себе вопрос: готов ли ты пожертвовать отношениями с этим человеком? И сразу все становится на свои места. Конфликт теряет значимость.
– Но не становятся ли от этого отношения поверхностными?
Карен задумалась.
– Русские познают друг друга в беде. Американцы в радости. С веселым человеком легче идти по жизни. С грустным тебя ждет только бесконечная печаль. Нужно держать себя постоянно в тонусе, в хорошем расположении духа, в приподнятом настроении. Человек должен сам управлять своими состояниями, вне зависимости от других.
Я собралась с духом и спросила:
– А что бы вы ответили, если бы ребенок спросил вас: что такое счастье?
– Счастье – это день рождения каждый день. Много людей, много подарков, много хороших слов…
«М-да, – подумала я тогда, – а для нас счастье – это удачные рабочие будни. Счастье – это приносить пользу людям». Кажется, так нас учат с рождения? Впрочем, есть варианты. Как-то я спросила старого советского генерала, в чем счастье мужчины? Он ответил, удивившись наивности моего вопроса: «Подняться на вершину пирамиды». И на ум мне пришли пирамиды физкультурников из старых советских хроник. Счастливым можно стать только на вершине пирамиды. Главная проблема нашего счастья в том, что оно не для всех и не навсегда. Оно концентрируется где-то высоко, у самого неба…
КТО ВЫ ПО ТЕМПЕРАМЕНТУ? ЭКСПРЕСС-ТЕСТ 9
Что важнее всего привить ребенку:
1. Сообразительность и скорость реакции. _____.
2. Ум и мудрость. _____.
3. Доброту и терпение. _____.
4. Выносливость и целеустремленность. _____.
Рекомендации для родителей
Методы воспитания успешного человека в американском обществе
1. Стены дома, в том числе стены детской, увешивают дипломами, медалями и прочими свидетельствами того, что в доме живет семья победителей. Каждому гостю, включая детей, рассказывают о достижении хозяев. Имя человека должно ассоциироваться с конкретными достижениями. Чтобы потом говорили: «А, это тот самый Джон, который забил решающий гол в 2010 году!»
2. Имя человека может стать торговым брендом. Для продвижения собственного бренда нужна сеть распространения. Важнейший социальный навык, который прививают ребенку, – умение завязывать и поддерживать знакомства. Ключ к networking – быстрое обнаружение общих интересов. О друзьях нужно рассказывать, причем только хорошее. Правило «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты!» для американцев незыблемо. Среди друзей должны быть не столько сверстники, сколько известные люди с возможностями, в которых измеряется сила твоей личной социальной сети.
3. Ребенок должен расти амбициозным. Амбиции нужно демонстрировать. На традиционный вопрос, кем ты хочешь стать, американский ребенок обычно отвечает: «Президентом компании!», «Президентом страны!», «Звездой Голливуда!», «Астронавтом!». С точки зрения американцев, все профессии хороши, если ты добился успеха. Успешных не судят, ими восхищаются.
4. Ребенка учат контролировать свои достижения с помощью системы баллов. Когда ребенок вырастет, он будет получать зарплату уже в баксах. Но пока за помощь по дому, помытую посуду, скошенный газон и самостоятельную стирку ребенок получает 10–20 баллов. И, напротив, за промахи и беспорядок ему назначается штраф. В конце месяца баллы суммируются в премию. Каждый балл приравнивается к известной сумме. Так что ребенок получает на руки самые настоящие деньги, которые он может потратить на что угодно.
5. Родители не поощряют жалобы детей. Конечно, ребенка выслушают, но при этом родитель постарается выработать технологию решения проблемы, чтобы никогда не возвращаться к ней снова. Постоянно жалуются на жизнь только неудачники, лузеры, а успешный человек находит решения, вырабатывает правила, как решить ту или иную проблему, и доводит эти правила до технологического совершенства. Американцы любят писать и читать простые и ясные инструкции, которые действительно облегчают жизнь. Но это не мешает им просыпаться по утрам с мыслью, как сделать свою жизнь еще более эффективной?
6. Американцы считают не только доллары, но и часы, километры, килограммы. Когда американский родитель идет с ребенком на прогулку, он обязательно спланирует время и маршрут. Навыки планирования помогают сэкономить время, а свободное время – это дополнительное удовольствие от жизни.
В чем мне видится опасность и ограничения американской модели счастья?
7. Ребенок знает, что его жалобы не встретят понимания у родителей. От него ждут успехов!
8. Ребенок учится не замечать проблемные стороны жизни: проступки, дурное настроение других, неблагоприятные условия. Он может вырасти неадекватным. Потому что одно дело – делать вид, что все хорошо, а другое – считать, что на самом деле нет проблем.
9. Ребенок будет стремиться нравиться как можно большему количеству людей, понимая, что от них зависит популярность и успех.
10. Ребенок будет демонстрировать любые свои достижения, даже если они не превосходят достижения других.
11. Ребенок будет внушать себе и другим, что он счастлив, несмотря на откровенные промахи.
12. У ребенка образ личного счастья будет навеки связан с финансовым благополучием. А перспектива достижения абсолютного счастья станет открытой. Счастья всегда мало, хотя оно и сопровождает нас везде и повсюду…
13. Настроение ребенка будет прямо зависеть от количества внимания, любви и одобрения со стороны других людей.
Впрочем, вам решать, ограничения это или возможности.
Образы счастья по-русски
Здесь вы найдете неизменные ингредиенты рецепта счастья по-русски. Мы поговорим о том, как мы, желая счастья своим детям, программируем их на несчастье. О литературных и фольклорных мифах счастья в России. О том, что русские счастливы везде, где их нет. И о том, бывает ли русское счастье личным. Рекомендации для родителей: положительные и отрицательные последствия формирования образа счастья по-русски у наших детей.
Русская пословица гласит: «Не было счастья, так несчастье помогло!» Счастье непредсказуемо. Русский человек не возгоняет эмоции, как американец, а ждет, когда счастливая волна сама его накроет.
Выражение «счастье улыбнулось» – о том, что счастье – не ежедневное состояние, а редкость, удача, везение. У нас все делают «наудачу», боятся «сглазить», и как ни учили нас большевики, что человек сам кузнец своего счастья, мы полагаемся на судьбу, потому что счастье – это сверхчеловеческая сущность, она не по силам человеку. Русский человек скорее предпочтет рулетку, ручку барабана «Поле чудес», сговор с нечистой силой, чем уверенной рукой разработает бизнес-план по достижению большого личного счастья.
Не случайно образ счастья в русских сказках ассоциируется с рыбой – ускользающим, редким зверем, который может только хвостом махнуть и исчезнуть в темных глубинах.
Социальные игры со счастливым исходом и в сказках, и в реальной жизни нам не очень удаются. И в «Репке», и в «Теремке», и в «Курочке Рябе» попытки героев договориться трещат по швам. Спасает или губит все какая-нибудь мелочь – мышка, которая или хвостиком махнет и погубит яйцо, или, наоборот, поможет вытянуть репку, найдет рукавичку, теремок.
Русское счастье личным не бывает. Справедливость мы видим в том, чтобы «Всем сестрам по серьгам!». Если человек благополучен, все у него есть – и положение, и деньги, и здоровье, – Бог обязательно пошлет ему испытание, чтобы было ему не лучше, чем другим. Так, купец будет искать для своей дочки Аленький цветочек, а Ивану-Царевичу придется жениться на лягушке. Счастье обычно достается бедным, сиротам, у которых нет никаких перспектив.
Сила желания в русской фольклорной традиции часто обратно пропорциональна вероятности истинного счастья. Сказка о Золотой рыбке как раз про это. Чем большего хотела Старуха, тем ближе ее сказка приближалась к печальной развязке. У нас говорят: «Много хочешь – мало получишь!»
Высшее коллективное счастье, счастье одержимых, самоотверженных людей, героев, святых – это идеальная ментальная конструкция, которую религиозная мораль предлагает нам взамен личного счастья. Абстрактное счастье непонятно и не по силам детям, моральное сознание которых начинает формироваться только в семь лет. Хотя в известном стихотворении Владимира Маяковского кроха пришел к отцу, чтобы спросить, что такое хорошо, что такое плохо, в реальной жизни крохи мыслят не абстрактными категориями, а конкретными образами и, как правило, чувствуют, где хорошо, где плохо, лучше своих пап и даже мам. Дети живут эмоциями. Они купаются в них, если они счастливы.
У русских напряженные, непредсказуемые отношения со счастьем. Лично я объясняю это общей амбивалентностью русского характера, тем, что в нем соединились, срослись два противоположных, но взаимозависимых темперамента – холерический и меланхолический. Там, где самоуверенный, не знающий меры холерик победно замахнется, меланхолик с ужасом нырнет под лавку.
Мы ко всему относимся с амбивалентной напряженностью: «Да, но… Нет!» Герои Достоевского доходили до исступления и припадков в поисках ответов на важные вопросы. Спросите русского, что он будет делать сегодня вечером, услышите: «Не знаю…» Может ли стать счастливым человек, который не знает, что он хочет и кого он любит?
Находясь подолгу среди американцев, испытываешь потребность поддать жару, вдохнуть жизнь в довольно строго регламентированное общение окружающих людей. Наш стиль – отношения с бурными проявлениями эмоций, скандалами на пике возбуждения и резкими спадами с чувством бессилия что-либо изменить на свой лад. Долгие периоды упертого молчания с медленным возвратом друг к другу, с постепенно нарастающим приливом нежности. Стихия! Природность у нас считается искренностью.
Страдания определяют глубину отношений. Счастье – еще не показатель. Отказываясь от легких отношений, мы упрямо настаиваем на том, что счастье – дело адски трудное.
А если нет?
– Почему люди в России ходят с таким суровым видом? Почему вы так угрюмы? – спрашивала меня Леночка, девочка двенадцати лет. Она и ее мама родились в Америке, но в России остались родственники, и девочка прилетела навестить своих «кузенов».
– У нас было много горя. Мы до сих пор скорбим.
– Мне так жаль. Могу я чем-то помочь? – спросила она с американской самоуверенностью.
Американцы – сторонники активных способов переживания. Если печаль не проходит, нужно куда-то двигаться, идти к психологу, врачу, отправляться в путешествие, писать книгу… Только не сидеть на месте!
Американский активизм противостоит российской сострадательности.
Кстати, фразу «Can I help you?» («Могу я вам чем-то помочь?»), которую вы обязательно услышите от продавцов в американских магазинах, стали использовать в маркетинговых целях в шестидесятых годах прошлого века для привлечения и косвенного принуждения к покупке зевак, которые заглянули в магазин, возможно, из любопытства.
Продавцы в России перевели эту фразу на свой лад: «Вам что-то подсказать?» Другой акцент: американский продавец оставляет выбор за вами, а исполнение за собой, а наш готов осуществить за вас и выбор, «подсказать», что вам идет, что вам следует купить.
Но точно так родители в России лучше знают, что нужно их детям. Одно из частых неприятных воспоминаний в исповедях россиян: когда родители в детстве покупают некрасивую, дешевую вещь и торжественно вручают как дорогой, исключительный подарок.
У нас не работает обратная связь в общении с ребенком. Удовлетворенное родительское самолюбие мы путаем с предполагаемым удовольствием ребенка.
Родители чаще всего понятия не имеют, что нравится их сыну или дочке. Что тут выбирать? Пусть радуется тому, что есть. Вырастет и купит себе все, что захочет. Мы лукавим. К тому времени, когда он сможет купить себе все, что захочет, он отучится следовать своим желаниям.
Коммуникация в условиях строгой иерархии носит односторонний характер: сверху вниз. Инициатива «младших по званию» воспринимается как нарушение дисциплины. А в проблемных ситуациях мы исходим из того, что уже ничего нельзя сделать. «Ну, что тут поделаешь?» – наша коронная фраза.
Привычка подчиняться разрушает собственную волю ребенка. Точнее, исключает ее формирование.
Если только у ребенка не формируется внутреннее противостояние, он встает в оппозицию. Но это уже не воля, а своеволие, основной мотив которого – отстоять право не на разумное решение, а на любое, пусть самое худшее, но свое.
Страдание – ценнее для нас, чем счастье, совместная радость. Усилия по преодолению трудностей, напряжение всех сил и ресурсов необходимы для достижения цели. Счастье – это предельное физиологическое напряжение, возбуждение, которое может нарастать вплоть до истощения всех сил. Поскольку не всякое возбуждение автоматически достигает пика и заканчивается разрядкой, для разрядки используется конфликт, поводом для которого может быть что угодно.
Для русского человека важнее, чтобы соблюдались нравственные принципы. Говоря языком психоанализа, Супер-Эго у нас доминирует над Эго. Совесть, долг, служение призываются, чтобы разрешить или наложить вето на счастье. Вот почему мы испытываем сильнейшее чувство вины, когда на голову сваливается счастье. И страх сглаза в традициях нашего социума вполне обоснован: коллектив отберет и поделит на всех любое личное приобретение.
Русская литература XIX века продвигала масштабный нравственный проект. Нравственные оценки преобладали над личностными. «Жизнь скучна без нравственной цели, не стоит жить, чтобы только питаться, это знает и работник – стало быть, надо для жизни нравственное занятие», – утверждал Ф.М. Достоевский. Князь Мышкин в романе «Идиот» читает монолог о счастье («Посмотрите в глаза, которые на вас так смотрят и так вас любят»), и в момент наивысшей экзальтации у него случается сильнейший припадок. Писатель предупредил нас: счастье связано с таким напряжением сил и воли, что человек может не выдержать его и на пике счастья погрузиться в страдания, сойти с ума…
Моя коллега психолог-исследователь Елена Холондович провела частотный анализ ключевых произведений Федора Михайловича Достоевского и обнаружила с помощью математических методов, что слово «страдание» по мере развития его творчества, от «Белых ночей» до «Идиота», становится ключевым для автора, возводится в высшую ценность.
Л.Н. Толстой тоже писал о том, что счастье можно принимать только как нравственное испытание, урок. «И то, что мы называем счастьем, и то, что называем несчастьем, одинаково полезно нам, если мы смотрим на то и на другое как на испытание». Счастье должно быть справедливым. Тот, кому удалось стать счастливым, должен помнить о тех, кто несчастен. Нельзя стать счастливым в одиночку. «За дверью счастливого человека должен стоять кто-нибудь с молоточком, постоянно стучать и напоминать, что есть несчастные и что после непродолжительного счастья наступает несчастье», – пишет Л.Н. Толстой. В отличие от открытого, демонстративного американского счастья, русское счастье интимно, сокровенно. Они на противоположных полюсах.
Отечественные модели счастья, как и модели жизни, рассчитаны на сильных людей.
Известный режиссер Т. Бекмамбетов, сравнивая отечественное и голливудское кино, отмечает, что в наших фильмах главный герой борется за свободу любимого человека, чтобы обрести вечную любовь. В американском кино наоборот: любовь – это путь к свободе. Эти установки срабатывают и в личной жизни. Перспектива любви и счастья у русского человека постоянно отодвигается, а на первый план выступает борьба с препятствиями. Инстинкт борьбы сформировал у нас привычку видеть преграды на пути к любви вместо того, чтобы смотреть в глаза любимому человеку и встречать с ним рассвет, вознося хвалы Господу за еще один день, прожитый вместе.
Интересно, что принятие решений, выражение желаний и их исполнение в сказках осуществляют разные персонажи. Главное – возглавить процесс. Главный – тот, кто чужими руками жар загребает. Емеля, не слезая с печи, исполнил свои желания благодаря Щуке. Старуха отправила Старика к Золотой рыбке с той же целью. Колобка никто не мог остановить, кроме Лисы, а до этого он творил, что хотел, и т. д. Количество русских народных сказок, в которых герои просто так получают все, поражает воображение. Бессмысленно прилагать усилия, это любой дурак сможет.
Если европейские сказки начинаются с неопределенного времени («Once upon a time…» – «Однажды…»), то русские сказки начинаются с указания на неопределенность места – «В некотором царстве, в некотором государстве…». Наше счастье – где-то. «Везде хорошо, где нас нет», «У соседа и щи гуще». Наше сознание экстенсивно, а счастье сравнивается с бесконечностью. «Пойди туда, не знаю куда. Найди то, не знаю что». Счастье невообразимо. Его нельзя представить. Самый трудный вопрос для русского человека: «Что ты хочешь?» В поисках ответа на него мы готовы исколесить весь мир.
Лев Толстой назидательно замечает: «Счастлив тот, кто счастлив дома». Русский человек почти никогда не бывает счастлив у себя дома.
Расхождение между внешним (экспрессией, декларациями) и внутренним планом (переживаниями, желаниями, страхами) – характерно как для сказочных персонажей, так и для реальных взаимоотношений в нашем культурном ареале.
В социальном отношении такое расхождение – ханжество. В психологическом – самообман, когда человек даже себе боится признаться в желаниях.
Как, по-вашему, ребенок может адаптироваться к миру взрослых, которые говорят одно, а делают другое и никогда не ставят в известность о своих истинных намерениях?
Герой наших сказок вступает не в переговоры, а в сговор с темными силами: он готов пойти на условия с Кощеем Бессмертным, Бабой-ягой, Соловьем-разбойником. С кем угодно он готов договориться, когда идет к цели, но договор этот носит тактический характер. Условности реального мира противостоит предельная ощутимость внутренних метаний. Внутренний мир русского человека предельно амбивалентен, в нем все может соединиться со всем, в произвольном порядке, без всякой логики и рационального выбора. Оправдание такому волюнтаризму – краткосрочность альянса, хрупкость аппликации из разнородных существ или сущностей. Царевна-но-Лягушка-но-снова-Царевна, Иван-Дурак-но-Женился-на-Дочке-Царя, Ковер-но-Самолет… Старик договорился с Рыбой, но не навсегда, всего-то на два желания, Лиса дружит с Волком, но до первой общей добычи… В конце сказки происходит подведение итогов с неизбежным наказанием за плохое поведение.
Акцент на наказании, а не на награде важен не только для русской сказки, но и для отечественной системы воспитания. Отсюда особый мотив поведения как сказочных персонажей, так и детей, которых взрослые вовлекают в свои социальные игры, – мотив избегания неприятностей. Мотив «не быть наказанным», не сделать чего-то запретного, «а то накажут», становится ведущим.
Уже в школе мы учимся не для того, чтобы узнать что-то по-настоящему интересное, а чтобы избежать неприятностей, не получить «двойку». Молодец не тот, что выучился, а тот, кто выкрутился. Не тот, кто много трудился, а тот, кто, не трудясь, сохранил свою репутацию, избежал санкций, получил хорошую оценку за просто так.
Счастье у нас – это не процесс, а результат. Итогом сказочных приключений может стать разбитое корыто или свадебный пир. Наградой может стать и добрый супруг. Счастье – это награда за предыдущие несчастья.
Сказочный герой может быть вознагражден за смелость, отвагу, верность, но уже в самом конце. А до этого ему никто не поможет, потому что он еще не доказал, что заслужил счастье. Видите: у нас счастье нужно заслужить. Не всякий его достоин. Не всякий его получит.
Деньги, достаток, царский статус сами по себе не определяют счастье: «Богатство полюбится, и ум расступится»; «Без денег сон крепче», «Счастью не верь, а беды не пугайся!», «Не в деньгах счастье, а в добром согласье».
Может даже показаться, что счастье – это утешение для бедных и убогих. А богатым и полноценным приходится довольствоваться здоровьем и деньгами. В русском фольклоре предпочтение однозначно отдается счастливому существованию. Счастье случается гораздо реже, чем богатство и достаток.
Два идеала счастья живут в нашей культуре. Счастье сильного человека в том, чтобы взойти на вершину пирамиды, получить все, чего только душа ни пожелает, счастье слабого человека – в покорности и смирении. И в том и в другом случае мы готовимся к испытаниям, преодолениям, препятствиям. Только подвиг и терпение вознаграждаются. Счастье не может быть ни обыденным, ни персональным, только для себя. Счастье не может быть вечным. Хорошо, если оно вообще есть, удалось схватить удачу за хвост. Потому что на всех счастья все равно не хватит.
Давайте послушаем еще раз, что мы говорим детям?
ЗАКРЕПЛЕННЫЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
методы воспитания терпения и выносливости у детей
Тугое пеленание, которое практикуется до сих пор в России, один из реликтов старой традиции воспитания. Ребенка оставляют неподвижным, и так он привыкает подолгу находиться фиксированным. Родители в это время могут заниматься своими делами. Когда ребенок подрастает, в качестве наказания его ставят в угол. «Вот стой там и думай!» – аналог молитвы. В российской практике воспитания много анахронизмов из религиозной жизни.
✓ Мы призываем ребенка потерпеть, подождать, пока закончим дела. Оставляя ребенка, мать, как правило, рассчитывает на то, что ребенок будет сидеть тихо и неподвижно. Умение вести себя спокойно и беззвучно считается у нас хорошей нормой.
✓ Мы хвалим детей за послушание: «Молодец, ты у меня послушный!» Послушание – религиозная практика, выше поста и молитвы. Суть его в добровольном подчинении авторитету. Критическое отношение и отказ от предписаний старших невозможны. Повышением тона или угрожающей маской на лице родитель сообщает ребенку, что тот нарушает одно из главных табу.
✓ Мы даем детям задания, которые требуют терпения и аккуратности, специально, чтобы занять их (например, что-то вырезать, лепить, клеить). Отказ или плохое исполнение заданий наказывается. Самое главное качество, которое воспитывается в процессе самостоятельного исполнения заданий, – это усидчивость. Ребенка приучают к монотонному физическому труду, чтобы с легкостью справляться с невзгодами в будущем. Несмотря на ценность образования, интеллектуалы снова вызывают скепсис. В трудные времена они не смогут прокормить ни себя, ни свою семью.
✓ Аскеза, отказ от удовольствий проявлялись раньше в скромности быта. Вещи, предметы, игрушки оцениваются до сих пор с точки зрения их дороговизны и надежности, а не эстетики и обучающего потенциала. В наших детских много бесполезных и некрасивых игрушек. Зато среди них есть большие и яркие. Размеры и броскость игрушек (а потом машины, телефона…) оцениваются как показатели статуса семьи. В последнюю очередь покупается игрушка, о которой ребенок грезил. Так мы учим ребенка ориентироваться на внешние требования, игнорировать личные запросы, подавлять в себе самые сильные (а значит, важные) желания.
✓ Самые яркие и сильные желания ребенка, как правило, откладываются на потом: до воскресенья, до праздников, когда будет время. Наши дети растут в постоянном ожидании чуда в будущем, которое придет на смену монотонным серым будням.
КТО ВЫ ПО ТЕМПЕРАМЕНТУ? ЭКСПРЕСС-ТЕСТ 10
Что вам нужно, чтобы стать счастливым?
1. Всех превзойти по силе характера или ума. _____.
2. Заслужить это право. _____.
3. Устроить праздник или отправиться в путешествие. _____.
4. Раскрыть в себе или других нечто особенное. _____.
Рекомендации для родителей
1. Старайтесь не давать неопределенных ответов на вопросы ребенка. «Не знаю», «Посмотрим, может быть…», «Я не уверен, что смогу…», «Как-то непонятно, я сомневаюсь…». Неопределенность изматывает не только взрослых, но и детей. Более того, она расхолаживает, убивает желание двигаться вперед. Примите для себя какое-то техническое решение и сообщите о нем ребенку. Он сможет спокойно ждать.
2. Если вы откладываете что-то на потом, постарайтесь уточнить, когда именно это произойдет, покажите на календаре, сколько дней пройдет до того, как вы все-таки сводите ребенка в зоопарк или цирк.
3. Наказание не должно касаться самых дорогих для ребенка желаний и вещей. Не отнимайте у малыша самое важное, чтобы у него не осталось впечатление, что отвергают его самого, отказываются от ребенка во имя часа родительского спокойствия.
4. Если в доме радость (ребенок выступил на утреннике, научился играть в классики или кататься на велосипеде), не нужно закрывать окна-двери, чтобы, не дай бог, кто-то не сглазил. Можно отпраздновать, внеся запись в семейный альбом или родительский дневник. Можно приготовить что-то новое, чтобы показать, что не только дети, но и взрослые постоянно чему-то учатся. Лучше всего пригласить детей, которые тоже смогут попробовать то, чему только что научились ваш сын или дочь.
ОПАСНОСТИ ОБРАЗА СЧАСТЬЯ ПО-РУССКИ
✓ Как себя чувствуют дети в семье, где практикуется бурное, внешне немотивированное проявление эмоций?
✓ Конфликты родителей расшатывают психику ребенку, повышают тревожность.
✓ Ребенок приучается к гипервозбудимости с разрядкой или через агрессию, или через рыдания, или через жалостливый плач.
✓ Подчиняясь глубинным внутренним ритмам, ребенок будет испытывать трудности в том, чтобы объяснить свои переживания, а также поведение тех, кто рядом.
✓ В ожидании конфликтов в семье ребенок будет испытывать приступы немотивированной агрессии.
✓ Ребенку непросто будет устанавливать отношения доверительности с другими детьми.
Что происходит с ребенком, которому запрещают жаловаться, просить о чем-то, выражать свои чувства?
✓ У ребенка формируется низкая самооценка.
✓ Он плохо осознает свои чувства, не умеет их верно выражать.
✓ Он растет неуверенным ни в чувствах, ни в поступках, ни в желаниях.
✓ Общение с более сильными или по статусу, или по характеру людьми вызывает у ребенка повышенную тревожность.
✓ Испытывая сильные желания, ребенок чувствует вину – как будто то, что с ним происходит, нечто запретное, постыдное.
✓ Ребенку стыдно проявлять радостные эмоции, если он не уверен, что и все остальные довольны и поддержат. Он радуется с оглядкой на других.
Счастье по-французски
Мы поговорим о важных критериях настоящей жизни и настоящего счастья – о простоте и естественности. Здесь вы найдете рекомендации, как получать истинное удовольствие от жизни.
Я уже столько раз говорила о французском аристократизме, что вряд ли удивлю вас рецептом французского счастья: счастливыми бывают только избранные.
Французская избранность особого толка. Их счастье не зависит от денег по принципу «Чем больше денег, тем больше счастья и прочих возможностей!». Французы, как и русские, презирают детский восторг американцев по поводу доллара. Они ставят во главу угла вкус.
Вкус редко дается от рождения, как способность к пению или математике. Его воспитывают ежедневно и настойчиво.
Вкус – способность синтетическая. Эталоном вкуса служат не предметы, а люди, которые их выбирают. Это не тексты, а их авторы. Авторство жеста делает жест неповторимым. Совокупность, система неповторимых жестов может составить особый стиль человека. Только тот, кто открыл свой стиль, может вкусить счастья во всем многообразии его проявлений.
Счастье, рецепты которого неизвестны никому, но в потенциале доступны всем, кажется эфемерным, как аромат французских духов. Самое интересное, что французы ценят простоту и естественность. Это им принадлежит высказывание: «Все гениальное просто».
Русские женщины, путающие высокий стиль и дороговизну дамских туалетов, удивляются тому, что парижанки, в распоряжении которых все бренды, одеты скромно, в черно-бело-серую или пастельную гамму. А на их лицах не видно макияжа.
– Господи, да они совсем не красятся! – сетовала моя русская подруга, впервые ступив на французскую землю.
Мне пришлось поделиться с нею своим открытием: чтобы выглядеть естественно, они как раз и используют весь арсенал парфюмерно-косметических средств.
Французы не просто интеллектуалы, они эстеты. А это делает задачу стать счастливым на французский лад почти неисполнимой. Интеллект подчиняется законам логики. Вкус измеряется в бесконечно малых величинах. Небольшая погрешность равносильна отсутствию вкуса. Вкус предполагает уверенность в себе, поскольку то, что выбираешь именно ты, может не нравиться другому. Безупречный вкус не обозначает абсолютные пропорции, идеальный вес, идеальный овал лица, идеальную планировку квартиры. Безупречный вкус предполагает приверженность выбору, умение очаровываться и очаровывать других.
Безупречный вкус – это и есть свобода.
Счастье должно быть соразмерно желаниям и способностям человека. Иначе ваш выбор будет неоправданным, нелепым, вычурным. А вы будете выглядеть, может, и радостно, но глупо.
Несмотря на чрезвычайную взвешенность состояния счастья, нет единого эталона. Это важно. С точки зрения француза, существует бесконечное количество оттенков любви, счастья, нежности, красоты и т. д.
Французы ценят рукотворные ценности: выращенный цветок, построенный самостоятельно дом, приготовленное блюдо или собственный рецепт блюда, если оно, конечно, красиво оформлено и вкусно. «Жизнь прекрасна» («La vie est belle»). «Наслаждайся каждым моментом» («Jouis de chaque moment»).
Французы ценят все особенное, а это требует дерзости. Нужна смелость, чтобы сказать: «Я выбираю это счастье! Это – мое!» Ведь никогда нет гарантии, что тебя поймут и поддержат. «Храброму счастье помогает» («La fortune courronne l'audace») – гласит французская поговорка. Вот почему гомосексуальные браки стали настоящим испытанием для французов, которые ценят особенность и свободу выбора, но ратуют за естественность и сбалансированность в отношениях. «Каждого влечет своя страсть» («Chacun est entraîné par sa passion»). «Однажды рискнув, можно остаться счастливым на всю жизнь» («Ayant risqué une fois-on peut rester heureux toute la vie»).
Французы напоминают нам, что настоящее счастье – это радость, разделенная с другими. Они не считают, что счастье принадлежит всем. Но они и против индивидуального счастья, счастья для себя одного. Они говорят: «Счастливы вместе» («Heureux ensemble»).
Но, пожалуй, главный урок воспитания по-французски: счастье должно быть соразмерно уму, характеру и образу жизни человека. Иначе оно может разрушить личность человека и его жизнь.
КТО ВЫ ПО ТЕМПЕРАМЕНТУ? ЭКСПРЕСС-ТЕСТ 11
Что важно при выборе одежды ребенка?
1. Выбирать ее со вкусом. _____.
2. Чтобы она была практичной и универсальной, как форма. _____.
3. Чтобы она была модной, красивой. _____.
4. Чтобы она не привлекала к ребенку внимание посторонних. _____.
Рекомендации для родителей
Методы воспитания вкуса к жизни
1. Ребенка учат любоваться пейзажами, которые действительно хороши во французской провинции. Прогулки на природе, туристические маршруты, поездки на море, поиск наиболее живописных мест, лучше – диких пляжей, своих укромных уголков стимулирует воображение детей и прививает им вкус к естественной красоте.
2. Среди эпитетов, которые используют родители, описывая людей, предметы, события, чаще, чем у нас, звучат такие, как «естественный», «природный», «красивый», «трогательный», «обаятельный», «притягательный», «симпатичный», «нежный». Французские родители щедры на превосходные оценки, но их оценки не направлены на то, чтобы поощрить ребенка что-то делать, как это делают американцы. Они просто останавливаются на миг, чтобы полюбоваться красотой, всегда ускользающей, мимолетной, как все в быстротекущей жизни. Американцы хвалят ребенка за работу, французы готовы побыть зрителем для ребенка, которому удалось удивить или очаровать их чем-то особенным. А мы в основном критикуем детей, потому что, по версии русских родителей, детям еще слишком далеко до совершенства взрослого мира.
3. Французы обожают детали и уделяют им больше внимания, чем американцы и русские. Для нас важно выделять главное, остальное – мелочи. Главное, чтобы ребенок был сыт и одет. Французам важно, как именно насыщается ребенок и как именно он одевается. Дети участвуют в сервировке стола, аккуратно и в соответствии с ритуалами раскладывая приборы, разглаживая салфетки. Их учат отходить в сторону и оценивать: красиво или нет. Хороший обед может пройти только за красивым столом. Представление о качестве любого процесса четко ассоциируется с канонами красоты.
4. Французы одержимы в воспитании вкуса у детей, поэтому они регулярно ходят с детьми в большие и маленькие галереи вместе рассматривать и обсуждать картины, эстампы, скульптуры. Детей учат лепить и рисовать. Изобразительному, визуальному искусству французы явно отдают предпочтение. Они учат ребенка любить эту жизнь глазами. На втором месте, пожалуй, драматическое искусство. Отношения между людьми должны быть красивыми. Детей часто водят в театры. Организацией походов занимается школа. Спорт, танцы, пение – уже на любителя, не для всех. Кстати, Франция – страна, где родилась и активно практикуется известная и в России сказкотерапия. Но это еще раз подтверждает: после природы и еды французы высоко ценят отношения между людьми.
5. Французы против того, чтобы перегружать детей. Уставший ребенок теряет способность адекватно оценивать реальность. В младшей школе детям не дают на дом заданий, а среди недели, по средам, в школе выходной. Дети должны иметь возможность наблюдать, размышлять, обсуждать и играть друг с другом. Жизнь не сводится к тренировке ума и дрессировке характера. Озлобленный, перегруженный и запуганный ребенок постарается скрыться за стеной обид и разочарований, чтобы его оставили, наконец, в покое. Вряд ли он вырастет счастливым.
ОПАСНОСТИ СЧАСТЬЯ ПО-ФРАНЦУЗСКИ
✓ В поисках особенного пути и своего выбора человек может потерять себя.
✓ Если ребенок растет в среде, в которой культивируется исключительность, он может чувствовать себя заурядным и уже потому несчастливым.
✓ Образ мира, который формируется у ребенка, может быть фрагментирован. Вкус не всегда сопутствует целостности личности.
✓ Эстетика не должна противоречить здравому смыслу. Множество задач люди решают технически и быстро, без примерки и самолюбования. Есть такое самокритичное французское высказывание: «Эстет – это неудавшийся интеллектуал».
✓ Склонность любоваться собой и всем, к чему прикасается взгляд человека, может привести к формированию нарциссизма. У Нарцисса закрытое сознание. Он плохо вступает в контакт с другими людьми. Он их не слышит.
Чем удовлетворенность французского ребенка отличается от счастья американского и несчастья русского?
Мы поговорим о том, как темперамент соотносится с такими эго-состояниями, как Ребенок, Родитель и Взрослый. О том, что инфантилизм остается пожизненным гарантом способности человека быть счастливым. Мы посмотрим, какие сказки формируют у детей установки на гармоничные отношения. И почему родителям нужно пересматривать лучшие романтические комедии, чтобы сохранить способность любить. А также – впервые о национальных особенностях детского юмора.
АМЕРИКАНЕЦ – РЕБЕНОК,
француз – Родитель, русский – Взрослый
Помимо базовых различий в титульных темпераментах и характерах у представителей разных культур есть еще и различия другого порядка – ценностные стратегии.
Психоаналитик Эрик Берн, автор известной книги «Игры, в которые играют люди…», утверждал, что в каждом из нас представлены три состояния Эго – Ребенок, Взрослый, Родитель. В зависимости от того, какое состояние является ведущим, всех нас можно поделить на Романтиков (Ребенок), Реалистов (Родитель) и Фанатиков (Взрослый).
В каждом из нас, вне зависимости от культуры, существуют как бы три регистра: Романтик, Реалист, Фанатик. Зрелая личность может пользоваться всем богатством регистров, но ведущим оказывается только один.
Ребенок формируется до семи лет. Главные его отличия: конкретно-образное, синкретическое мышление, преобладание эмоциональных критериев в оценке людей, вещей («нравится – не нравится»), богатое воображение, уверенность в условности связей между событиями, людьми и действиями, а также антропоморфизм (склонность одушевлять животный и растительный мир, природу в целом). Жизнь ребенка подчиняется принципу удовольствия: «Я хочу!» Дети живут эмоциями. Ядро их личности напоминает резервуар, который родители и другие воспитатели призваны наполнять положительными эмоциями.
Именно в это время, до школы, формируются главные романтические установки ребенка. Родители читают сказки, в которых герои борются за свои идеалы. На их примере ребенок учится мечтать. В своих фантазиях о счастье ребенок примеряет сказочные сюжеты. Дети разыгрывают сказки в ролевых играх, рисуют эпизоды из фильмов и книг, портреты главных героев. Возможно, детские предпочтения напрямую влияют на линию судьбы каждого из нас.
С семи лет вплоть до начала самостоятельной жизни взрослые начинают модерировать жизнь ребенка. Любящий родитель понимает, что ребенок, который живет эмоциями, погибнет в довольно жестком мире взрослых. На смену принципу удовольствия приходит принцип реализма («Можно, но не нужно»). Ребенок постигает искусство компромиссов, учится рациональным способам решения проблем. Он пытается учитывать интересы как можно большего количества людей. Его любовные идеалы также претерпевают изменения. Взрослеющий человек понимает, что любовь может быть безответной, и даже если ты любишь очень сильно, чувства могут угаснуть. Заменой любви становится уважение, дружба, сотрудничество. Романтик становится Реалистом.
Соотношение уровня развития личности, темперамента и стратегии жизни в разных странах
Период взросления и начала жизни без опеки и сопровождения взрослых связан с еще одним витком формирования идеалов. Вечные ценности и пожизненные привязанности (верность, преданность, служение) выходят на повестку дня. Любая ценность в этот переходный период сопоставляется с жизнью. Отступление от общепринятых норм и принципов оценивается как тяжкий проступок. Юноши и девушки отмежевываются от родителей, ищут сверстников, которые бы понимали их и были готовы разделить с ними жизнь. Пережив кризис юношеского возраста, Реалист становится Фанатиком. Фанатик решает проблемы ультимативно, однозначно, раз и навсегда. Он еще не понимает, что его любовь – это власть над другим человеком, не сопротивляться которой может только слабый, перепуганный партнер.
Апология детства
Современный житель мегаполиса в любой точке мира живет в условиях сенсорно-эмоционального голода. Только в детстве, когда ребенка купают, обнимают, подбрасывают вверх, водят по траве и специально вместе с ним изучают окружающий мир, он находится под щедрым дождем разнообразных и новых впечатлений. Он удивляется, радуется и пугается каждые пять минут. А количество объятий с родными и любящими людьми неисчислимо. В детстве задействованы все сенсорные системы: слух, зрение, обоняние, осязание, вкусовые рецепторы. Не случайно детство считается райским периодом, и не только из-за беззаботности, но и из-за щедрости и разнообразия впечатлений.
Полученных в детстве сенсорных и эмоциональных стимуляций хватает надолго. Пока дети растут, они «подзаряжаются» энергией так, как этому их научили родители. Если представить, что в личности каждого из нас, в самом ядре, находится скрытый от посторонних глаз резервуар, то в детстве он заполнен до краев. Когда мы видим, что «ребенок брызжет энергией и счастьем» или «лопается от удовольствия», «светится от радости», можно с уверенностью сказать, что его резервуар переполнен. А если он грустит, капризничает или кричит, родители вынуждены искать способы удовлетворить ребенка.
Соотношение уровня оптимизма-пессимизма отражается не только в образе стакана с водой. Это не стакан «наполовину полон – наполовину пуст», это наш внутренний резервуар «наполовину пуст – наполовину полон». Механизмы аккумуляции энергии мало изучены в психологии. Но если рассматривать резервуар как топливный бак, возможно, первичная психологическая (сенсорная и эмоциональная) удовлетворенность и есть тот энергетический минимум, без которого ни ребенок, ни взрослый человек ничего не хотят и не могут делать.
Резервуар с положительными эмоциями
Отечественные критики инфантилизма считают, что современная генерация россиян инфантильна и беспомощна, в отличие от своих рано повзрослевших родителей, я уж не говорю о прабабушках и прадедушках, которые в пятнадцать лет командовали полками. Я придерживаюсь теории «одной трети», согласно которой детство как этап, когда дети учатся, пробуют, сепарируются от взрослых, должно занимать не менее одной трети жизни человека. А поскольку продолжительность жизни растет, то и детство сегодня заканчивается не в 17–18 лет, а в 25–27 лет. Это на социальном уровне. Ожидается, что к этому времени дети отделятся от нас, выберут, наконец, свою профессию, свою пару по жизни.
В психологическом смысле детство не должно заканчиваться никогда. Потому что именно инфантильная часть личности является базой, фундаментом «Я», источником самых глубоких желаний, потребностей, надежд, фантазий. Презираемый у нас инфантилизм и есть залог счастья, которому мы завидуем.
Внутренний Ребенок нуждается в поддержке, любви и заботе или хотя бы в воспоминаниях о счастливых днях.
Просмотр любимых кинофильмов, разглядывание семейного альбома, разбор ящика со старыми игрушками, украшение новогодней елки помогают нам возродиться. Мы оживаем, когда мысленно возвращаемся в детство.
Взрослые, которые были счастливы в детстве, везут за собой целый вагон с зарезервированным счастьем. Как бы возвышенно мы ни относились к понятию счастья, за ним скрывается и физиологическая удовлетворенность, и психологическая защищенность, доступные нам в полной мере только в детстве.
Подавление желаний – верный способ получить полную власть над еще неокрепшим человеком, ослабить его и без того слабое «Я», лишить внутренних ориентиров. Наши желания – предчувствия наших возможностей? Да, если эти желания яркие, органичные, а не вымученные, навязанные, насильно привитые. Ребенка можно приучить к чему угодно внешнему, но гораздо труднее научить его распознавать и упорядочивать свои желания.
Первый фактор счастья – органичные желания. В зависимости от системы воспитания дети исполняют свои или чужие желания. При опекающем стиле воспитания взрослые стараются исполнять любые капризы детей. При авторитарном стиле, наоборот, ребенок призван повиноваться и исполнять желания взрослых, прежде всего родителей. Важно, чтобы ребенок не только исполнял свои желания, но и критически к ним относился, понимал, что не все его стремления вызывают энтузиазм, не все, что он делает, самому ему нравится.
Желания не исчезают после того, как мы их исполняем. Наоборот, истинную цену желаний человек узнает после того, как он пытается их исполнить. Мы должны помочь ребенку разобраться с заветными желаниями. Известно, что привлекательность части из них резко падает после исполнения. И, наоборот, иногда аппетит приходит во время еды.
Наиболее распространены две родительские жалобы: «Его ничего не заставишь делать!» и «Его невозможно урезонить!». Одних детей не сдвинуть с места, других – не остановить (точно так ведут себя взрослые, которые не разобрались со своими желаниями). Для первых – сказки о пользе мелких усилий, например, о перебирании гороха Золушкой. Для вторых, неукротимых, – сказка о Старухе, которая осталась у разбитого корыта. Если не остановиться, то аппетиты будут нарастать такими темпами, что справиться с ними будет непросто.
Второй фактор счастья – энергия исполнения желаний. Здесь энергия выступает как показатель эмоциональной насыщенности «Я» человека. Энергия ребенка напрямую связана с его удовлетворенностью, социальным и психологическим подкреплением его действий. Измерять «энергию желаний» ребенка можно в коли
