Читать онлайн Кто подставил Красную Армию бесплатно
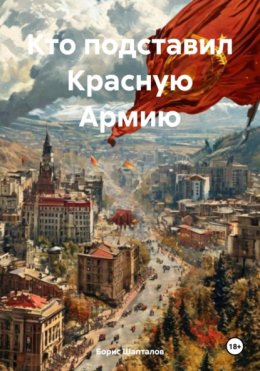
Борис Шапталов
Кто подставил Красную Армию?
Москва 2013
Предисловие
– 3
Как создавалось «внезапное нападение»
– 9
Подставленная Красная Армия
– 96
Что это было?
– 128
Кто виноват и что не надо было делать
– 197
Все возможно
– 203
Заключение
– 210
Использованная литература
– 211
Предисловие
О чем пойдет речь
Одно из центральных мест в современном потоке исторической литературы занимает сталинская тема. Оно и понятно: в его время было пролито столь много крови, что неизбежно возникает вопрос о том, кто ответственен: правители или обстоятельства? А также: во имя чего она была пролита? Кроме того, эта тема интересна логикой пишущих и рассуждающих на телевизионных экранах. Многое служит материалом к изучению нашей ментальности. Например, вопрос о том: сам ли Сталин умер или ему помогли члены Политбюро? Идет настоящее уличение Хрущева и Берии и других высокопоставленных сановников в том, что они явно не без греха. Получается, что им надо было сидеть и ждать, пока к ним приедут «воронки», после чего в кабинете следователя чистосердечно рассказать, в каких иностранных разведках служили, и уже с чистой совестью спуститься в подвал за своей пулей, радостно осознавая, что товарищ Сталин пристроит детей в приют, а женам найдет посильную работу в лагерях, как жене Калинина. И вообще: когда Сталин убивал сотни тысяч людей – это понятно, – для дела. Но самого Сталина за что убивать?
Изобличающие в «заговоре против Сталина» почему-то уверены в праве секретаря ЦК карать любого государственного, партийного или военного руководителя по собственному усмотрению и вкусу. А почему, собственно, членам высшего политического руководства не могло надоесть быть расходным материалом? Что это за строй создал Иосиф Виссарионович, при котором отличные от его мнения обязательно квалифицировались, как «фракционные» и «вредительские»? И вообще, интересная «этика» получается: если Сталин отдал приказ убить Троцкого – это хорошо, а если кто-то решил убить Сталина – плохо, ибо вождь на то санкции не давал. Железная логика! А как же «эффект бумеранга»? Сосо Джугашвили каким заповедям в семинарии учили?…
В свою очередь, в книгах, посвященных репрессиям 30-годов, авторы доказывают, что никакого заговора против Сталина не было. Но доказывают таким способом, что всегда можно им возразить. Ведь в протоколах допроса содержатся признания обвиняемых, и их опровержение строится на противоречиях в показаниях. Не проще ли задаться вопросом в иной плоскости: если все эти тухачевские, уборевичи и прочие блюхеры составили заговор, то зачем им было вербоваться в германские и японские агенты, готовить поражение Красной Армии и сулить будущим агрессорам Украину и Дальний Восток? Получается, им надо было годами ждать войны, занимаясь вредительством, ежедневно рискуя оказаться в поле зрения контрразведки. А с началом войны обеспечить поражение Красной Армии и в награду получить от врага маршальские звания и посты в новом руководстве, то есть то, что они уже имели. Уж больно заковыристые у «заговорщиков» были расчеты. Разве нельзя было поступить проще и надежнее: все они имели доступ к телу вождя, так не лучше ли было озаботиться тривиальным терактом? Нет человека – нет проблемы.
Пишут, что заговорщики терактом боялись скомпрометировать свое оппозиционное дело. А с чего это заговорщикам объявлять о своем замысле? Николаев убил Кирова и до сих неясно, действовал ли он в одиночку или по чьему-то наущению. Так и со смертью Крупской. Поела бедная женщина торта и вскоре умерла. Возражают, торт ели и другие. Да, но чтобы отравить отдельного человека совсем не обязательно пропитывать ядом весь торт. Достаточно тому, кто разрезал вкусный продукт знать, что кусок с желтой розочкой надо положить в тарелку вдовы вождя…. А взять смерть Сталина. Его соратники изобразили скорбь и даже в речах грозились идти по сталинскому пути. А когда все улеглось, только тогда объявили его тираном и палачом. Неужели тертые политические калачи не могли до всего этого додуматься? Если б хотели убить Сталина в 30-е годы, смогли б…
Или тот же вопрос в другой плоскости: если расстрелянные военачальники были шпионами и заговорщиками, то почему верные сталинцы – Молотов, Каганович или Ворошилов с Буденным, голосовавшие за смерть «шпионам», не протестовали против их реабилитации? Как можно реабилитировать врагов? Или этим людям плевать было за что голосовать, лишь бы быть «всегда с партией, всегда с народом» и на вершине власти заодно? Тогда какова цена их «принципиальной позиции» в 1937 году?
А раз покушений не было, не считая грубых инсценировок, вроде неприцельных выстрелов с проходящего катера во время пребывания Сталина в Абхазии на отдыхе, то не было и заговора. Фронда среди военных могла быть. Против Ворошилова, к примеру, или по другим вопросам. Сомнения в размахе коллективизации и понесенных жертвах – тоже. Но это не заговор, а нормальная позиция человеческого ума, способного не только исполнять, но и анализировать.
Но если все «заговоры» фальшивка, то кому они были выгодны? Ягоде? Ежову? Берии? Абакумову? Им-то зачем? Получается – Сталину. Но ему-то к чему, ведь к 1937 году он обладал абсолютной властью и непререкаемым авторитетом, в том числе подкрепленным авторитетом карательных органов. И вот в разгар своего величия вождь затеял странную комбинацию с нескончаемыми заговорами военных, а заодно арестовывались инженеры, производственники….
Если бы его репрессии ограничились большевиками, многие из которых отметились в свою очередь репрессиями в гражданскую и в коллективизацию, то Сталина хвалили бы и правые, и левые. Кто б кручинился по поводу расстрела Зиновьева, Пятакова, Эйхе, а тем более убийства Троцкого? Но Сталина понесло дальше и дальше, что, собственно говоря, и вызвало неприятие его деятельности на этой ниве. А с неприятием возникли и вопросы: зачем он истреблял однопартийцев – понятно, но зачем распространил аресты на другие группы общества?
Может быть, Сталин и вправду страдал психическим, о котором якобы (поди проверь) говорил академик Бехтерев после осмотра вождя в 1927 году? А если это легенда, то какими еще мотивами руководствовался секретарь ЦК, перманентно истребляя военных и партийных руководителей, сажая в лагеря ученых и конструкторов?
Странная получается история. А вот еще одна.
В 1990-е годы в историографию Великой Отечественной войны была вброшена тема, ставшая на два десятилетия центральной, а именно вопрос: хотел ли Сталин нанести превентивный удар по Германии летом 1941 году? Казалось бы, частный вопрос (даже если хотел, у него ничего не вышло) вызвал бурную полемику, ставшую идеологической, то есть имеющей к изучению собственно истории опосредованное отношение.
Сторонники «хотения Сталина» усиленно пропагандируют три основных тезиса:
1. Сталин хотел вероломно напасть на Германию, потому усиленно готовился к войне, но бедному Гитлеру удалось в последнюю секунду увернуться и отвести занесенный над ним и его страной топор.
2. Сталин не просто хотел напасть на Германию, но и желал, что наиболее ужасно, получить выгоду в случае победы, а именно без санкции западных держав распространить социализм за пределы СССР.
3. Эти сталинские планы можно квалифицировать, как тяжкое деяние и подлежат безусловному осуждению, ибо известно, что право на распространение своих политических порядков имеют только западные державы.
Кстати, в данной книге есть подарок всем «суворовцам», вот уже два десятилетия безуспешно ищущим страшно засекреченный план превентивного нападения на Германию. Я публикую подробные выдержки из плана «превентивного удара». Правда, он всем известен, но В. Суворову и его сторонникам этот план не интересен потому, что тогда отпадает необходимость с выгодой рвать на груди тельняшку в бесконечной череде «разоблачающих» книг.
Возражения им «официальных» критиков сводятся к следующим тезисам:
1. Сталин и помыслить не мог напасть на фашистскую Германию. Единственной заботой руководства СССР была глухая оборона.
Эти историки как бы признают: место СССР было на галерке, и в своей политике Кремль исходил именно из этого представления о первом в мире социалистическом государстве.
2. Красная Армия, несмотря на огромные арсеналы вооружений, к войне не была готова, ибо армии не хватало того-то и того, а также мешало то да се. Короче, не была пришита последняя пуговица к шинели последнего солдата.
Для меня обе позиции «странны» тем, что их авторы совершенно не понимают ушедшей страны и политической обстановки того времени, а их позиция служит иллюстрацией состояния умов нашего времени. Я же исхожу из других тезисов, а именно:
1. Подготовка к войне с фашистской Германии являлась высшей целесообразностью, независимо от политического строя России. А возможность превентивного удара по нацизму, доказавшего свою агрессивность в захвате других стран, была бы вполне оправданной мерой.
2. Каждое государство стремится реализовать свои интересы и получить выгоды от войны, и стремление к этому руководства СССР было явлением для мировой политики более чем нормальным. СССР завладела Западной Белоруссией и Западной Украиной по тем же основаниям, по которым их захватила Польша. Советский Союз имел те же резоны на Карельский перешеек, по каким его захватывала Финляндия.
3. Красная Армия находилась на верном пути в своем военном строительстве, но волюнтаристские действия Сталина сначала затормозили этот процесс, а потом привели к феномену «внезапного нападения» на Советский Союз и разгрому основных сил Красной Армии.
4. «Внезапное нападение» было явлением сугубо искусственным, но причины конструирования Сталиным «внезапного нападения» пока что совершенно непонятны, а значит, эта проблема требует детального исследования.
Раскрытию и обоснованию этих пунктов и посвящена данная книга. Причем в этих выводах нет ничего «от себя», а лишь констатация реалий международной политики и политической морали того времени. А вот что приходится привнести от себя так это выводы из накопленной в последние два десятилетия в исторической литературе информации. Она свидетельствует о том, что старую сенсацию о желании Сталина нанести превентивный удар по Германии пора заменять новой – о том, как и почему Сталин подставил Красную Армию под удар Вермахта. Для чего была проведена целая серия мероприятий, обрекающая Красную Армию на военное поражение?
Войну можно рассматривать как целостное, самодостаточное для анализа событие. Можно – как звено в цепи мировых исторических событий. А можно – как частный случай деятельности государства. В этом ряду заслуживает внимание более чем странное поведение управленческой системы, которая по непонятным причинам подставляет опекаемый ею народ, обрекая его на большие жертвы и лишения, а государство оказывается на грани краха. Да, с одной стороны, странно, а с другой – разве в истории России это единичный случай?
О методике исследования
По событиям 1941 года написана масса книг, и будет написано еще. Но во многих работах содержатся, с моей точки зрения, непростительные недочеты, которые не хочется повторять.
В моем тексте я придерживаюсь научного правила – приводить точные ссылки использованного материала. С одной стороны, это дает возможность читателю обратиться к заинтересовавшим ссылкам и прочитать эти книги самому. Таким образом, цитаты и ссылки есть способ распространения знаний, ибо найти нужную литературу самому не всегда легко. С другой стороны, точные ссылки дают возможность читателю проверить написанное. Ведь манипуляция с цитатами – старый и почтенный способ «тонкой» фальсификации.
Кроме того, наличие ссылок избавляет читателя от чтения искаженных и притянутых мыслей. Например, таких:
«Хрущев нанес удар в самое сердце системы. По меткому выражению С.Г. Кара-Мурзы, он фактически сказал: «Вы идиоты – подчинялись безумному тирану и даже любили его. Теперь вы обязаны его ненавидеть и каяться, а за это я обещаю вам за три-четыре года догнать Америку по мясу и молоку». От этих слов у граждан возникло острое желание вдребезги напиться, что многие и сделали» (26. Лысков, с.195).
Хлестко, конечно, написано, но точно ли передается суть проблемы хрущевской десталинизации? Если бы автор С. Кара-Мурза, автор почтенный, написавший много интересных книг, вынужден был привести цитату из выступления Хрущева, в котором тот говорил такие слова про «культ личности» и сулил взамен догнать Америку, то это место, вероятнее всего, из текста вылетело бы.
Примерно также обстоит дело и с доказательствами. Многие авторы грешат публицистикой. Они декларируют, а не доказывают. Утверждают, но не приводят фактов. Так и в случае с гражданами, у которых «возникло острое желание вдребезги напиться, что многие и сделали». Если бы автор взялся обосновать свое утверждение – сколько было этих граждан, в какой период времени они напились и пр., то текст принял бы совершенно иной коленкор.
Совсем иначе смотрится следующий разбор деятельности у того же Д. Лыскова созданной в сентябре 1987 года комиссии при Политбюро по изучению репрессий 1920-50-х годов:
«25 декабря 1988 года, спустя всего чуть больше года (!) со дня создания комиссии, появляется записка в ЦК КПСС «Об антиконституционной практике 30—40-х и начала 50-х годов». В ней, в частности, говорится: «Комиссия Политбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 30—40-х и начала 50-х годов, продолжает работу по реабилитации лиц, необоснованно осужденных в эти десятилетия. […] В настоящее время уже пересмотрено 1 002 617 уголовных дел репрессивного характера на 1 586 104 человека. По этим делам реабилитировано 1 354 902 человека, в том числе по делам несудебных органов – 1 182 825 человек» [дается ссылка]. Темпы пересмотра и реабилитации поистине фантастические, полтора миллиона человек реабилитировано за 15 месяцев работы комиссии, по 67 тысяч дел в месяц, более чем по две тысячи в день. Масштабы реабилитации заставляют усомниться, проводились ли вообще по этим делам судебные заседания» (26. Лысков, с.197).
Эти факты заставляют задуматься: не было ли у горбачевской десталинизации иных целей и других причин разбираться с прошлым, чем поиск «исторической правды», тем более такими темпами?
Поэтому я стараюсь в подтверждении своих заявлений и гипотез приводить как можно больше фактов, которые позволят не только поверить в декларированное, но и анализировать совокупный материал, что, надеюсь, даст читателю толчок к собственным мыслям.
А теперь, вперед!
Как создавалось «внезапное нападение»
Насколько внезапным было «внезапное нападение»?
В исторической литературе при Н.С. Хрущеве утвердили мнение, ставшее официальным, что Сталин уверовал в договор о ненападении и потому допустил внезапное вторжение врага. После крушения СССР появилась альтернативная версия, что он сам готовил удар по Гитлеру и настолько увлекся сладостным процессом, что допустил внезапное вторжение врага. То есть, какая бы версия ни выдвигалась, убеждение, что Сталин не ведал о возможном нападении Германии, сохраняется.
Этим версиям ничего существенного противопоставить было нельзя, пока не появился удивительнейший документ – проект директивы Генерального штаба Красной Армии, положенный на стол Сталина предположительно 15 мая 1941 года. В директиве открыто заявлялось – война не за горами, на границе полным ходом идет сосредоточение дивизий Вермахта, и в такой ситуации целесообразно было бы не ждать нападения, а атаковать самим.
Приведем основные выдержки из проекта директивы.
Докладываю на Ваше рассмотрение соображение по плану стратегического развертывания Вооруженных сил Советского Союза на случай войны с Германией и ее союзниками.
I. В настоящее время Германия имеет развернутыми около 230 пехотных, 22 танковых, 20 моторизованных, 8 воздушных и 4 кавалерийских дивизий.
Из них на границе Советского Союза, по состоянию на 15.05.41 г., сосредоточено до 86 пехотных, 13 танковых, 12 моторизованных и 1 кавалерийской дивизий, а всего до 112 дивизий.
Предполагается, что в условиях политической обстановки сегодняшнего дня Германия, в случае нападения на СССР, сможет выставить против нас – до 137 пехотных, 19 танковых, 13 моторизованных, 4 кавалерийских и 5 воздушно-десантных дивизий, а всего до 180 дивизий.
…
Вероятные союзники Германии могут выставить против СССР: Финляндия – до 20 пехотных дивизий, Венгрия – 15 пд, Румыния – до 25 пд.
…
Учитывая, что Германия в настоящее время держит свою армию отмобилизованной, с развернутыми тылами, она имеет возможность предупредить нас в развертывании и нанести внезапный удар. Чтобы предотвратить это, считаю необходимым ни в коем случае не давать инициативы действий германскому командованию, упредить противника в развертывании и атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет находиться в стадии развертывания и не успеет организовать фронт и взаимодействие родов войск.
II. Первой стратегической целью действий Красной Армии поставить разгром главных сил немецкой армии, развертываемых южнее Брест-Демблин и выход к 30 дню севернее рубежа Остроленка, р. Нарев, Ловичь, Лодзь, Крецбург, Опельн, Оломоуц. Последующей стратегической целью – наступать из района Катовице в северном или северо-западном направлении, разгромить крупные силы врага Центра и северного крыла Германского фронта и овладеть территорией бывшей Польши и Восточной Пруссии.
Ближайшая задача – разгромить германскую армию восточнее р. Висла и на Краковском направлении…
…
IX. Прошу:
1. Утвердить представленный план стратегического развертывания Вооруженных Сил СССР и план намеченных боевых действий на случай войны с Германией.
2. Своевременно разрешить последовательное проведение скрытого отмобилизовывания и скрытого сосредоточения в первую очередь всех армий резерва Главного Командования и авиации;
….
Народный комиссар обороны СССР
Маршал Советского Союза С. Тимошенко
Начальник Генерального штаба К.А.
Генерал армии Г. Жуков
(1. 1941.кн.2,с.215,216).
С этим проектом начальник Генштаба Г.К. Жуков и нарком обороны С.К. Тимошенко пошли к Сталину. Тот отверг проект плана действий.
Впервые об этой встрече Жуков рассказал историку В.А. Анфилову в 1966 году. По словам Жукова Сталин вскипел: «Вы что с ума сошли? Немцев хотите спровоцировать» (2. Анфилов, с.166.).
Не понятно, причем здесь «спровоцировать», когда речь шла о полномасштабной войне? Это называется: один про Фому, другой – про Ерему. В ответ Жуков с Тимошенко сослались на речь Сталина перед выпускниками военных академий 5 мая 1941 года, где говорилось о возможном столкновении с фашистской Германией.
Текста выступления не сохранилось, но остались воспоминания участников совещания. В частности, запись видного деятеля Коминтерна Г. Димитрова. По поводу возможной войны он записал следующее высказывание Сталина: «Наша политика мира и безопасности есть в то же время политика подготовки войны. Нет обороны без наступления. Надо воспитывать армию в духе наступления. Надо готовиться к войне» (1. 1941 год, кн.2, с.295). Похоже, на эту фразу военные и сослались.
Сталин, по словам Жукова, дезавуировал свое заявление: «Так я сказал это, чтобы подбодрить присутствующих, чтобы они думали о победе, а не о непобедимости немецкой армии, о чем трубят газеты всего мира» (2. Анфилов, с.166).
И опять показательна двусмысленность ответа. Во-первых, сомнительно, чтобы слушатели академии читали газеты всего мира. Иностранная пресса, что доходила до ССС, за редким исключением находилась в спецхране, и, помимо хорошего знания иностранного языка, нужно было иметь к ней допуск. Во-вторых, не понятна позиция Сталина. С одной стороны, Сталин, вроде бы, говорил 5 мая о победе в войне, а она на пороге, но вождь, оказывается, вел речь о победе «вообще», победе абстрактной. Но как же быть с развертыванием Вермахта на границах СССР? Получилось, что никак. Оно его не заинтересовало! Вопрос был закрыт на «абстрактном» уровне. Непонятно – почему? Странно получается: приходят два военачальника высшего ранга и говорят: «завтра» война, мы предлагаем сделать то-то. А Сталин в ответ: да я в речи о другом говорил… Причем здесь речь? Делать-то что?
Конечно, воспоминания есть воспоминания. Жуков пересказал лишь фрагмент беседы со Сталиным и ничего не сказал про главное: что было решено? Об этом Жуков не сказал, а историк Анфилов, к сожалению, о таком «пустяке» не поинтересовался. Исследователи про ту кремлевскую встречу ничего в архивах не нашли. Хорошо хоть обнаружили черновик директивы, иначе можно было бы заявить, что Жуков сочинил свой с Тимошенко «поход» в Кремль, чтобы оправдаться перед потомками («я предупреждал, да меня не послушали»). Но опровергнуть проект директивы невозможно. Документ сохранился у Василевского в рукописном варианте и от него уже перекочевал в архив. Машинописный, «официальный», экземпляр Сталин, похоже, уничтожил, чтоб не напоминал о его промахе и дальновидности подчиненных.
Так возникает первый вопрос: почему Сталин столь пассивно среагировал на заявление высших должностных лиц Красной Армией о приближающейся войне?
Пишут: Сталин не мог поверить, что Гитлер начнет войну на два фронта. Но разве Германия не зашла в борьбе с Великобританией в тупик на море, в воздухе и суше? На море результативно могли действовать только подводные лодки. Но стратегический эффект от их действий – дело долгое. Люфтваффе обломали зубы в небе Англии. В Ливии воевало всего две дивизии, остальной машине Вермахт грозил длительный простой. А балканская кампания весной 1941 года показала, что германская сухопутная армия находится в великолепном состоянии. Оставлять ржаветь такую машину или задействовать на полную катушку? Неужели Сталин считал, что Гитлер распустит такую армию по домам? Каким простоватым был генсек! Другое дело военные. Те обеспокоились всерьез, и даже предложили осуществить упреждающий удар.
Проект директивы о превентивном наступлении от 15 мая 1941 года (такая дата стоит на приложенных картах) не оставляет сомнений в том, что для высших руководителей Красной Армии никакого «внезапного нападения» не существовало. Генштаб ясно видел процесс развертывания германской армии и четко понимал – война начнется летом этого года. И тут более чем странную позицию занял Сталин: не потому, что он запретил готовиться к превентивному удару, как несвоевременному. Позиция понятная и объяснимая как минимум с политической точки зрения. Ведь в таком случае в Берлине объявили бы Советский Союз агрессором, и тогда неизвестно как повела бы себя союзная Германии Япония. У нее появился бы предлог для расторжения договора о ненападении. Поэтому лучше было обождать и не форсировать события. Но раз отпадает наступление, Сталин должен был санкционировать переход войск приграничных округов к обороне. В этом случае приграничные дивизии должны были заняться подготовкой полевых укреплений – рыть траншеи и окопы, строить блиндажи, сооружать замаскированные огневые позиции для артиллерийских батарей, устанавливать противотанковые преграды на путях наиболее вероятного удара противника, создавать минные поля и пр. А еще в обязательном порядке передислоцировать авиацию со скученных и разведанных противником аэродромов.
Средняя скорость боевых самолетов того времени составляла 300-400 километров. То есть самолеты могли быть легко оттянуты на восток на глубину в 600-800 км, на прежние аэродромы, где авиаполки находились до 1939 года. Это затруднило бы и даже сделало невозможным внезапное нападение вражеской авиации. А вернуть их на аэродромы передового базирования можно было за несколько часов. В любом случае СССР, как известно, по площади больше Люксембурга, так что «рассовать» самолеты можно было. При желании, конечно. Поэтому держать авиацию «в куче» в приграничной зоне не было никакой необходимости, если, конечно, ни «завтра война». Но точно установлено, что 22 июня Красная Армия в наступление переходить не собиралась. Сосредоточение дивизий второго эшелона ожидалось лишь к 10 июля, так в июле основная часть самолетов и прибыла бы на передовые аэродромы! Однако вся авиация приграничных округов осталась в прежней дислокации. Получается, ее подставили под удар.
Что же выходит? Вместо четкого плана войскам было предложено заниматься обычной армейской службой, а подготовка к войне была парализована приказом «не паниковать» и «не поддаваться на провокации». Конечно, оборонные мероприятия проводились. Не только профессиональный историк, а просто любитель военной истории перечислит их с легкостью: на отдельных участках границы строились укрепрайоны, из внутренних округов подтягивались дивизии, был отдан приказ о переезде штабов округов на полевые пункты управления… Эти мероприятия, казалось бы, свидетельствовали о подготовке к отражению нападения! Но строительство укрепрайонов, в отличие от полевых сооружений, требует много времени, кроме того, даже готовые объекты не были заняты войсками, и УРы не стали помехой продвижению германских войск. И в перебросках дивизий из внутренних округов существовали странности. График их движения был составлен таким образом, что они попадали под удар германской армии именно в момент развертывания, то есть когда их силы были растянуты в пространстве: одни части прибыли, другие находились в эшелонах. Хотя Жуков с Тимошенко именно это предлагали сделать по отношению к германской армии – атаковать в момент развертывания, то есть понимали, чем это чревато. С немцами не получилось, так подставили свои дивизии? Непонятно…
Приведем факты.
16-я армия под командованием М.Ф. Лукина получила приказ на передислокацию из Забайкалья 25 мая 1941 года. Но договор о ненападении с Японией был подписан 13 апреля, после чего надобность в Забайкальской группировке – 16-й армии и 5-м мехкорпусе – отпала. Однако Генштаб тянул больше месяца. В результате, сильная армия и мехкорпус с 1 тысячью танками прибыли на Украину лишь после начала войны.
19-я армия И.С. Конева перебрасывалась из Северо-Кавказского военного округа. До Украины – путь намного ближе, чем из Забайкалья. Но приказ Коневу о формировании армии из частей округа был вручен лишь 29 мая. Армия к началу боевых действий также не успела.
Точно с таким же расчетом – не успеть и подставиться – получили приказы о выдвижении войска других внутренних военных округов. Большинство – 13-4 июня, когда было заведомо ясно – им не успеть!
У вновь прибывающих частей не было времени ни ознакомиться с театром боевых действий, ни наладить координацию с местными войсками. Они были обречены вступать в бой кусочками, подобно поступлению мяса в мясорубку: пехота отдельно, артиллерия отдельно, танки – сходу, прямо с железнодорожных платформ, если, конечно, их авиация противника не разбомбит, связь – как выйдет, тылы – как получится, работа штабов – как сумеют.
Полное сосредоточение войск так называемого второго стратегического эшелона планировалось закончить к 10 июля! Но почему не на месяц раньше? Ведь когда Жуков с Тимошенко писали проект директивы о превентивном ударе, они должны были исходить из того, что дивизии внутренних округов, хотя бы основная часть, должны успеть к началу операции. Не хватало вагонов и паровозов? Тогда зачем было огород городить с проектом превентивного удара? И главное, переброска дивизий резерва была заложена в октябрьском плане 1940 года о стратегическом развертывании главных сил Красной Армии в пункте 4! (Об этом плане ниже). Так почему эти дивизии перебрасывались едва ли ни импровизационно и в самый последний момент? К тому же в любом случае, можно было обоснованно предположить, что Гитлер и германское командование будут стремиться начать боевые действия не в середине лета, а в начале его. Воевать в октябрьскую распутицу или в ноябрьские холода не с руки, а два-три летних месяца маловато для решительной победы. Четыре месяца – с июня по сентябрь – минимальный вариант. К нему и надо было, по логике, готовиться.
Так ведь Сталине не знал.., не догадывался.., верил в договор о не нападении, скажут привыкшие к расхожим объяснениям читатели. Или наоборот, что сверхагрессивному Сталину приспичило именно в 1941 году, причем в июле месяце, ни раньше и ни позже, поработить бедную старушку Европу, и он так увлекся (несмотря на предостережения Жукова и Тимошенко), что забыл о мерах предосторожности, скажут поклонники более модной «теории». Эти аргументы не проходят. Им противоречит элементарный политический анализ, которым, разумеется, владел такой опытный и умный политик как Сталин.
Зададимся вопросом, почему Гитлер уже в июле 1940 года объявил своим генералам о необходимости войны с Советским Союзом и отдал приказ готовить план нападения, который утвердил в декабре того же года? По одной простой причине: после разгрома Франции такая война стала неизбежной, даже если бы Англия согласилась подписать мирный договор с Германией. Гитлер очень надеялся на такой вариант западной кампании, остановив свои танки под Дюнкерком, дав возможность английским войскам спасти свою честь, эвакуировавшись на родину. Не получилось. «Джентльменскому шагу» Гитлера англичане не умилились, а проигнорировали. Бомбардировки Англии также не принудили ее к миру. Вторгаться на Британские острова Вермахт не мог не только из-за отсутствия надлежащего количества десантных судов и сил обеспечения на море, но и из-за угрозы удара Красной Армии с тыла.
Да что там Красная Армия и коварный Сталин, любой правитель России: царь, президент демократической республики или «либеральный» диктатор, условно говоря, Николай II, Керенский или Колчак, просто обязаны были спасти Англию от поражения, потому что следующим номером на вылет была бы Россия.
Если б правители России (СССР) позволили разгромить Великобританию, страна оказалась бы в одиночестве, зажатая между Германией и ее союзниками в Европе и Японией в Азии. Это сугубо проигрышная геополитическая ситуация. Даже на юге ее стали бы окружать недружественные государства, ибо с поражением Англии и Франции их влияние в Турции и Иране перешло бы к Германии. Вспомним, что в куда более «легкой» ситуации Александр I бросился спасать Англию от готовящегося Наполеоном вторжения в 1805 году. Дело закончилось Аустерлицем, но Наполеон от десанта отказался, и потом английские войска оттянули часть французский войск, ведя бои в Испании и Португалии. В 1812 году Наполеону пришлось воевать на два фронта, что, конечно, облегчило положение русской армии. И именно английская армия при Ватерлоо поставила победную точку в борьбе с Наполеоном. Выходит, русский и австрийский императоры, проиграв одну битву, выиграли историческую перспективу. Даже заключение дружественного, полусоюзного мирного договора в Тильзите в 1807 году (кстати, своеобразный аналог договора 23 августа 1939 года) не изменило стратегическую ситуацию. Хотя Наполеон вытеснил русскую армию из Европы, и даже одно время велись переговоры о совместном походе на Константинополь, французский император понял: пока Россия нависает над его владениями – его руки скованы. И стал готовить поход на Москву. А в 1940 году ситуация для СССР была намного сложнее, поэтому бросить Англию Кремль никак не мог.
В Интернете выложен фильма Би-би-си «Человек из стали». Для нашего уха неожиданными и парадоксальными слышатся слова диктора: «Он (Сталин) помог спасти Британию!» А ведь Би-би-си – государственная организация и ее девиз – объективное изложение событий. И авторы сказали то, что было в действительности. Но точно так же, в случае нападения Германии на Советский Союз, не могла остаться в стороне Великобритания. Почему?
Англия после потери своего союзника Франции оказалась в безвыходном положении. Но не в смысле грядущего неизбежного поражения, а в том, что Великобритания, как и в Первую мировую, была «приговорена» вести войну до победного конца. Альтернативы борьбе не было, хотя, казалось бы, Лондон мог принять мирные предложения Берлина. С ними Гитлер выступил почти сразу же после окончания кампании во Франции. А в мае следующего года Гесс специально полетел в Англию уговаривать англичан заключить мир. В ситуации, когда стране грозила перспектива появление врага на ее территории и последующего полного разгрома, английский правящий класс все равно проголосовал за войну. Может, дело в мужестве? Не только. Политикой правят интересы, а не эмоции.
Британские политики понимали, что фашистская Германия после заключения мира с Великобританией ударит по СССР. Ну и что? Разве это не прекрасно? Правящая элита Великобритании могла отомстить Сталину за недружественную ей позицию в 1939-40-х годах, ведь Англия могла спокойно сидеть в тылу и смотреть, как дерутся два тигра. Казалось бы, великолепная перспектива! Ан, нет. Миссия Гесса провалилась, хотя, если исходить из того, что материалы «дела Гесса» все еще засекречены, в верхах были колебания, но протянутая рука осталась не пожатой. Трезвый расчет взял верх. Какой? Дело в том, что Англия в случае разгрома СССР оставалась в Европе одна наедине с Германией и ее союзниками. В этой ситуации никакой мирный договор, никакой компромисс не помог бы, как не помогло Мюнхенское соглашение 1938 года (а уж сколько надежд с ним было связано!). После Мюнхена стало ясно, что договариваться с Гитлером – занятие пустое. Любое соглашение с ним будет существовать ровно столько времени, пока ему ни захочется что-то захватить. В этом случае над Британской империей нависла бы угроза расчленения со стороны Германии, Японии, Италии и союзников поменьше, вроде Испании. Поэтому Черчилль незамедлительно сделал то же, что просто обязан был сделать Сталин – 22 июня 1941 года предложил Москве союз.
«Карфаген должен быть разрушен!»
Гитлер весь этот расклад прекрасно понял, и отдал приказ готовиться к неизбежному – к войне с Россией, пока Великобритания была слаба и надеялась на «баланс сил в Европе». Этим противовесом был Советский Союз. Предстояло его убрать…
Но и это было еще не все. Гитлера беспокоила не только армия Советского Союза, Соединенные Штаты тоже. Его озаботило начавшееся масштабное развертывание вооруженных сил Америки. Он говорил приближенным, что через год США будут готовы вступить в войну. Чтобы противостоять новому союзнику Великобритании нужно было устранить угрозу на востоке. У Гитлера просто не иного выхода, кроме как начать «превентивное» наступление против СССР. Превентивное не только из-за боязни удара Красной Армии. Чтобы противостоять Соединенным Штатам требовалось заполучить источники сырья на территории СССР и тем самым перестать зависеть в этом вопросе от Кремля. Напомним, Японии пришлось начать войну с великими державами и оккупировать Индокитай и Индонезию, как только Вашингтон объявил о запрете поставок нефтепродуктов, стали и других видов стратегического сырья в Японию. Гитлер не стал дожидаться подобного варианта от Москвы, и приказал нанести удар. Он понимал, что в ином случае в 1942-43 годах перед ним вырастит стена из Великобритании, США и СССР. И пробить ее уже вряд ли удастся. У него оставался узкий временной коридор. Или-или. И «наполеоновский» выбор был сделан.
Происходило это следующим образом.
19 июля Гитлер по радио сделал предложение английскому правительству о мире. Ответа не последовало. 22 июля было созвано совещание высших чинов Вермахта, на котором Гитлер сделал свое судьбоносное заявление о необходимости начать подготовку к войне с СССР. Более того, он даже хотел начать ее в том же 1940 году, но генералы отговорили. И не потому, что не понимали неизбежности схватки на востоке. Начальник Генерального штаба сухопутных сил Ф. Гальдер записал в своем дневнике 31 июля 1940 года: «Было бы лучше начать в этом году, но такую масштабную акцию невозможно организовать за оставшееся время». Какая уж тут «внезапная» война! Весь вопрос состоял в следующем: когда конкретно она начнется, какие союзники выступят на стороне Германии, сколько сил будет брошено против СССР? Ни для кого этот политико-военный расклад не был тайной, поэтому пока германские генералы разрабатывали план «Барбаросса», советский Генеральный штаб без колебаний и раскачки стал разрабатывать свой план предстоящей войны. Уже 18 сентября 1940 года он был представлен Сталину, который ему не удивился, не сослался на «договор о ненападении», а внимательно рассмотрел, провел совещание с участием членов Политбюро 5 октября. 14 октября 1940 года план с поправками утвердили окончательно, то есть он стал законом, обязательным к исполнению.
План войны с Германией и ее союзниками
Что же предложили нарком обороны С.К. Тимошенко и начальник Генерального штаба К.А. Мерецков?
Прежде всего, и что показательно, план был наступательным! Держать оборону предлагалось лишь с Финляндией и Румынией. А против Германии – наступать! То есть, при желании в этом можно увидеть намерение нанести превентивный удар.
В 1990-е годы вспыхнула дискуссия, которая продолжается до сего дня, о возможном планировании коварным Сталиным упреждающего удара по Германии и о наличии сверхсекретного плана нападения, который глубоко запрятан в недрах архивов. Так вот, план «превентивной» войны давно опубликован, и каждый желающий может с ним ознакомиться в сборнике документов «1941 год». Книга 1: М., 1998., с.236-253.
Сторонники концепции коварного Сталина настолько увлеклись своей идеей, что «проглядели» реальный, а не мифический план войны. Произошло, как в одном из рассказов о Шерлоке Холмсе: пока опытнейшие ищейки искали тайник в доме, где было спрятано разоблачительное для одного высокопоставленного лица письмо, документ преспокойно лежал на столе у всех на виду. Но им, профессионалам сыска, не пришло в голову заглянуть в конверт, настолько они были уверены, что все тайное должно быть спрятано за семью замками. Другое дело, что ничего жареного читатель, жаждущий сенсаций, в опубликованном плане не найдет. Это сухой служебный документ с перечислением необходимых мероприятий для будущей кампании и наброском направлений главных ударов Красной Армии. Потому поклонники версии В. Суворова и прошли мимо этой публикации, что жаждали отыскать документ, в котором бы раскрывались жутко агрессивные намерения Кремля типа: «…после захвата Берлина немедленно приступить к организации колхозов и выселению каждого десятого немца в Сибирь». Короче, что-нибудь такое, чтоб можно было посмаковать насчет агрессивной сущности СССР. А тут – скукота.
Но делать ничего, обратимся к скучному документу.
Тимошенко и Мерецков определили следующие направления главных ударов противника.
Германия, вероятнее всего, развернет свои главные силы к северу от устья р.Сан с тем, чтобы из Восточной Пруссии через Литовскую ССР нанести и развить главный удар в направлениях на Ригу, на Ковно и далее на Двинск – Полоцк, или на Ковно – Вильно и далее на Минск (1. 1941, кн.1, с.238).
Отметим, что германское командование выбрало главными оба направления – на Ригу-Двинск и на Вильнюс-Минск.
Одновременно необходимо ожидать вспомогательных концентрических ударов со стороны Ломжи и Бреста, с последующим развитием их в направлении Барановичи, Минск (1, 1941 год, кн.1, с.238).
Тут авторы плана немного ошиблись. Удар со стороны Бреста на Минск стал не вспомогательным, а одним из главных. Но в целом Тимошенко и Мерецков точно оценивали будущие события.
Вполне вероятен также одновременно с главным ударом немцев из Восточной Пруссии их удар с фронта Холм… на Дубно, Броды с целью выхода в тыл нашей Львовской группировки и овладения Западной Украиной.
И опять попадание если ни в десятку, то в девятку точно. В 1941 году противник действовал смелее и сразу стал наступать на Киев. Но план-то составлялся в 1940 году, когда у немцев еще было мало танков и моторизованных частей для проведения масштабных действий. Если бы, как предлагал Гитлер, Вермахт атаковал Красную Армию в 1940 году, то германским войскам пришлось бы действовать так, как предвидели Тимошенко и Мерецков. Впрочем, уровень оперативной подготовки авторов был столь высок, что они увидели и состоявшийся вариант.
Не исключена возможность, что немцы с целью захвата Украины сосредоточат свои главные силы на юге, в районе Седлец, Люблин, для нанесения главного удара в общем направлении на Киев.
На Юге – возможно ожидать одновременного с германской армией перехода в наступление из районов северной Румынии в общем направлении на Жмеринку румынской армии, поддержанной германскими дивизиями.
(1, 1941 год, кн.1, с.239)
Тут авторы оказались правы на все сто процентов. Именно так летом 1941 года события и развивались. Поэтому более чем странно читать у современных исследователей (А. Исаев, Ю. Веремеев и др.) о том, что верховное командование Красной Армии не имело возможности определить районы и направления главных ударов германской армии. Как раз наоборот, оно определило эти направления еще до подписания плана «Барбаросса»! Причина такой точности – конфигурация границы и знание особенностей немецкой военной стратегии.
Заметим еще раз: Тимошенко и Мерецков были уверены – Гитлер вторгаться в Англию не рискнет, а перенесет удар против СССР. То есть, он предпочтет повернуться спиной к Англии, почти не имеющей сил для вторжения в Европу и лицом к СССР, обладающему сильной армией. Но никак не наоборот! Оценка – сверхточная и своевременная.
Как же предлагалось реагировать на будущий удар Красной Армии? Варианта было два – оборона или наступление. Авторы выбрали наступательный вариант. Почему – рассмотрим позднее, а сейчас просто изложим предложение наркома и начальника Генштаба.
Главные силы Красной Армии на Западе, в зависимости от обстановки, могут быть развернуты или к югу от Брест-Литовска с тем, чтобы мощным ударом в направлении Люблин и Краков и далее на Бреслау… в первый же этап войны отрезать Германию от Балканских стран, лишить ее важнейших экономических баз и решительно воздействовать на Балканские страны в вопросах участия их в войне; или к северу от Берст-Литовска, с задачей нанести поражение главным силам германской армии в пределах Восточной Пруссии и овладеть последней.
(1, 1941 год, кн.1, с.241).
И далее на нескольких страницах шло подробное перечисление того, сколько и каких дивизий будет необходимо для тех или иных вариантов.
Итак, налицо реальный, а не мифический план военных действий. Правда, могут возразить: в плане нет конкретной даты войны. А ее и не могло быть в сентябре 1940 года, ибо было ясно, что перед скорой зимой Вермахт наступление против СССР не начнет, а Красной Армии без реальной угрозы переходить в наступление было не с руки. Это только в книжках про «агрессивный Советский Союз» с тамошними рассказами о желании «поработить Европу» вопрос нападения решался по хотению Сталина. В реальной политике все обстоит совершенно иначе. Политик обязан считаться с большим числом сопутствующих и препятствующих факторов. Затевать «освободительный поход» в той ситуации (впереди сильная Германия, позади крепкая Япония) было совершенно нецелесообразно.
Итак, противоборство сторон переносилось на следующий год. А в следующем году предстояло действовать по обстановке, и там видно будет, кто первым удар нанесет: Вермахт – на Минск или Красная Армия – на Люблин… Главное, что явствовало из «Соображений о стратегическом развертывании…», – война неизбежна! Оставалось планомерно готовиться к ней, тем более что времени хватало.
Как можно оценить этот план: как планирование превентивного удара или как контрнаступательный? В действительности все эти новомодные толкования неуместны. Разработчики плана стратегического развертывания главных сил Красной Армии исходили из профессиональных критериев, а именно: какими силами и средствами располагает противник и какими – Красная Армия. Если сил хватает для наступления – оно соответственно и планируется. Если только для обороны – то планируется оборона. Активная или пассивная – также в зависимости от ситуации. И ничего более!
А теперь остановимся на реакции Сталина. Она была вполне благожелательной. Сталин внес определенные поправки, после чего план будущей войны был доработан и вновь представлен на суд политического руководства СССР.
В записке наркома обороны и начальника Генштаба Красной Армии на имя И.В. Сталина и В.М. Молотова говорилось следующее:
Докладываю на Ваше утверждение основные выводы из Ваших указаний данных 5 октября 1940 г. при рассмотрении планов стратегического развертывания Вооруженных Сил СССР на 1941 год.
1. Стратегическое развертывание Вооруженных Сил СССР на два фронта (на Западе и на Востоке) – считать основным.
Главный противник и главный театр основных действий – на Западе, поэтому здесь должны быть сосредоточены и главные наши силы.
… В связи с этим из имеющихся в настоящее время сил назначить:
– для действий на Западе (от побережья Баренцева моря до берегов Черного моря) – 142 стрелковых дивизий, 7 мотострелковых, 16 танковых и 10 кавалерийских дивизий, 15 танковых бригад и 159 полков авиации…
2. На Западе основную группировку иметь в составе Юго-Западного фронта с тем, чтобы мощным ударом в направлении Люблин и Краков и далее на Бреслау в первый же этап войны отрезать Германию от Балканских стран…
в) немедленно принять меры по инженерному укреплению северных и северо-западных границ, с тем чтобы в дальнейшем за счет созданных надежных укреплений освободить еще силы для усиления основной группировки на юго-западе;
…
4. С учетом указанных мероприятий в состав сил Юго-Западного фронта довести до 80 стрелковых дивизий, 5 мотострелковых, 11 танковых дивизий, 7 кав.дивизий, 20 танковых бригад и 140 полков авиации.
Кроме того, в резерве Главного командования иметь за Западным фронтом – в район Двинск, Полоцк, Минск не менее 20 стр. дивизий и за Юго-Западным фронтом в районе Шепетовка, Проскуров, Бердичев – не менее 23 стрел. дивизий.
…
8. Разработку всех планов развертывания и действий войск как по линии Наркомата обороны, так и по линии Наркомата военно-морского флота закончить к 1 мая 1941 г.
9. Обязать Народный комиссариат путей сообщения СССР с участием представителей Народного комиссариата обороны составить к 1 января 1941 г. новый воинский график движения поездов, обеспечивающий перевозки НКО в размерах, предусмотренных планами развертывания…
(1.1941 год, кн.1, с.288-290).
По-моему, все более чем ясно и понятно. А именно:
а) ни о какой «внезапной» войне с Германией не могло идти речи, ибо к ней начали готовиться заранее, тщательно и умно;
б) конкретные планы предстоящих военных действий на уровне военных округов (фронтов) и военно-морского флота должны были завершиться вовремя – к 1 мая 1941 года;
в) исходя из оценки сторон, предусматривалось нанесение мощного удара по Вермахту, то есть отходить к старой границе или за Днепр, обрекая свои земли на разорение, никто не собирался;
г) в кои веки начальство действовало обдуманно и расчетливо и никаких фокусов не предвиделось, а значит, Красная Армия должна была встретить войну во всеоружии.
Если сравнить выделенные силы Красной Армии с германскими и ее союзниками, то получалось следующее соотношение. Примерно 190 дивизий противника (в зависимости сколько выставят Румыния с Финляндией) против 182 дивизий (если принять две бригады за одну дивизию) в первом эшелоне и 43 дивизий в резерве Красной Армии. Учитывая невысокое качество румынской и слабую техническую оснащенность финской армий, Красная Армия имела небольшое превосходство. На практике, как оказалось, у Красной Армии было значительно больше танков и самолетов. Так что она имела дополнительное весомое преимущество. В целом, ситуация выглядела вполне оптимистической.
Итак, все довольно прозрачно и понятно, кроме одного: почему Тимошенко и Мерецков выбрали наступательный, а не оборонительный вариант, ведь он, казалось бы, наиболее прост в исполнении? И, добавим, сейчас публицисты «суворовской школы» не обвиняли бы Сталина в «агрессивных намерениях», а наши «официальные» историки перед ними не оправдывались. И дело даже не в том, что Тимошенко и Мерецков всего несколько месяцев назад видели, к чему привела статичная оборона англо-французских войск, хотя урок был более чем показательным. Главное в том, что к наступательной войне в Красной Армии готовились задолго до порки, что учинила «оборонщикам» на Западе германская армия. Теоретики РККА поняли тщету надежд на повторение позиционной войны времен Первой мировой войны еще до рождения Вермахта. Для них крушение англо-французской обороны, защищенной, казалось, неприступной «линией Мажино» не было бы новостью, они предрекали подобное развитие событий!
Кто они, эти теоретики, и как складывались представления о современной войне в Красной Армии?
К какой войне готовиться?
Стратегия РККА «тухачевского» периода
Все началось с осознания, что случившаяся недавно Мировая война – не последняя. Более того, не за горами новая Большая война, и к ней надо как-то готовиться.
О том, что война неизбежна, писали в советских газетах и говорили с трибун десятки раз. Об этом писал и Ленин. Он предупреждал, что «мы кончили одну полосу войн, мы должны готовиться ко второй… и нужно сделать так, чтобы тогда, когда она придет, мы могли быть на высоте» (ПСС, т.42, с.143-144).
На заседании Военно-научного общества в 1925 году нарком обороны М.В. Фрунзе подчеркивал: «Это не будет столкновение из-за пустяков, могущих найти быстрое разрешение. Нет, это будет война двух различных, исключающих друг друга общественно-политических и экономических систем». И хотя Фрунзе имел в виду капитализм и социализм как таковой, но схватка между нацисткой Германией и СССР получилась именно по формуле наркома. А война не «из-за пустяков» означало войну на истощение до уничтожения одной из сторон. И ничего нового в этом не было: по этой парадигме велась и Первая мировая война.
Но что нам рано умершие Фрунзе с Лениным? Может, другие оценивали складывающуюся международную ситуацию иначе? Нет, мнение было широко распространенным. Дальновидные люди были не только в Советском Союзе. Запах пороха ощущали даже в далекой Америке. Вот характерные строки из воспоминаний Д. Эйзенхауэра «Крестовый поход в Европу»:
«Начиная с 1931 года, многие старшие армейские офицеры часто высказывали мне свое убеждение, что мир идет прямо к новой глобальной войне. Я разделял эти взгляды».
И таких свидетельств множество. Тогда возникал следующий по очевидности вопрос: если будущая война неизбежна и будет вестись до уничтожения одной из противоборствующих сторон, то какие меры надобно предпринять?
В вышедшей в 1934 г. статье «Характер пограничных операций» видный военачальник РККА М.Н. Тухачевский писал: «Утешать себя тем, что наши возможные противники медленно перестраиваются по-новому, не следует. Противник может перестроиться внезапно и неожиданно. Лучше самим предупредить врагов. Лучше поменьше делать ошибок, чем на ошибках учиться» (54.Тухачевский, т.2, с.221).
Тухачевский оказался совершенно прав. Именно такой качественный скачок вскоре совершила германская армия.
Итак, никаких иллюзий на «прочный» Версальский мир в Советском Союзе не существовало. Зато была твердая уверенность, что СССР не сможет остаться в стороне, хотя то был период, когда надо было спокойно заниматься индустриализацией и культурным строительством. Советское руководство могло с полным основанием подобно Столыпину воскликнуть: «Дайте нам 20 лет спокойного развития…». Да, с учетом размаха индустриализации, сложности предстоящих задач Советскому Союзу влазить в войну было совершенно нецелесообразно и уж тем более строить планы «завоевания Европы». Можно в чем угодно обвинять тогдашних большевиков (в жестокости, в идеализме – коммунизм хотели построить!), но только не в политической и военной дурости. У них была другая логика поведения. Это логика международных процессов, которая указывала на приближение бури. Оставалось понять, какой будет новая Большая война и как к ней готовиться? Тут сложностей хватало.
Во-первых, долго не удавалось определить состав участников будущей коалиции, с которой столкнется Советский Союз. Несомненно – после захвата Маньчжурии – это будет Япония. Поэтому на Дальнем Востоке был сформирован – в мирное время! – Дальневосточный фронт. На Западе в качестве потенциальных противников рассматривались Польша, Прибалтийские государства, Румыния и их союзники – Англия и Франция. С приходом к власти Гитлера стали рассматривать комбинацию «Германия-Польша».
Тогдашнюю международную ситуацию для наглядности можно сравнить с современной. Ныне хватает политологов и экономистов, в том числе с громкими именами, которые заявляют, что капитализму не выбраться из системного кризиса без масштабной войны (как это произошло со Второй мировой войной). Но кто ее начнет и с кем, и кто присоединится позже – вопрос открытый. А ведь на дворе ядерная эра, что, безусловно, служит сдерживающим фактором. А тогда главным препятствием была нехватка боевой техники у потенциальных агрессоров. И что этот пробел они постараются ликвидировать как можно скорей, сомнений не вызывало.
1939 год все расставил по своим местам. Стало окончательно ясно, кто, разделившись на блоки, с кем будет воевать до победного конца. Правда, в стороне оставался Советский Союз но и с ним было ясно – соглашение с Германией – дело временное…
Кстати, в такой неясности не было ничего принципиально нового. Достаточно посмотреть историю войн былых времен, например, эпохи феодализма. Какие только комбинации ни возникали: сначала одни воевали с другими, а через несколько лет прежний союзник бился с прежним другом (в 1740 г. Франция воевала в союзе с Пруссией против Австрии, а в 1756 г. против Пруссии в союзе с Австрией). Все участники боролись за свои интересы, и если их достижение делало выгодным переход в противоположный лагерь, то он совершался с чистой совестью. 1930-е годы не стали исключением. Договора «о дружбе и не нападении» кто только с кем ни заключал. Германия, например, подписала их с Польшей и Норвегией, что не помешало затем напасть на них. Франция имела союзный договор с Чехословакией, что не помешало предать ее, как только французская правящая элита посчитала, что так выгоднее. Версальский договор гарантировал независимость Австрии, что не стало препятствием к поглощению ее Германией. И так далее. В этой ситуации быть уверенным наверняка в чьей-то «незыблемой» позиции не представлялось возможным. Ясным оставалось лишь одно: запутанные противоречия в политике, экономике, финансах, территориальных спорах будут разрешены тем же путем, каким распутывается «гордиев узел» – через меч.
В этой связи стоит коснуться вопроса о договоре 1939 года между Германией и СССР. Ведь он, как и Мюнхенское соглашение о разделе Чехословакии, является одним из моментов, предшествующих началу Второй мировой войны.
У критиков договора получается – не заключи Сталин соглашение, то Гитлеру пришлось бы пусть с огорчением, но перевести рейх на мирные рельсы. Понятно, что такой вывод – форменная чепуха. Куда интереснее вопрос о том, почему Гитлер, нацелившись на следующую жертву – Польшу, взялся обхаживать Москву? Потому что понимал: Кремлю не понравится, если германские войска окажутся в 200-300 километрах от Минска и Киева, а его бомбардировщики будут способны достичь Москвы. Это наверняка сделает Советский Союз союзником Англии и Франции. Поэтому в качестве промежуточного шага Гитлер предложил Москве следующий вариант: вы берете свое, а нам оставляете Европу.
Что значит «свое»? Критики договора пишут про «раздел Польши», «захват Бессарабии», «аннексию Прибалтики». Им не понятно, почему Сталин не поступил, как англо-французские политики в Мюнхене, а стал бороться, – не отдавать, как это было в 1991 году в Беловежской Пуще, а брать. Критики делают вид, будто не знают о том, что восточные «польские земли» до сих пор входят в состав Украины, Белоруссии и Литвы, и никто ни там, ни, что показательно, в Польше не считает их «законными польскими территориями». Это и понятно. Достаточно посмотреть карту восточной Европы X века, чтобы убедиться, что с момента образования двух государств – Руси и Польши – границы между ними пролегали примерно там, где сейчас и где пролегли после 17 сентября 1939 года.
По договору СССР получал то, что Польше не принадлежало, ибо захваченные в 1920 году области, являлись исконно литовскими, белорусскими и украинскими землями. Литве, Белоруссии и Украине они сразу же и были переданы.
Что касается Бессарабии, то она была отвоевана Россией у Турции в 1812 году, когда Румыния как государство не значилась даже в проекте. Оное появилось лишь полвека спустя, и ее независимость была провозглашена в ходе начавшейся русско-турецкой войны 1877-78 годов. Так что Москва опять же брала не чужое. Да и за какие заслуги она должна была дарить Молдавию недружественному государству? «Благословленные» времена Беловежской пущи еще не наступили.
А Прибалтика входила в состав Российской империи с XVIII века 200 лет, и когда стал решаться вопрос под чей контроль – Германии или СССР – она перейдет, то Москва обоснованно выдвинула свои притязания. И Берлин вынужден был уступить.
Та же история с Карелией и Карельским перешейком. Опять же любопытствующие могут взглянуть на карту Великого Новгорода времен Киевской Руси, чтобы убедиться, кому принадлежали эти земли, когда не было не только государства Финляндия (оно появилось, благодаря России, сначала в виде Великого княжества Финляндского, а потом – с благословления Ленина, как независимое государство), но еще не сложился сам финский народ.
Таким образом, соглашение между СССР и Германией в 1939 году базировалось на исторических границах и исторических прецедентах, поэтому с точки зрения международного права было вполне законным. Что и подтвердили США и Великобритания на Потсдамской конференции.
Итак, германская сторона предложила СССР выйти на былые границы российского государства и объединить западные части Украины и Белоруссии с восточными. Предложение было заманчивым, хоть для красного правителя, хоть для белого. От такого «раздела» не отказались бы и современные литовское, украинское и белорусское правительства, сохранись у них границы с Польшей 1938 года. (Можно себе представить, насколько сложными были бы современные отношения Литвы, Украины и Белоруссии с Польшей, если б последняя удержала Вильнюс, Брест и Львов.) Это сейчас многие умы не понимают, чем плохи границы России под Смоленском и Ростовым, а тогда мозги были еще устроены иначе, и не только у большевистских «агрессоров». Тогда влияние деградантов на общество и политику было нулевым, и любой белоэмигрант был согласен с возвращением границ государства на свои исторические рубежи.
Проблема была в другом: Гитлер должен был получить в обмен свободу рук в Европе. Отвечало ли это стратегическим интересам СССР? С этого пункта и должен, в сущности, начинаться спор серьезных историков и политологов.
Переговоры с военными делегациями Франции и Англии летом 1939 года ясно показали – на серьезный союз Москве с Парижем и Лондоном рассчитывать не приходится. Последние явно хотели столкнуть лбами СССР с Германией и отсидеться, подобно тому, как они пытались это сделать во время «странной войны», наблюдая, как немцы чехвостят Польшу. Тем самым возникал вопрос: начинать ли СССР войну с Германией и, возможно, с Японией (на Халхин-Голе в это время шли бои с японской армией) или выждать? Сталин решил обождать и посмотреть, как будут разворачиваться дальнейшие события. Более того, судя по проведенным границам с львовским и белостокским выступами, заранее были подготовлены позиции для наступления на Германию. То есть, вопрос воевать с фашизмом или нет, не стоял. Просто Сталин понял, что с существующими правительствами Англии и Франции, а тем более Польши, каши не сваришь, и надо действовать самостоятельно и жить своим умом.
Позиция критиков пакта противоположна: надо было продолжать вымаливать союз у Лондона и Парижа. Потом «сердечный» союз с западными державами пытались заключить Горбачев и Ельцин. Показательно, что, несмотря на сделанные гигантские уступки, им это тоже не удалось.
Поняв ситуацию, Сталин предоставил Англии и Франции то, чего они сильно боялись и потому проводили капитулянтскую политику «умиротворения» Германия – повоевать с ней!
Позиция критиков пакта: это очень плохо, вот если б наоборот… Причем их особо огорчает подозрение, что Сталин был готов получить односторонние преимущества для советского государства. Когда США получили их в 1944 году, вынудив обессиленных союзников признать доллар мировой резервной валютой, это понятно – Вашингтону нужно было. Но как смели о своих выгодах мечтать в Кремле!… Безусловно, Россия может быть расходным материалом для других государств, а также той коровой (как в наше время), которая обеспечивает «молоком» всех желающих. (Пора орла в гербе заменить на это домашнее животное, как наиболее отвечающее реалиям). Что поделаешь, иногда в этой желанной для иных умов системе бывали сбои…
Сталина можно поддержать в решении заключить сепаратное соглашение с Германией, подобно тому, как менее года назад это сделали Чемберлен и Даладье, а можно осудить, доказывая, что Красная Армия была в тот момент способна разбить Вермахт. И каждый будет прав по-своему. Зная, чем все обернулось, возможно, и сам Сталин, вернувшись на машине времени из будущего, принял бы в августе 1939 года иное решение. Тем более, когда выяснилось, что Япония воевать с СССР не собиралась. Но логика в его действиях была, логика четкая и обоснованная. Сталин предпочел синицу в руках туманным перспективам победоносной войны с Германией (и Японией) в союзе с державами, предавшими Чехословакию, а затем польскую армию. Кто считает, что он на месте Сталина мог поступить умнее и найти более оптимальный вариант при том объеме информации, чем располагал тогда Кремль, может резонно выдвигать свою кандидатуру на пост президента России.
Но даже после заключение договора с Германией ни у кого в руководстве Советского Союза не было сомнений, что воевать все равно придется, и скоро.
Так как же надлежало действовать Красной Армии в надвигавшейся мировой войне? Сначала надо было решить принципиальный вопрос: готовить РККА к оборонительному или наступательному варианту боевых действий? Вывод, вроде бы, лежал на поверхности. Конечно, к оборонительному! Страна только недавно вышла из тяжелой войны, экономика была слабой, прочность политического режима – сомнительной. В такой ситуации надо сидеть тихо, надеясь на большие пространства да помощь мирового пролетариата. В общем, вести себя как постсоветская Россия в 1990-е годы (только тогда надеялись на помощь благодарного за ликвидацию СССР Запада). Оставалось подвести под реальность теоретическую базу. И таковая база стала разрабатываться. В 1927 году в свет вышел фундаментальный труд преподавателя Академии Генерального штаба РККА А.А. Свечина «Стратегия». В нем он попытался обосновать принципы ведения будущей войны. Интерес был настолько большой, что книгу пришлось переиздать.
Начал Свечин с весьма показательных заявлений:
«55 лет отделяют последнее практическое выступление стратегии Мольтке – франко-прусскую войну – от последней операции Наполеона, разрешившейся под Ватерлоо… < >…большие основания имеются в наше время, чтобы приступить к ревизии стратегического мышления, оставленного нам Мольтке…». «Многие, вероятно, не одобрят отсутствия в труде какой-либо агитации в пользу наступления…» (47. Свечин, с.7, 10).
Наполеон и Мольтке – успешные творцы стратегии сверхнапористых наступательных кампаний, стратегии сокрушения противников. Того типа войны, которую в ХХ веке стали называть «блицкриг».
Свечин подчеркнул, что поддержал бы стратегию сокрушения, но в существующих условиях выступает за стратегию измора, то есть, обороны. Оно и понятно, о каком наступлении можно было вести речь применительно к Красной Армии после разорительных войн, в целях экономии недавно перешедшей на сокращенные штаты – так называемый территориальный принцип комплектования. Однако то, что очевидно, не значит – правильно.
Свечин знал, кто не одобрит оборонительный характер его представлений о будущей борьбе. Ему противостояла плеяда молодых теоретиков, пропагандировавших принципиально иную установку – маневренную войну с решительными целями. Измор же означал не только большие потери и тяготы, но и сомнительный конечный результат. Они помнили, что царская Россия не выдержала войны на измор в Первой мировой войне и первой из великих держав потерпела полное поражение. Потом точно также войны на измор не выдержали Австро-Венгрия с Турцией и, наконец, Германия. Так к чему повторяться? Впрочем, войны на измор избежать не удалось, и по событиям Великой Отечественной войны мы знаем, что это такое и к каким потерям и разрушениям это ведет. Маневренная же борьба сулила существенное сокращение сроков войны и намного меньшие потери. Тухачевский так и написал еще в 1923 году: «Наши будущие боевые столкновения… будут маневренного характера, т.е. решительного и подавляющего» (54. Тухачевский, т.1, с.110).
За молодежью стоял опыт гражданской войны. Тот же Тухачевский воевал исключительно за счет наступления и маневра. И лишь с польской армией потерпел первое поражение, о причинах которого спорили и спорят до сих пор. Казалось бы, обжегшись на маневре с европейской армией, Тухачевский должен был присмиреть. Ничего подобного! Он был уверен, что выиграл бы и эту битву, будь к маневренной войне готово командование других фронтов и армий. А еще он отчетливо видел причину краха маневренных действий в Первую мировую войну, в частности, почему провалился блистательный план Шлиффена. Ему было очевидно, что скорость пехоты в век железных дорог и автомобильного транспорта оказалась слишком медленной по сравнению с эпохой Наполеона и Мольтке. Солдату с полной выкладкой угнаться за паровозом и грузовиком невозможно. Поэтому французское командование на Марне, а затем германское командование в Восточной Пруссией в 1914 году успело перегруппироваться с помощью новых видов транспорта, и обходные маневры германской армии во Франции и армии генерала Самсонова в Пруссии, закончились провалом. Заговорили о «позиционной ничьей». Но Тухачевский и целая плеяда других военных теоретиков, в том числе на Западе, увидело будущее возобновление маневренной войны в моторизации войск.
Пехотинец обогнать паровоз не мог, а танк – поспевал! И пехота, посажанная на грузовики и бронемашины, тоже. Если же войска не успевали, то бомбардировщики могли разбомбить железнодорожные пути и станции, парализовав тем самым переброску резервов. А раз так, то вектор развития вооруженных сил был определен, и надо было действовать, исходя из генеральной линии развития вооруженных сил в новую эпоху.
Это сейчас может показаться, что «все понятно». Вот тебе танк, вот тебе самолет, вперед – к победе! Один из лучших теоретиков Красной Армии Г. Иссерсон писал: «Наша эпоха многомиллионных армий и высокой военной техники – есть эпоха глубокой операции. Нужно, однако, иметь в виду, что мы пишем об операции, которую еще никто не проводил. Мы оперируем при этом такими средствами борьбы, применение которых в бою и операции еще никто не испытал. Наша исследовательская работа в области оперативного искусства этими условиями существенно отличается от подобных работ в прошлом, когда такие военные исследователи, как Шлиффен, Шлихтинг, Бернгарди всецело строили свою оперативную теорию на изучении исторического опыта последних войн…» (17. Иссерсон, с.4-5). Ошибись теоретики, навяжи они вооруженным силам неправильную доктрину, и в войне это выйдет кровавым боком. Однако просто на диво советская военная мысль 1920-30-х годов двигалась совершенно в правильном направлении. Уж больно непривычно. Ломается стереотип, что Россия должна двигаться в обозе Европы, а главной ее особенностью являются «дураки и дороги». Ну как таких ни расстрелять и ни оболгать?… Расстрелять вторично их уже невозможно, но поглумиться желающих до сих пор пруд пруди. И об этом способе «осмысления» прошедшего придется говорить отдельно.
В 1933 г. в тезисах начальника Штаба РККА А.И. Егорова указывалось, что «новые средства борьбы (авиация, механизированные и моторизованные соединения, модернизированная конница, авиадесантные части и т.д.), их качественный и количественный рост ставят по-новому вопросы начального периода войны…» (Цит.: Вопросы стратегии и оперативного искусства в советских военных трудах (1917-1940). М., 1965, с.377). В частности, противоборствующие стороны будут исходить из следующих задач: уничтожение войск противника в начальной фазе войны, срыв планомерной мобилизации, и, в итоге, захват стратегической инициативы. По сути дела, А.И. Егоров еще в 1933 г. набросал сценарий июня 1941 года.
Кстати, продолжают встречаться высказывания о том, что оттягивание Сталиным войны в 1941 году было правильным, и «я бы поступил бы точно так же». Это означает, что даже сегодня некоторые исследователи готовы проводить обанкротившуюся линию, завершившуюся фантастическим по размерам поражением Красной Армии. Найти иной выход, даже с учетом негативного опыта, они не в состоянии. «Оттягивание войны» обернулось добровольной передачей инициативы противнику и сдачей обширных территорий. Поэтому здесь приводятся не просто цитаты, и даже не просто видение надвигающейся войны, а концепция того, как надо было встретить 41-й год, чтобы не только избежать поражения, но и выиграть сражение уже в начальной фазе борьбы.
Советская военно-теоретическая мысль совершенно верно предугадала ход начального этапа войны: нападение последует без раскачки, с нанесением внезапного удара с решительными целями. Чтобы предотвратить нежелательные события, Тухачевский предлагал создать специальные армии прикрытия. «Пограничное сражение будут вести не главные силы армии, как это было в прежних войнах, а особые части, особая передовая армия, дислоцированная в приграничной полосе» (54. Тухачевский, т.2, с.217). Причем ядро ее должны составлять механизированные и кавалерийские соединения, развернутые по штатам военного времени и дислоцирующиеся не далее 50-70 км от границы.
Тухачевский исходил из факта неизбежности новой Большой войны, войны на уничтожение одной из сторон. «…слагается обстановка, при которой мы должны будем встретиться с большой, тяжелой войной, с многомиллионными армиями, вооруженными по последнему слову техники» (54.Тухачевский, т.1, с.251, 252). А раз так, то Советскому Союзу надлежало встретить такую войну во всеоружии, создав, в свою очередь, мощную наступательную армию.
«Мощную наступательную армию»? Зачем? Затем, что Тухачевский хотел, чтобы война была быстротечной, и СССР потерял бы не 27 миллионов человек, как это произошло, а во много-много раз меньше.
В то время многие военные умы размышляли над тем, как сделать войну менее разорительной и менее кровавой. Уроки 1914-18 годов необходимо было осмыслить, сделать выводы и на их основе разработать новую «щадящую» военную доктрину. Тухачевский нашел выход из грозящей кровавой мясорубки, предложив более чем смелое решение: воспользовавшись рождением новых родов войск, взять на вооружение доктрину блицкрига. Смелость и рискованность идеи состояла в том, что до этого блицкриг применялся на небольших театрах военных действий, прежде всего в Европе. А когда воинская часть может ехать из одного конца страны в другой неделями, то откуда взяться быстроте? Но идея блицкрига манила Тухачевского своей эффективностью. И он нашел оригинальное решение. Под блицкригом он стал понимать не скоротечность войны вообще, а фронтовой операции. Сама же война может растянуться на более долгий срок, ведь предстояло сражаться не с одним государством, а коалицией! Причем война могла начаться одновременно как на западе, так и на востоке (против Японии). Поэтому, считал Тухачевский (и это была следующая его новаторская идея), с учетом предстоящих событий, надо готовиться к тотальной войне!
Во времена Наполеона и Мольтке понятие тотальной войны не существовало. Оно возникло в годы Первой мировой войны. Один из ее теоретиков генерал Людендорф понимал – когда в армии противников мобилизуются миллионы, победить можно лишь путем напряжения сил и возможностей всего общества, всего народа, подчинив нуждам вооруженных сил все имеющиеся материальные средства. Но речь шла только о периоде самой войны, когда решался вопрос «кто – кого». Иначе думал Тухачевский. Он пришел к рискованной мысли, что принципы тотальной мобилизации надо распространить на мирное время!
А вот это уже полная неожиданность! Как же так: люди хотят жить по-человечески, а им должны предложить готовиться к войне, как солдатам в армии! Возражения напрашивались сами собой. Да что там возражения, – возмущение таким предложением! И они сыплятся на его голову до сих пор. Но попробуем вдуматься в его «авантюрное» предложение.
Что именно предложил Тухачевский?
В январе 1930 г. командующий Ленинградским военным округом М.Н. Тухачевский представил наркому обороны К.Е. Ворошилову план развертывания гигантских вооруженных сил нового типа. Автор предлагал создать «железный кулак» в составе нескольких десятков тысяч танков, мощной авиации и артиллерийских сил поддержки. Тухачевский ратовал за создание армии нападения, причем в самые сжатые сроки, пока в Европе и мире существует благоприятная обстановка – у вероятных противников не было сильных армий. Для этого предлагалось уже в мирное время развивать промышленность, полностью подготовленную к военному производству. По мысли Тухачевского, необходимо было произвести «ассимиляцию производства» – военного и гражданского. Тем самым «военные производственные мощности, частично занимающиеся выпуском мирной продукции, и гражданское производство… путем дополнительных затрат приспосабливаются к быстрому переходу на военные рельсы… Способность страны к быстрой мобилизации своих промышленно-экономических ресурсов является одним из крупнейших показателей ее военной мощи», – писал он в своей записке. Он и раньше призывал всемерно развивать гражданскую авиацию, как экономичный способ создания базы военно-воздушного флота. Но это частности, главная мысль – начать готовиться к войне незамедлительно и на полных оборотах.
Мысли, вошедшие в план, были давние. Еще в 1926 году (в разгар нэпа!) он предлагал: «Военизировать всю страну, всю экономику надо так, чтобы, с одной стороны, дать возможно большие ресурсы для ведения войны, а с другой стороны, чтобы эта мобилизация не разрушала основного хозяйственного костяка» (Вопросы современной стратегии. М.: 1926).
Нужно быть очень смелым человеком, чтобы предлагать такую «ересь». Впрочем, призыв мобилизовать «все силы» не был идеей одного Тухачевского. Еще в 1927 году в своей книге «Мозг армии» Б.М. Шапошников подробно писал на эту тему: «Не нужно, следовательно, доказывать, что готовиться к такому виду общественных отношений (войне – Б.Ш.) надо серьезно, с полным напряжением сил и средств всей страны. "Войну нельзя вести, – говорит Бернгарди в своей книге "О войне будущего", – как играют в разбойники или солдатики. Она потребует от всего народа напряжения, длящегося годами, никогда не ослабевающего, если хотят завершить войну победоносно"… Но раз эта драма неотвратима, – к ней нужно быть готовым, выступить с полным знанием своей роли, вложить в нее все свое существо, и только тогда можно рассчитывать на успех, на решительную победу, а не на жалкие лавры Версальского договора, расползающегося ныне по всем швам».
К слову. В литературе можно встретить противопоставление Шапошникова как теоретика и Тухачевского. Причем книга Шапошникова всегда подается как выдающийся теоретический труд, где раскрываются особенности работы такого специфического органа как Генеральный штаб. Создается впечатление, что многие авторы таких пассажей в эту книгу не заглядывали, а переписывали оценку у других. Не разбирая работу будущего маршала, приведем лишь названия глав книги:
Глава I. Австро-Венгрия в начале ХХ столетия. Глава II. Австро-венгерские армия и флот в начале ХХ столетия. Глава III. Генеральный штаб Австро-венгерской армии. Глава IV. Начальник Генерального штаба Конрад… Глава VII. Австро-венгерский Генеральный штаб в лицах…
Лишь отдельные главы могут сойти за теоретические, вроде «Глава VI. Думы о начальнике Генерального штаба». Да и то, если ее не читать, а довериться названию («Думы…»!)
В целом, как видно из названия глав, книга представляет собой исторический обзор деятельности австрийского Генерального штаба и теоретические изыски не выходят за рамки осмысления его опыта. Тухачевский, как военный мыслитель, на этом фоне выглядит намного продуктивней.
Но главное то, что умозаключения военачальников и военных теоретиков появились как итог осмысления бескомпромиссной мировой войны 1914-1918 гг., в которой воюющие стороны ставили цели полного разгрома противника без щадящего мирного договора после первых успехов, как это часто было в прошлом. Тухачевский обобщил эти мысли и предложил их реализацию в виде плана. Ведь главное не теоретизирование, а конкретные выводы. Ни Шапошников, ни другие провидцы конкретный план подготовки к надвигающейся Большой войне не представили. Были лишь общие рассуждение, подобно вышеприведенной цитате. Но это все равно, что призвать спортсмена «напрячь все силы перед будущими соревнованиями». Совет хороший, но он чего-нибудь стоит, если предложена методика тренировок. А кричать: «Давай, ребята!» – все умеют. Лишь Тухачевский осмелился разработать конкретный план подготовки к войне. Он был настолько радикальным, что Ворошилов был ошарашен и долго держал его у себя. Но Тухачевский проявил настойчивость, и в марте 1930 г. нарком обороны передал его записку Сталину, что естественно, – такого уровня вопросы, как мобилизация всего народного хозяйства, он не решал.
Поначалу, что не удивительно, Сталин отнесся к предложению Тухачевского отрицательно. «Я думаю, что «план» т. Тухачевского является результатом модного увлечения «левой» фразой…», – писал он 23 апреля Ворошилову. – «Осуществить» такой план – значит наверняка загубить и хозяйство страны, и армию». Однако, поразмыслив, Сталин полностью изменил свое мнение. 7 мая 1932 г. Сталин письменно извинился перед Тухачевским: «В своем письме на имя т. Ворошилова, как известно, я… высказался о Вашей «записке» резко отрицательно, признав ее плодом «канцелярского максимализма», «результатом игры в цифры» и т.д. Так было дело два года назад. Ныне, спустя два года, когда некоторые неясные вопросы стали для меня более ясными, я должен признать, что моя оценка была слишком резкой, а выводы моего письма – не во всем правильными…» (45. Цит.: Самуэльсон, с.163).
Показательно, что если Сталину понадобилось два года, чтобы оценить идеи Тухачевского, то многие критики Тухачевского не могут понять его до сих. Ну да теперь спешить уже некуда…
План был принят в полном объеме. Советские заводы стали выполнять двойную задачу: работать на военное и гражданское производства одновременно, как ставшие затем знаменитыми паровозостроительный завод в Харькове или вагоностроительный в Свердловске. Таким образом, многие предприятия изначально находились в полумобилизованном положении и коренной перестройки своей работы с началом войны не требовали. До сих пор этот курс вызывает, мягко говоря, непонимание у современных историков и публицистов. Тухачевского обвиняют в авантюризме, милитаризме и даже глупости. Потому подробнее присмотримся к тому, из чего исходил Тухачевский в своих предложениях.
Прежние войны носили характер локальных конфликтов. Русско-японская война, балканские войны 1912-13 гг. и др., велись по простому принципу: началась война – экономика получает военные заказы. Война кончилась – заказы свертываются. В Первой мировой войне такая практика оказалась порочной. Армии воюющих держав в считанные месяцы истощили запасы мирного времени: снаряды, патроны, винтовки. Для русской армии это обернулось большими поражениями и огромными жертвами – промышленность подвела. Стало ясно: войны в ХХ веке стали чрезвычайно затратными. Времена, когда война обходилась той армией, что существовала в мирное время, пусть и с пополнениями, миновали. Кадровая армия быстро растворялась в море мобилизованных, и для них требовалось огромное количество оружия. Прежде всего из-за недостаточной обученности личного состава потери оружия и расход боеприпасов были, так сказать, сверхнормативными. И с этим ничего нельзя было поделать, хотя государство старалось в мирное время всеми способами обучать потенциальных резервистов. Но тиры, учения гражданской обороны, курсы военной подготовки в школах и вузах, аэроклубы и прочая, все равно не могли подготовить настоящих солдат, техников, летчиков и танкистов. Поэтому Тухачевский предложил не ждать повторения прежней ситуации, а всемерно подготовиться к войне в мирное время. То есть, не раскачиваться в первый военный год, чтобы сравняться с силами противника во второй, дабы на третий год перейти в решительное наступление, как это произошло во Второй мировой войне не только с СССР, но и с Англией и Соединенными Штатами, а ударить всей возможной мощью в первый же месяц войны и не уменьшать напор в последующие из-за нехватки сил. Это, по мнению Тухачевского, значительно сократило бы сроки военных действий и сохранило бы множество жизней.
Казалось бы, ясная концепция, однако, судя по нынешним книгам, ее не понимают 90 процентов исследователей. Отсюда обвинения Тухачевского в авантюризме и легкомыслии. Однако даже после гибели Тухачевского Сталин и командование РККА продолжало придерживаться «авантюристического» курса. Вот выписка из протокола заседания Главного Военного Совета Красной Армии от 10 апреля 1938 года. присутствовали Ворошилов (председательствующий), Сталин, Шапошников, Буденный и т.д.. Постановили:
«4. …заявку на танки сократить с 28 327 до 20 000» (Главный Военный Совет РККА, 13 марта 1938 г. – 20 июня 1941 г. Документы и материалы. – М.: РОССПЭН, 2004. С.35).
20 тысяч танков в год! Да это же «тухачевская» заявка!
Если бы у глобальной войны не было перспектив, как в 1960-80-е годы, то безудержная гонка вооружений не имела бы смысла, но если существует уверенность, что Большая война начнется через 8-10 лет, то чего тянуть резину?
Пока государство разворачивалась лицом к будущей, уже скорой тотальной войне, Тухачевский со своими единомышленниками делал следующий шаг – разработал новую концепцию войны, «стратегию сокрушающего удара».
В работе «Вопросы высшего командования», изданной в 1924 году, Тухачевский сформулировал задачу: «Не на героизм войск надо рассчитывать. Стратегия должна обеспечить тактике легко выполнимые задачи. Это достигается в первую очередь сосредоточением к месту главного удара во много раз превосходных над противником сил… Должен быть создан всесокрушающий таран» (54. Тухачевский, т.1, с.186).
Так в 1939-41 годах немцы и воевали.
Первой всесторонней теоретической разработкой, ставшей основой теории блицкрига или «глубоких операций», стала вышедшая в 1929 году книга В. Триандафиллова «Характер операций современных армий». Любопытна перекличка анализа Триандафиллова с идеями Тухачевского.
Триандофиллов писал: «…рассуждая абстрактно, при обороне легче достигнуть устойчивого фронта, чем раньше. Но беда обороны заключается в том, что она всегда ограничена в средствах, что она ведется заведомо малыми силами и потому не всегда может дать ту плотность фронта, которая обеспечила бы достаточную сопротивляемость боевых порядков». Так во Второй мировой войне и случилось. Как ни хорошо сопротивлялись обороняющие, победа была за имеющими возможность наступать.
«Было бы непоправимой ошибкой из-за возникающих в связи с развитием военной техники трудностей в ведении глубоких (наступательных) операций впадать в своего рода "оперативный оппортунизм", отрицающий активные и глубокие удары и проповедующий тактику отсиживания, нанесения ударов накоротке – действия, характеризуемые модным словом "измор"», – бросил камешек в огород А. Свечина автор.
Сторонники обороны не поняли главного: по сравнению с Первой мировой войной, где средства обороны превзошли средства нападения, ситуация изменилась кардинальным образом. Быстрое развитие техники вновь дало преимущество средствам нападения. Это стало ясно уже в 1918 года после успешного применения танков. Вторая мировая война подтвердила выводы Тухачевского и Гудериана, делавших ставку на новые рода войск – танки и авиацию. Попытки Вермахта в 1943-45 гг. создать прочную позиционную оборону в духе Первой мировой войны («Восточный вал», «Атлантический вал», «линия Зигфрида», «линия Густава» и т.д.) успеха не принесли. Не помог ни опыт, ни стойкость немецкого солдата, ни широкие реки: Днепр, Висла, Сена, Дунай, ни бетонные сооружения в укрепрайонах Восточной Пруссии и левого берега Рейна. Также оказалась безуспешной оборонительная стратегия Японии на островах в Тихом океане. Обескровить американские войска не удалось. Более того, в продуманных наступательных операциях относительно редко соблюдался известный принцип, когда нападающие несут потери примерно три человека к одному обороняющемуся. Лишь в тех случаях, когда хромало оперативное искусство, нападающие несли по-настоящему тяжелые потери в личном составе.
Квинтэссенцией проделанной теоретиками работы стал Полевой Устав РККА 1939 года. В нем в частности было сказано: «Если враг навяжет нам войну, Рабоче-крестьянская Красная Армия будет самой нападающее из всех когда-либо нападавших армий. Войну мы будет вести наступательно, перенося ее на территорию противника» (ПУ РККА. М.: Воениздат, 1939, с.9).
Не самое удачное для военного документа выражение «будет самой нападающей из всех… армий» сейчас воспринимается как сугубо агрессивная риторика. Так ныне в России не говорят, потому что страна находится в глубокой обороне. Предел мечтаний – создание условий для привлечения иностранных инвестиций, чтоб с помощью гастербайтеров как можно больше сделали за нас. Ну и, конечно, чтоб цена на нефть не упала. А в то время молодое государство ощущало в себе избыточность сил, переживало мощный энергетический подъем и было готово принять вызов от любого противника. И известная фраза «кто с мечом к нам придет от меча и погибнет» стала восприниматься иначе: «кто с мечом к нам придет, тот от нашего меча в своем логове и погибнет». То есть, если Александр Невский довольствовался победой на границе Новгородских земель, то теперь стояла задача закончить войну там, откуда исходил приказ о нападении на СССР. И ничего в такой постановке нового не было. Так себя вели армии других великих держав. Так ведут и поныне. После атаки 11 сентября 2003 года американская армия незамедлительно нанесла ответный удар, хотя штаб террористов, по версии Вашингтона, находился в далеком Афганистане.
Таким образом, уже будучи в безымянной могиле, Тухачевский продолжал оказывать влияние на Красную Армию, и не только в виде лозунговых положений военного Устава. Когда составлялся план удара по германской армии в 1940 году, то в основу легло «авантюрное» наступление Западного фронта под командованием Тухачевского в 1920 году. Его войска двигались по тому же принципу, что германские в августе 1914 года по плану Шлиффена – в виде «серпа». Неприятель оказывался внутри полукружья, не успевая реагировать на движение наступающей армии.
Идея «серпа» также была заложена в «Соображениях о стратегическом развертывании вооруженных сил», представленных руководству страны осенью 1940 года. Только прежний удар с севера был перенесен на юг Польши с поворотом на север. Особенно четко это видно в проекте превентивного удар по Вермахту Жукова-Тимошенко от 15 мая 1941 года. Первый удар предлагалось нанести вдоль Карпат на Катовице-Краков. «Последующей стратегической целью иметь: наступлением из района Катовице в северном или северо-западном направлении разгромить крупные силы Центра и Северного крыла германского фронта и овладеть территорией бывшей Польши и Восточной Пруссии».
Эффект от южного удара мог получиться грандиозным в том случае, если дать немецким войскам продвинуться вглубь в Белоруссии и Литвы. Тогда прорыв через южную Польшу с поворотом к Балтийскому морю отрезал бы группы армий «Север» и «Центр» от Германии. Получался охват масштабнее, чем по плану Шлиффена или наступления в Арденнах в 1940 году. Но такой маневр требовал наличия по-настоящему мощных танковых и моторизованных сил. В период составления плана Генштабом в 1940 году соединений, способных совершить столь сложный маневр, у Красной Армии не было. Мехкорпуса были расформированы в 1939 году. В итоге по варианту 1940 году получалась серединка на половинку: удар через южную Польшу повисал в воздухе, и что в такой ситуации делать дальше было совершенно не понятно. И тогда разработчики плана придумали удивительное объяснение: мол, эффектом от такого маневра является отсечение Германии… от Балкан!
Объяснение имело такой успех у историков, что оно неустанно повторяется до сих. При этом никто не объясняет, каким образом можно отрезать Румынию, Болгарию, Турцию от Германии через южную Польшу? С чего это вдруг румынская нефть должна была экспортироваться в рейх не через Венгрию (кратчайший маршрут), а через Словакию и Польшу? И каким образом румынская армия могла взаимодействовать с германской через Словакию? В 1915 году русские войска пытались прорваться в Венгрию через словацкие Карпаты – безуспешно. В 1944-45 гг. Красная Армия несколько месяцев штурмовала горы вторично, и опять без особого успеха. Братиславу пришлось освобождать через территорию Венгрии, а Прагу – через Германию. Нет, Карпаты и Татры – были слишком серьезными препятствиями хоть для взаимодействия войск, хоть для экономических связей Балкан с Германией. Зато в мае 1941 года средства для таранного удара в распоряжении Жукова уже были – механизированные корпуса (танковые армии) были воссозданы вновь. Так что Жуков мог довести удар через южную Польшу до логического конца, без байки про «отрезанные Балканы».
План, что предложили Мерецков-Тимошенко-Жуков был универсальным, он подходил как для превентивного удара по неизготовившемуся противнику, так и в качестве контрнаступления против прорвавшегося на территорию СССР врага.
Итак, видно, что Тухачевский, как и Триандафиллов, ничего не изобретали с нуля, не выдумывали на чистом листе бумаге. За их разработками и предложениями стоял как недавний военный опыт, так и традиции вполне определенной военной доктрины, прежде всего немецкой.
Что сближало видение группы Тухачевского с германской военной школой?
Во главу угла в обеих армиях был поставлен маневр. Встретив сопротивление противника, немецкие командиры без промедления смещали ударные соединения влево или вправо от узла обороны. Расчет был прост: оборона противника вряд ли была крепкой на большом протяжении. Где-то оборонительные порядки становились жиже настолько, что позволяли прорвать их. Вот это место и начинали искать.
У немцев споров, как вести будущую войну, не было – только маневр, только блицкриг! Все прекрасно помнили ужасы позиционной войны в Первой мировой войне, и всю «сладость» войны на измор, завершившуюся революцией. В то же время, они знали примеры блистательного успеха маневренных действий и «скоротечных войн» 1866 и 1870 гг. Так что выбора не было. Оставалось лишь разработать новый, с учетом времени, арсенал блицкрига. Обычно решение этой задачи связывают с Гудерианом, выпустившего книгу «Танки, вперед!», где он изложил принципы ведения боевых действий с применением нового рода войск. Но помимо теории многое дала практика. Участие в гражданской войне в Испании позволило прийти к мысли о целесообразности непосредственной поддержки наступающей пехоты самолетами, для чего потребовалось создать новый вид авиации – штурмовой. Было сконструировано несколько типов штурмовиков и пикирующих бомбардировщиков, наиболее удачным и знаменитым из которых стал «Юнкерс-87». Сочетание танков, моторизованной пехоты и пикирующей авиации оказалось эффективнейшим средством взламывания обороны противника на оперативную глубину.
Точно по такому же пути пошло развитие и Красной Армии. Только танки были мощнее и числом поболее, причем в разы. Правда, эффективное средство авиационной поддержки пехоты было создано лишь в 1940 году. Это штурмовик Ил-2, также затем ставший знаменитым.
Немецкие теоретики, а затем практики стали ориентироваться на весьма специфический вид наступательных операций. Называть его «маневренным», значит, уравнять с привычными, давно известными способами вождения войск. В Вермахте было внедрено особое сочетание маневра и наступления, которое можно было бы окрестить по аналогии с блицкригом (молниеносной войной) «молниеносной операцией».
Танковые войска наносили удары быстрые как молния. Отразить их было чрезвычайно трудно, потому что они наносились: а) внезапно; б) стремительно; в) сокрушающе. Пока штабы и войска противника осмысливали, с какими намерениями и какими силами прорвались танки немцев, все было кончено – войска окружены, управление нарушено, паника подобно лесному пожару распространялась среди солдат и гражданского населения. Оставалось одно: пытаться вырваться из «котла», а верховному командованию начать работу по организации обороны на новых рубежах. Именно такой вид наступления готовили теоретики и практики Красной Армии «тухачевского периода». У них не получилось по простой причине: их расстреляли задолго до начала войны. Это все равно, если бы Гитлер расстрелял Гудериана, Манштейна, Клейста, а потом сказал: «Теперь – вперед!»
Кроме того, существовало серьезное различие в понимании сущности блицкрига. Германские генералы и Гитлер делали ставку на блицкриг, и все! Что будет, если возникнет необходимость продолжать войну кампания за кампанией? Такой вариант германская военная мысль не рассматривала. Тухачевский же был уверен, что одним блицкригом коалиционную (мировую тем более) войну не выиграешь. Нужно подготовиться к тотальной войне, в которой блицкриг – составная ее часть, экономящая время и жизни. Но в самой войне победа достанется тому, кто способен мобилизовать все свои силы. Гитлер этого не понял и закончил свою карьеру в подвале рейхсканцелярии под грохот орудий полностью готовой к тотальной войне Красной Армии.
Новые плодотворные мысли в любой сфере деятельности не часты и дорогого стоят. В военном деле особенно. Все-таки на кону человеческие жизни и судьба государства. Пример. Серьезной проблемой Первой мировой войны стали пулеметы. Наступать привыкли плотными массами. Так повелось со времен древнегреческой фаланги. С появлением скорострельных винтовок боевые порядки несколько разрядили, в атаку стали ходить цепями. Но пулеметы их косили, как косцы траву. В фильме «Чапаев» наглядно показано, как одна пулеметчица – слабая женщина скашивает сотни здоровых мужчин. Вроде бы, надо было менять тактику, но новое почему-то не придумывалось. Так и ходили в наступление густыми массами до конца войны. Потери были ужасающими. И даже в начале Второй мировой, во всяком случае, в Красной Армии в атаку продолжали ходить цепями, хотя количество и качество пулеметов только возросло. Лишь постепенно удалось выработать новые принципы хождения в атаку, в том числе, под защитой танков. Так и с идеями Тухачевского. Это только кажется, что придуманное им несложно, мол, «каждый сможет». Когда идея выкристаллизовалась, мысль доведена до практического осуществления, тогда, конечно, все становится просто и всем понятно.
Концепция преодоления позиционной обороны, на которую в Первой мировой угробили миллионы солдат, разработка им инструмента прорыва – танково-механизированных соединений – фигурально выражаясь, весила многие тонны золота. И Вермахт значимость этой идеи доказал на практике. В кампаниях 1939-41 годов потери немцев были едва ли ни символическими, а результаты – стратегическими. Наверное, поэтому фигура Тухачевского вызывает восхищение у одних и ненависть у других (на месте Вермахта могла оказаться Красная Армия).
Кругом виноватый Тухачевский
Сталин уничтожил Тухачевского не только физически, но и морально, превратив в шпиона и вредителя. Но этот ход понятен, удивительно то, что работа по дискредитации Тухачевского была возобновлена в постсоветские годы. С легкой руки вездесущего В. Суворова Тухачевский превратился чуть ли ни в карикатурную фигуру. Выставлять Тухачевского глупцом стало почти «хорошим тоном». Можно сказать, что Тухачевского разоблачили вторично. Вот небольшая коллекция наскоков, собранная мной со страниц разных книг.
«Кстати, как-то вне внимания историков остается тот факт, что именно Тухачевский в советско-польской войне 1920 года допустил грубую оперативную ошибку, организовав наступление своего Западного фронта в расходящихся направлениях. Результатом той ошибки стало тяжелейшее поражение в войне…» (6. Веремеев, с.98).
На этом доказательная часть исчерпывается. Автор перешел к другому сюжету, а жаль. Во-первых, это неправда. Западный фронт наступал в «сходящихся направлениях». Зато соседний Юго-Западный фронт и вправду выбрал «расходящийся» вариант. И надо бы рассказать по чьей вине войска это произошло (отнюдь не Тухачевского).
Во-первых, польский поход с «прошупыванием Польши штыком» был ответной мерой на прощупывание войсками Пилсудского Советской России. В мае 1920 года ими были захвачены Минск и Киев. Предполагалось, что Петлюра создаст полностью зависимое от Варшавы украинское полугосударство, и вместе будет воссоздана новая Речь Посполитая от моря до моря (от Балтийского до Черного). Если Пилсудский ставил «глобальные» цели, то почему большевики должны были уклониться от боя? Ведь в случае победы они выходили за охваченную революционным движением Германию…
Однако (и это во-вторых) поход 1920 года – вообще тема для бесконечных язвительных замечаний, прерываемых хохотом: а Тухачевский-то дурак, захотел социализм на штыках принести в Польшу! Ничего не понимаю. Сейчас многое что меняется. То объявляют, что Иван Грозный и Батый – одно и то же историческое лицо, то фараонов не было, а была сплошная Русь-Азия и прочее. Может, и в написании истории ХХ века что-то кардинально изменилось? Беру свежий вузовский учебник «Новейшая история», листаю, дохожу до раздела о Польше, читаю: коммунисты пришли к власти в 1948 году. Так в чем проблема? В 1920 году было рано, а в 1948 году – в самый раз? Это почти одно и то же поколение. Неужто за это время поляки кардинально изменили свои политические воззрения? Точно так же социализм утвердился во многих других странах, где он «проклевывался» и раньше – в восточной части Германии, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Югославии… Лишь с помощью англичан удалось подавить движение коммунистов в Греции, а с помощью американцев с их планом Маршалла – изгнать коммунистов из власти во Франции и Италии.
А может, и вправду в 1920 году было рано, а Тухачевский сие, в отличие от нас, здорово поумневших, не уразумел? Опять листаю учебник истории. Вот описывается победа социалистической революции в Венгрии в 1919 году, а вот – победа коммунистов в Словакии, а вот – движение левых в Чехии, бои в Вене, восстание в Мюнхене («Баварская советская республика»)… На грани гражданской воны находилась Италия (проблему решили путем передачи власти Муссолини в 1922 году)… Нет, ничего не изменилось. Знал Тухачевский, что делал: Европа после Первой мировой войны была на перепутье, каковой она оказалась вновь после Второй мировой. Но тогда не получилось, а в 1940-е – вышло. И присутствие Красной Армии стало решающей гирей на весах истории, точно так же, как наличие американских и английских войск повлияло на поражение коммунистов в Западной Европе и Греции (а затем в Корее, в южном Вьетнаме в те же 40-е годы…). В 1934 году в фельетоне «Старый газетчик» Хемингуэй писал: «Непосредственно после войны мир (имеются в виду европейские страны – Э. С.) был гораздо ближе к революции, чем теперь. В те дни мы, верившие в нее, ждали ее с часу на час, призывали ее, возлагали на нее надежды – потому что она была логическим выводом. Но где бы она ни вспыхивала, ее подавляли».
Остается посоветовать критикам для общего понимания исторической обстановки читать обзорные книги, хотя бы учебники.
Что же касается возгласов несказанного удивления: «А вы знаете, что большевики хотели экспорта революции!», отвечу: «Да, конечно». Этот факт распространен в мировой истории. И не только потому, что на своих штыках несли новые порядки войска французской революции 1790-х годов. Экспорту идеологии (а революция лишь один из инструментов ее распространения) около полутора тысяч лет. В Европе и на Ближнем Востоке родоначальниками экспорта идеологии стали христиане и мусульмане. Причем относительно христиан речь идет не только о крестоносцах, но обо всей практике распространения новой идеологии в Америке, Африке, бассейне Тихого океана. Кому-то, возможно, не нравится такой экспорт, но католической церкви в Латинской Америке или мусульманам Африки, Ближнего Востока, Западной Индии (Пакистан) – все равно. Никто извиняться за то, что новая религия и культура в Америке, Азии или Австралии внедрялась с помощью меча, не будет. И сейчас есть государство, которое занимается политическим и идеологическим экспортом (США). И на этом государстве подобный экспорт не закончится. Для этого надо, чтобы умерла идеология как таковая, что в обозримом будущем не предвидится. И если исламский полумесяц на куполе святой Софии в бывшем Константинополе – это следствие успешного экспорта религии, то не надо думать, что подобное больше не повторится. Поэтому, когда мы сталкиваемся с экспортом идеологии, политических порядков, экономических механизмов, образа жизни, культуры, то не надо по-детски делать большие круглые глаза, а следует эти процессы изучать, как проявление пассионарной силы и предпосылок к формированию вариантов будущего. Тем более что наша массовая культура, избирательная система, и так далее вплоть до Интернета с его социальными сетями – это тоже следствие культурно-идеологического экспорта. И даже те, кто на словах не приемлет экспорта идеологии – антиглобалисты, радетели национальной самобытности – вдруг объявляют, что их самобытность в виде евразийства, негритюда, славянофильства, тюркизма и т.д. тоже далеко выходит за рамки одного народа и они также претендуют если не на роль мировой, то региональной идеологии. И в этом не их вина, а следствие давно сложившегося интернационализма мировых связей – этнических, экономических, культурных, религиозных, политических.
Наш мир уже многие века формируется исключительно за счет экспорта (точнее было бы сказать – экспансии) идеологии, культуры, технологий. Так было, и так мировой порядок будет формироваться и дальше, и никак иначе. Имя «экспортеров» – лидеры, или великие державы. В 1920-70-х годах в их числе побывал и Советский Союз. Иных это очень огорчает. Однако уже можно успокоиться. Вряд ли Россия когда-нибудь вновь заявит о себе в роли мирового лидера. Куда интереснее и полезнее понять, почему это получилось у большевиков, причем в разоренной и, казалось бы, уставшей стране. Вдруг и нам понимание методов раскрутки этноэнергетики пригодится…
И еще: представим на минуту, что «экспортный» поход Красной Армии получился, и в 1920-м Польша стала союзницей СССР. Тогда бы ситуация в 1939 году стала кардинально иной. Той, знакомой нам Второй мировой войны, не случилось бы. И Великой Отечественной войны тоже. Немцы в этом случае не то, что до Москвы, до Минска вряд ли бы добрались. Получается, Тухачевский не такой глупец, как его упорно представляют в последние годы. Просто он и иже с ним умели смотреть вперед на несколько десятилетий, каковой способности мы сегодня явно лишены, иначе не делали бы настоящих глупостей со своей страной.
Ненависть доводит до ослепления, а оно – до передергивания фактов. Например, Ю. Мухин – большой авторитет у сталинистов – чрезвычайно не любит Тухачевского. Это даже мягко сказано: он его ненавидит. У Мухина Тухачевский – исключительный глупец. Доказательств приводит массу. В книге «Военная мысль в СССР и Германии» берет проблему танков и разоблачает заместителя наркома обороны по вооружению РККА следующим образом.
При Тухачевском какие танки были в строю? В большинстве легкие, «картонные», хотя для войны требовались средние, такие как Т-34. Наличествовали, конечно, тяжелый Т-35 и средний Т-28. Но то были плохие машины. Броня – 30 мм. Любая пушка пробьет. Так зачем они нужны? В итоге, они погибли в 1941 году, не принеся никакой пользы.
Таковы аргументы. Не будем напирать на то, что разработка танков и пуск их в производство зависело не только от Тухачевского. Согласимся с предположением, что Тухачевский единолично принимал решение о производстве танков, а нарком обороны, начальник Автобронетанкового управления РККА, а тем более Сталин застенчиво отмалчивались, и разберем саму ситуацию.
К чести Ю. Мухина он указывает число критикуемых танков: Т-35 было произведено аж 60 штук (т.е. фактически это была экспериментальная серия), а Т-28 – 500 единиц. Единственно, что опускает Ю. Мухин – это историю проектирования и производства.
Т-28 разрабатывался в 1931-32 гг., а производство решили начать в конце 1932 года. Это был первый средний советский танк. На нем учились конструкторы и производственники. Сразу прыгнуть к машинам, вроде Т-34 не было никакой возможности. Точно также было с Т-35. То был первый советский (и вообще российский) тяжелый танк (его выпуск начался в 1933 году) со всеми присущими первым образцам недостатками по сравнению с будущими отлаженными моделями. Как только конструирование достигло высокого уровня, выпуск Т-35 и Т-28 был прекращен. С таким же успехом можно было бы предъявить претензии к руководству страны за массовое строительство неуклюжих бомбардировщиков ТБ-3, вместо того, чтобы начать производство великолепных Ту-2. Просто всему свое время. Что же касается не славной борьбы танков в 1941 году, так ведь 1700 Т-34 и КВ точно также не только не смогли остановить германские войска, но даже нанести сколь-нибудь ощутимые потери противнику.
Еще хуже у Ю. Мухина получилось, когда он начал сравнивать «тухачевские» легкие танки Т-26 и БТ-7 с чешским танком Т-38. У Мухина получилось следующее: чешский Т-38 имел лобовую броню 50 мм, а советский Т-26 всего 15 мм. Куда ж смотрел Тухачевский?!
Вот это уже совсем нехорошо. В любом справочнике по танкам указано, что чешский Т-38 (LT-38) имел лобовую броню 25 мм и боковую – 15 мм. Да, в 1941 году появились Т-38 с 50 мм броней, но то было наращивание защиты по ходу боев и не предусматривалось первоначальной конструкцией машины.
Кроме того, при жизни Тухачевского никакого танка Т-38 у чехов не было. Он был принят на вооружение в 1938 году и изготовлен в количестве нескольких десятков штук. Его массовое производство началось лишь после оккупации Чехии. А в 1937 году Чехословакия располагала танком Т-35 (LT-35) с лобовой броней 25 мм. То есть танк имел противопульную защиту. Устанавливаемая на советских легких танках, а также оснащаемая пехотой 45-мм стандартная пушка, пробивала 25-мм броню на дистанции до 1 километра. Так же обстояло дело у Германии. Появившийся в 1937 году средний танк Т-III имел броню 15 мм. Другое дело, танк постоянно модернизировался, соответственно росла и толщина брони. Так же обстояло дело у другого вероятного противника – Японии.
Кстати, наличие большого числа легких танков с противопульным бронированием (более 50 процентов от общего числа) не помешало Вермахту разгромить Красную Армию и дойти до Москвы и Ленинграда. Но главное, Мухин упорно сравнивает танки 1941 года с тем, что производились при Тухачевском! Неужто тот за четыре предвоенных года продолжал бы цепляться за модели, созданные в начале 30-х годов?
И совсем скверно у Мухина получается, когда он начинает уличать Тухачевского в непонимании им природы танковых объединений. Вот начало «разбора»: «Какова была маневренность танковых корпусов «имени Тухачевского», давайте рассмотрим на примере 9‑го механизированного корпуса (по штату 1031 танк, 35 тыс. человек), которым на начало войны командовал К. К. Рокоссовский» (35. Мухин, с.92). И далее разносит идею таких корпусов.
Однако никакого отношения к корпусам со штатами 1031 танк Тухачевский не имел, так как они были сформированы в 1940 году и крестным отцом их был как раз Сталин. Дилетантизм Мухина обусловлен простой особенностью: ему надо «размазать» Тухачевского, а для этой идеологической цели любые средства хороши.
Кроме того, Мухин критикует Тухачевского за авиацию, за артиллерию, за связь, за… Остается спросить: а кроме Тухачевского делами Красной Армии кто-нибудь занимался? Вообще-то, в Красной Армии были такие службы как Главное Артиллерийской Управление (ГАУ), Главное Автобронетанковое Управление и т.д. В их подчинении были конструкторские бюро, полигоны, бюджетные деньги, их представители в обязательном порядке присутствовали на заседаниях Военного Совета при наркоме обороны, где они имели возможность отстаивать свою точку зрения (протоколы заседаний ГВС изданы и все желающие могут с ними ознакомиться в Интернете).
Еще Мухина раздражает используемое Тухачевским понятие «пехотные таранные массы». «Что за «таранные массы», не знаю я никаких масс!» – возмущается Мухин. Казалось бы, не знаешь, почитай литературу, а потом уже публикуй свои ценные мысли. Потому что использование «таранных масс» – старый способ построения войска. На льду Чудского озера тевтонские рыцари использовали как раз «таранную массу», называемую «свиньей» (хорошо хоть Тухачевский так не называл свой оперативно-тактический прием, вот бы оттоптались на нем за такой термин). А первым «таранным» построением считается греко-македонская фаланга. С ее помощью Александр македонский завоевал половину тогдашнего «цивилизованного» мира. Но фаланга сильно зависело от рельефа местности и римляне отказались от такого построения в пользу иного принципа построения войск. В годы французской революции слабо обученные и вооруженные войска санкюлотов («оборванцев») уступали профессиональным армиям феодальной Европы. Но тогда господствовало линейное построение войск. Вымуштрованные солдаты по команде совершали на поле боя красивые и целеустремленные «артикулы», нанося разящие удары по фронту неприятеля. В таком бою у толп французских революционеров не было шансов и они выработали новую тактику – наступая в густыми колоннами. Эта масса прорывали тонкие линии неприятельской пехоты и войска оказывались беспомощными перед дракой в стиле «налетай, ребята!». Наполеон усовершенствовал тактику колонн глубоких колон… Но с появлением скорострельного оружия, пулеметов прежде всего, густое построение умерло вместе с огромными потерями от огня. Военные вновь вернулись к линейному и «тонкому» построению войск. Однако Тухачевский вновь обратился к идее «таранных масс». Он увидел то, что просмотрели теоретики. «Мировая война доказала, что в …линейно развернутом генеральном сражении на широком фронте почти невозможно менять направление главного удара или изменять уже принятое решение. Тонкие линии наступающего, а также обороняющегося становились жесткими, неповоротливыми и не гибкими…», – писал один из видных теоретиков РККА Г. Иссерсон в изданной в 1937 году книге «Эволюция оперативного искусства». Тухачевском об этом толковал еще в начале 20-х годов. И не только теоретизировал, но и принялся вырабатывал новые принципы построение наступающих, которые – правда, через практику Вермахта, – продемонстрировали великолепные результаты.
Но Мухин не только возмущается, но и разоблачает недалекого Тухачевского.
«Противник же должен был бросать под эту таранную массу свои слабые резервы, а масса бы их давила. И так бы давила, давила, давила, пока не наступила бы победа. При этом, как видите, не имело смысла особенно выбирать операционное направление и краткий путь к цели. (Тут Мухин, конечно, пишет неправду – прим. Б.Ш.) Чем более длинным путем будет двигаться таранная масса, тем больше противник бросит под нее слабых резервов и тем большие потери понесет. Какая тонкая мысль! Какой гениальный замысел! Но и на солнце бывают пятна, и в этом изобретении Тухачевского было одно маленькое, но непременное условие – нужно было где‑то отыскать такого противника, который бы согласился бросать слабые резервы под таранную массу им. Тухачевского» (35. Мухин, с.28).
Увы, такая армия нашлась. Именно так поступало советское командование в 1941 году. И несмотря на длиннющий путь «таранные массы» Вермахта вышли к жизненных центрам СССР в считанные месяцы. Немцы так и шли к Ленинграду, Москве, Харькову и Ростову, как описано у Мухина: давили, давили, давили поступавшие резервы… Победа ускользнула от них не потому, что стратегия оказалась не верна, а по другим причинам. Однако даже спустя многие десятилетия авторы подобные Ю. Мухину их не поняли, что лишний раз говорит в пользу мышления удивительного таланта-самородка Тухачевского.
Или такое развенчивание. У А. Мартиросяна читаем разбор предсмертного, написанного в тюрьме, анализ вариантов будущей войны с Германией. Автору дела нет, что текст написан в 37-м, и он, не стесняясь, примеряет его на 1941 год. А в качестве умственной неполноценности Тухачевского приводит следующий отрывок:
«Белорусский театр военных действий только в том случае получает для Германии решающее значение, если Гитлер поставит перед собой задачу полного разгрома СССР с походом на Москву. Однако я считаю такую задачу совершенно фантастической» (30. Мартиросян, с.48). «Ничего себе «стратег»?!» – восклицает Мартиросян. После чего на следующей же странице (!) начинает доказывать фантастичность возможности полного разгрома СССР:
«А как Германия смогла бы выиграть войну против России-СССР.., да еще и разгромив основные силы Красной Армии, оккупировать одновременно главные центры экономики, в том числе военной промышленности, и добычи сырья в Европейской части СССР, захватить Ленинград, Киев и Москву?! Как, если даже география, в данном случае Европейской части СССР, уже являлась исключительным защитником страны?! Ведь одна только господствовавшая в этой части СССР Русская равнина имела площадь 4 млн. кв. км! Как, если одни только пространства этой самой Европейской части СССР, как в «царской водке», растворяют ударную мощь любого агрессора?!» И т.д.
Остается загадкой: зачем Мартиросяну сначала надо было обругать Тухачевского, чтобы следом согласиться с ним.
В нескольких книгах Тухачевского костерят (а дипломатичностью выражений сталинисты не отличаются) за плохую обеспеченность танков и самолетов радиосвязью. Чтобы передать приказ командир подразделения во время боя должен был высунуться из люка и помахать флажками соседним машинам – «делай то и то». А командиру звена истребителей приходилось покачивать соседям крыльями. Представляете, как это неудобно? По рации передать приказ намного проще, а Тухачевский армию радиосвязью не обеспечил. Вот такой глупый, в отличие от критиков, был маршал. Причем авторы так напористо разносят по кочкам Тухачевского, что остается только погрустить, что не они жили в то время, и не они стояли во главе Красной Армии. А повздыхав, задаться вопросом: если Тухачевский – точнее молодая советская промышленность – могли без проблем обеспечить радиосвязью всех и вся, то почему это не сделали в последующие предвоенные четыре года? Жуков в своих мемуарах главным виновником почему-то называет не Тухачевского. «И.В. Сталин недостаточно оценивал роль радиосредств в современной войне, а руководящие военные работники не сумели своевременно доказать ему необходимость организации массового производства армейской радиотехники».
Конечно, с точки зрения сталинистов любая критика Сталина расценивается как поклеп на вождя, тогда как претензии к Тухачевскому – святая, непорочная правда. Просто и удобно. И все-таки, почему в 1941 году танкисты и летчики вынуждены были махать флажками и крыльями, как при глупом вредителе Тухачевском?
Призрак покойного маршала продолжает будоражить умы современных авторов. Вот очередной душераздирающий рассказ:
«Пушек Ф-22 летом 41-гo немцы захватили во множестве и поначалу использовали в оригинальном виде. Потом, сообразив, что пушка эта имеет почти неисчерпаемый (?) потенциал модернизации, поставили на нее дульный тормоз, резиновые колесики заменили на железные (резиновые страсть как для автомобилей требовались) расточили камору, что дало возможность увеличить метательный заряд в два с половиной раза! Сколько их захватили в 41-м, мне неведомо. Но модернизацию прошли 560 штук… Ну и кололи они энтой rадюкой советские (британские, американские) танки с большим удовольствием. А Грабину перед войной (!) подобную модернизацию не позволил провести нeкто Тухачевский», – залихватски вещает автор про «неисчерпаемую» пушку (38. Никонов А., с.98-99). Вот так сенсация! Оказывается, Тухачевский накануне войны был жив, что позволило ему мешать конструктору В.Г. Грабину совершенствовать свое орудие.
И таких ущучиваний Тухачевского в разных книгах встречается немало. Удивительно, скольким людям, даже по прошествии стольких лет, Тухачевский поперек горла, готовых ради его дискредитации даже лгать! Для них его расстреляли, к счастью и одновременно к прискорбию, потому что 1941 год вскрыл массу недостатков в Красной Армии: тут и низкая боевая готовность многих частей, и провал с производством бронебойных снарядов, и нехватка запчастей для танков и…и… и.. А свалить на Тухачевского нельзя. Хотя, как видим, пытаются даже на мертвого. Вот и становятся в тупик историки, оценивая следующий казус:
«Третью часть всех истребителей первого эшелона (ВВС пяти окрyгов/фронтов и двух флотов) составляли бипланы И-153 «Чайка»… По сей день ни один историк, обсуждавший эту тему, так и не смoг найти вразумительный ответ на вопрос о причинах, по которым производство морально устаревшего уже в момент cвoeгo рождения истребителя-биплана продолжалось весь 1939-й и весь 1940 г.! А так как производителем был флагман номер один (московский авиазавод № 1, ныне caмарский завод «Проrресс»), то и наделали этих «чаек» в количестве более 3,4 тыс. штук)» (50. Солонин, с.99-100).
А так бы в этой глупости или вредительстве (в зависимости от представлений автора) виновным признали бы Тухачевского. Не Сталина же корить!
Тухачевский как историческая фигура пережил все превратности, свойственные переломному времени. Его то возносили вверх, то низвергали, чтобы снова вознести на пьедестал. Кончается это обычно тем, что находится некая золотая середина, как это произошло с деятелями великой французской революции. В отношении Михаила Тухачевского этот процесс еще «в пути». Пока что он, подобно Троцкому, про которого больше врут, чем изучают – «черная фигура» русской истории. Идеологический подход превалирует над наукой. (Идеология нужна, чтобы обосновать нужные выводы. Историческая наука – чтобы понять происшедшее).
Троцкого клеймят за его желание мировой революции, за его спор со Сталиным о возможности построения социализма в СССР. (Интересно, так удалось Сталину построить социализм в СССР? И встречный вопрос на понимание: а можно ли построить развитой капитализм в одной отдельно взятой стране или только в рамках глобальной системы?). То есть, получается, Троцкого бьют за то, что в случае победы коммунистов стала бы невозможна Вторая мировая война с ее несколькими десятками миллионами убитых и воцарение «восточной» сталинского деспотии в Советском Союзе. Только России изменение исторического вектора «сэкономило» бы не менее 30 миллионов жизней. Вот и пойми наш менталитет. Не говоря уже о том, что именно Троцкий – первый из большевистских вождей – в феврале 1920 г. предложил перейти от продразверстки к продналогу, то есть закончить гражданскую войну с крестьянством (однако его продолжают изображать, как врага крестьян), и он – единственный из руководства, кто не разделял желание «прощупать штыком» Польшу в 1920 году. Другое дело что, как и мечта французских революционеров XVIII века об объединенной Европе, так и стремление Ленина-Троцкого к мировой федерации народов были достаточны иллюзорны. Но это другая сторона дела. Христос и Церковь тоже хотели братского союза людей всего мира, и церковь тоже на этом пути наломала много дров (крестовые походы, кровавая борьба с язычеством и пр.), но никто за это ныне ее не клеймит. Кроме того, отказавшись от ленинской (и троцкистской) идеи «большой федерации», Сталин не стал превращать СССР в нормальное федеративное государство. В Конституции 1936 г. сохранилось право на свободный выход союзных республик (такой статьи нет в конституциях других стран), а также многоуровневый государственно-национальный конгломерат. Более того (это к вопросу о «расчленении» единого государства), при Сталине пять автономных республик получили статус союзных, а около десятка национальных областей повысили до статуса автономных республик.
Ни у одного государство мира не было и нет такого сложного и взрывоопасного национального устройства. В будущем заложенные под «империей» мины взорвались. И, к сожалению, далеко еще не все… Так и с Тухачевским: часто претензии к нему «не с того берега». Едва ли ни главным аргументом «против» является его участие в подавлении кронштадского и тамбовского восстаний. Причем клеймят нередко те же люди, что согласны с действиями Ельцина по подавлению другого «кронштадта» – расстрела Верховного Совета и борьбой с другим «тамбовским восстанием» – мятежной Чечней. Свои «кронштадты» были у Кромвеля, Наполеона и де Голля. Кстати, именно после подавления мятежа в Париже в 1795 году, когда он приказал стрелять из пушек по толпам парижан, началась по-настоящему стремительная карьера до того безработного (после падения Робеспьера) бригадного генерала Бонапарта. За эту услугу правительству он получил пост командующего внутренней армии республики.
В советское время скрывали факт участия «народного полководца» Суворова в подавлении восстания Пугачева. В одной биографии А. Суворова сказано: «…занимался ликвидацией отрядов мятежников и умиротворением населения, оказавшегося в зоне влияния восстания». Надо ли объяснять, каким образом карательные отряды «умиротворяют» население мятежных областей? И как теперь быть: лишить Суворова лавров полководца?
И таких примеров много.
Любая власть давит тех, кто пытается силой противостоять ей. Есть, правда, исключения. Если Дэн Сяопин подавил свой «кронштадт» в Пекине в 1989 году, то Горбачев отказался это сделать. И потерял власть. Только крови от этого меньше не стало. Ее в борьбе за власть – в Баку и Карабахе, в Молдавии, Чечне, Абхазии, Южной Осетии, Таджикистане, Фергане – пролили другие. И кому из убитых и искалеченных было легче от «миротворческой» позиции Михаила Сергеевича, нобелевского лауреата мира?
Это пишется не в оправдание Тухачевского, Троцкого или любой другой исторической персоны, а ради констатации очевидного, – власть в переломное время достается тем, кто способен применить силу. Поэтому большевики пришли к власти в 1917 году, свергнув тогдашнего «горбачева» – Керенского. Именно поэтому коммунисты ее удержали в 1941 году и потеряли в 1991-м…
Опыт сильно влияет на взгляды людей. Ленин, незадолго до смерти, объявил о своем желании пересмотреть свое понимание социализма. Много осторожнее стал Троцкий. Если в августе 1919 года он предлагал создать особый конный корпус для похода на Восток (Афганистан-Персия), то уже летом 1920 года не высказывает энтузиазма по поводу наступления в Польшу, считая, что лучше закончить дело миром. Скорректировали свои взгляды после гражданской войны и другие большевики. Бухарин трансформировался из «левого» коммуниста и ярого сторонника «военного коммунизма» в рыночника, выдвинув «теорию врастания кулака в социализм». «Рыночниками» стали Дзержинский и Рыков. Оно и понятно, практика – лучшее лекарство от романтизма всех видов, хоть житейского, хоть революционного. Этот тренд к прагматизму был потом воспроизведен в социалистической Югославии и нынешнем «коммунистическом» Китае. Зато у других «наступательное мышление» осталось. К их числу относился Тухачевский, за что и получает в наше время по полной… Но что именно он хотел? Продолжал тупо верить в мировую революцию?
Что такое СССР?
Столь много внимания уделено Тухачевскому не только ради защиты его имени. Тухачевский – знаковая фигура для несостоявшегося варианта будущего. У каждого человека в жизни случается несколько развилок, и от выбора тропы зависит дальнейшая его биография. Так и с государствами. После длительной исторической эволюции возникает ситуация, когда общество может пойти «направо», «налево» или застрять в «болоте». Так было у России в 1917 году, затем альтернативная развилка повторялась в ХХ веке еще несколько раз. С одной такой возможностью был связан Тухачевский. Но ее устранил Сталин. Был ли возможный вариант будущего лучше или хуже состоявшегося, неизвестно. Но он был. И нам придется его касаться применительно к теме 1941 года, ибо именно 22 июня 41-го окончательно отпал вариант одного будущего, дорогу к которому прокладывал в том числе Тухачевский, и реализовался прямо противоположный ему, отстаиваемый Сталиным. Но об этих вариантах поговорим в конце. Потому продолжим тему о наветах.
Еще один убойный аргумент против таких, как Тухачевский: они создавали слишком мощную армию, чьи силы превышали размеры пассивной обороны. Именно так! Обороняться, как уже говорилось, он и его единомышленники не хотели. Собирались же побеждать, причем на чужой территории, и это приводит в ужас его противников. «Вы знаете, – пишут они, – что гербом СССР был Земной шар?» Конечно, как и то, что на том Земном шаре эмблемами были серп и молот – символы мирного и созидательного труда.
«Неужели для этого надо было создавать самую большую танковую армаду в мире!» – слышу возмущенные голоса. Не обязательно. Но США, несмотря на ликвидацию СССР, продолжают иметь самый большой военный бюджет в мире, по совокупности равный военным расходам десяткам не самых маленьких стран мира. Не для защиты же границы с Мексикой держатся эти армады.
США – мировой лидер, наделенный функциями полицейского, готовый наводить свой порядок в любом уголке планеты, утверждая там свои политические нормы, и этого звания не стесняется. Что же критики СССР не заламывают руки по этому поводу как антиамериканисты? Потому что США – свои, а СССР – чужой? Ну так и надо говорить: нам нравится лидерская роль Соединенных Штатов и не нравится аналогичная роль Советского Союза. Только надо иметь ввиду, что политические и идеологические лидеры – явление общемировое. Первые лидеры появились в древности (держава Александра Македонского, Рим, Китай…). И если посмотреть учебник истории, то львиная доля его страниц посвящена жизнедеятельности лидеров. Существование мирных, тихих племен и народов почти никого, кроме этнографов, не интересует. О них, если и пишут историки, то чаще всего в связи с захватами лидеров-экспансионистов.
Лидер – это обязательно экспансионист, и он создает собственно историю, меняя силовые поля мирового развития, прокладывая новые дороги в будущее. Нам они могут сильно не нравиться (как Золотая Орда), но избежать их позитивного и негативного влияния невозможно. Ругайся-не ругайся, но мир развивался и будет развиваться под давящим воздействием лидеров и конкуренции между ними.
Формирование лидера без создания сильных вооруженных сил вплоть до второй половины ХХ века было делом невозможным (первым «невооруженным» лидером стала Япония, но, что показательно, под прикрытием армии США). Даже маленькие Венеция и Генуя обзавелись мощным военным флотом и, благодаря этому, несколько веков господствовали на Средиземном и Черном морях. Без силы оружия в лидеры не выбиться. Но одной армией значимость лидера не исчерпывается. Лидер – тот, кто достигает значительных успехов в культуре, науке, политической организации. Историю СССР можно видеть через призму ГУЛАГа и большой армии, а можно – через успехи в культуре, науке, экономике 1920-60-х годов. Точно также при рассмотрении истории Соединенных Штатов можно упирать на истребление индейцев и угнетение негров, а можно – на разработку норм демократии, ставших стандартом для десятков стран, и научно-технические открытия, коренным образом изменивших человеческую цивилизацию. Можно, конечно, отстукать на компьютере строки осуждения Соединенных Штатов, передать их по Интернету на всеобщее обозрение в социальной сети и не заметить парадокса, но сути дела это не изменит.
Советский Союз с самого начала заявил о себе, как о потенциальном общемировом лидере (отсюда и земношарный герб). И уже спустя два десятилетия в битве с фашизмом доказал право считаться лидером. И этот статус признали на Ялтинской и Потсдамской конференциях западные великие державы. А после 1945 года выяснилось, что общемировыми лидерами являются всего два государства – США и СССР! Остальные могут выступать лишь в качестве их союзников. Так получилось, нравится кому это сегодня или нет. И такое положение сохранялось более сорока лет.
Если сейчас советский проект считается неудачным, то в 1940-70-х годах во всем мире многими он оценивался как крупнейшее положительное событие ХХ века. Но ведь и либеральный проект на рубеже 1980-90-х годов считался наилучшим. Философ Ф. Фукуяма стал знаменитым, опубликовав в 1990 году статью, в которой объявлял о «конце истории» и наступлении всемирной эпохи либерализма. Кто же думал, что так скоро наступит кризис либерализма, в том числе альтернативы «красному проекту федерации народов» – нынешнего Евросоюза? Как все сложно, оказывается, в мире устроено: только порадуешься решению всех и всяческих проблем, как кирпич на голову летит…
Тухачевский предчувствовал и приближал лидерскую роль «красного» государства. Ныне многих его позиция раздражает. И вправду, чем плохо сидеть на печке? И что с того, что современную Россию официально низвели до уровня периферийной державы, включив в так называемую группу БРИКС, куда входят Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка. Возможно, для кого-то это и лучше. Но надо понимать, что это не есть эталон существования. Не нравится жить, как пассионарии – не живите, но есть смысл уважать тех, кто мог менять историю. Уважать хотя бы потому, что мы сейчас живем, паразитируя на их наследии. Ну, а если мы считаем, что можем сделать лучше чем они – так надо доказать это на деле, а не критиканствовать. Критика импотентов Дон Жуана может быть объективно справедливой, но все равно иметь нехороший субъективный привкус.
Сколько танков нужно в мировой войне?
В 1936 году к власти во Франции пришло правительство левого «Народного фронта». Помимо реформ в сфере рабочего законодательства, оно пошла на удивительный для левых шаг – выступило с инициативой принятия программы перевооружения армии. Французские генералы были приятно удивлены. Однако около года ушло на раскачку, и когда программа была запущена на полную мощность, то к войне успеть не удалось. Точно также на старте задержалась Великобритания. Лишь перед войной удалось запустить в серию два современных истребителя – «Харрикейн» и «Спитфайр», а также новые типы танков. Успеть не удалось, но с помощью новых моделей истребителей удалось выиграть воздушную битву за Англию и тем сорвать возможную десантную операцию. Но главной защитой Британии все же стала естественная преграда – воды Ла-Манша. И лишь одно государство начала подготовку к войне заблаговременно и к ее началу оказалась довольно хорошо готово технически. Такой страной оказался Советский Союз.
Как такое могло случиться? Ведь Россия всегда запаздывала и выправляла ситуацию уже в ходе войны. А тут…! Чудо предвидения связано с одним именем – Михаилом Николаевичем Тухачевским. Именно он стал неутомимым пропагандистом заблаговременной всесторонней подготовки страны к неизбежному.
Как уж говорилось, в 1930 году Тухачевский обратился с докладом, в котором выдвигалась программа формированного вооружения Красной Армии. Цифры впечатляли. Автор предлагал создать «железный кулак» в составе нескольких десятков тысяч танков, мощной авиации, артиллерии, причем в самые сжатые сроки. Этот курс послужил основанием современных публицистов обвинить Тухачевского по двум пунктам: а) в авантюризме, и б) в агрессивности.
Конечно, тысячи танков и создаваемые на их основе мощные ударные соединения – механизированные корпуса явно предназначались не для глухой обороны. Значит ли это, что Тухачевский обязательно планировал завоевать Земной шар? Нет, речь шла совсем о другом.
Известно, что СССР вступил в войну, имея танков больше всех в мире. Такого количества стеснялись советские историки и замалчивали, а когда в «эпоху гласности» цифры были опубликованы, то публика ахнула – 20 тысяч стальных машин! И понеслось про «планы Сталина завоевать Европу». Зачинщиком же рекордного производства танков был Тухачевский. Значит, он был либо неумен, либо авантюристом… Ах, эти простенькие идеологические стереотипы современных умов! Никто не потрудился задать простой вопрос: с каким количеством танков победили во Второй мировой войне, которые были главной ударной силой на суше? Ведь – подчеркну – танки в той войне значили больше, чем просто бронированные машины; больше, чем средства оперативного наступления. Они стали инструментом стратегии, как военной, так и политической. И это новшество надо было еще предвидеть!
Что, собственно говоря, значат эти 20 тысяч танков? Почему Тухачевский стремился к «баснословному» производству танков? Первая версия: конечно, чтобы завоевать Европу и далее весь мир. А может ли быть другая, не столь экзотическая версия? Может, если предположить, что Тухачевский исходил из опыта Первой мировой войны в преддверии надвигающейся неизбежной Второй мировой войны.
На чем прокололись почти все державы в Первой мировой войне? Генеральные штабы и правительства посчитали, что война продлится недолго, и имеющих запасов вооружений хватит на весь период боевых действий. И ошиблись. Пришлось в ходе войны мобилизовывать мощности всей своей промышленности, но произведенного все равно не хватало. Начались массовые закупки оружия и боеприпасов в других странах. Отличным подспорьем стала могучая экономика США. Но не для Германии и Австро-Венгрии. И они войну проиграли. Однако еще раньше рухнула царская Россия, хотя имела возможность закупать оружие в других странах, включая Соединенные Штаты. Какой из этого можно было сделать вывод?
Раз мировая война неизбежна и начнется довольно скоро, то надобно сейчас, немедля запасаться вооружениями. Надеяться на закупки оружия в других государствах СССР не может, да они и не спасут положения. В этом случае 10 тысяч танков, а тем более 20 тысяч – много или нет?
Конечно, много, утверждают критики Тухачевского. Но Тухачевский думал иначе и сумел убедить Сталина в своей точке зрения. И оказался совершенно прав! Много было по отношению к государствам, которые надвигающую мировую войну либо прозевали (Англия, Франция), либо вляпались в нее, не ожидая этого (Германия). А для масштабов Большой войны оказалось в самый раз.
Реальные боевые действия показали, что 10 тысячи танков хватает на несколько месяцев боев. Посмотрим количество производства танков и самоходных артсистем воюющих держав.
Великобритания в 1942 году, ведя пассивные боевые действия, произвела 8 600 танков, Германия – 6 200 (и провалила блицкриг), США – 23 800.
Великобритания в 1943 году произвела 7 500, Германия – 10 700, США – 38 000 танков и САУ.
Германию еще можно обвинить в стремлении к мировому господству, но Англия и США точно защищались, а не хотели завоевывать другие страны, но танков производили с каждым годом все больше. Причина того проста – огромные потери. И 20 тысяч танков у СССР оказалось не такой большой цифрой. В 1942 году в Советском Союзе было произведено – 24 тысячи танков, что не спасло Красную Армию от поражения и отступления до берегов Волги и гор Кавказа.
В 1944 году Германия, которой стало уже не до мирового господства, выпустила 17 тысяч танков и САУ (и вчистую проигрывала войну), Великобритания – 4,6 тысяч (спасибо американцам, взявшим на себя основную долю боев), США – 20 тысяч танков.
Подчеркну: США изготовили 20 тысяч танков за один год, а Красная Армия к началу войны накопила те же 20 тысяч танков, но за десять лет!
В 1943 году Советский Союз выпустил 24 тыс. танков и САУ, в 1944 году – 29 тысяч и стал побеждать Германию.
Вывод: в войне победили те, кто смог производить больше бронетехники – СССР и США. Точно так же обстояло дело с производством самолетов, артиллерийских орудий и пр. Получается, Тухачевский был весьма дальновидным, ратуя за наращивание производства танков и других видов оружия в мирное время. Он предвидел будущие масштабы сражений и понимал, что небольшими силами обойтись совершенно невозможно. А наращивать производство в ходе войны, значит обречь армию и население на большие потери. И понятно, что смогли сделать Соединенные Штаты с их мощной экономикой, не смог бы совершить Советский Союз, если б не подготовился надлежащим образом в мирное время. При этом не обязательно петь дифирамбы гениальности Тухачевского, достаточно посмотреть цифры производства танков в Первую мировую войну. Тогда, а точнее за два последних ее года, Франция произвела 5 тысяч танков, Англия – 2,5 тысячи. А то была заря танкостроения, и сразу такие масштабы производства! Кстати, самолетов Англией и Францией за годы войны было выпущено 100 тысяч против 47 тысяч у Германии. Итог войны закономерен. Так что, предлагая свою программу вооружений, Тухачевский всего лишь следовал логике свершившихся событий, понимая, что масштабы будущей войны будут, как минимум, не меньшими. То будет не просто война моторов, а сотен тысяч моторов, в том числе десятков тысяч танковых. К такой войне он готовился, и такая армия была им с единомышленниками создана. Свидетельством тому были маневры в Белорусском и Киевском военных округах в 1935 и 1936 гг., которые вызвали восхищение у иностранных наблюдателей. Они признали – Красная Армия опережает время! Только Тухачевский не ведал, что его вместе с другими создателями новой Красной Армии расстреляют, а в 1941 году врага встретит не армия, а нечто вроде ополчения, которое не будет в состоянии организовать отпор даже при многократном своем превосходстве в технике не только немцам, но и вообще кому-либо из союзников Германии.
То, что Вермахт вступил во Вторую мировую войну, располагая всего 3,5 тысячами танков, объясняется тем, что Гитлер был уверен – Англия и Франция не вступятся за Польшу, а пойдут привычным мюнхенским курсом. А когда совершенно неожиданно выиграл кампанию с Францией с 3 тысячами легких танков, уверился, что этого тем более хватит для СССР. Авантюризм в отношении Польши и Франции еще более неожиданно «прокатил» летом 1941 года. И впрямь «дуракам» везет, особенно наглым. До поры до времени, конечно. Красная Армия количественно была готова к серьезной войне, залогом чему был пресловутый танкопарк в 20 тысяч машин. Не вина Тухачевского, что это сила была профукана практически без всякого влияния на ход боевых действий. Как такой «подвиг» удался его преемникам, мы рассмотрим дальше.
Другое дело, что попытка повторить «маневр Тухачевского» в 1960-80-е годы, в результате чего в момент распада СССР, в строю находилось около 23 тысячи танков, было уже очевидным перебором. После Карибского кризиса стало ясно, никто идти в ва-банк и развязывать Большую войну не рискнет. При этом противоборство между сверхдержавами продолжалось, но были избраны средства, названные «холодной войной». Английский военный теоретик Лиддел Гарт ввел понятие «стратегия непрямых действий» – такая стратегия и стала определяющей. Вместо лобового столкновения на поле брани в ход пошли иные средства: пропаганда, соревнование в уровне жизни, установление контроля над мировыми рынками, начиная с нефти и кончая рынком капиталов и т.п. Противоборство с новой стратегией руководство СССР проиграло. На этот раз не нашлось теоретика, предложившего правильный вектор действий. Стада танков все это время были неудел. Что было необходимым, или, по крайней мере, логичным в одно время далеко не всегда подходит к другой эпохе.
И еще одно замечание. Тухачевского ругали не только за его стремление иметь много танков, но и задавались ядовитые вопросы: а где он собирается найти столько техников? как обучить такую массу танкистов? подготовить такое количество командиров экипажей? И пр. Удивительно, что эти любительские вопросы первым задал, сопровождая их ядовитыми комментариями по поводу умственных способностей Тухачевского, В. Суворов – сам в прошлом танкист, к тому же окончивший военную академию, то есть долженствующий разбираться в теме. Совершенно не обязательно и даже не нужно на каждый танк иметь отдельный экипаж. Подбитый танк, как и сбитый самолет, еще не означает гибель экипажа. В войну люди спасались из горящего танка или сбитого самолета неоднократно. А потом? А потом пересаживались на другие машины и продолжали воевать. (Рассказывают, что первого аса люфтваффе Э. Хартмана сбивали более десяти раз!) Но для этого нужно, чтобы эти машины были в наличии.
Кроме того, машины имеют свойство ломаться, а после определенного срока службы проходить текущий и капитальный ремонт. И как быть в условиях боевых действий, когда танки нужны позарез?…
В 1970-80-е годы студентов многих военных кафедр водили в парки, где стояли боеспособные, но морально устаревшие танки Т-54/55. Зачем их держали? Это были танки второй линии. В случае войны они могли использоваться в качестве боевых, учебных и специальных машин. Так что Тухачевский и в этом пункте был умнее и дальновиднее своих критиков.
Ну а что сам Сталин? В 1931 г. он произнес знаменитую формулу: «Мы отстали от капиталистических стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Заявление, согласитесь, далекое от агрессивности. Речь шла о выживании, а не о перспективах захвата Европы. В 1931 году Япония оккупировала Маньчжурию и вышла к границам СССР на участке в полторы тысячи километров. На Западе Советский Союз никто не жаловал. О нарастающей угрозе фашизма писали много и открыто. Точно так же как и о перспективах новой Большой войны. В этой ситуации мечтать о захвате Европы, а тем более мира было чистой воды глупостью. Зато готовиться к войне, а в случае победы воспользоваться ее плодами, можно было и нужно. Это нормальная позиция любого государства с глубокой древности и до наших дней. Именно об этом толковал Тухачевский и именно это имел в виду Сталин, говоря о 10-ти имеющихся в распоряжении страны (перед Большой войной) годах.
Оружия стали делать много, и тем более непонятно появление книг с перечнем того, чего не хватало Красной Армии. Получается, что у Вермахта всего было в достатке, а германские танковые дивизии выигрывали все бои, преодолевали любые препятствия, потому что были оснащены лучше советских. Но что имел Вермахт в действительности?
Половина танковых войск Вермахта составляли легкие танки со скромным вооружением. Вот отзыв танкиста:
«Всех нас наполняла гордость, когда мы получили свой чехословацкий танк 38(t)… Мы восхищались броней, не понимая еще, что она для нас лишь моральная защита. При необходимости она могла оградить лишь от пуль, выпущенных из стрелкового оружия» (23. Крокиус, с.5).
«Мы проклинали хрупкую и негибкую чешскую сталь, которая не стала препятствием для русской противотанковой 45-мм пушки. Обломки наших собственных броневых листов и крепежные болты нанесли больше повреждений, чем… сам снаряд» (23. Крокиус, с.6).
И ничего, с этими машинами танковые группы Гёпнера и Гота, в которых находилось наибольшее количество чешских танков, дошли до Ленинграда и Москвы.
Написано огромное количество текстов, сравнивающих немецкую технику с советской кануна войны. Толщину брони: лобовой и боковой, мощность двигателей и калибр вооружения – у танков. Скорость: крейсерскую и максимальную, набираемую высоту, время разгона и вооружение – у самолетов. Калибры стволов и вес взрывчатого вещества – у снарядов артиллерийских орудий. Споры шли жаркие и, возможно, будут продолжаться. Единственно, на что мало обращают внимание спорящиеся – это то, что германская сторона выигрывала в 1941 году все бои, не взирая, какую технику имела та или иная танковая дивизия или авиаэскадра, а Красная Армия, наоборот, терпела поражение практически в любой ситуации с любым набором техники. Немногие исключения общую картину не меняли. Побеждала не техника как таковая, а умение воевать. Такие слова уже банальность, но от этого они не перестают быть истиной.
Умели ли воевать репрессированные?
Другой часто встречающейся упрек: Тухачевский пошел по легкому пути, выторговав кучу «железа», а учиться воевать забыл, вот Сталину и пришлось расстрелять нерадивых. Правда, существуют высокие оценки проведенных в канун «чисток» войсковых маневров 1935 и 1936 годах в Белорусском и Киевском военных округах, возглавляемых будущими «врагами народа», поэтому, чтобы версия про неумеющих воевать расстрелянных получила необходимый вес, необходимо было дискредитировать значение этих маневров. И работа закипела. В качестве главного доказательства чаще всего приводится отчет о маневрах независимого наблюдателя – начальника управления боевой подготовки РККА командарма 2-го ранга А.И. Седякина.
Седякин никому дифирамбов не пел, а совсем даже наоборот – погладил против шерстки. Седякин отмечал в маневрах:
а) плохое взаимодействие авиации и механизированных частей;
б) недостаточно четкое взаимодействие артиллерии с танками;
в) плохую разведку, в результате чего некоторые механизированные бригады наносили удар по пустому месту;
г) 5-я и 21-я мехбригады Белорусского ВО не смогли обнаружить засады и были условно разгромлены, а 1-я мехбригада внезапно очутилась перед танковыми ловушками и заграждениями и вынуждена была остановиться;
д) подготовка водителей танков недостаточна, что приводит к «рассеиванию» – слому боевых порядков во время марша и атаки;
ж) части вводились в бой несогласованно;
з) пехота шла в атаку «густыми толпами» и несла большие потери от огня условного противника;
и) меткость стрельбы пулеметчиков была низкой.
Ну и так далее, пункт за пунктом, половина алфавита. Ага, радуются критики, вот она – подготовочка «полководцев с гражданской»! Остается только вздыхать над такими радостями. Это называется, глаза читают – мозг отдыхает. А ведь, казалось бы, все отчетливо ясно…
Во-первых, ясно, что маневры были не показушными, что говорится «без дураков». Войска были поставлены в условия максимально приближенными к боевым. И сделать такие условия весьма непросто, что свидетельствует не только о честности организаторов маневров, но и о высоком уровне разработчиков учений.
Во-вторых, отображенные недостатки в отчете один в один воспроизводили ошибки и накладки 1941 года, что делает честь оперативному уму командарма Седякина и его подчиненных, работавших наблюдателями на маневрах.
В-третьих, маневры проводятся не для того, чтобы получить благодарность начальства за образцовую показуху, а выявить недостатки в организации войск и пробелы в подготовке личного состава. Они и были выявлены – полно и четко.
В-четвертых, перечисленные недочеты давали ясную картину того, над чем надлежало работать командному составу в ближайшие годы. И если бы такая работа была проведена, события летом 1941 года пошли совсем по иному руслу.
В-пятых, кто так ловко организовал оборону (танковые засады, противотанковые препятствия)? Кто разгромил 5-ю и 21-ю мехбригады условного противника (по штатам каждая бригада имела около 200 танков – это полноценная германская дивизия)? Советские командиры и разгромили. Значит, в 1935-36 годах в Красной Армии были офицеры, знавшие как бороться с танковыми прорывами. Отсюда следующий вопрос: а куда подевалось это умение в 1941 году?
Ответ очевиден: тех, кто умел готовить маневры; тех, кто умел делать выводы из недочетов; тех, кто умел бороться с танками противника; тех, кто мог на основе опыта маневров подготовить армию к современной войне, безжалостно истребили. Погиб, кстати, и Седякин.
Зато после 1937 года началась лепота. Полководцы сталинского набора образцово проводили учения.
«Весной 1941 года прошли знаменитые учения войск Белорусского Особого военного округа под руководством С. К. Тимошенко. Мне довелось заниматься на них увязкой взаимодействия нашего корпуса с 6-м механизированным корпусом генерал-майора М.Г. Хацкилевича. Это соединение, укомплектованное танками KB и Т-34, показало себя с лучшей стороны. При разборе учений нарком высоко отозвался о слаженном взаимодействии танков и пехоты» (15. Иванов, с.38-39).
И куда, спрашивается, делась эта слаженность через два месяца? В самом начале войны 6-й мехкорпус будет наголову разбит всего за три дня боев, ни причинив ущерба германским войскам! Ну и что? Зато начальство удалось порадовать липовыми показателями в боевой и политической подготовке. А это, в отличие от мнения всяких там Седякиных, главное…
Г.К. Жукову в мемуарах оставалось констатировать: «Не соответствовал требованиям современной войны в ряде случаев и метод обучения войск. Принимая участие во многих полевых учениях, на маневрах и оперативно-стратегических играх, я не помню случая, чтобы наступающая сторона ставилась в тяжелые условия и не достигала бы поставленной цели. Когда же по ходу действия наступление не выполняло своей задачи, руководство учением обычно прибегало к искусственным мерам, облегчающим выполнение задачи наступающей стороны».
В итоге, к лету 1941 года Красная Армия превратилась в организм, не имеющий понятия, как воевать по-настоящему.
Тухачевский и «самая наступательная армия»
Тухачевский ратовал не просто за наступление. Как военный он прекрасно понимал ценность обороны и то, что лозунгом «ура, вперед!» войны не выигрываются. Он хотел создать «наступательную систему». Что это такое? Первым ее создала и испытала Германия в 1939-41 годах. Вермахт с удивительной и кажущейся легкостью, щелчком, сметал армию за армией. Успехами были поражены даже сами немецкие генералы. Но Тухачевский с Уборевичем и другими единомышленниками вели к этому Красную Армию осознанно, о чем писалось еще в 20-е годы. Откуда взялись поздние слова про «самую наступательную из наступательных армий», над которыми ныне принято либо насмехаться, либо приводить в качестве примера тупой агрессивности? Это призыв Тухачевского в период, когда Вермахта еще не было в проекте. Вермахт потом стал «самой наступательной из наступательных армий», но теорию такой военной силы первыми разработали именно Тухачевский с другими советскими теоретиками блицкрига. Он еще в 1920-е годы, когда СССР представлял собой полуаграрную, разоренную страну, ратовал за моторизацию армии и создание особо маневренной и пробивной силы. Как эта теория выглядела на практике и продемонстрировал Вермахт.
До сих историки удивляются тому, с какой легкостью не имеющие превосходства в вооружениях германские войска опрокинули англо-французскую, а попутно бельгийскую и голландскую армии. Причины ищут в неожиданном прорыве через Арденны, в создании танковых групп и т.п. Да, все так, но главное было в том, что Вермахт изначально создавался как «наступательная система», что позволило в самых неблагоприятных условиях захватить Норвегию и Крит без танков, пикировщиков и «Арденн». То есть во главу угла ставилось не просто наступление, как вид боевых действий, а формирование системы во всех ее компонентах, начиная от оружия и родов войск до культивирования в солдатах и офицерах наступательного духа. Каждый фельдфебель знал: обороной войны не выигрываются, а значит, надо готовить свое подразделение к тому, что приносит победу – атаке. На это была нацелена вся подготовка войск от рядового до штабов. Вот о чем толковал Тухачевский, говоря «о самой наступательной армии». Так оно в жизни и получилось. Германская и японская армии достигли больших успехов, но как только они перешли к стратегической обороне, начался закат их вооруженных сил. Точно также, как только Красная Армия обрела изначально культивируемый наступательный дух, и в дело вступили приготавливаемые с начала 30-х годов средства наступления, так оглушительные поражение обернулись громкими победами. И это касается не только великих держав. За счет чего выстояла Финляндия? За счет обороны? Мощные укрепление на Карельском перешейке были прорваны за три месяца, несмотря на тяжелейшие для атаковавших красноармейцев зимние условия. Зато финская армия прекрасно показала себя в наступлении, как в 1940, так и в 1941 годах. Этот задел позволил ей отстоять свою независимость.
Возможности «наступательной системы» относятся не только к армии, но и к государству в целом. Англия и Франция в 1930-е годы по отношению к Германии заняли оборонительную позицию, и вчистую проиграли Гитлеру политическую борьбу. Военная победа Германии стала лишь завершающим аккордом. Англию от окончательного разгрома спасла не ее армия, а пролив Ла-Манш.
Почему активная политика СССР в 1939-40 годы, принесшая ей большие успехи, вызывает столь острое неприятие у критиков? Ведь, казалось бы, прошло более семи десятилетий, а обличения столь эмоциональны, будто речь идет о вчерашних событиях? Потому что, обличая Советский Союз, тогдашнюю политику Кремля, метят в современную Россию. На примере «агрессивного Советского Союза» внушаются прелести пассивно-оборонительного существования. Ведь существует (точнее существовала) вероятность объединения с Белорусью, Приднестровской республикой, Абхазией, Южной Осетией… Далее везде? Страшно! Как тут не вспомнить события 1939-40 гг.? Идеал же – лениво раскинувшаяся на евразийских просторах, по пенсионному доживающая свой исторический срок Россия. Потому такое яростное неприятие вызывает фигура Тухачевского – «самого наступательного из наступательных» военачальников Красной Армии.
Ожидание войны
Была ли война внезапной для личного состава армии? Для кого как. Вот свидетельство А.А. Каменцева. Письмо подписано: «ветеран 6-й армии, г. Стрый Львовской области». Он писал известному советскому военному историку: «Как участник Великой Отечественной войны, испытавший трагедию 1941-1942 годов, не могу не сказать: так называемая «внезапность» войны – это ложь. 11-12 мая 1941 года на совещании в штабе 18-го мехкорпуса в г. Аккермане (теперь Белгород-Днестровский) было четко и ясно сказано: с 22 по 28 июня Германия начнет боевые действия. Против нашего Одесского округа стоят 11-я немецкая армия и 4-я румынская. Замполитам батальонов и полков это объявили сначала комкор-18 генерал П.В. Волох, а затем полковой комиссар И.А. Гаврилов.
В конце мая командир 44-й танковой дивизии полковник В.П. Крылов собрал в Тарутино (это местечко в тогдашней Измаильской области) совещание сержантского состава и отчетливо сказал: «С 22 по 28 июня начнется война. Против нашей дивизии на той стороне реки Прут стоит дивизия полковника Гофмана». Полковника Гофмана мы знали, так как с группой офицеров он был у нас в Тарутино на параде 7 ноября 1940 года. О какой внезапности можно говорить, если сержанты и лейтенанты почти точно знали о сроках нападения?» (44. Самсонов, с.84).
Итак, Сталин не знал – не ведал, а командование 18-го мехкорпуса прекрасно ориентировалось в обстановке. Странно как-то…
Да что гадать, в известном фильме «Если завтра война» (1938 г.), о котором написано так много чепухи, первые события показаны вполне точно. Вечер выходного дня в столице, гуляющая публика, в это время к границе подходят войска вторжения неназываемого государства, но со свастикой на бортах танков, и генерал на немецком языке отдает приказ: «По сигналу ракет мы уничтожим пограничные части красных и начнем наш великий марш на Москву. Да здравствует наша раса! За наши колонии на Востоке!».
Перевод дается субтитрами во весь экран. Не пропустишь. Чтобы даже самые недогадливые зрители поняли.
Фильм демонстрировался на территории всей страны. Чтоб ни для кого не была неожиданностью будущая война.
Заодно стоило бы его посмотреть и сторонникам версии о замышляемом Кремлем «освободительном походе» (фильм выложен в Интернете), ибо там озвучены лозунги будущей войны, а именно: «Да здравствует Советская Родина!», «Не отдадим ни пяди советской земли!», «Смерть фашизму!». Про мировую революцию – ни слова. И в своем выступлении перед солдатами Красной Армии, показанном в фильме, нарком обороны Ворошилов сказал четко: «Неоднократные наши заявления о том, что навязанная нам война будет происходить не на нашей советской земле, а на территории того, кто осмелится первым поднять меч – это заявление остается настоящим и неизменным».
Пропагандистский курс был четко ориентирован на защиту страны от будущей немецкой агрессии, и война уже тогда рассматривалась, как Отечественная. В фильме во время атаки боец колет врагов, приговаривая: «Вот тебе Украину! Вот тебе Белоруссию! Вот тебе Москау!» Про зарубежный пролетариат не вспомнил.
Но есть в фильме и про борьбу европейского пролетариата с фашизмом. Но без «руки Москвы». Так оно и произошло. Сильное партизанское движение в Албании, Югославии, Греции, Италии, Франции возглавили коммунисты без всякого понукания со стороны Коминтерна, а просто в силу активности этой политической силы. Хватало коммунистов в партизанском и подпольном движении Словакии и Польши.
В картине есть одно знаменательное предупреждение, которым при желании можно тыкать в глаза, как примером особой агрессивности СССР. Было повторено то, что неоднократно звучало с партийных трибун: «Если на СССР будет совершено нападение, то это станет концом капиталистической системы». Причем текст воспроизведен на экране большими буквами. Только это не призыв агрессии, а предупреждение. Так и получилось: Гитлер вместе с отступающими войсками притащил в Европу и в саму Германию коммунистов. Потом появились домыслы о том, что Кремль изначально планировал «освободительный поход». Чего планировать, если все заявлялось открыто: если вы на нас нападете, мы будем не просто отбиваться, а сделаем то, о чем мечтали Маркс и Энгельс. Все прагматично и честно. Это было честно как перед советским народом (ему открыто говорилось, что в случае нападения глухой обороной дело не ограничится, и заграничный поход Красной Армии неизбежен), так и перед западными державами. Точно также поступили и Соединенные Штаты. Когда на них напали, они начали освободительный поход в Европу и в Азию, установив в оккупированной Японии и Германии свою политическую и экономическую систему. Недаром бывший главнокомандующий американскими войсками Д. Эйзенхауэр назвал свои мемуары «Крестовый поход (!) в Европу». Никто не сомневался, что мировая война приведет к политическим изменениям в мире. А иначе зачем было проливать кровь? Неужели ради старых, обветшалых, доказавших свою неспособность решить проблемы, режимов?…
Гитлер, планируя уничтожить СССР, должен был понимать, что аналогично рискует похоронить свое государство. Что вопрос будет решаться «или-или». Он и сам об этом заявлял («Наша цель – уничтожение славянских государств»). Он на это пошел, так кого винить? Он и не винил Кремль, зато вместо него обличают «агрессивный Советский Союз» другие.
И про огромное количество советской техники, о которой так долго с нарочитым ужасом пишут «суворовцы», в фильме тоже сказано внятно. Провожая удивленным взглядом армады советских бомбардировщиков, пленный генерал восклицает: «Черт побери! Сколько же их?» На что советский командир в исполнении В. Санаева отвечает: «Сколько, сколько. Вы думали мы нищи, а у нас их тыщи». Так что особых секретов ни в кино, ни на парадах, ни в выступлениях первых лиц государства о серьезной подготовке к надвигающей войне в СССР не делали. Иностранные делегации посещали военные заводы. Гудериан в мемуарах описал свое впечатление о мощном танковом комбинате в Харькове. Да и в ходе боев в Испании, на Халхин-Голе, войне с Финляндией, перелетов в США через Северный полюс желающие могли убедиться – техники, в том числе самолетов, в Красной Армии хватает, и она весьма неплохого качества. Так что актер Санаев никакой тайны врагу не выдал. Другое дело, что зарубежные разведки и германское руководство не воспринимали это всерьез. Но это уже чужие проблемы.
Фильм «Если завтра война» заканчивается призывом: «Будь сегодня к походу готов!» Более чем внятный лозунг, никак не сопрягающийся с версией «внезапной войны». Ну, а то, что военные действия на границе развернулись прямо противоположным образом, виноваты, конечно, не авторы картины…
Кстати, несмотря на все дезинформационные мероприятия само германского командования по поводу внезапного нападения иллюзий не питало. Генерал К. Типпельскирх свидетельствовал:
«На стратегическую внезапность германское командование не могло рассчитывать. Самое большое, чего можно было достигнуть, – это сохранить в тайне срок наступления, чтобы тактическая внезапность облегчила вторжение на территорию противника» (53. Типпельскирх, с.240).
И это понятно: три миллиона солдат в кармане не спрячешь.
Курс на дезориентацию
В оправдание Сталина, прозевавшего начало войны, говорят, что, по-видимому, он надеялся на предварительный ультиматум Гитлера, после чего можно было завязать переговоры и т.п. Что за наивность? Это когда Гитлер выдвигал условия прежде, чем напасть? Какие переговоры велись с Норвегией, Данией, Нидерландами, Бельгией, Люксембургом, Югославией? Переговоры велись, пока не началась мировая война, дальше Гитлер действовал быстро и решительно. Так с чего вдруг он должен был давать время на приведение в боевую готовность Красной Армии? Неужели Сталин ничего не слышал о блицкриге? А какой мог быть блицкриг, если тянуть время? В 1914 году мобилизационный период был вызван переходом армии от мирного времени к военному. Но в 1941 году война в Европе длилась уже полтора года и мобилизация германской армии была давно проведена. Да, солдат отправляли в отпуска, переводили некоторые дивизии на сокращенные штаты, но отозвать солдат из отпуска в свои части было делом нескольких дней. Их не нужно было ни обучать, ни экипировать, не вводить в армейскую жизнь, а командирам знакомиться с новобранцами и проч. Военный механизм был уже слажен и готов к бою. Так о каком мобилизационном периоде могла идти речь? И Сталин, и начальник Генштаба, и нарком обороны обо всем этом были прекрасно осведомлены. Да и как иначе: вопросы внезапности были в центре внимания советской военной науки. И ее выводы усвоили практики. Г.К. Жуков в докладе на совещании высшего начальствующего состава в декабре 1940 г. говорил: «Внезапность является главным условием успеха… При равных силах и средствах победу обеспечит за собой та сторона, которая более искусна в управлении и создании условий внезапности в использовании этих сил и средств. Внезапность современной операции является одним из решающих факторов победы» (43. Русский архив: Великая Отечественная, т.12, с.144,151).
Мысль куда как понятна. Вот только с назначением начальника Генштаба это понимание «внезапного нападения» почему-то улетучилось. Ниже рассмотрим почему и как это произошло.
Сторонники версии о готовящемся превентивном ударе в 1941 году фактически пишут о мудрости Сталина, ведь в случае победы в 1941 году удалось бы спасти жизни не менее 20 миллионов советских граждан и миллионов людей в Европе. На три года сократилось бы время бедствий Второй мировой войны. Но был ли Сталин и вправду настолько мудр, что готовился первым атаковать Гитлера, сорвав его завоевательные планы, включая планы истребления значительной части славянского и еврейского населения европейской части СССР? Что-то не похоже. Он вооруженные силы готовил к чему-то иному. Складывается впечатление, что – …к разгрому.
Понятно, что такое заявление более чем рискованное. Поэтому давайте разбираться.
18 сентября 1940 года нарком обороны Тимошенко и начальник Генерального штаба Мерецков представили Сталину план сценария будущей войны с Германией и ее союзниками. В октябре 1940 года план с некоторыми поправками был утвержден. После чего началась конкретная работа по подготовке к будущей компании: были воссозданы механизированные корпуса, началось интенсивное строительство укрепрайонов на опасных участках границы, а также аэродромов, складов передового базирования, призванных с началом боевых действий обеспечить войска всем необходимым. В декабре 1940 года, а затем в январе 1940-го были проведены командно-штабные учения по отработке вариантов будущей войны. Были определены слабые места в обороне Красной Армии, уточнены направления главных ударов, как своих, так и противника. На противоположной стороне германское командование проводило аналогичные мероприятия. Все шло в правильном направлении – два гиганта готовились к решающей схватке, как вдруг…
Ох, это «вдруг» в российской истории. В 1605 году какой-то лихой самозванец вторгается в пределы русского государства. Его отряд обкладывают в Кромах. Голод делает положение осажденных безнадежным, как вдруг умирает царь Борис Годунов, и все рушится. В стране начинает семилетняя Смута – первая гражданская война в Русском государстве.
В 1762 году русские войска вместе с союзниками дожимают Фридриха II, и королю ничего не остается, как отдать Восточную Пруссию России, как вдруг умирает императрица Елизавета Петровна, и на престол всходит голштинский принц под именем Петра III. Первым делом он возвращает Восточную Пруссию. Семилетняя война заканчивается впустую, нулем. Позже за эту Восточную Пруссию – в 1914 и 1945 годах – положат жизни сотни тысяч русских солдат.
В 1917 году победа над Германией и Австро-Венгрии была близка, оставалось меньше года, как вдруг революция и новая Смута.
И вот 1941 год. Подготовка к неизбежной войне идет полным ходом. Впервые в новой истории страна явно будет готова к войне, и, учитывая превосходство в технике качественно и количественно, выиграет ее без привычных огромных потерь и обидных поражений. Как вдруг… Сталин начинает путать карты. Будто «умирает» прежний Сталин и рождается ипостась Горбачева с его фирменной путаной политикой и девизом: «Бейте нас, а я зажмурюсь».
«Новый» Сталин смещает Мерецкова и назначает никогда не работавшего на штабных должностях строевика Жукова. На дворе февраль 1941 года, а Жукову надо учиться работе генштабиста и вникать в сложнейший процесс подготовки к войне. Это тем более трудно, что штабная работа весьма специфична и кардинально отличается от строевой, тем, наверное, и был интересен для Сталина Жуков? Но можно дать совершенно иную трактовку. Жуков назначается в преддверии войны, как более напористый и опытный человек. У наркома обороны масса хозяйственных дел, а начальник Генштаба может сосредоточиться на планирование будущих операций. Эта версия имела бы значение, если бы не опровергалась фактами.
В середине мая 1941 года на стол Сталину ложится проект директивы, нового начальника Генштаба Жукова. В ней утверждается, что Германия начала переход к часу Икс. Что на границе полным ходом идет развертывание войск Вермахта, но еще есть возможность ударить первыми, чтобы не пустить врага на территорию СССР.
Замысел понятен: часть войск противника задействована на Балканах: идут бои в Югославии и Греции. Английские войска тоже воюют в Греции. Если ударить сейчас, то они вероятнее всего зацепятся там и образуют фронт, как это было в 1915 году (т.н. Салоникский фронт). А значит, будут оттягивать часть немецких дивизий на себя. В ином случае те появятся на советской границе.
И тут происходит неожиданное. Сталин не просто отклоняет предложение Тимошенко-Жукова о подготовке к наступлению. Если бы запрет этим ограничился, ничего страшного не произошло. Политику виднее, когда встревать в драку. Рано так рано. Но Сталин фактически запрещает готовиться к обороне! А это уже катастрофа. И это единственная реальная причина будущего разгрома.
Нет, Сталин не запрещает продолжать строить УРЫ, которые все равно не успеть достроить. Не запрещает готовить бетонные полосы на аэродромах с тем же результатом. Не запрещает подтягивать дивизии из Забайкалья и Северного Кавказа, но по графику, исключающему возможность успеть им к началу войны. Зато войскам запрещается занимать укрепрайоны. Войскам запрещено строить полевые укрепления, проще говоря, пехоте не дозволено зарыться в землю. Войска должны, как в мирное время, отослать артиллерию на учебные полигоны, и остаться без мощного оружия. И никакой форсированной подготовки летчиков и танкистов!
К оборонительным мероприятиям относилось бы оттягивание самолетов с приграничных аэродромов вглубь территории страны, особенно тех, что находились в несколько десятков километров от границы. Вместо этого Жукову с Тимошенко было разъяснено: нападения Германии ждать не следует. И пугать ее тоже, ибо, как сейчас говорят: «все под контролем». И маршалу с генералом ничего не оставалось делать, как откозырять вождю. Он же гений, ему виднее.
Кстати, о полигонах, куда стали отзывать артиллерию. «Суворовцы» совершили очередное открытие: оказывается, артиллерию на полигоны угнали опять же с агрессивными целями.
«…некоторые советские генералы-мемуаристы жаловались, что орудия их соединений во второй половине июня неожиданно приказали отправить на приграничные полигоны (Львовский, Повурский, Брестский и пр.) для проведения каких-то «опытных» учений и стрельб… Соглашаясь с В. Суворовым, я уже писал о том, что именно в этой заблаговременной концентрации огневой мощи для проведения грандиозной по своим масштабам артподготовки кроется секрет так называемых «полигонных стрельб»…» (31. Мелехов, с.302, 303).
И то: зачем войскам пушки? Начнут стрелять туда-сюда, не пойми куда. Лучше собрать их подальше от полков, а оттуда концентрированно как жахнуть в сторону границы… Ох, и хитер был товарищ Сталин со своими соратниками! И не надо задавать вопросы, на каком расстоянии располагались эти полигоны от границы – в досягаемости ли чужая территория, и куда лягут снаряды? Главное – подверстать факт под версию…
Наверное, хитрость крылась также и в том, что механизированным корпусам в Московском военном округе (7-й мк) и другим, находящимся далеко от границы (1-му – в районе Пскова, 9-му, 19–му и 24-му – в Киевском военном округе), не дали подтянуться ближе к границе и они вступали в бой разрозненно и с марша.
Бывший начальник оперативного отдела штаба Киевского округа И.Х. Баграмян в мемуарах писал: «Не следует забывать, что если главные силы 15-го и 22-го мехкорпусов могли вступить в сражение не раньше второго дня войны, то соединения 9-го и 19-го мехкорпусов в лучшем случае успевали выйти к границе через четверо суток» (3. Баграмян, с.101).
Идеальный вариант для перемалывания войск по частям: одни попадают в бой в первый день, другие – на второй, последующие – на четвертый-пятый день и так далее. Правда, в такой дислокации можно узреть глубокий замысел: у командования под рукой резервы конвейером… Так, впрочем, и получилось: командование Юго-Западного фронта бросало в бой войска под «таранные массы» противника, как на конвейере, пока не был перемолот весь фронт. Если это и планировалось, то получилось очень скверно. Или наоборот, очень удачно!…
А еще шла переброска дивизий из внутренних округов. Их перебрасывали в районы, далеко отстоящие от границы, поэтому затем их стали называть «вторым стратегическим эшелоном», потому что помочь отразить «внезапное нападение» они не могли. Получилась стратегия то ли обороны, то ли нападения, то ли еще чего-то. Каждый волен трактовать в зависимости от веры в ту или иную версию событий. По нашему же мнению, войска строились в порядки, названия которым в военной теории нет. А если определять такой порядок, то как «расположение войск под внезапное нападение противника». И каждый может сыграть в такую «оперативную» игру, взяв шашки. Называется она «поддавки».
И даже правильные мероприятия удавалось сделать какими-то расплывчатыми, имитационными.
В апреле-мае 1941 года под предлогом весенних сборов на военную службу было призвано более 700 тысяч военнообязанных. Это было своевременным шагом. Понятно же, что немецкие соединения, следующие через Германию и Австрию к советской границе, как губка впитывают людей и технику и прибывают к месту назначению полностью отмобилизованными. А дивизии, воюющие на Балканах, тем более отмобилизованы. Это значит, что никакого периода раскачки не будет. Вермахт будет полностью готовым в первый же день войны. Значит, надо быстро довести приграничные части до штатного (военного) уровня. Начало скрытой мобилизации (а призыв «на сборы» был именно мобилизацией) давало возможность закончить приведение дивизий приграничных округов в полностью боеспособное состояние к концу мая. Давало, но не дало! Комплектование приграничных дивизий шло с большой задержкой до самой войны, когда времени на обучение призывников, их притирку в подразделениях не оставалось. В сущности, кадровые части разбавлялись «пушечным мясом», чего почти не было в германской армии. Поэтому германская пехота и танкисты оказались на голову выше красноармейцев.
В итоге получилось самое страшное – Красная Армия оказалась в межеумочной ситуации, не готовой ни к обороне, ни к наступлению, в положении «ни войны, ни мира».
С легкой руки В. Суворова, сочно, в романном стиле описавшем «сокрушительный удар Красной Армии», если бы она, а не Вермахт нанес первый удар летом 1941 года, появились домыслы на тему: если бы, да кабы оно бы тогда бы. Вышел даже специальный сборник «Первый удар Сталина» (2010 г.), где историки – А. Исаев, М. Мельтюхов, В. Суворов и др. в жанре исторической фантастики обсуждали вопрос: что было бы, если бы это было? Разброс мнений, разумеется, представлен на любой вкус от: если бы Сталин ударил первым, то через несколько недель Красная Армия была бы в Берлине, до – если бы Сталин ударил первым, то через пару месяцев Вермахт был бы под Москвой. Идеальным вариантом было бы написание компьютерной игры, в которой скрупулезно бы воссоздавалось соотношение сторон. Тогда любой индивидуум мог бы проиграть возможные варианты наступления. Наверняка, в ходе игры выявилось бы масса интереснейших нюансов. Всё так. Однако у этой игры, как и у любых описаний по поводу «первого удара Сталина» (и вообще любого другого правителя), есть (и будет) один решающий недостаток: все эти выкладки основаны на логике играющего, да еще исходя из принципа оптимальности. Каждый аналитик невольно исходит из положения «если бы я был на месте Сталина», «если бы я был на месте Жукова» и т.д., к тому же зная, чем закончились обсуждаемые события, а также располагая подробными данными о противнике. При этом они не берут в расчет возможные негаданные последствия их действий. Это как Наполеон, посчитавший, что достаточно разбить в генеральном сражении русскую армию, взять Москву и кампания будет выиграна. А оказалось, что генеральное сражение свилось к ничьей, а взятие Москвы не заставило царя идти на мирные переговоры. Так и со взятием Берлина в 1941 году. Предположим, Красная Армия прорвалась и даже овладела бы столицей рейха. Но что если подошедшие германские дивизии в ответном контрнаступлении, нанесли им поражение и погнали назад, как это было под Варшавой в 1920 году? А что если Япония решила бы выполнить свои союзнические обязательства и ее армия пришла на помощь Германии? А вдруг напуганный успехами СССР британский правящий класс решил бы заключить мир с Германией, чтобы дать ей возможность отстоять Европу от большевиков?
Подобных не запланированных вариантов любители исторической фантастики не предусматривают, хотя они, фактически считают себя провидцами в истории. Однако никому еще не удалось предвидеть будущее, даже астрологам, а политикам точно просчитать исторические варианты и последствия своих действий. История России последних десятилетий тому пример и назидание. Но главное, альтернативщики исходят из типа мышления реальных исторических персонажей, отталкиваясь от принципа оптимальности. Но, спрашивается, многим ли правителям удалось проводить оптимальную политику? А понять логику Сталина накануне войны практически невозможно. Точно так же трудно понять ход мышления Гитлера, пускавшегося с 1936 года в одну авантюру за другой, постоянно блефовавшего, и постоянно выигрывавшего, пока он не заигрался. Но это мы сейчас знаем, где, когда и в чем заигрался Гитлер, в чем кардинально ошибался Сталин, и как надо было действовать начальнику Генерального штаба Жукову. В тот же период игра в политико-стратегический покер носила сугубо вероятностный характер. Игроки не знали козырей друг друга и делали ходы на основе своей психологии, о которой нам, даже с учетом огромного массива информации, известно далеко не все, чтобы сейчас уверенно играть за них. В этом методологический порок любых попыток сочинить «альтернативные варианты истории». Историю творят конкретные люди в условиях дефицита информации, потому поступают далеко не самым оптимальным образом. А альтернативщики невольно тяготеют к оптимальности.
