Читать онлайн Семнадцать мгновений любви. Романтические истории внуков Пушкина бесплатно
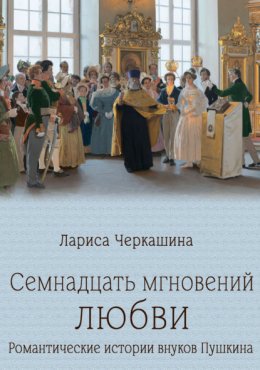
© Черкашина Л.А., 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2024
Пролог
«И наши внуки»
Сколь часто думал Александр Сергеевич о будущих внуках, их судьбах – «жизненных браздах». Но более всего желал, чтобы память о нём и само его светлое, ничем не омрачённое имя осталось в памяти потомков – неведомых ему внуков и правнуков. Вот уж поистине: «Сердце в будущем живёт…»
Не столь много поэтических строк посвящено таинственным для Пушкина внукам. Но зато какие это строки, – затверженные наизусть поколениями его поклонников! Вспомнить хотя бы философское «Вновь я посетил…», – стихи-исповедь, стихи-раздумье:
- Здравствуй, племя
- Младое, незнакомое! не я
- Увижу твой могучий поздний возраст…
В наследии поэта есть, пожалуй, самое пронзительное, самое потаённое обращение к будущим внукам. Да, оно хорошо известно и часто цитируется, но вырванное из контекста несёт менее глубинный и сокровенный смысл. Вот как звучит пушкинская мысль в целостном своём виде: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие. “Государственное правило, – говорит Карамзин, – ставит уважение к предкам в достоинство гражданину образованному”. Греки в самом своём унижении помнили славное происхождение своё и тем самым уже были достойны своего освобождения. Может ли быть пороком в частном человеке то, что почитается добродетелью в целом народе? Предрассудок сей, утверждённый демократической завистию некоторых философов, служит только к распространению низкого эгоизма. Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя, нами им переданное, не есть ли благороднейшая надежда человеческого сердца?»
И далее – строчка на французском: «Mes arrière-neveux me devront cet ombrage», что в переводе звучит как: «Мои правнуки будут мне обязаны этой сенью». Бесспорно, сенью мощного родословного древа!
Что ж, надежда пушкинского сердца сбылась – внуки поэта да и правнуки, повзрослев, боготворили своего великого деда. Да и сами они были «уважены» за лучезарное имя, что вместе с генами родства перешло к ним по наследству. Это-то Пушкин сумел предугадать задолго до их появления на белый свет. Но вот чего он при всей гениальной прозорливости не мог предвидеть, – это линии судеб своих наследников. Зато их знаем мы.
Какие-то отголоски страхов за будущность незнаемых наследников угадываются в пушкинских творениях. В «Езерском», размышляя о падении старых аристократических родов, к коим причислялись и Пушкины, поэт сетует:
- Что исторические звуки
- Нам стали чужды, хоть спроста
- Из бар мы лезем в tiers-état[1],
- Хоть нищи будут наши внуки,
- И что спасибо нам за то
- Не скажет, кажется, никто.
Не случайно и его обращение к Булгарину, именованному «шутом Фигляриным», автору фельетонов в «Северной пчеле», по сути, – злобных нападок на предков поэта, памятью и честью коих Пушкин дорожил. Но и грядущие времена таят скрытую тревогу – каково-то в них будет жить его внукам?!
- Хоть нищи будут наши внуки…
Строчка, явно рождённая боязнью за будущность наследников. Призрак нищеты, либо близкой «подружки» – безденежья, частенько витал над кудрявой головой поэта, наполняя её горестным мысленным роем…
По счастью, Пушкину не довелось знать, что его внукам, жизнь коих выпадет на слом великих эпох, придётся испытать и бедность, и нищету, да и познать, пожалуй, большее из зол – изгнание. Правда, добровольное, именуемое эмиграцией, но отнюдь не менее болезненное. Не всем, однако. Так уж случилось, что иным внукам поэта отечеством стала Германия либо Швейцария.
Другие строки, словно отражение подспудных страхов Пушкина за неведомых внуков, – каковы-то они будут, не помрачат ли жизнью своей его имя?!
- Дук это чувствовал в душе своей незлобной
- И часто сетовал. Сам ясно видел он,
- Что хуже дедушек с дня на день были внуки…
Критика встретила новую поэму «Анджело» почти враждебно, уверяя об явном угасании пушкинского гения. На что Александр Сергеевич не без горечи заметил: «Наши критики не обратили внимания на эту пьесу и думают, что это одно из слабых моих сочинений, тогда как ничего лучшего я не писал». И ныне «Анджело» вспоминают, увы, не часто, как и сокрытые в ней раздумья и чаяния поэта.
…Когда-то, давным-давно трудясь над «Евгением Онегиным», Пушкин набросал на листе и эти строфы:
- Увы! на жизненных браздах
- Мгновенной жатвой поколенья,
- По тайной воле провиденья,
Александр Пушкин. Неизвестный художник. Царское Село. 1831 г.
- Восходят, зреют и падут;
- Другие им вослед идут…
- Так наше ветреное племя
- Растёт, волнуется, кипит
- И к гробу прадедов теснит.
- Придёт, придёт и наше время,
- И наши внуки в добрый час
- Из мира вытеснят и нас!
Знакомые стихи легли на бумажный лист в Одессе, – именно там приступил Пушкин ко второй главе «Онегина». Почти каждый день, а стоял жаркий июль 1823 года, он совершал свой любимый ритуал – после морского купания пил турецкий кофе в кофейне Пфейфера.
В августе того же года, будучи уже на службе в канцелярии новороссийского генерал-губернатора графа Михаила Семёновича Воронцова, поэт поселился в гостинице в доме Рено, близ театра, на углу Ришельевской и Дерибасовской. Пушкин, достойный представитель «ветреного племени», живёт в Одессе, где «долго ясны небеса», наслаждаясь всеми удовольствиями южного черноморского города…
- Там всё Европой дышит, веет,
- Всё блещет югом и пестреет
- Разнообразностью живой.
И он влюблён. То предметом воздыханий поэта становится «младая негоциантка» Амалия Ризнич, то роковая красавица-полька Каролина Собаньская занимает тайные мечтания Пушкина или полная светского шарма графиня Елизавета Воронцова возводится им на романтический пьедестал…
Промелькнула в занятиях и любовных страстях тёплая одесская осень, в октябре завершена, начатая ещё в мае, в Кишинёве, первая глава романа. А один из декабрьских дней обратился днём рождения новой онегинской главы! Итак, вторая глава, с пометой «писано в 1823 году», увидела свет в октябре 1826‐го, став достоянием благосклонных читателей, с нетерпением ожидавших продолжения романа. Захватывающий сериал начала девятнадцатого века!
Поэт, молодой человек двадцати четырёх лет от роду, полный сил и надежд, вовсе не помышляет о женитьбе. А уж тем более о внуках! Но он, будто вступая в спор с непреложными законами бытия, думает о них, ждёт их появления на белый свет, и уже… любит.
Да, как бы подгоняя вяло текущую жизнь, Пушкин торопит её и всё уж словно знает наперёд. Но и свой грядущий уход в мир иной облекает спасительным словом – «в добрый час»! Его не будет на милой земле, но жизнь-то не закончится, – внуки подхватят её и будут счастливы. Да и его, давшего им жизнь, помянут добром. А ведь всё так и случилось.
Все внуки, – а их было семнадцать, достигших зрелых лет, – достойно хранили не только великое имя деда, но и его рукописи, библиотеку, памятные вещицы, фамильные реликвии. Вот он, по сути, первый, созданный вначале детьми поэта, а затем и внуками Пушкинский Дом! Или Дом Пушкиных по аналогии с названием царского Дома Романовых.
- Но пусть мой внук
- Услышит ваш приветный шум, когда,
- С приятельской беседы возвращаясь,
- Весёлых и приятных мыслей полон,
- Пройдёт он мимо вас во мраке ночи
- И обо мне вспомянет.
В минувшем, совсем недавнем двадцатом веке завершились земные пути внуков поэта. Последний из них – Николай Александрович Пушкин – покинул мир в 1964 году.
Миновало уж и поколенье правнуков. Здесь печальная пальма первенства отдана правнучке поэта Наталье Мезенцовой, – её, увидевшую свет в начале 1900‐х, воистину свидетельницу века, не стало в марте 1999‐го, пушкинского года. Правнук поэта Григорий Пушкин, носитель родовой фамилии, ушёл из жизни чуть ранее – в октябре 1997‐го. Оба они, двоюродные брат и сестра, мечтали дожить до двухсотлетнего юбилея великого прадеда. Не судьба…
Но здравствуют их потомки, а значит – и далёкие наследники поэта.
Однако наш рассказ о тех, кто имел полное права называть Александра Сергеевича дедом, или ласково, по-домашнему, дедушкой. Впрочем, в семейном кругу они так и величали славного поэта, и, думается, Пушкин был бы тому весьма рад и хохотал от счастья своим заразительно-заливистым смехом!
Часть I
Наследники любимца Сашки
Наташа Пушкина, и её тропинка в Беларусь
Да будет жребий твой прекрасен!
Александр Пушкин
Дни юности
Санкт-Петербург, август 1859 года. В семействе Александра и Софьи Пушкиных огромная радость – явилась на свет крошечная Таша, первенец молодой четы. А вслед за нею известили мир о своём рождении ещё десять братьев и сестёр Пушкиных!
К рождению внучки, наречённой в её честь, Наталия Николаевна, к тому времени Ланская, связала гарусное одеяльце, чудом уцелевшее и поныне (многие годы семейная реликвия, бережно хранимая, передавалась из поколения в поколение), да ещё подарила маленькой тёзке детскую кроватку из красного дерева с кисейным пологом.
И хотя к тому времени у неё уже были внук и внучка, представить божественную Натали в облике бабушки – задача сверхсложная. Но бабушкой, равно как женой и матерью, она слыла замечательной. Правда, жизни было отмерено пушкинской Мадонне совсем немного, – видно, природа не смогла допустить увядания одного из самых совершенных своих творений.
Не даровано Александру Сергеевичу утешиться рождением внучки…
- Младенца ль милого ласкаю,
- Уже я думаю: прости!
- Тебе я место уступаю…
А ведь в том году Пушкину сравнялось бы ровно шестьдесят! Дожить до сих почтенных лет некогда мечталось поэту, и желанный тот возраст он означил в одном из писем к жене. «Хорошо, коли проживу я лет ещё 25…» – пишет ей Пушкин летом 1834 года. (Нетрудно подсчитать, что речь идёт о 1859‐м, юбилейном для Пушкина!) В конце же послания просит свою Натали: «Поцелуй детей и благослови их за меня». Так что благословение поэта незримо коснулось и его будущей внучки.
…Таше шёл пятый год, когда бабушка Наталия Николаевна покинула земной мир. Её маленькая тёзка – Наташа Пушкина росла в семье, где царила взаимная любовь детей и взрослых. От всех братьев и сестёр она с детства отличалась серьёзностью, волевым характером и недюжинными дарованиями.
Первоначально обучалась дома, позже настали годы ученичества в Виленской гимназии. Там увлеклась историей, постижением языков – овладела французским, английским, немецким. Восхищалась пушкинской поэзией, зачитывалась романами Тургенева и Достоевского.
Александр Пушкин, старший сын поэта. Фотография. Конец 1850‐х – начало 1860‐х гг.
Софья Пушкина, урождённая Ланская. Вильна. Фотография. 1869 г.
- О юность лёгкая моя!
- Благодарю за наслажденья,
- За грусть, за милые мученья…
В юности, одно время, Наташе Пушкиной довелось жить в Москве у Петрово-Солововых, дальней своей родни. И часто бывать в гостях, на домашних вечерах, в родственной ей семье Сухово-Кобылиных. Хозяин дома Александр Васильевич Сухово-Кобылин, человек разносторонних дарований, – философ, переводчик и драматург, снискавший признание своей пьесой «Свадьба Кречинского», что с аншлагом шла тогда в Малом театре.
Знакома была Наташа и с родной сестрой драматурга Елизаветой Васильевной, известной под псевдонимом Евгении Тур, – писательницей, переводчицей, хозяйкой модного литературного салона. У Сухово-Кобылиных собирался весь цвет столичной интеллигенции, и юная Пушкина не могла не слышать любопытных суждений об актёрской игре либо смелых живописных стилях, жарких споров о литературных новинках. Верно, близость к тогдашней московской богеме и сказалась в дальнейшем на вкусах и пристрастиях внучки поэта.
Таша, так её звали близкие, отличалась яркими талантами: прекрасно рисовала (сохранились её романтические пейзажи), пела народные песни и даже писала стихи. И хотя помнила, как и все дети в семье, давнишний наказ своего великого деда – никогда не заниматься стихотворчеством, стихи всё же украдкой писала…
Да и отец не поощрял тех увлечений дочерей и сыновей, говоря им: «Славы себе не создашь. Можешь лишь попасть в неловкое положение. Свои силы, свои таланты, у кого они есть, применяйте на каком-нибудь другом поприще».
Некоторые из поэтических опытов Наташи Пушкиной всё же уцелели:
- Город древний, город славный,
- Город слишком православный,
- Где купцы чаи лишь пьют
- И с закатом спать идут.
- Сон – души успокоенье.
- Сон – отрада бедняка…
- Гурт – желанное виденье
- Для козловского купца.
- Пусть же снится им до века
- Кожа, сало и гурты.
- Вид живого человека
- Лишь встревожит эти сны.
Иронические те строчки обращены к уездному Козлову тогдашней Тамбовской губернии, где с апреля 1879‐го квартировал Нарвский гусарский полк. К слову, в Козлове (нынешнем Мичуринске) в то время сберегался и богатейший пушкинский архив, – рукописи и письма Александра Сергеевича оказались там вместе с их хранителем, старшим сыном поэта.
А вот и сама двадцатилетняя Таша, очутившись в новом городе, делится первыми впечатлениями с тётушкой Гончаровой из Яропольца: «Мы приехали в достославный г. Козлов 11‐го утром в воскресенье, поселились в очень хорошей квартирке, очень весёлой: и солнце, и месяц светятся прямо в окна залы, и облик гостиных, от которых зала отделена двумя колоннами с каждой стороны… Маша очень веселится… завтра едет с тётей Машей (Марией Гартунг. – Л.Ч.) делать знакомства…»
Правда, особого труда для молоденьких барышень Пушкиных «делать знакомства» не составляло, – ведь дом их всегда был полон поклонников, бравых гусаров, уже отличившихся в победной Балканской кампании. Многие из них, служившие в полку отца, были знакомы Таше и Марии с детских лет, когда вся их большая семья жила в белорусском Новогрудке. Там, в Минской губернии, в конце шестидесятых и был расквартирован 13‐й гусарский Нарвский полк. А уже в июне 1870‐го командиром этого прославленного и старейшего полка Российской императорской армии становится Александр Пушкин.
В старинном Новогрудке «полк вполне был вознаграждён за неудобства минувшей жизни, – полагал военный историк Тихановский. – Некогда столичный город Великого княжества Литовского удовлетворял самым требовательным вкусам; полк зажил припеваючи, а назначение командиром полковника Александра Александровича Пушкина дополнило один из счастливейших периодов полковой жизни». А в полковой летописи появились новые образные строки: «Сын известного поэта, именем которого гордится Россия, полковник Пушкин являл собой идеал командира-джентльмена, стоящего во главе старинного полка».
Так что впервые в Беларуси Таша Пушкина, в будущем прародительница «белорусской ветви», волею судеб очутилась ещё в детстве.
На Белой Руси
Есть в пушкинском наследии одна яркая строчка: «Народ, издревле нам родной», – словно гениально выведенная поэтом формула кровного и духовного родства русских и белорусов!
Корни фамильного древа, связующие поэта с Беларусью, берут своё начало в древнем Полоцке. Пушкин лишь однажды, да и то проездом, миновал его. Но название этого старинного города, основанного в IX столетии по велению князя Рюрика, не единожды встречается на страницах пушкинских рукописей. Городом Гориславы, полоцкой княжны Рогнеды, наречённой так за свою несчастливую судьбу, именовали Полоцк. Летопись сохранила печальную историю сватовства князя Владимира Красное Солнышко к гордой красавице Рогнеде и горькое её замужество…
Известно было то древнее сказание и Пушкину. Но не дано было знать поэту, что и полоцкая княжна Рогнеда, и великий киевский князь Владимир, некогда покоривший Полоцк и силой взявший в жены полюбившуюся ему красавицу, и их далёкая праправнучка княжна Александра Брячиславна, ставшая супругой князя Александра Невского, сопряжены с ним – Александром Пушкиным – кровными узами родства.
«Старожитный» Полоцк связан с именем ещё одного прародителя поэта, давшего ему свою знойную африканскую кровь, – Абрама Петровича Ганнибала. Правда, упоминаний о его пребывании в этом белорусском городе нет ни в одном из бесчисленных трудов, посвящённых необыкновенной, полной взлётов и падений судьбе «царского арапа»… Всё же беру на себя смелость утверждать, что маленький арапчонок, носивший в то время имя Ибрагим, был в Полоцке вместе со своим царственным покровителем Петром I, и знай о том Пушкин, дороживший мельчайшими подробностями о своём темнокожем прадеде, не преминул бы он сделать остановку в сем славном городе.
Исторический край соединён не только с предками, но и с потомками Александра Сергеевича. И родословную «тропинку» на Белую Русь проложила его внучка Наташа Пушкина.
Наталия Пушкина, внучка поэта. Москва. Фотография. 1870‐е гг.
На раскидистом фамильном древе взросла «белорусская ветвь», дав молодые сильные побеги. Явились и новые пушкинские адреса, точнее, адреса никогда не виданных поэтом его внуков и правнуков: это – Новогрудок, Бобруйск, Вавуличи, Телуша и старая усадьба Юголин, что под Барановичами.
Невеста Пушкина и жених Воронцов-Вельяминов
Из белорусского Новогрудка Нарвский полк переведён в Вильну, – туда же следом перебралось и семейство полковника Пушкина. Именно там, в Вильне, в августе 1874‐го, вся семья собралась за большим столом, – поднять бокалы за счастье пятнадцатилетней Таши. Среди гостей Пушкиных мог быть и гусарский штаб-ротмистр Павел Воронцов-Вельяминов, служивший под началом отца именинницы.
Но вот когда вспыхнула та искра любви меж ним и юной Ташей? Кто может ныне сказать… Взрослела барышня Пушкина, разгорались и события на любовном фронте. И наконец-таки достигли своего апогея – Таша помолвлена с Воронцовым-Вельяминовым!
«Таша была у нас здесь со своим женихом, – тётушка Анна Васильчикова из Лопасни сообщает сестре наиважнейшую новость. – Он нам всем понравился… во-первых (я такое мнение слышала), он не говорит по-французски, потом он должен быть очень благоразумным, не желает жить выше своих средств… Потом он очень религиозен и не скрывает этого; очень строгих воззрений насчёт супружеской жизни и обязанностей; кокетства очень не любит – ну а этим Таша грешит не очень!»
Так что всей родне, – и Пушкиным, и Гончаровым, и Васильчиковым, – Наташин жених пришёлся по душе. Не мог не понравиться он, блестящий офицер, снискавший отзыв, как «человека чести с прямым характером». Да и в ратном деле Воронцов-Вельяминов явил себя достойно – за храбрость в баталиях с турками награждён именной серебряной саблей.
Чувство меж молодыми людьми почиталось ответным, – вскоре сыграли свадьбу. В тот знаменательный день – 25 января 1881 года – породнились замечательные в русской истории фамилии: Пушкины и Воронцовы-Вельяминовы.
Хотя славное это родство случилось много-много ранее! И вот тому историческое подтверждение. По родословным книгам, прародитель Вельяминовых, знатный варяг Симон Африканович, прибыл на Русь при Ярославе Мудром; сын его Юрий Симонович служил боярином у Всеволода I Ярославича, великого князя киевского. Фамильные росписи показывают, что от Юрия Симоновича пошли: сын Иван, внук Фёдор и правнук Протасий, – боярин великого князя Ивана Даниловича Калиты.
В свою очередь, у боярина Протасия Фёдоровича был внук Василий Вениаминович, по прозвищу Взолмень, – тысяцкий у великого князя Симеона Гордого. От Василия Взолменя к поэту Александру Пушкину, дальнему его потомку, и тянется из четырнадцатого века в девятнадцатый родственная нить. Василий Вениаминович имел четверых сыновей и дочь Александру. Старший из сыновей, Василий Васильевич, служил тысяцким, – предводителем военного ополчения, – уже у великого князя Дмитрия Донского.
Павел Воронцов-Вельяминов, жених Таши Пушкиной. Фотография. Начало 1880‐х гг.
- В разрядных книгах и в преданьях
- Блестят Езерских имена…
В тех пушкинских строках легко заменить вымышленных Езерских на реальных Вельяминовых, а позднее и – Воронцовых-Вельяминовых. Правда, в ущерб рифме…
Сам же Василий Вельяминов был близок к великому князю как по своему положению, так и по родству: родная сестра Александра стала женой Ивана II Красного и матерью Дмитрия Донского. Так что Василий Вельяминов приходился родным дядей князю Дмитрию Донскому.
Василий Вельяминов, последний тысяцкий в истории Руси, имел четверых сыновей: Ивана, Николая (Микула, как его именуют в летописи), Полуекта и Тимофея. После смерти отца высокую ту должность возмечтал получить старший сын – Иван. Однако надеждам Ивана не суждено было сбыться: в заветном месте ему отказали. С тяжкой обидой на сердце отъехал он к соперничавшему с Дмитрием Донским его двоюродному брату, великому князю тверскому Михаилу Александровичу. С тех пор не скрывал Иван Васильевич своей враждебности к Дмитрию Донскому ни в помыслах, ни в поступках; и в Твери, и в Орде стремился поболее досадить недругу. Когда до Дмитрия Донского донеслась весть, что Иван Вельяминов схвачен в Серпухове, он приказал казнить того как изменника. Княжеский приказ исполнен был в августе 1379 года: в Москве, на Кучковом поле, Ивану отрубили голову.
То была первая публичная казнь в истории Руси. После уж не будет страшная казнь редкостью, – многие русские головы слетят с плеч в царствования Ивана Грозного и Петра Великого. «Не казнь страшна: пращур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал святынею своей совести…» – слова эти поэт вложил в уста одного из героев «Капитанской дочки».
Родной брат казнённого Ивана, Николай (Микула) Васильевич, боярин Дмитрия Донского, геройски погиб в сражении на Куликовом поле 8 сентября 1380 года. Командир Коломенского полка Николай Вельяминов в битве против полчищ Мамая явил пример беззаветной храбрости и отваги – его имя вписано в синодик московского Успенского собора на вечное поминание.
Будто бы к нему, героическому пращуру, обращены эти пушкинские строки:
- Зато со славой, хоть с уроном,
- Другой Езерский, Елизар,
- Упился кровию татар,
- Между Непрядвою и Доном,
- Ударя с тыла в табор их
- С дружиной суздалъцев своих.
Вот они – прямые предки Александра Пушкина в 15‐м колене – Николай Васильевич Вельяминов, герой Куликовской битвы, и его жена Мария. А следовательно, достославные супруги, давшие ветвь фамильного древа – прародители и внучки поэта!
Ну а в царствование Михаила Фёдоровича наследники древнего рода стали писаться уже Воронцовыми-Вельяминовыми. Знатная фамилия после венчания Таши Пушкиной стала не только её достоянием, но и – детей, внуков, правнуков…
Итак, в начале января 1881‐го невеста Таша Пушкина, в скором будущем Воронцова-Вельяминова, спешит сообщить радостную весть в Михайловское, дядюшке Григорию Александровичу: «Вы, вероятно, уже знаете через других: я выхожу замуж… Милый дядя, приезжайте, пожалуйста, на мою свадьбу… Вы знаете, что Вы из всех дядей мой любимый, и я даже представить себе не могу, как бы я без Вас стала венчаться. Свадьба наша 25‐го в Рязани, и после на эту зиму я переселяюсь в Козлов… Искренне Вас любящая племянница Таша Пушкина».
- …Пора! Введи в свои чертоги
- Жену-красавицу – и боги
- Ваш брак благословят.
Где свершилось то таинство венчания? И по сей день тайна. Всё же, думается, выбор пал на старинный и красивейший в Рязани собор – кафедральный Христорождественский, славившийся богатым убранством. Возможно, под этими древними церковными сводами священник провозгласил те самые «невозвратимые слова»: «Венчается раба Божья Наталья рабу Божьему Павлу…»; благословил и трижды обвёл молодых вокруг аналоя.
Наталия Пушкина, юная невеста. Фотография. Начало 1880‐х гг.
После свадьбы супруги, как и полагала Таша, обосновались в Козлове. Но ненадолго. Вскоре Павел Аркадьевич подал в отставку, и чета Воронцовых-Вельяминовых покинула уездный город, держа путь в Бобруйскую губернию, в родовое имение Вавуличи.
Жена и мать
В белорусских Вавуличах и суждено было Наталье Александровне прожить долгие годы. Там появились на свет её дети: Мария, Софья, Михаил, Феодосий, Вера. Лишь сын-первенец Григорий, наречённый в честь любимого дядюшки, родился в Козлове, где и умер в младенчестве.
…Не могли не радовать материнское сердце Натальи Александровны дочери и сыновья, – все они росли честными, умными, добрыми. Но семейная жизнь не всегда складывалась гладко, – счастливое супружество омрачалось тревогой за будущность детей. И причиной тому стала явная расточительность свёкра, да ещё амбициозные его прожекты, наносившие лишь урон обширному и богатому имению.
Аркадий Павлович Воронцов-Вельяминов, человек весьма уважаемый в своём Бобруйском уезде, долгие годы избирался в нём предводителем дворянства. Дабы соответствовать почётной должности, делал непомерные траты на пышные приёмы с обильными застольями и дорогими винами, на модные экипажи. Жизнь предводителя дворянства поставлена была на столь широкую ногу, что это не могло не тревожить его молодую невестку, привыкшую к скромности и экономии. Беспокоилась она, как бы Вавуличи от сих роскошеств не пришли в упадок, а первые признаки расстройства большого хозяйства уже намечались…
С кем ещё, как не с милыми сёстрами, могла поделиться Наталья теми печальными раздумьями? Так младшая, Верочка Пушкина, уже в своём письме Анне пересказывает их суть: «От Таши тоже невесёлые вести. Она более чем когда-либо одна-одинёшенька. <…> Павел Аркадьевич, несмотря на все свои хорошие качества, в Ташиных делах высказывает себя не совсем хорошо: вместо того, чтобы принять её сторону против отца, он уклоняется, с отцом об этом никаких разговоров не имеет, а Ташины благоразумные меры тормозит. Хорошо ли это?..»
Но и Павла Аркадьевича понять можно, – он всю жизнь благоговевший перед отцом, не в силах был делать тому какие-либо упрёки…
Зато от семейных неурядиц у Натальи Александровны имелось верное средство – цветы. Её стараниями они, радуя глаз, повсюду расцвели в старой усадьбе. Но более пышных роз и ярких настурций любила молодая хозяйка трогательно-нежные фиалки. Давным-давно, и её бабушка, тогда девочка Таша Гончарова, любила сажать цветы, и дедушка Афанасий Николаевич поощрял увлечение любимицы-внучки, – как он говаривал, «охотницы до цветов».
Известно и другое дендрологическое пристрастие Натальи Воронцовой-Вельяминовой, – ей полюбились каштаны. Посему стройные их аллеи не замедлили украсить окрестности дома в Бобруйске, взросли красавцы-каштаны и в фамильной усадьбе.
Вавуличи славились особым, необычайно вкусным сортом яблок, «воронцовским», – черенки чудо-яблонь бесплатно раздавались неимущим, равно как и семенной «воронцовский» картофель, равно любимый крестьянами и господами. Нередко Наталья Александровна обращалась с ходатайствами к супругу, – то передать телушку бедной семье, то выделить лес на постройку новой избы. Ведь полноправным владельцем Вавуличей с 1903‐го, года кончины её свёкра, стал муж.
А Павел Аркадьевич, обожая свою Ташу, в тех её просьбах не отказывал. Он буквально боготворил супругу, – в большой семье царили мир и согласие. Формулу того семейного счастья сумела вывести их дочь Софья: её милая маменька и строгий отец, оба почитались «безупречными в браке». Хотя подчас Павел Аркадьевич бывал и гневлив, особенно, – к нерадивым работникам. И только одной Наталье Александровне удавалось утихомирить вспыльчивого мужа.
Однако неизменно был он добр к детям, души не чаял в сыновьях и дочерях. Занимался их воспитанием, внушая нравственные принципы, коим и сам неуклонно следовал в жизни. Его уважали не только в семье, – ведь долгие годы он избирался мировым судьёй, не чурался работы и в Бобруйском уездном земстве.
Белорусская усадьба Воронцовых-Вельяминовых Вавуличи и её владельцы. Фотография. Конец XIX – начало XX в.
И всё же не он, общественный деятель и глава большого семейства, но милая его жена Наталья Александровна снискала поистине народную любовь. Внучку Пушкина любили окрестные крестьяне за незлобивость, всегдашнюю готовность поддержать ближнего не только словом, но и делом! Наталья Александровна помогала крестьянам хлебом и зерном, ссужала им деньги на покупку скота или на постройку дома, лечила больных. Если болезнь требовала врачебного вмешательства, – отправляла страждущих к городским докторам, беря на себя все неизбежные расходы и на дорогу, и на лечение. Опекала сирот, вдов, всех немощных и убогих.
Наталия Александровна с мужем и детьми. Фотография. 1890‐е гг.
- В молчании добро должно твориться…
А ещё устраивала для сельских ребятишек новогодние ёлки, где каждому маленькому гостю припасён был рождественский подарок. Частенько дети вкупе со сладостями получали томики пушкинских сказок. Водили хороводы вокруг новогодней ёлки, пели, – вместе с маленькими гостями пела и сама Наталья Александровна. Старожилы вспоминали, что внучка поэта любила белорусские песни, восхищалась местными легендами и преданиями.
Софья Воронцова-Вельяминова, правнучка поэта, в белорусском костюме. Бобруйск. Фотография. 1907 г.
Для крестьянских детей открылась новая школа, и в ней её устроительница, Наталья Александровна, давала подчас уроки своим ученикам. Заботилась, чтобы самые способные из них, в особенности девочки, учились дальше на фельдшериц либо на воспитательниц, и в том помогала им не только советами, но – и деньгами.
Появился в Бобруйске и первый детский сад. Дочь Софья Павловна в начале 1960‐х писала в городской музей: «…Затем – справедливо бы было детсад назвать именем матери. Она очень старалась собрать для этого средства (а мы жили скромно, имение дедом ещё было разорено продажей леса). Построен дом детсада был уже после её (матери) смерти, мы вернули портрет её, там висевший…»
Ещё одно деяние внучки поэта по сей день живо в народной памяти – её радением в окрестном селе Телуша возведена церковь, освящённая в честь святителя Николая.
Любопытный штрих к характеру Натальи Александровны, – однажды она не устрашилась упрекнуть любимого Папа́ и тётушку Марию Гартунг за невинное, казалось бы, их увлечение – карточный винт, говоря: «Всюду карты… и это вместо того, чтобы думать о судьбах России». И ведь то не просто слова, но – гражданская позиция внучки поэта.
В феврале 1901‐го в Бобруйске, при самом живом участии Натальи Александровны, распахнула двери для своих первых читателей библиотека, названная в честь её великого деда. Внучка поэта пожертвовала в её собрание множество редчайших пушкинских изданий. Подарила и уникальный, иллюстрированный великолепными гравюрами, экземпляр «Фауста» Гёте.
Минувшая война, огненным валом прокатившись по белорусской земле, не пощадила и прекрасных книг, – многие из них погибли в огне в июне 1944‐го, когда немецкие солдаты, отступая из Бобруйска, взорвали историческую библиотеку.
Пушкинская библиотека в Бобруйске, созданная попечением внучки поэта
Некоторые из детей четы Воронцовых-Вельяминовых обосновались в Бобруйске. Там, на бывшей Муравьёвской, имелся собственный фамильный дом, славившийся своим хлебосольством, и ныне, к несчастью, не уцелевший… Но по весне зацветают, возгораясь белыми свечами соцветий, старые каштаны, давным-давно посаженные здесь внучкой поэта.
Благая память
Свой последний приют нашла Наталья Александровна на белорусской земле, – умерла она в декабре 1912 года и похоронена в ограде Свято-Никольской церкви в селе с необычайно тёплым названием Телуша, а по-белорусски Цялуша. Безутешный супруг воздвиг на сем печальном уголке прекрасный памятник из белого мрамора, в безвременье, увы, разрушенный.
Минул век двадцатый, и уже в новом столетии иерархи Бобруйской епархии собрались, дабы вынести неожиданный вердикт: воссоздать жизнеописание Натальи Воронцовой-Вельяминовой для канонизации её в лике местночтимых святых. Воистину, мудрое решение. И коли оно всё же свершится – пушкинский род озарится новым святым именем. Первым – в ряду наследников поэта!
Москвич Андрей Кологривов, правнук благотворительницы, рассказывает: «Священник из Телуши её боготворит. Отец Сергий говорит, что, когда он только начинал служить в Телуше в 2004 году, к внучке Пушкина Наталье люди молитвенно обращались не как к простой христианке, а как к святой из большого к ней уважения.
До сих пор за могилой внучки А.С. Пушкина бережно ухаживают ученики местной школы. Каждую весну они приходят сюда, чтобы высадить цветы. В 1979 году, к 180‐летию со дня рождения поэта, на могиле Н.А. Воронцовой-Вельяминовой был установлен новый памятник. Предыдущий белоснежный мраморный памятник, который установила семья, был разрушен в начале тридцатых, когда никого из членов семьи в этих местах уже не осталось. В 1952 году Софья Павловна привезла и установила на месте, где была могила Н.А. Пушкиной, памятную плиту (второй памятник). Но в 1970 году, когда я там был, на её могиле уже стоял третий памятник. А в 1979‐м, следовательно, был установлен уже четвёртый памятник».
…Каждый год, в начале июня, у скромного обелиска, возведённого близ храма, звучат не только стихи Александра Сергеевича, но и добрые слова о его внучке, что передаются здесь из рода в род. Её память и поныне свято сберегается в здешних местах. Так что выведенная Пушкиным «формула родства» русских и белорусов выверена не только историей. Но самой жизнью потомков русского гения.
А вот какой запомнилась Наталья Александровна уже своим внукам:
«Человек живого ума, большого сердца, и, по-видимому, незаурядных способностей»;
«Весёлая интересная собеседница, отзывчивый человек. <…> Дочерей воспитывала в духе служения людям, в труде. Бабушка не любила праздную жизнь, пустые развлечения. Она держалась всегда просто, как все умные люди»;
«Она была человеком не только справедливым, но и прямым: когда нужно было, вступала в споры, невзирая на лица, помогала всем».
Андрей Александрович любезно поделился письмами бабушки Софьи Павловны Кологривовой. Вот эти мудрые строки:
«Моя мать, Н.А. Пушкина-Воронцова-Вельяминова, никогда не морализировала, но умела кратко, метко в подходящий момент сказать то, что считала верным для руководства жизнью»;
«Жадность, зависть, неблагодарность – подлые чувства. – Воспитывать в себе низкие чувства – себя унижать и, продолжая, можно низко пасть. – Человек, который даёт другому «обноски и объедки» своих чувств, не должен требовать от другого всей души и всей жизни»;
«На мой вопрос о Ветхом Завете: «Неужели ты во всё это веришь?» – она (мать) тут же, стоя у двери, к которой я подошла навстречу ей с книгой, с которой готовилась к исповеди, объяснила, что в том, что нам даётся к руководству, есть важное и не важное, что человек не только духовен и что важно то, что его жизни даёт нужное направление. Потому нужна молитва, церковная служба, пение».
«На мой вопрос: «Что такое геенна огненная»? – она убеждённо ответила: «Это угрызения совести. Вот ты сделала зло, не поняв, что делаешь, а потом раскаиваешься, а поправить уже нельзя, и ты мучаешься». И, считая важным для руководства жизнью христианское учение, она нас в детстве приобщила к нему. Мне тогда было 5 лет. Вот единственный раз, когда она «проповедовала» и этим направляла всю нашу жизнь».
Андрей Александрович прислал мне и фотографию из семейного архива, пояснив: «Вот фото 1911 года, где прабабушка Наталья Александровна вместе с бабушкой Софьей Павловной. На обороте этой фотографии рукою бабушки написано: «Я никогда не совершала въ жизни ничего такого, чего не могла бы оправдать передъ совѣстью своею. Н.А. П.». Этому-то собственному правилу и следовала всегда внучка поэта.
Наталия Александровна Воронцова-Вельяминова. Москва. Фотография. Начало 1890‐х гг.
Близкие Натальи Александровны вспоминали, как часто задумывалась она о будущем России, принимая все беды отечества, как свои собственные, семейные, и как мечталось ей, чтобы дети и внуки жили в счастливой обустроенной стране. Однако судьбы их складывались непросто, да и годы те, на изломе веков, изобиловали трагическими событиями.
Не дано было знать Наталье Воронцовой-Вельяминовой, что родиной её потомкам станут далёкие Франция и Италия.
Парижские правнуки
Лет двадцать тому назад мне посчастливилось побывать в Париже. И не просто в романтической столице мира, но в гостях у французских потомков поэта, кровно связанных с Беларусью.
…Дверь открыла сама Надежда Бэр – моложавая стройная женщина. Вхожу в полумрак большой гостиной и словно попадаю в давно забытый мир: старомодные кожаные кресла, секретеры и бюро старинной работы с множеством затейливых безделушек, пожелтевшие гравюры с видами пушкинского Петербурга на стенах.
– Вот только сегодня забрала гравюры из мастерской, – заметив мой взгляд, поясняет Надежда, – старые стали, нуждались в реставрации. Отец ими очень дорожил…
Георгий Воронцов-Вельяминов хоть и прожил всю жизнь во Франции, куда он и его младший брат Владимир были привезены ещё детьми, но духовных связей с родиной не прерывал.
Отец Надежды, всю свою жизнь проработавший инженером в одной из французских компаний, был хорошо известен в России. И не только как потомок поэта, но как бескорыстный даритель фамильных раритетов. Это он передал Пушкинскому музею в Петербурге бесценную реликвию – печатку Наталии Николаевны Пушкиной с вырезанными на ней инициалами «Н. Н.» и, по семейному преданию, подаренную ей мужем-поэтом. Он первым привёз в Михайловское из Парижа старинную бутылку из-под шампанского, воспетого Пушкиным, – знаменитой фирмы Моэта.
Наталия Александровна Воронцова-Вельяминова с дочерью Софьей. Фотография. 1911 г.
Именно Георгию Михайловичу удалось разыскать в частном музее небольшого французского городка дуэльные пистолеты – «Лепажа стволы роковые», одним из которых на поединке был смертельно ранен поэт. (После Парижской пушкинской выставки 1937 года следы той дуэльной пары затерялись.) Не единожды праправнуку поэта доводилось бывать в Петербурге (тогда ещё Ленинграде), в Москве и в Михайловском, и всякий раз коллекции пушкинских музеев пополнялись подаренными им новыми документами, фотографиями, книгами. Инженер по образованию, по призванию и по крови – истинный пушкинист, он знал и любил Россию, страну своих великих предков.
Надежда Георгиевна вздохнула:
– Знаете, после смерти отца, а это случилось внезапно, а потом – и матери, я сняла их портреты со стены. Нельзя же всё время смотреть на них и плакать. Я храню их образы в сердце…
В её памяти живы светлые воспоминания детства, и самые дорогие из них связаны с отцом. Помнится, как вечерами отец читал главы из «Пиковой дамы», а они с сестрой Аней, забравшись в кресла, слушали его. Было немного страшно, замирало сердце, и казалось, что свершается некое великое таинство, неподвластное их детскому разуму… Однажды отец принёс домой целую кипу пластинок с записью оперы «Евгений Онегин». Сама собой сложилась новая традиция: перед сном включали проигрыватель, и сёстры слушали гениальную музыку, соединённую с пушкинскими стихами.
Родители сделали всё, чтобы дочери не забыли русский язык. Дома говорили только по-русски. И Надежда, и Анна ходили в так называемую «четверговую школу», где по четвергам, а это были дни, свободные от занятий во французской школе, занимались русским языком.
Наде шёл четвёртый год, когда не стало дедушки Миши. Запомнился ей этот горький день, запомнился и любимый дедушка, такой странно-неподвижный…
Надежда Бэр, правнучка Наталии Александровны. Париж. Фотография. 1990‐е гг. Публикуется впервые
– У деда Михаила Павловича трудная судьба. Это он в тревожном семнадцатом принял решение покинуть Россию с её войнами и смутами и перебраться на время в более спокойную страну.
То, что семья дедушки спаслась тогда, считает Надежда Георгиевна, иначе как чудом не назовёшь. В один из ноябрьских дней в дом к Михаилу Павловичу ворвались чекисты. Был поздний вечер, горела лампа в гостиной над круглым столом, а сам хозяин спокойно читал за ним газету.
«Где тут гражданин Воронцов-Вельяминов?» – раздражённо выкрикнул человек в кожанке. Михаил Павлович и бровью не повёл, продолжая невозмутимо читать, а его супруга Евгения, бабушка Надежды, чуть слышно прошептала, что мужа нет дома. Незваные гости перерыли все комнаты и кладовки, обшарили чердак и подвал большого дома и, с грохотом хлопнув дверью, ушли. Той же ночью, переодевшись, Михаил Павлович вместе с женой и двумя малолетними сыновьями сумел сесть на последний поезд, отбывавший в Ригу. Оттуда перебрался в Германию, где работал на шахте. А затем, скопив тяжким трудом немного денег, перевёз семью во Францию.
– Семья дедушки бежала из России, потеряв там всё. Но зла на свою родину ни мой дед, ни мой отец никогда не держали и только мечтали вернуться домой.
Во Франции Воронцовы-Вельяминовы обосновались крепко и надолго. Бывшему лицеисту (Михаил Павлович окончил тот же Царскосельский лицей, именованный тогда Императорским Александровским, что и его великий прадед), а позже депутату 4‐й Государственной думы довелось в Париже пройти тернистый путь русской эмиграции. Приходилось браться за любую работу: водить такси и разносить молоко, инкрустировать шкатулки и торговать книгами. Зато своим сыновьям, Георгию и Владимиру, сумел дать достойное образование, а главное, воспитать их русскими людьми. И, свершив свой земной путь, правнук поэта обрёл вечный покой на Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем…
Михаил Воронцов-Вельяминов, правнук поэта, с супругой Евгенией. Фотография. Ок. 1911 г.
Счастливым для Михаила Воронцова-Вельяминова было, пожалуй, только детство, и прошло оно в белорусском имении Вавуличи.
– Его мать, а моя прабабушка Наталия Александровна была очень талантливой – увлекалась поэзией, рисовала – у моих московских родственников сохранился её альбом с пейзажами. А вот стихи, что писала она тайком в юности, увы, не уцелели. Правда, два или три стиха всё же известны, и по ним можно судить о поэтическом даре юной Натальи. Если хотите, я вам покажу фотографию, где она совсем молодая…
Ещё бы не хотеть – ради одного этого стоило ехать в Париж! Из книжного шкафа извлекается на свет пухлый альбом. На первых страницах – портреты Александра Сергеевича и Наталии Николаевны, их детей, внуков.
…Фотография Наташи Пушкиной. Нежный девичий профиль с чуть припухшими губами. Ещё снимок, сделанный после свадьбы с ротмистром-гусаром Павлом Воронцовым-Вельяминовым, – оба молоды, счастливы, полны сил и надежд.
На другой, пожелтевшей от времени фотографии, – вся большая семья Воронцовых-Вельяминовых. Хорошо виден старинный особняк с затейливыми резными башенками, с балконом-террасой. Давным-давно нет старого дома в Вавуличах, – только и остался этот снимок на память о разорённом родовом гнезде.
Надежда Георгиевна перелистывает альбомную страницу. Со старого снимка с надорванным уголком сквозь круглые очки строго и пристально смотрит юноша с удивительно тонкими чертами лица.
– Феодосий Воронцов-Вельяминов, – пояснила Надежда, – младший брат деда. В 1914‐м, когда началась Первая мировая, он хотел отправиться на фронт. Но были проблемы со здоровьем – сильная близорукость, – и в армию его не взяли. Тогда Феодосий упросил брата Михаила, чтобы тот посодействовал ему попасть в действующую армию добровольцем. Дедушка помог.
А Феодосий, ему шёл двадцать шестой год, и он готовился стать историком-востоковедом, в одном из первых боёв в Восточной Пруссии погиб, – как в песне, – «ведь был солдат бумажный…»
Всю свою жизнь дедушка считал себя невольным виновником ранней смерти брата, корил себя и очень переживал… Трагически погибла в двадцатом, роковом для Воронцовых-Вельяминовых году, и Вера, младшая сестра деда.
На той же альбомной странице – фотография и самого Михаила Павловича: вот он зимой в овчинном полушубке возится с огромным дворовым псом.
– Подождите, я покажу вам семейные реликвии, – Надежда ставит на журнальный столик две шкатулки, – их своими руками смастерил дед. Вот эту, из карельской березы, он украсил чеканкой – «русской тройкой». А этот ларец – для меня очень дорогой: это и послание деда, и его завещание нам, внукам.
На крышке деревянного ларца – инкрустированный герб Воронцовых-Вельяминовых. Рядом две даты: 1027 и 1927. Девятьсот лет знаменитому роду, берущему свои истоки в глубинах Древней Руси! Помнил Михаил Павлович и на чужбине о славной родословной, словно незримой пуповиной, соединявшей его с Россией.
Примечательна и надпись славянской вязью на ларце: «Великая смута на Руси и рассеяние во языцах». Как же болело сердце у правнука поэта, как скорбела его душа за всё неправедное, что творилось в родном отечестве! Взяла в руки заветный ларец: дерево – материал благодарный, памятливый – годами хранит тепло рук мастера.
А старый альбом продолжал раскрывать трогательные семейные тайны: вот детская фотография Георгия Воронцова-Вельяминова, сделанная в белорусских Вавуличах незадолго до революционных потрясений. Надежда пояснила, что это её самая любимая… На залитом солнцем деревенском дворике белоголовый карапуз с ломтём хлеба в руке почти затерялся средь сбежавшихся к нему «хохлаток». Трёхлетний Одик – это детское имя так и осталось за ним – безмятежно улыбается и ведать не ведает, как скоро круто изменится вся жизнь и каким испытаниям подвергнет его судьба.
Двоюродные брат и сестра Михаил Воронцов-Вельяминов и Анна Тури в белорусских Телушах. Фотография. 2010‐е гг.
В парижской квартире потомков поэта: Гавриил Бэр, Надежда Бэр, урождённая Воронцова-Вельяминова, Стефано Тури. Фотография автора. 1999 г.
На прощание мы сфотографировались в гостиной на фоне старой картины – живописного эскиза к давней театральной постановке, – сцене дуэли Онегина с Ленским: Гавриил, сын Надежды, и Стефано, её племянник, расположились в креслах, а мы с Надеждой Бэр стали за ними.
– В доме это был любимый уголок отца. Когда его не стало, я спросила совета у сыновей – не сменить ли нам эту квартиру, где столько воспоминаний? И они в один голос ответили: нет! Признаюсь, другого ответа в душе я и не ожидала… Здесь всё – и стены, и вещи – помнят отца: и эти кресла, и книги, и гравюры, и даже этот букет засохших полевых цветов, собранный им когда-то в Михайловском. Это его дом… Русский дом в Париже. И мой тоже.
Есть свой Русский дом и в Италии, во Флоренции, – живёт в нём старшая сестра Надежды – Анна. И хотя родилась та в Париже, но родным языком в семье был русский, – французский Ане пришлось постигать значительно позже, когда её, шестилетнюю девочку, привели в школу. Училась она всегда отлично, и в награду ко дню окончания школы отец вручил ей туристическую путевку в Россию. Так в 1961‐м Анна впервые побывала в стране, о которой грезила с детства.
Позже, будучи студенткой-филологом Сорбонны, знаменитого Парижского университета, она ещё раз побывала в России. Самое большое впечатление? Неизъяснимое чувство восторга и волнения, охватившее её, когда в пушкинском доме на Мойке она взяла в руки томик прижизненных стихов поэта.
Промелькнули студенческие годы. И вот двадцатилетняя Анна, блестяще окончив университет и выдержав нелёгкие конкурсные испытания, вступает на педагогическую стезю. Пройдет ещё несколько лет, и в Париже, в русском православном соборе, она будет обвенчана с Александром Тури, итальянским профессором геологии.
После свадьбы Анна вместе с мужем уезжает в его родную Флоренцию. Здесь в 1968 году появится на свет сын Стефано (или Степан, как его обычно зовут дома), годом позже – дочь Катя.
Анна Георгиевна – синхронная переводчица, в совершенстве владеет французским, английским, итальянским и, конечно же, русским. На нехватку работы жаловаться не приходится – во Флоренции всевозможные симпозиумы и конгрессы – не редкость. Человек она общительный, и друзей у неё немало. Не раз Анна приезжала в Россию на съезды соотечественников; посчастливилось ей побывать и в Беларуси: в Бобруйске, в той самой пушкинской библиотеке, что основала Наталья Воронцова-Вельяминова, и в селе Телуша, – поклониться памяти прабабушки.
На съезде соотечественников в Москве. Слева направо: Лариса Черкашина, автор книги, о. Николай Солдатёнков, Анна Тури. Фотография. 2008 г. Публикуется впервые
Прежде отец, рассказывает Анна, любил гостить у неё, радовался, что его «маленькие итальянцы», внуки, говорят по-русски. И, пожалуй, Флоренцию Георгий Михайлович знал и любил не меньше, чем свой, ставший родным, Париж. Иногда Анне кажется, что в праздной толчее на мосту Понте Веккио, излюбленном месте прогулок отца, вот-вот мелькнёт его родное лицо…
Незримые нити связывают Флоренцию, подобную вневременному перекрёстку человеческих судеб, с Парижем и Петербургом, Москвой и Бобруйском, Вавуличами и Михайловским. Одна из ветвей пушкинского древа протянулась в этот прекрасный город, укоренилась и дала там свои плоды. Недаром в переводе с итальянского «Флоренция» значит «цветущая».
Вспомним удивительные строки из булгаковского романа: «…Вопросы крови – самые сложные вопросы в мире!.. Есть вещи, в которых совершенно недействительны ни сословные перегородки, ни даже границы между государствами». Что ж, размышления Михаила Булгакова подтверждены жизнью сестёр Надежды и Анны, судьбами их детей и внуков, да и всей многовековой историей рода.
История рода поэта словно дала счастливый случай выверить эту истину, ещё не вполне осознанную и невозведённую в ранг закона, позволив мысленно прикоснуться к пушкинскому древу.
Мария Пушкина, и её «полтавская веточка»
И то сказать: в Полтаве нет
Красавицы, Марии равной.
Александр Пушкин
Племянник и тёзка Гоголя
Мария Пушкина появилась на свет в июле 1862 года, и рождению внучки ещё успела порадоваться бабушка Наталия Николаевна.
Быстро промелькнуло детство, минуло отрочество, и вот юная Мария облачилась в белоснежное подвенечное платье. Её избранник Николай Быков, – адъютант полковника Пушкина, – служит в гусарском Нарвском полку под началом отца. И как его боевой командир, награждён в сражениях Русско-турецкой войны за храбрость именной саблей.
Знакомство же то случилось в Вильне, где тогда стоял полк и бравый офицер-гусар Николай Быков частенько захаживал в дом своего командира. Тогда-то, верно, и вспыхнули романтические чувства меж молодыми людьми, но пройдут годы, прежде чем родным и друзьям будет объявлено о помолвке.
Жених Маши Пушкиной приходился родным племянником Николаю Васильевичу Гоголю. Его знаменитому дядюшке, рано повзрослевшему после смерти отца, а будущий писатель ещё учился в Нежинской гимназии, пришлось взять на себя заботу о сёстрах и горячо любимой матери.
Позднее сестёр-погодок Анну и Елизавету Николай Гоголь привёз из Полтавы в Петербург, поместив их в Патриотический институт благородных девиц, где в то время он преподавал историю. Девочек зачислили в институт в порядке исключения (туда принимались лишь дочери военных), а их брату пришлось отказаться от своего учительского жалованья.
Мария Пушкина с женихом Николаем Быковым. Москва, Кузнецкий мост. Фотография. 1881 г.
Какой нежной любовью проникнуты письма Гоголя домой: «Поцелуйте за меня Анечку… Также шалунью Лизу…»; «Целую вас и сестриц несколько сот раз и остаюсь вечно любящим вас сыном».
Вот Николай Гоголь пишет двум своим «бесценным сестрицам» из Германии, где подробно описывает своё заграничное путешествие: и как он плыл морем, и что это был за красавец-корабль, и какие узенькие улочки в старинных немецких городах, и какие высокие там соборы. Он рисует даже портрет-шарж хозяина своей гостиницы и шутливо предостерегает сестрёнку: «Смотри, Лиза, не влюбись!» А в письме из Рима Гоголь описывает сёстрам красоты Италии и нравы итальянцев. «Вы знаете, что я вас очень люблю. Я вас люблю столько, сколько вы себе не можете представить», – не устаёт повторять Николай Васильевич.
В 1839 году Гоголь приезжает в Петербург, чтобы присутствовать на выпускных институтских торжествах, а затем отвезти сестёр домой. Нет ничего удивительного, что и сёстры буквально боготворили брата Николая и много позже, после его кончины, свято хранили память о нём.
Малоизвестный исторический факт: осенью 1851 года Гоголь собирался в Малороссию на свадьбу сестры Елизаветы с её избранником Владимиром Быковым. «Бедный Гоголь! Промаявшись лето в одиночестве в пыльной и душной Москве, – писал на исходе девятнадцатого века в своём очерке Леонтьев-Щеглов, – он захотел повидать и обрадовать своих родных в Яновщине, где готовились праздновать свадьбу его сёстры, но, видно, ему не суждено было больше взглянуть на дорогое небо Украины. Подъезжая к Калуге, он внезапно почувствовал один из тех страшных припадков тоски, которые в последнее время так часто на него находили… и свернул с дороги в Оптину пустынь. Пребывание в Оптиной совершенно изменило его первоначальное намерение – он не поехал домой и снова вернулся в Москву, где ожидала его… могила!»
Не случайно, когда у Елизаветы Васильевны в 1856 году родился сын, она нарекла его Николаем в честь любимого брата. Именно ему суждено будет соединить в истории два славных рода. Так причудливо переплелись родословные ветви двух славных фамилий: Пушкина и Гоголя!
Мария Быкова, урождённая Пушкина. Полтава. Фотография.1887 г.
Некогда в своих письмах к поэту Николай Васильевич подписывался: «Вечно ваш Гоголь». Будто ведомо было ему, великому мистику, о грядущем родстве с Пушкиным!
…Торжество венчания прошло в подмосковной Лопасне, в фамильной церкви Зачатия Праведной Анны. А в её метрической книге за 1881 год осталась запись: «Августа тринадцатого числа поручик 13‐го гусарского Нарвского полка Николай Владимирович Быков православного вероисповедания, первым браком, 25 лет, взял за себя дочь Свиты Его Величества Генерал-майора Александра Александровича Пушкина девицу Марию Александровну, православного вероисповедания, первым браком, девятнадцати лет. Венчал священник Аркадий Петропавловский с причтом». После свадьбы молодые отправились в своё первое семейное путешествие – в гоголевскую Васильевку, известную ещё и как Яновщина. Здесь, близ Полтавы, Марии и Николаю Быковым суждено будет счастливо прожить долгие годы, здесь появятся на свет их дети: пушкинское древо прирастёт крепкой «полтавской ветвью».
Как-то Пушкин привёл суждение некоего философа, – на вопрос, какую женщину следует почитать красивой, был дан лаконичный ответ: «Ту, которая родила более всех детей». Внучка поэта Мария отвечала сему высокому требованию, – мать десятерых детей! Кроме того, – умна, образованна, красива.
Супруги Быковы с детьми. Фотография. Начало 1900‐х гг.
- И то сказать: в Полтаве нет
- Красавицы, Марии равной.
- Она свежа, как вешний цвет,
- Взлелеянный в тени дубравной.
- Как тополь киевских высот,
- Она стройна…
Чета Быковых вела знакомство с лучшими людьми тогдашней России: Чеховым, Короленко, Гиляровским. Однажды, будучи в гостях у внучки поэта, силач «дядя Гиляй» укротил ворвавшегося на лужайку перед домом разъярённого быка, схватив того за рога. Да так крепко, что усмирённый бык, по рассказам домочадцев, даже «не смог шевельнуть головой».
Мария Александровна с детьми. Васильевка. Фотография. Конец 1890‐х гг.
Мария Александровна, мать большого семейства (двоих сыновей и восьмерых дочерей!), находила время, чтобы лечить и больных крестьян. Для сей благородной цели в её комнате стоял «аптекарский шкап», полный снадобий для всех страждущих. Радением внучки поэта открылась для крестьянских ребятишек воскресная школа, а лучшим её ученикам Мария Александровна неизменно вручала пушкинские томики и книги Гоголя.
Супружеский тот союз оказался на редкость многодетным и счастливым. Дочь Софья Николаевна вспоминала: «Отец с матерью образцово прожили 37 лет. Между ними никогда не было ссор… Мои родители проявляли исключительную заботу о детях и друг о друге. Для своих сыновей и дочерей они были примером буквально во всём». Стены старинного особняка в Васильевке будто и по сей день хранят память о светлых радостных днях большой семьи, где царили искренность и любовь. В доме, среди многих фамильных реликвий сберегалась и эта, поистине драгоценная – пушкинские золотые часы.
Царский подарок
Не раз любовался поэт идиллическим швейцарским пейзажем, гравированным на циферблате золотых карманных часов, что были подарены ему на празднике в Павловске в июне 1816 года. Награда предназначалась юному дарованию, лицеисту Александру Пушкину, за стихи «Принцу Оранскому», сочинённые им по случаю торжества – свадьбы будущего короля Нидерландов с великой княжной Анной Павловной.
- Венчай, венчай его любовь!
- Достойный был он воин мести.
Бывший лицеист, Сергей Комовский свидетельствовал в своих мемуарах, что поэт «удостоился получить от блаженныя памяти Государыни императрицы Марии Фёдоровны золотые с цепочкою часы при Всемилостивейшем отзыве». Но Пушкин не был бы Пушкиным, если бы подобострастно принял от вдовствующей царицы столь дорогой подарок. И, по рассказам, юный поэт то ли в ярости, то ли в расстройстве (ведь согрешил – написал стихи на заказ!) наступил на свои часы – «разбил нарочно об каблук». Видно, сделаны они были на совесть, что ещё раз доказывает их истинно швейцарское происхождение, так как впоследствии часы исправно служили Александру Сергеевичу.
Эти же золотые часы работы всемирно известных швейцарских мастеров отсчитали и последние мгновения бытия русского гения: невесомые стрелки замерли на отметке 2 часа 45 минут пополудни 29 января 1837 года.
Наталия Николаевна подарила часы (надо полагать, ей нелегко было расстаться с семейной реликвией) на память о Пушкине Василию Жуковскому, – именно он, один из самых близких друзей её мужа, и остановил их в то скорбное мгновение…
Пройдёт не столь много времени, и пушкинским часам суждено будет совершить путешествие в Швейцарию и Германию с новым владельцем. Потом они окажутся у Гоголя, после кончины писателя перейдут к его младшей сестре Ольге, от неё к племяннику Николаю Быкову. И когда тот женится на Марии Пушкиной, внучке поэта, часы станут общим семейным достоянием.
Мария Александровна в годы Гражданской войны отдала их в числе других памятных вещей в полтавский музей на хранение, оставив себе лишь цепочку от старинных часов. Её она любила надевать на шею, поверх платья. Нарядной, с золотой цепочкой и осталась она в памяти своего внука, москвича Георгия Галина, исследователя необычной истории фамильной реликвии, связанной с именами двух российских гениев: Пушкина и Гоголя.
В год столетия со дня смерти Пушкина его часы были доставлены из Полтавы в Москву, на юбилейную выставку, и затем вновь оказались в северной столице, в мемориальной квартире на набережной Мойки. Золотые часы из Швейцарии, вобравшие в себя счастливейшие и самые горькие минуты жизни поэта.
Под сенью древа
Жизнь шла своим чередом, взрослели дети: Александр, Елизавета, Софья, Наталья, Мария, Татьяна, Владимир, Анна, Елена. Лишь одна из дочерей, маленькая Лиза, не дожила и до года. Словно взамен ей на свет появилась другая – Елизавета Быкова. Она-то, со временем обратившись очаровательной барышней, в 1912‐м выйдет замуж за Владимира Савицкого.
Мария Александровна Быкова с золотой цепочкой от пушкинских часов. Полтава. Фотография. Начало 1890‐х гг.
Никому не дано знать будущего: всего лишь два года безмятежной мирной жизни и было отпущено молодой чете. Вспыхнет Первая мировая, за нею грянет революция, а следом – Гражданская война. На долю Елизаветы и Владимира Савицких выпадет крестный путь русских эмигрантов. Во Франции, куда забросила их горькая судьба, бывшему юристу Савицкому пришлось стать электромонтёром, а его супруге, правнучке поэта, – вышивальщицей. Во Францию они приехали с двумя маленькими дочками: Татьяной и Анастасией.
Анастасия Владимировна, младшая дочь Савицких, в памятном 1937‐м, когда и в Париже, и в Москве отмечали столетнюю годовщину со дня смерти поэта, обвенчалась с Василием Кузьмичом Солдатёнковым.
В следующем году появился на свет сын Николай. К могучему дворянскому древу, с корнями, пронизавшими вековые пласты русской истории, была «привита» купеческая ветвь.
Главные свои богатства патриарх рода «Почётный Гражданин и Кавалер, Московской 1‐й гильдии Купец» Козьма Терентьевич Солдатёнков завещал России. На его капиталы строились в Москве школы и училища, богадельни и больницы (самая известная из них – Солдатёнковская, ныне Боткинская, больница), возводились храмы.
Старая Полтава с видом на Всесвятскую церковь и дом губернского земства. Фотография. 1908 г.
Он щедро жертвовал деньги на покупку картин прославленных живописцев. «Моё желание, – говорил Козьма Терентьевич, – собрать галерею только русских художников!» Собирать картины, а среди них были такие шедевры, как наиболее близкий к картине эскиз «Явление Христа народу» Александра Иванова, «Вирсавия» Карла Брюллова, «Оттепель» Фёдора Васильева, он стал раньше, чем Павел Третьяков! Многие прославленные полотна, прежде украшавшие стены солдатёнковского особняка на Мясницкой, – ныне в экспозиции Третьяковской галереи и Русского музея.
Картинная галерея, равно как и огромная личная библиотека – восемь тысяч книжных томов и пятнадцать тысяч журналов, завещаны русским меценатом Румянцевскому музею. За полвека им издано множество книг, в их числе и памятники мировой литературы, шедевры отечественной поэзии, собрания русских сказок и былин! Не зря Козьму Терентьевича современники величали «атлантом российской культуры».
А ещё в истории осталось необычное прозвище славного мецената: «Козьма Медичи»! Но при своих несметных богатствах Солдатёнков избегал показной роскоши, жил весьма скромно. Почти анекдотический эпизод: на одном званом обеде купец Щукин обратился к хозяину: «Угостили бы вы нас, Козьма Терентьевич, спаржей!» На что последовал скорый ответ: «Спаржа, батенька, кусается: пять рублей фунт!»
В некогда подмосковном селе Кунцево, близ фамильной церкви Знамения Божьей Матери (восстановленной благодаря чертежам, что сохранились во Франции, в семейном архиве отца Николая), на даче у славного купца Солдатёнкова гостили классики русской литературы: Иван Тургенев, Антон Чехов, Лев Толстой. Великий книголюб Козьма Терентьевич более всех отечественных писателей почитал Николая Васильевича Гоголя и Александра Сергеевича Пушкина.
Знать бы ему, что далёким потомкам судьба уготовит близкое родство с русскими гениями!
Служение
Николай Солдатёнков родился в Париже – далеко от своей исторической родины. В его паспорте в графе «гражданство» значится – француз. Но душа, наперекор всем обстоятельствам, избрала своё гражданство. Россия, страна, давшая жизнь его великим предкам – Александру Пушкину и Николаю Гоголю, стала истинной родиной и для Николая Васильевича Солдатёнкова.
Впервые он попал в Россию в далёком ныне 1966‐м. И тогда же совершил первую в своей жизни паломническую поездку в Троице-Сергиеву лавру – колыбель русского православия. Там, в старинной, вросшей в святую землю церквушке, Николай Солдатёнков приложился к мощам основателя славной обители Сергия Радонежского, и что-то дрогнуло в душе молодого преуспевающего инженера-кибернетика, будто разжалась неведомая пружина…
В Париж он вернулся другим человеком. Чаще всего тогда его можно было встретить в русском храме, где Николай Солдатёнков пел в церковном хоре. В 1977‐м был рукоположен в дьяконы, а ещё через год получил свой приход в церкви во имя Серафима Саровского.
Есть Париж, незнаемый туристами, – Париж православный: в самом центре французской столицы, на улице Лекурб, в тихом дворике, сокрытом от любопытных глаз, стоит деревянная церквушка во имя Серафима Саровского, возведённая ещё первыми русскими эмигрантами. А сквозь церковный купол прорастает старый платан, – когда строили храм, пожалели, не срубили зелёного исполина, – так и растёт он, подобно вечному древу жизни…
Из всех потомков Пушкина (а их в мире более трёхсот!) лишь один отец Николай избрал путь священнослужителя…
В его доме во Франции и по сей день хранится редкостная реликвия – напрестольный крест золотого литья работы знаменитого ювелира Фаберже. Этот замечательный крест стал памятным вкладом моряка Солдатёнкова в храм Христа Спасителя, возведённый в северной российской столице. Петербуржцы называли его храмом Спаса-на-водах, а иногда просто – Цусимской церковью.
В тридцатые, роковые для русского православия годы, храм морской славы и скорби был снесён, а все церковные ценности пущены с молотка. В том числе и золотой крест Козьмы Солдатёнкова.
Его купила на аукционе некая богатая американка. Видимо, был в том тайный Божий промысел, чтобы святая реликвия попала в её добрые руки. В Париже, где американка проездом остановилась в русском доме Треповых, она показала свое необычное приобретение главе семейства. Старый генерал первым обратил внимание на надпись, выгравированную на оборотной стороне креста: «Дар лейтенанта Козьмы Васильевича Солдатёнкова в память дорогих друзей, погибших в бою». И год освящения храма – 1911‐й.
О. Николай Солдатёнков с фамильной святыней – напрестольным крестом петербургского храма Спаса-на-водах. Франция. Фотография автора. 2009 г.
Ещё большей неожиданностью для заокеанской гостьи стало то, что и сам даритель, бывший офицер крейсера «Олег» Козьма Солдатёнков, жил поблизости, в одном из парижских пригородов. Безымянная американка (жаль, что дети и внуки старого моряка запамятовали её имя) разыскала Солдатёнкова и вернула ему храмовый золотой крест. Совершенно бескорыстно. Не взяв, по семейному преданию, за свой дар «ни сантима».
Отец Николай не считал себя владельцем драгоценной реликвии, что столь чудесным образом попала в его семью. Он лишь её хранитель. Так завещал дед, Козьма Васильевич. Золотой фамильный крест выпало нести – и в прямом, и в переносном смысле – ему, внуку морского офицера. Но как только в воссозданном заново храме в Петербурге зазвонят колокола, надеялся Николай Васильевич, напрестольный солдатёнковский крест займёт в нём своё прежнее почётное место.
«Меня называют летающим священником, – улыбаясь, говорил он. – После того как получил сан протоиерея, приходится много летать, – ведь не во всех французских городах, где открыты православные приходы, есть священники. Доводилось служить и в Люксембурге, Бельгии, Голландии, Испании – везде, где есть русские люди, не забывшие веру своих предков».
О. Николай Солдатёнков в храме во имя Преподобного Серафима Саровского в Париже. Фотография автора. 2009 г. Публикуется впервые
Русские французы
Из шумного Парижа лет тридцать тому назад отец Николай переехал в Семюр-ан-Оксуа, сохранивший своеобразие и очарование средневековой Бургундии. Бургундский городок можно по праву назвать самым пушкинским во Франции. Разгадка проста – здесь живут десять потомков Александра Сергеевича! «Полтавская ветвь» не только прижилась на земле Франции, но дала и молодые сильные побеги.
Николай Васильевич давно уже сам стал главой большого семейства: у него трое детей и одиннадцать внуков. А один из них – Козьма Солдатёнков – наследовал имя и фамилию славного пращура! Детей он венчал, а всех внуков крестил. Души не чаял в них… Поистине, по евангельскому слову и сбылось: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни».
Особо отличилась на семейном поприще дочь Татьяна: у неё шестеро детей! Самый младший – сын Дмитрий, юный потомок Александра Сергеевича.
Муж Татьяны Филипп Гиено – человек в городе известный, ведь он мэр Семюр-ан-Оксуа. Где ещё во Франции в резиденции мэра, разместившейся в средневековой ратуше, можно увидеть бюст русского гения?! А на лацкане пиджака главы города – пушкинский значок?
«Все мои дети живут здесь, в Бургундии: их любят, называют русскими, – они спортивные, образованные, активные, – уверяет Филипп Гиено. – Дочери-двойняшки Софи и Клотильда увлекаются верховой ездой. Шарль любит рисовать, занимается в школе искусств, он – необычный мальчик, мы называем его домашним философом».
Отец Николай счастлив, что дети и внуки стали проявлять интерес к России, особенно дочь Татьяна. И как не радоваться, когда старшие внуки стали учить русский! Им не просто, – они прирождённые французы, думают и говорят на родном для них языке. В семье Николая Васильевича звучала русская речь, он прекрасно владел языком своих предков, но французское грассирование подчас его выдавало, – оно поистине неистребимо…
Уютный и тёплый дом Николая Васильевича называли «Русским домом в Бургундии», – в стенах одноэтажного особняка собраны многие фамильные и исторические реликвии. И гостей в нём бывало немало.
Николай Васильевич открыл для себя необычное увлечение: он пишет стихи. Но стихи не для печати, для себя. И обычно рассказывал: «Хоть и завещал Александр Сергеевич своему сыну, а моему прапрадеду, не баловаться стихотворчеством, я его запрет, каюсь, нарушил. Когда впервые побывал в Петербурге, в доме на Мойке, где умер мой предок, написал стихи. Правда, на французском. Но для Пушкина это ведь был не чужой язык».
В лицее Александра Пушкина прозвали «Французом» – французским языком отрок-поэт владел в совершенстве, уверяя даже, что тот ему «более по перу». На французском написаны и самые ранние его стихи. На языке Мольера и Гюго будут говорить далёкие потомки Пушкина!
Помимо родных детей и внуков у отца Николая имелись и чада духовные, не менее дорогие ему маленькие пациенты одной из московских больниц, – его боль и радость. В Москве ему были искренне рады, и не только потому, что он привозил для больных детей дорогие лекарства из Франции. Отец Николай лучше, чем кто-либо иной, умел найти слова утешения и надежды, исцелявшие подобно лекарствам.
