Читать онлайн Тайны предметного мира ребенка. О чем молчат ваши дети бесплатно
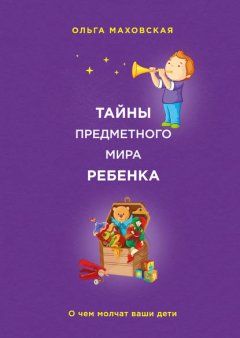
© Маховская О. И., текст, 2017
© Мурышкин Г. В., иллюстрации, 2017
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017
* * *
Из этой книги вы узнаете:
• Зачем дети приписывают неживым предметам черты людей – Глава 1
• Как поддержать уверенность и спокойствие в Ребенке, когда вам нужно на время уйти – Глава 2
• Почему Ребенок избирательно реагирует на сигналы – Глава 2
• Каким образом предмет несет печать реакций взрослых и детей – Глава 2
• Почему детям свойственно собирать «волшебные» предметы – Глава 2
• Как Ребенок прикрывает себя от неприятностей – Глава 2
• Как успокоить Ребенка, если вы уходите на работу или по делам – Глава 2
• Почему простые ощущения от предметов очень важны для Ребенка – Глава 2
• Почему Ребенку важно быть активным – Глава 2
• Что такое дислексия, и почему она столь актуальна в наше время – Глава 3
• Какие этапы проходит развитие речи Ребенка – Глава 3
• Как работает мышление Ребенка до шести лет – Глава 3
• К чему приводит бурный рост воображение детей – Глава 3
• Почему родителям важно выпустить своего «внутреннего Ребенка»? – Глава 3
• Как наладить эффективную обратную связь с Ребенком – Глава 3
• Какие приемы нужно знать для усиление «Я» Ребенка – Глава 3
• Что означает агрессивный протест Ребенка – Глава 4
• Как научиться спокойно реагировать на неизбежную детскую неаккуратность? – Глава 4
• Зачем нужно напоминать Ребенку о его преимуществах и особенностях – Глава 4
• Что произойдет, если предоставить детям право самостоятельно распоряжаться деньгами – Глава 4
• Обратим ли детский эгоцентризм? – Глава 5
• Что является главными методами децентрации внимания и памяти Ребенка – Глава 5
• Как помочь Ребенку начать мыслить творчески – Глава 5
• Почему важно учить детей находить, прятать, хранить – Глава 5
• Что развивает воображение Ребенка – Глава 5
• Как дети реагируют на претензии родителей – Глава 5
• Что такое детство и воспитание – Глава 5
Предисловие
Традиционная педагогика делает акцент на детско-родительских отношениях, отказывая Ребенку в праве распоряжаться своим физическим пространством, вещами, игрушками, денежными сбережениями. Ребенок между тем все больше осознает себя и жизнь через предметный мир, а не только через отношения со взрослыми.
В этой книге предметы, окружающие Ребенка, рассматриваются как тайный код его поведения и проект будущей личности. Такого ракурса пока еще не предложил никто. На Западе можно найти издания, в которых предметный мир Ребенка описывается с точки зрения психоанализа: предметы как проекция материнской груди или средство удовлетворения физиологических потребностей. Мой подход скорее этнографический. Много лет, отталкиваясь от культурно-бытовых особенностей нашего общества, от исторического контекста, я стараюсь не просто описать – озвучить «немой» мир важных для Ребенка предметов и сущностей.
Конструируя предметный мир Ребенка, родители помогут ему строить и защищать свое «Я».
«Читая» предметы как манифест программы действий Ребенка, родители научатся ориентироваться в его желаниях, фантазиях и страхах. Оформляя детскую, выбирая подарки, расставляя вместе с Ребенком игрушки, обсуждая поделки, мы учимся гармонизировать, упорядочивать его внутренний мир, формируем уверенность Ребенка в себе, прокладываем мосты между сердцами всех членов семьи, открываем новые горизонты развития личности Ребенка.
Всю свою жизнь мы пробуем обрести свободу, раскрепоститься, дистанцироваться от условностей, но в результате только меняем дислокацию в пространстве символических связей. Раньше считалось, что настоящая эмансипация происходит только тогда, когда дети в период подросткового бунта уходят из семьи. Но сегодня дети уходят из семьи только в случае непреодолимых противоречий. Все реже! И это не отменяет серьезной работы над собой, личностного роста. Потребность в переопределении себя, своего места в мире, да и мира как такового может наступить в любое время. Так называемые психологические кризисы, преследующие нас до конца жизни, и есть попытка переопределиться, эмансипироваться от старого и интегрироваться с новым опытом.
Впервые в этой книге я пишу слово Ребенок с большой буквы. В тайном мире предметов все существа уникальны. Ребенок – это титул особо посвященного существа. К тому же я не знаю, как зовут вашего Ребенка, а ведь именно его вы будете представлять, читая эту книгу. Так что Ребенок – это как бы символическое имя. А символики и даже мистики впереди будет предостаточно, так что настраивайтесь!
Опираясь на свои чувства, Ребенок реагирует и действует гораздо адекватней, чем компетентные взрослые, которые его окружают. Мир дан ему в первичных ощущениях, и пока он их не забыл, пока он ими пользуется, ореол счастья окружает все, к чему прикасается юный маг.
Теории вертикального наследования, когда родители учат детей, сменились сегодня другими теориями – горизонтального и даже обратного наследования: когда дети учатся друг у друга и когда родители учатся у детей.
С точки зрения адаптации к быстро меняющемуся миру все равно, кто у кого учится, лишь бы всем было хорошо и уютно. Но мы, взрослые, продолжаем настаивать на своей роли самых важных и самых главных людей в жизни Ребенка, призванных бороться с детским инакомыслием. Вместе с тем в поисках ресурсов адаптации к быстро меняющемуся миру и новых источников энергии даже очень серьезные специалисты стали обращаться к детскому опыту освоения мира.
Старая педагогика приучила нас к пассивной модели отношений Ребенка с миром: самое важное, что нужно ему дать – внимание и заботу со стороны взрослых, прежде всего мамы. Пассивный ребенок, который тихо сидит в углу и никому не мешает, в принципе устроил бы всех взрослых. Привести его в спокойное состояние, убаюкать, утешить, отвлечь, поставить в угол, посадить перед телевизором, вручить джойстик от компьютерной приставки или планшет – чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. В обществе потребления комфорт и спокойствие стали базовыми социальными ценностями. Не случайно слова Comfort и Comforter (Утешитель) в английском языке созвучны. Транквилизирующие, усыпляющие практики вместо возбуждающих и мобилизующих «работа», «борьба», «достижения», «вперед и выше». Что же, можно понять: когда Ребенок спит, мать может отдохнуть. Но возникает вопрос: как теперь разбудить и вывести из состояния спячки физически здоровых, молодых, с хорошей генетикой уже давно-не-детей?
Старые методы воспитания обычно опираются на мораль. Для нас важно, чтобы Ребенок хорошо себя вел. Но чтение моралей, особенно строгим голосом, подавляет перепуганного Ребенка, а не побуждает к поиску и достижениям. Стимулы, которые делают Ребенка счастливым, любопытным и подвижным, – физического и даже физиологического порядка, а потом уже социального и нравственного. Не случайно самым эффективным педагогическим проектом признан проект «Вода и песок»: малышам предлагают творить чудеса из первородных элементов, погружаясь в них ладошками, и дети чуть ли не визжат от восторга.
Самой популярной спекуляцией, превозносящей способности детей, стала теория о детях индиго. Ее запустили журналисты, а психологи считают гиперкомпенсацией общественного сознания за столетия недооценки детей. На мой взгляд, о космическом происхождении Ребенка говорить пока рано. Но недооценивать опыт детей – непростительная ошибка. Сегодня в любой команде по производству инновационных продуктов, от компьютерных программ до новой еды, есть креативщик, который предлагает альтернативные «сумасшедшие», «дурацкие» решения. Креативщики, как и дети, думают не по правилам – и именно в этом их сила. Попробуйте предложить что-нибудь «дурацкое», получится в лучшем случае у каждого десятого. Но это у взрослых, а среди детей статистика гораздо более благоприятная: пять из десяти предлагают необычные решения! Под самым носом у заносчивых взрослых рождаются прекрасные альтернативные миры!
Эта книга призвана расширить представления родителей о закулисье отношений Ребенка с миром – с виду предметным, а на поверку самым что ни на есть человеческим, предельно насыщенным – переживаниями, надеждами, желаниями и страхами.
1. Любимые игрушки. Почему мы помним их всю жизнь?
• Игрушки, которые мы помним всю жизнь
• Основы игромании: сколько должно быть игрушек в детской?
• Психологические функции игрушек
• Игры по правилам и без. Сила импровизации
• Как научить Ребенка импровизировать. Зачем нам виртуальный коллективный разум?
• Универсальная игрушка: компьютер или конструктор?
• Дети и подарки
Игрушки, которые мы помним всю жизнь
– Всем дарили куклы, а у меня комната была завалена плюшевыми мишками.
– Психоаналитик сказал бы, что это верный способ развить у Ребенка эротоманию. Но можно и по-другому оценить – как желание родителя создать максимально комфортную, «мягкую» среду, насыщенную самыми приятными сенсорными переживаниями.
Попробуйте провести опрос на тему «Какие игрушки из вашего детства важны для вас до сих пор?» Рассказы других людей порой удивляют, даже трогают, но гораздо сильнее – свои собственные воспоминания. Мы помним не только как выглядели наши игрушки, но и как они пахли, какими были на ощупь и даже на вкус. Это происходит потому, что в свои воспоминания мы вкладываем особый смысл – личностный. Только мы знаем, каким сокровищем обладали. Всем дарят плюшевых мишек и кукол, но с теплотой мы вспоминаем только свои игрушки и связанные с ними переживания.
Вот примеры из моей переписки на Фейсбуке. Я задала вопрос: «Каким предметом вы больше всего дорожили в детстве?» Почти все мои друзья интуитивно подменили слово «предмет» словами «любимая игрушка». (М. О. – это я.)
Домик
С. П.: Мама рассказывает, что у меня было несчетное количество кукол, я их рассаживала в нашей однокомнатной квартире, и они занимали все пространство вдоль стен. Сама я этого не помню. Зато так называемые «комнатки» из пластилина, фольги, фантиков от конфет, бусинок, прочей дребедени я помню очень хорошо, будто недавно их мастерила. У моего Ребенка был уже настоящий домик для Барби, в который докупалась различная домашняя утварь. Внучке сейчас восемь месяцев, и я присматриваю большой домик, в котором могла бы разместиться она сама.
М. О.: Целая цепочка прослеживается. Но если вы так хорошо помните пластилиновые «комнатки», самым важным оказалось то, что было сделано своими руками!
С. П.: Мне кажется, причина не в этом. Выбор игрушек в моем детстве был небольшой. Вот я и лепила игрушечный мир своими руками.
Пластмассовый кот
Т. О.: В мене був пластмасовий кіт. Антропоморфна іграшка з червоним туловищем і білими ногами. Коли я був малий, вона була моєю улюбленою іграшкою. Вона в мене зберігалася до 16 років, поки не загубилася під час переїзду. Чогось іграшки в формі котів і самих котів любив найбільше.
М. О.: Якi чудовi спогади! Дякую
Железная дорога
А. Ш.: Железная дорога. Получил эту игрушку в 6 лет, в тот день, когда мы переехали из Вильнюса в Москву. Помню совершенно пустую комнату, стул, на котором сижу, и эту самую дорогу, которую тут же запустил. А больше всего я ею дорожил потому, что она, эта дорога, немедленно аннулировала чувство жуткого одиночества на новом месте. Родители знали, что дарить.
М. О.: Как я вас понимаю. Наверное, повинуясь тем же соображениям, когда я по научной программе поехала в Париж и потащила сына за собой, а ему было немножко страшно, я купила ему набор рыцарей, чтобы подбодрить.
Стеклянные и гипсовые шарики из типографии
А. К.: Стеклянные и гипсовые шарики завораживали меня тем сильнее, чем больше я убеждался в том, что разгадать их загадку невозможно.
М. О.: А что с ними в типографии делали? Стеклянные – бесцветные?
А. К.: Что делали, не знаю, хотя позже я работал в типографии. Может быть, намеренно потом не пытался выяснить? А шарики были прозрачные – белого, зеленоватого и голубоватого цвета.
В. М.: Точно! Шарики – вещь! У мамы на колхозном складе, где она работала, был ящик с шариками от подшипников. Как приятно было с ними играть! И вообще колхозный склад – это Эльдорадо!!! Там было все – от тракторных запчастей до пороха и свечей.
А. К.: Шариками от подшипников мы играли в бабки. Выбивали одни другими. Какой же невероятный звон был, тяжелый такой, когда они бились друг о друга!
М. О.: Мальчишки зажигают.
В. М.: Ящик был очень большой, и сам я не мог достать из него шарики, приходилось просить маму, но она давала один-два маленьких.
Розовая лопаточка
О. Б.: У меня была розовая лопаточка. Маленькая, помещалась в сумку или в карман. Со временем выгорела до белого, но любить ее меньше я не стала. Лет с трех, наверное, она у меня была.
М. О.: А вы ею копали или только носили, как талисман? Я заметила, что детям нравятся предметы небольшие, которые можно спрятать и щупать в кармашке.
О. Б.: И копала, и играла, как с героем сказки.
М. О.: Понимаю, она у вас была мультиваркой.
О. Б.: Да, мультилопаточка. А звала я ее… Никогда не догадаетесь! Лопаточка.
М. О.: Как нежно, прямо Лапочка-лопаточка.
Медвежонок Маша
О. К.: Маленький, с детскую ладонь, пушистый желтый медвежонок по имени Маша. У сестры был такой же, но мальчик, имя не помню. Эти медведи на протяжении долгого времени были самыми любимыми героями всех игр, всех событий и приключений.
С. Л.: Плюшевый медведь Мишка. Спал с ним, ел с ним, гулял с ним лет до шести.
М. О.: Как вы думаете, Станислав, мишки заменяли нам мамино тепло?
С. Л.: Вероятно, да.
Мишка-экстремал
И. П.: Маленький (10–15 см) набивной медведь из ну очень искусственного меха коричневого цвета; по форме напоминал желатинового медведя-конфету. Он активно занимался экстремальными видами спорта (альпинизм, плавание). Прожил класса до третьего школы (тайно, конечно).
М. О.: О, мишка-экстремал – это точно надежная защита от страхов, как вы думаете?
И. П.: Ну да, эту задачу он тоже выполнял.
И.С.: В детстве родители подарили мне мишку, а потом оказалось, что с ним играть нельзя, потому что он из Гомеля, а тогда была чернобыльская катастрофа. Мишку убрали в шкаф, а я переживала: как он там один в шкафу?..
Настоящий молоток
Н. М.: Молотком я гордилась, и долго. Он был настоящий. Когда мама купила надувной, я его тут же выбросила. Ходила по двору с молотком, что-то прибивала, по маминым воспоминаниям, в основном свои пальцы).
Л. К.: У меня до сих пор «секрет» – фантик с зайчиком – остался, так как я его не закопала, а приклеила вместе со стеклышком к обложке «Сказок Пушкина». И еще старенький мишка (я его нашла в шкафу еще до дня рождения, мне во сне приснилось, что мама там прячет что-то желтое и пушистое).
Пластмассовый зайка
О. Ч.: В пионерский лагерь я взяла пластмассового серого зайца Коську, он мне напоминал о доме. Но поскольку я была большая – пятый класс уже, все норовили у меня его отнять, чтобы поиграть.
M. О.: Поиграть с вами или с вашим Коськой?
О. Ч.: Коська точно никого не интересовал, а я была привлекательной, высокой.
M. О.: А заяц что?
О. Ч.: Не только пионеры, но и вожатый, и даже музыкальный руководитель у меня его отбирали и прятали за спину, перебрасывали другим, чтобы я погонялась.
M. О.: Жестоко, наверное. А по-другому не могли ухаживать?
О. Ч.: Мальчишки, какой с них спрос…
Радио в консервной банке
А. К.: Что я помню? Радио в консервной банке, сделанное для меня дедом.
М. О.: Это из двух банок? А мы использовали спичечные коробки, чтобы «по телефону» звать друг друга гулять на улицу.
А. К.: Да, такие телефоны мы протягивали из окна в окно девятиэтажного дома. И они работали! Классе в седьмом я придумал более продвинутый вариант – с динамиками и проводами. Это была наша тайная связь. Родители сильно и не ругались, хотя мы налаживали провода с риском для жизни, по внешней стороне дома.
М. О.: Нам было легче в частном секторе, но ниток не хватало.
А. К.: А радио было настоящим. Но корпус из консервной банки. У деда в столовой была своя запасная лежанка – такой будуар охотника. (У них был большой дом на Северном Кавказе, с коврами, шкурами сайгаков, рогами вместо полок.) И этот будуар отгораживался…
М. О.: Повезло же!
Молоточек
В.М.: У меня был маленький молоточек, когда мне было около трех. Дедушка сделал его из дерева, но боек покрасил черной краской, и он выглядел как железный. Я любил ходить и стучать – «ремонтировать» – по заборам, табуреткам.
М. О.: А ваша дочка стучала молоточком по клавишам ксилофона какого-нибудь. Она папина дочка?
В. М.: Да, папина, конечно! Молоточек она использовала по назначению: помогала забивать гвозди. Когда делаем рамки для пчел, я даю ей маленькие гвоздики, дощечку и настоящий (деревянный быстро потерялся) молоточек, чтобы не мешала. Она с удовольствием гвоздики забивает. Штуки две-три, а потом все равно мешать начинает. Ей скоро четыре года! Думаю доверить ей пилу.
Ежик
Н. Б.: Ежик! Мама подарила мне его на день рождения в пятом классе, потом он учился со мной в двух универах и жил в Сибири. Очень умный.
Г. Ч.: Резиновый, с дырочкой в правом боку?
Н. Б.: Нет, мягкая игрушка.
М. О.: Нельзя ли, Наташа, вашего ежика взять в репетиторы?
Е. З.: О боже, ежик! Он еще жив, курилка? Много он увидел на своем веку…
Карлсон
Т. С.: Пожалуй, Карлсон, которого подарила мне мама года в три, принесла в садик, помню этот момент очень четко. Но лет в восемь я его подарила однокласснице по широте души, о чем жалею до сих пор.
Мишка и «Король Матиуш»
Л. Ш.: Плюшевый мишка. Он так задумчиво рычит и цел до сих пор… моложе меня всего на четыре года!
М. О.: То есть он с вами по жизни?!
Л. Ш.: Ну конешшшшно. После развода родителей, пожив несколько лет с папочкой и мачехой, я переселилась к мамочке и отчиму. С собой я взяла мишку, «Короля Матиуша» в польском издании по-русски и два номера «Юности» со «Звездным билетом» – столько, сколько смогла унести в двух руках…
Кукла Инга
Ч. Н.: Добрый день, Ольга. В детстве у меня была большая кукла. Большая – это практически в мой детский рост, по плечо почти. Ее звали Инга. Инга появилась у меня в очень сложный период, когда я находилась на грани жизни и смерти. Мне тогда было года четыре с половиной, и этот эпизод я помню очень хорошо. У меня болел живот, и мама повела меня в больницу. Молодая практикантка сказала, что не видит ничего особенного и что я просто капризничаю, потому что разбалованная. Мы вернулись домой, живот болел, я пролежала два дня, а потом, по словам мамы, посинела и перестала подавать признаки жизни. В общем, опуская детали, практикантка проморгала аппендицит, и он, естественно, лопнул. Все решали буквально секунды. Было несколько сложных операций. В силу возраста мне не могли дать взрослую дозу наркоза, чтобы вычистить организм за один прием. После первой операции я должна была прийти в себя, немного окрепнуть, и только потом можно было делать вторую. Я была на грани детских сил, чтобы выносить адскую боль – у меня шрамы на весь живот, и мне приходилось лежать в одном положении, чтобы трубки, торчащие из живота, не выпали и не причинили лишней боли. В этот период и появилась Инга. Она сидела со мной, спала со мной, ела со мной. Все процедуры, которые делали мне, сначала делали Инге. И говорили: «Видишь, Инге не больно, и тебе не будет больно». Уколы, капельницы, перевязки – все это Инга прошла со мной. После второй операции врачи сказали, что мне нужно начинать ходить, чтобы не образовались спайки. Снова была адская боль, я не хотела вставать с кровати, хотела, чтобы меня не трогали. И тогда – о чудо! – я узнала, что Инга умеет ходить. Это была первая советская кукла, которую можно было водить за руку, и она вышагивала маленькими кукольными шажками! Мама говорила, что Инге скучно все время сидеть со мной у кровати, что она хочет погулять. Но без меня ей гулять неинтересно. Ради куклы, которая просто так терпела из-за меня уколы и капельницы, я вставала и шла с ней гулять, чтобы Инга не грустила! Потихонечку мы начали выходить из палаты, потом по коридору прогуливались, а потом и на улицу стали выходить. Врачи удивлялись моему мужеству, а я только теперь понимаю, что мужественной была моя мама, которая придумала всю эту игру и подарила мне Ингу. И да, надо ли говорить, – мы одевались с ней, как сестрички. Мама шила Инге платья, как у меня, заплетала ей такие же ленты в косы, как у меня, вязала ей гольфики и кофточки, как у меня. Я не представляю, как бы перенесла тот больничный период – больше полугода, – если бы не Инга! Я верила, что она тоже пьет таблетки, тоже терпит капельницы, что ей тоже делают уколы! Я верила, что она пришла ко мне в больницу, потому что мои домашние куклы рассказали ей, как мне плохо, и она хотела меня пожалеть. Я могла отказаться выполнять требования врачей, если мне чего-то не хотелось, но не могла отказать «просьбам» Инги выпить таблетку, пойти погулять или на перевязку, потому что все время помнила, что она находится в больнице только ради меня! Ну, вот такая история. Кстати, Инга жива-здорова, мама верит, что когда-нибудь у меня будет дочка, и вот тогда она подарит мою куклу ей.
Почему же нам западают в души те или иные игрушки? А остальные предметы оставляют равнодушными?
Основы игромании. Сколько должно быть игрушек в детской?
– Похожи ли мы на свои игрушки?
– На одну из них – обязательно!
Самая любимая игрушка навсегда остается в памяти, потому что она становится частью личности Ребенка. Те, с кем мы совпадаем, кого любим всей душой, впитываются в само ядро нашей личности, становятся сначала нашим вторым «Я», а потом и нашей сутью, «Я» – первым, настоящим!
Особенность и преимущество первой любимой игрушки заключается в том, что Ребенок может прижимать ее к себе, гладить, укладывать спать, кормить; он носит ее за собой повсюду и требует от взрослых особого отношения к ней, а значит – к себе.
Любимая игрушка – первый тотем Ребенка, выбранный им самим. Но это не символ, который передают юным членам племени, чтобы те поклонялись ему, сопровождая передачу мифами и легендами предыдущих поколений. Миф только формируется, создается в восприятии самого Ребенка. Это один из первых прекрасных личных мифов, которые укрепляют положительную идентичность Ребенка, его «Я».
Самая любимая игрушка не стоит на дальней полке, она в постоянном доступе. Кажется, никто из психологов до сих пор не заметил: значение любимой игрушки в том, что она восполняет сенсорный дефицит, потребность в тактильных, зрительных, слуховых, вкусовых ощущениях, которая нарастает по мере отделения Ребенка от родителей, мамы – прежде всего. Когда контакт с любимыми людьми сокращается по времени, игрушка может служить символической заменой взрослого, вызывать такую же приятную гамму сенсорных переживаний, какую дает взрослый, с единственной и очень важной разницей: игрушка никогда не бросит, не уйдет, не откажется обниматься и не оставит на ночь в темноте. Поэтому она становится сверхценной.
Не взрослый управляет чувствами и опытом Ребенка – Ребенок изучает свои ощущения и переживания и распоряжается своим сенсорным опытом. Это и делает игрушку особенной, важным инструментом управления своими эмоциями и страхами. Запоминается навсегда что-то по-настоящему важное!
Образ любимой игрушки насыщен человеческими переживаниями.
Дети приписывают неживым предметам черты людей, а собственные переживания – любимым игрушкам. Такое свойство детского сознания называется антропоморфизмом.
Когда мы вспоминаем что-то важное в нашей жизни, перед глазами возникает визуальный образ – картинка. Из-за распространенного мифа о том, что девяносто процентов информации человек получает через зрение, мы по привычке недооцениваем другие ощущения, прежде всего осязание, обоняние, вкус. Между тем не случайно дети чаще привязываются не к холодным пластмассовым пупсам, а к теплым, мягким игрушкам. Изучая предметы, дети часто берут их в рот, нюхают, прислушиваются к звукам, которые они издают. Все дети целуют свои игрушки, очеловечивая их, проявляя к ним любовь. Санитарные нормы строго запрещают даже думать о том, чтобы «брать в рот грязное» или «тыкаться в него носом», но эти нормы мы все нарушали и позволяем нарушать своим детям. Поэтому мы помним, как пахли наши любимые игрушки и какими они были на вкус.
Когда дети подрастают, мы учим их раскладывать предметный мир на свойства и качества. Но маленькие дети, начиная с полугода, воспринимают мир в целостности, для них он пока еще не разложим на свойства. Мир целостен и гармоничен, и Ребенок сливается с ним. Целостность мира включает в себя любовь, трепетное отношение не только к людям, но и к предметам, которые кажутся Ребенку живыми, и, безусловно, эти предметы дороги ему.
Понимая это, мы, взрослые, должны с тем же трепетом относиться к любимым игрушкам своих детей, если нам не все равно, что любит и что чувствует Ребенок. Игрушки – продолжение «Я» Ребенка, а любимая игрушка олицетворяет это «Я». Утилитарное отношение к предметам, в том числе игрушкам, формируется позже. У взрослых – когда им приходится тратить деньги и покупать все в магазинах.
Набор игрушек у современных детей довольно большой, и часто выбор определяется вкусами родителей. Надо понимать, что игрушки предлагает рынок; рынок ведет продвижение очень агрессивно, и ему нужно уметь противостоять. Фильтром здесь должны стать ценности семьи. Родителям следует ограничивать желания детей. Но по каким принципам? Исходя из цены? Учитывая экологичность? Это и есть утилитарный подход к игрушкам.
Многие родители недоиграли в детстве, поэтому выбор игрушек захватывает их. Часто они предлагают детям те игрушки, которые нравились и до сих пор нравятся им самим. «Посмотри, какая прелесть!» – говорит мама девочке, протягивая мишку, напоминающего того самого, с которым она играла в детстве.
Огромное счастье – любить то, что есть, а не то, чего нет и быть не может. Дети легко влюбляются в предметы, и дефицит может оказать стимулирующее воздействие на воображение. Исследования подтвердили: когда желаний у Ребенка много, а игрушек нет, он начинает использовать все подручные материалы, наделяя их символическими свойствами. Чем чаще Ребенок играет с каким-либо предметом, тем значимей он для него становится. Любовь к чему бы то ни было нарастает по мере нарастания вкладов и усилий, которые мы тратим на предмет своей любви. То же касается и людей. Другой формулы любви нет.
Детям лучше предлагать игрушки, которые можно использовать по-разному: кубики, конструкторы, цветные карандаши и пластилин – всем этим можно играть так, как предлагает фантазия.
Дефицит игрушек не только развивает воображение, но и способствует кооперации: дети играют вместе, делятся, обмениваются. Правда, современный Ребенок больше играет в одиночестве, перед экраном телевизора или монитором компьютера.
Сколько у Ребенка должно быть игрушек? Любимых – от трех до пяти, а то и вовсе одна. Потому что игрушечный мир – это прообраз мира реального, а в реальном мире у взрослого человека, как правило, не так уж много близких друзей. Поэтому заваливать Ребенка всем на свете и считать, что вы создаете ему развивающую среду, неправильно. Скорее всего, от пресыщения он вообще откажется играть, потеряет интерес к играм и игрушкам, которые так легко заменить на другие.
Проблема многих родителей состоит в том, что они откупаются от Ребенка игрушками. Покупка новых игрушек эксплуатирует потребность Ребенка в новых впечатлениях. Но так не сформируются глубокие привязанности, а сформироваться они могут только тогда, когда Ребенок играет одной и той же игрушкой в разные игры.
Мы можем винить производителей кукол Барби за то, что куклы перестали быть милыми и трогательными, а стали гламурными барышнями. Но ведь выбор есть!
Вместе с куклами перенимаются и ролевые модели поведения. Барби красиво одета, и это потом перенимают девочки. Но во всем нужно знать меру. Часто мамы, вместо того чтобы играть со своими детьми, следят за тем, чтобы все было тип-топ: чтобы игрушка была дорогой, а Ребенок хорошо выглядел, – ведь в этом случае мама получает социальное одобрение, укрепляет репутацию хорошей мамы. Но Ребенку все равно, какая у его мамы репутация, – он хочет, чтобы она поиграла с ним!
Психологические функции игрушек
– А зачем игрушки? Только пыль собирать? По-моему, это несовременно…
– Любовь вообще несовременная штука… Бесполезная, главное! И даже вредная иногда…
Помимо развития воображения и навыков социализации (при совместных играх) психологи отмечают и другие функции игрушек. Особо интересны, на мой взгляд, психоаналитические теории. Специалистов психоанализа интересует, как игры и игрушки влияют на формирование личности Ребенка. Отмечу, что в этих теориях роль любимой игрушки в последнее время принижается, а в теории доктора с говорящей фамилией Киндерманн и вовсе подвергается сомнению. Нельзя не отметить и то, что развитие теорий идет вслед за сменой родительских установок.
Карл Юнг разработал теорию личности, в которой внешняя часть личности, Персона, защищает Ребенка от социального осуждения. Персона – эта та часть личности, идеальное «Я», за которое нас не просто любят, а обожают! Исходя из этого, понятно желание Ребенка как можно активней скрываться под маской Персоны, казаться лучше, чем он есть на самом деле, – ведь только так он может получить больше любви и поддержки. С какого-то момента начинается экзальтация в Персоне, Ребенку кажется, что он и есть тот идеальный образ, которым кажется другим. Есть речевые обороты, описывающие такое состояние – раздувать щеки от важности, пыжиться, воображать, лопаться… В момент экзальтации срабатывает закон внутреннего баланса, и на другую сторону внутренних весов бросается темная часть внутреннего опыта, которую К. Юнг называл Тенью. Только когда Персона объединяется, интегрируется с Тенью, мы можем говорить об индивидуальности Ребенка.
Любимая игрушка позволяет вынести эти внутренние процессы вовне и помогает справиться с внутренним дисбалансом. С помощью предметов Ребенок может моделировать и управлять своими внутренними процессами. На разных этапах дезинтеграции-интеграции игрушка играет роль Персоны, «Я», Тени: то она нравится, то вызывает раздражение, то кажется плохой. Но от этого она не перестает оставаться любимой игрушкой. В реальной жизни мы видим, как дети могут сердиться на своих любимцев, даже бросать их на пол, отказываются играть, а потом жалеют их, гладят и искренне расстраиваются. К неаккуратности и небрежности всплески «плохих» эмоций не имеют отношения.
Последователи психоанализа называют игрушку переходным объектом – объектом, несущим в себе черты разных частей личности, на который проецируются разные психологические состояния Ребенка.
Но психология игры с предметами (игрушками) на этом не заканчивается.
Настоящая игрушка, которая пережила с нами не одно событие, готова выполнять самые разные функции и роли. Мальчики и девочки по-разному играют. Мальчики в игрушках ценят функциональность, технические характеристики больше, чем внешний вид. Когда мальчику попадает в руки игрушка, он начинает изучать, что с этой игрушкой можно сделать. В своих играх мальчики стараются занять как можно больше места и по горизонтали, и по вертикали. Они играют «везде», вызывая досаду у мам, которые хотели бы, чтобы пространство игры было ограниченно и потом не приходилось убирать всю квартиру.
Девочкам много места для игр не требуется, поскольку они более привязаны к частностям, более внимательны. Если для игры в магазин выбран стул, то события и будут разворачиваться в районе стула. Если лопатка используется как средство изготовления куличей из песка, то она уже не может играть роль ружья. Если играют одни девочки, то они прекрасно договариваются друг с другом, а в совместной с мальчиками игре обычно начинаются ссоры, особенно когда мальчишки путают функции предметов, а то и смешивают роли, бросая те реплики, которые по сюжету отводятся девочкам.
В воспоминаниях мужчин чаще фигурируют игрушки-инструменты, потому что мальчики связывают с ними возможность достижения цели. Цель достигнута, значит, я «всемогущий». Если игрушка дарила чувство исключительности, выросший мальчик будет это помнить, как и чувство триумфа победителя.
Но в наши дни значение игрушки в развитии ребенка принципиально изменилось.
С приходом новых экранных технологий дети стали расти в условиях сенсорного голода, без обратной связи с реальностью.
Так бы я определила основные последствия изменений, касающихся детских игр и игрушек.
Игры по правилам и без. Сила импровизации
– Ты играешь неправильно. Так нельзя!
– Я играю, как хочу. Это свобода, понимаешь?
Компьютерным играм предшествовала эпоха детских ролевых игр двух типов. Я называю первый тип игр человеческими, второй – технологическими.
Разведение ролевых игр на два типа важно не только для детского, но и для взрослого мира. Творчество и импровизация (человеческие игры) оживляют эмоции, испытывают и тренируют личность как Ребенка, так и взрослого, обогащают личность. Игры по правилам (технологические игры, логические игры-стратегии) не оставляют места личности, потому что правила незыблемы, а живые эмоции только мешают их соблюдать и грамотно комбинировать. Условно говоря, игры первого типа тренируют эмпатию и креативность и связаны с работой правого «интуитивного» полушария. А игры второго типа усиливают работу левого «рационального» полушария. Ролевые игры любого типа требуют от Ребенка вживания и импровизации. Есть также азартные игры, где правилом становится случайность, она вносит напряжение в игру, разгоняя адреналин у всех участников.
Стоит ли говорить, что левополушарные игры захватили планету и изменили вектор развития человечества. Сегодня даже психологи признают, что современный человек – гедонист и родился для удовольствий, подразумевая под ними простые телесные (гормональные) удовольствия. А ведь еще вчера нас убеждали в том, что человек, не гоняющийся за простыми радостями, и есть личность, способная расширить горизонты и повлиять на жизнь других людей.
Конечно, если вы родили Ребенка, будущее которого ясно определено и ему нет необходимости бороться за место под солнцем, жизнь гедониста ему подойдет. Международные компании, разрабатывающие экранные технологии, день и ночь заботятся о том, чтобы поставлять на рынок все новые и новые видеоигры. Сколько же мальчиков тридцати и более лет сидят по своим квартирам и с азартом жмут на джойстики, шуршат компьютерными мышками, пока не навалится усталость! Мамы изо дня в день жарят им котлетки и норовят вовремя покормить, умиляясь тому, что «мальчик покушал».
Но при переносе навыков получения простых удовольствий из игр по правилам в реальную жизнь ваш подросший Ребенок неизбежно потерпит фиаско. Это ошибочный путь – ориентироваться на формально-логические связи и незыблемые принципы (генеральные жесткие правила), никогда не изменять правилам, которым вы приучены с детства.
Существенная часть жизни людей состоит из импровизаций. Люди просто договариваются, как жить и как вести себя в той или иной ситуации. Вспомните сказку про Кая и Герду. Дети вместе играли и были счастливы, пока Кай не оказался в холодном пространстве Снежной Королевы наедине с кусочками льда. Все, что ему оставалось – перебирать ограниченный набор вариантов. Чертоги Снежной Королевы как раз и напоминают экранное компьютерное зазеркалье, в котором нет места теплым касаниям, переливам эмоций, обмену энергий, намекам, шуткам.
Последствия «технологического доминирования» в отношениях
• Взрослый, которому в детстве сообщали о поступках людей, не разъясняя их мотивов, живет в мире механических связей и формальных, бездушных отношений.
• Такой человек настроен на стереотипную оценку, а не на понимание чувств и намерений реальных людей. Он следит за соблюдением правил, а не за настроением и желаниями других участников взаимодействия (игры).
• В общении он проявляет недоверие к другим, опасаясь, что принципы могут быть нарушены, а значит, его могут обмануть. Если перевести такой подход в плоскость игры, то он будет контролировать партнеров, ловить на «горячем», уличать их, чтобы обеспечить себе преимущества. Такая игра интересна только для одного участника, остальным она просто невыгодна и не доставляет удовольствия.
• Установка на безоговорочное соблюдение формальных правил мешает нам любить и быть любимыми, потому что в строгих правилах содержится запрет на живые, спонтанные эмоции. Но игра, как и жизнь, – это радостный процесс, а не вынесение приговора.
• Люди – всегда, при любых обстоятельствах верные принципам, – фанатики, не знающие компромиссов. Часто они сознательно или бессознательно множат конфликты, в которых чувствуют себя «на коне»: конфликт – это повод предъявить свой кодекс поведения, список правил и претензий.
Как научить Ребенка импровизировать. Зачем нам виртуальный коллективный разум?
– Импровизируют музыканты, актеры. А в жизни это может быть опасным занятием!
– Жизнь как раз учит импровизации. Это та же адаптивность. Как в русской пословице, которой мы редко следуем: «семь раз отмерь», то есть проиграй варианты в уме, и только потом отрежь.
Верный способ научиться импровизировать – это задавать вопрос: «А как еще можно сделать то же самое?» Есть много способов приготовить яичницу, дойти из пункта А в пункт Б, выразить любовь…
– Ой, мне хотя бы одно решение найти! – скажете вы.
Но тот, кто ищет «хотя бы» одно решение, живет с очень низким уровнем притязаний. Выбирая и радуясь первой попавшейся возможности, человек не ищет новых, иных решений, возможно, более эффективных.
Поиск и выбор – те навыки, которые обогащают жизнь Ребенка. Как говорят психологи, есть люди-инструменты, а есть люди-возможности. Первые живут в экономном режиме, оставляя минимум возможностей, отсекая все ненужное. Наследники отечественной аскезы, люди-инструменты предпочитают предметы, недооценивая возможности человеческих связей. Люди-возможности создают вокруг себя избыток контактов, связей, проектов, которых хватит на десятерых!
Обсуждать стоит любую новую информацию, с которой сталкивается Ребенок. По счастью, дети сами задают вопросы. Но только до тех пор, пока на них отвечают. Наберитесь терпения и не отмахивайтесь! А для того чтобы расширить репертуар ответов, можно использовать коллективный разум социальных сетей.
В зоопарке я подслушала детский вопрос: «Почему животные в Африке растут в длину (змеи, жирафы, страусы)? А на Севере – в ширину (тюлени, медведи, котики)?»
Вот варианты ответов, которые мне дали друзья на Фейсбуке:
В. С.: На юге солнышко к себе подтягивает, а на севере – к земле жмутся поисках тепла.
У. З.: А слон? А носорог? А крокодил?
М. О.: Слон раньше был мамонтом. И у него нос длинный!
В. Т.: Вопрос гениальный. Ответ простой: на Севере стабильно холодно, поэтому все живое стремится к форме шарика, покрытого слоем жирка. В Африке днем испепеляющее солнце, высокая температура, но ночью холодно, и нужно управляться с терморегуляцией: охлаждаться в жару, чтобы не свариться, и выжить, когда температура резко снизится. Игольчатое покрытие, жесткая короткая шерсть – все это для того, чтобы можно было легко взять и отдать энергию.
В. Ш.: Это просто. Ближе к экватору сила тяжести меньше, поэтому расти вверх легче. Поэтому и деревья там выше, и животные вверх тянутся. Ближе к полюсам сила тяжести больше, соответственно и расти вверх тяжелее. Деревья ниже, и за ветками, чтобы прокормиться, не надо высоко тянуться.
М. О.: Кстати, еще одна гипотеза: хромосомы Х, отвечающие за «ширину», приживаются лучше в северных широтах, где все чинно и спокойно передвигаются, а не носятся, как стада пугливых длинношеих газелей с ярко выраженной хромосомой Y.
А. В.: Про еду – это верно. Ягель – внизу. Листья баобаба и пальм – высоко вверху. Жрать захочется, еще не так вытянешься.
К. К.: По мне, так самая рациональная концепция. Поддерживаю. Тот же слон тянется хоботом. А антилопы на задние ноги встают, а то и на деревья запрыгивают.
Ю. Г.: А еще, если солнца мало, то и витамина Д мало, кости не выдерживают нагрузку, не могут расти. У нас даже жирафы будут сутулиться и страдать шейным остеохондрозом. Вот я страдаю, а на юге у меня б такая же шея была, как у жирафов.
Н. Ш.: Что вы такое говорите! Ровно наоборот! Витамин Д как раз добывают из северных рыб типа трески. Если питаться мясом белых медведей, то можно умереть от передозировки витамина Д. Так погибла, по гипотезам, не одна полярная экспедиция. У северных животных генетически очень много витамина Д.
Ю. Г.: Да? Содержание витамина Д в организме увеличивается от пребывания на солнце, по крайней мере, у млекопитающих это так. Правда, избыток витамина Д может разрушать кости, но для наших краев это редкость.
Е. З.: Я бы сказала, что в Африке жарко и поэтому не нужны жировые запасы. А на Севере жировыми запасами питаются.
А. Г.: В Африке бывает очень холодно, особенно по ночам. Знаю по собственному опыту.
А. В.: Слон или бородавочник всяко толще пингвина. А страус заметно наваристее. Страусу через ямы прыгать надо, удирая от врагов, а пингвин на суше врагов вообще не имеет, и передвигается он по идеально ровному льду.
Е. З.: Слон и бородавочник размером больше пингвина. Надо сравнивать относительные величины.
А. В.: Относительное относительно. Самый большой полярный медведь в разы меньше мелкого слона.
Е. З. Критерии сравнения – масса тела, рост и жировой запас. Кстати, слоны и медведи медленно передвигаются, а гепарды быстро. Поэтому гепарды поджарые, а слоны толстые.
А. В.: Пустынные лисы и койоты от песцов практически не отличаются в анатомических пропорциях.
Е. З.: На самом деле параметров общего и отличного можно много собрать. Вплоть до ДНК. Есть ли кто-то, кто это выявил и систематизировал?
А. В.: Ага. В любом учебнике по зоологии можно прочесть.
С. О. В Африке животные спортом занимаются. А в Арктике жиром запасаются.
Для чего я привела эту переписку? Чтобы вы увидели, как можно проявлять импровизацию, отвечая на вопрос. Это – вариант «человеческой» игры, без правил, поэтому ответы могут быть неожиданными. На самом деле, когда Ребенок спрашивает о чем-то, можно дать волю воображению: «Почему мяч круглый?», «Почему японцы едят палочками?», «Что холоднее – стекло или зеркало?», «Какие гвоздики сильней?», «Почему на деревьях разные листья?» «Можно ли пить дождик?» «Почему люди спят на подушках?» – но поскольку Ребенку важно знать истину, ведь он познает мир, правильный ответ обязательно должен прозвучать.
Универсальная игрушка: компьютер или конструктор?
– Что лучше подарить Ребенку на день рождения?
– Это очень просто: конструктор! Актуален в любом возрасте! Подойдет и внуку, и дедушке, и дочке, и папе…
Инструменты, которые были в распоряжении наших далеких предков в примитивных сообществах, вручались детям очень рано. Вместо игрушек дети имели дело с настоящими топорами и стрелами, разве что меньшими по размеру. Первобытный принцип «чем раньше, тем лучше» в отечественном обучении практикуется до сих пор. Но опыт показывает, что те, кого лишили радости общения с игрушками, потом, уже во взрослом возрасте, добирают, «впадают в детство».
Система навыков, необходимых для нормальной жизни человека, существенно изменилась, и раннее обучение – во многом реликт прошлой жизни. Просто родители испытывают желание как можно раньше получить гарантию, что Ребенок сможет сам обеспечить себя в будущем. Как будто мы завтра умрем.
Если в условиях первобытно-общинного строя, да и в более поздние времена причина родительского ажиотажа объяснялась опасностями естественного отбора, из-за которых жизнь даже взрослого человека могла прерваться в любой момент, то сегодня родители торопятся «научить всему» своих чад под давлением жесткой социальной конкуренции. Главным капиталом для нас стало время. Именно его родители пытаются сэкономить в общении с детьми, напирая на самостоятельность и вооружая детей сложными и дорогими инструментами.
Буфером между желанием родителей привить Ребенку навыки самостоятельности и страхом, что с ним что-то случится, стал компьютер. Компьютер кажется безопасным инструментом, с которым, как с нянькой-роботом, можно оставить Ребенка наедине.
Более того, компьютер рассматривается как универсальный инструмент, который «может все». Уже сейчас понятно, что история инструментов, которая начиналась из приспособления камней и палок – универсальных предметов – под определенные функции, рано или поздно повернет в сторону всемогущих универсальных роботов. Но смогут ли роботы заменить универсальные предметы, из которых родилось много детских игрушек и игр?
Оставляя этот вопрос открытым, зададим другой очень важный вопрос: стоит ли вести Ребенка по традиционному пути, знакомить его с универсальными предметами и опосредованно прививать ему не нужные в современной жизни навыки? Стоит. Компьютер теперь есть в каждом доме, и дети запросто обращаются с ним, когда им нужна определенная информация (школьные уроки), когда они нуждаются в общении (социальные сети) и когда им хочется поиграть. То есть можно сказать, что компьютер – это универсальный инструмент распределения информации, контактов и развлечений. А конструктор, который, вероятно, также есть в каждом доме (трудно представить маму, которая не купила бы его своему Ребенку), пришел в детскую жизнь совсем из другой сферы деятельности человека – из сферы производства.
Связаны ли между собой компьютер и конструктор? Да. И компьютер, и конструктор предоставляют возможности, но если компьютер предоставляет виртуальные возможности, то конструктор учит соотносить, сравнивать, комбинировать возможности опытным путем, подключая не только голову, но и руки.
Вернемся, однако, к универсальным навыкам и предметам. Универсальные навыки и предметы нужны Ребенку как те кирпичики, из которых, как из конструктора, он будет собирать свой образ жизни, свой будущий бизнес.
Именно конструктор, а не компьютер должен стать универсальной игрушкой, подсказывающей Ребенку: свою жизнь, все самое важное в ней, можно собрать из базовых деталей.
Важный момент: игру с конструктором можно превратить в социальное действо, что служит еще одним плюсом в развитии Ребенка. Участвуйте вместе с Ребенком в конструировании, наблюдайте за тем, что он делает, подсказывайте, если Ребенок испытывает затруднение. Игра с конструктором требует не только интеллектуальных усилий, не только навыков взаимодействия, но и определенных физических усилий.
Подведем итог. Конструктор требует большей включенности от Ребенка, чем компьютер, работающий по принципу «Нажми на кнопку, получишь результат!»
Дети и подарки
– Что лучше подарить Ребенку на день рождения? Что-то полезное? Или дорогое, чтобы не завидовал другим?
– Подарите что-то красивое, чтобы можно было долго любоваться!
Во взрослом мире подарки – это авансы и кредиты, которые мы выдаем друг другу в надежде на продолжение истории. Но подарки-то мы получаем с детства, и в детстве роль подарков несоизмеримо выше, чем когда вам исполнится -дцать.
Подарки прямо влияют на самооценку Ребенка. Если они превосходят его ожидания, самооценка взлетает, Ребенок понимает, что его любят. Если подарок формален, без фантазии, лишь бы был, да еще и вручается без добрых слов, Ребенок чувствует себя обманутым, разочарованным, убитым. Последствия травмы отвержения могут быть самыми ужасными.
Страдающая от рака героиня голливудского фильма «Август» (ее играет Мерил Стрип) рассказывает дочерям о подарке на день рождения, что ей преподнесла родная мать. Девочка-подросток так хотела красивые сапожки, а вместо этого в коробку положили грязные, в навозе, дырявые сапоги. Шутка взрослых, сюрприз, который обернулся кошмаром длиною в жизнь.
Вот почему некоторые люди не любят свой день рождения. Они никогда не приглашают гостей, стараются уехать в этот день подальше. К дежурным поздравлениям они относятся скептически, а подарок могут не принять.
Свое нежелание праздновать такие именинники объясняют тем, что деланое внимание, формальные пожелания «здоровья, счастья и хорошего настроения» им не по душе, поэтому они всеми силами стараются абстрагироваться. Так и есть – не по душе, но вся эта выгородка из аргументов – глубокая психологическая защита травмированного Ребенка, чьи надежды были обмануты, а чувства отвергнуты, и не важно, что детство осталось позади. Неверие в свое счастье – тоже оттуда. «Она отравила мне жизнь», «Я никогда не забуду опыт унижения и стыда в свои дни рождения», «Лучше бы меня убили, чем смешали мои мечты с грязью, а потом заели тортом…» Все эти горькие фразы из историй моих клиентов, для которых травма отвержения – сродни мукам ада. Какой там день рождения, когда в самый счастливый момент ты можешь вытащить черную метку.
Если человек психологически избегает признания, ему не стать триумфатором. Даже если на голову свалится миллион долларов, причем не просто так, а заслуженно, как это случилось с математиком Перельманом, желание укрыться, отстраниться от всех потрясений будет только нарастать. На пике славы вместо триумфа некогда отверженный Ребенок будет переживать панику. Самые гениальные дети могут вырасти несчастными, если их чувства будут отвержены. Вероятно, именно это и произошло с Перельманом, когда он отверг свой миллион.
Психологический смысл дня рождения – формирование у Ребенка чувства избранности, положительной социальной идентичности (признание Ребенка членом определенной социальной группы).
Родители сомневаются, праздновать день рождения или нет, начинают говорить, что на торжество уйдет слишком много денег, а для них это дополнительная нагрузка. Ребенок начинает беспокоиться: «Рады ли они вообще, что я родился?» Если вместо заветной машинки мальчишке подарить рейтузы (все равно их надо покупать), ему будет нанесен роковой удар по «Идеальному Я».
Другими словами, или мы признаем все самое лучшее в своих детях, укрепляем их «Идеальное Я», вселяем уверенность в будущих победах, или уничтожаем все самое светлое, ставим крест на амбициях и идеалах. Третьего не дано.
Кстати, об амбициях. Практика строгого воспитания приучает относиться к ним как к чему-то избыточно неприличному. Но скромные дети никогда не вырастут лидерами, даже если природа наградила их невероятными способностями. Скорее из них вырастут добросовестные исполнители, привыкшие подчиняться корпоративным порядкам. Безынициативные, безликие, неспособные пережить настоящий триумф.
Если кто-то еще не выбрал для себя стратегию, баловать Ребенка или нет, уверяю, что в день рождения нужно не пожалеть усилий, а главное – превосходных слов в адрес именинника. День рождения – это подготовка Ребенка к будущему триумфу, который может и не состояться, прими родители решение «не отмечать».
Бывает и так, что Ребенок заранее знает, что ему подарят: родители обещали, а свои обещания они всегда выполняют. В этом случае подарок с благодарностью принимается, но иногда возникает мысль: «Могли бы и фантазию проявить!» Самооценка при вручении известного подарка не страдает, а вот уровень притязаний падает.
Ребенку важно ощущать себя не только любимым, но и особенным, везунчиком, которому выпал счастливый билет родиться у таких замечательных родителей, в такой замечательной семье. И не только ощущать – найти этому подтверждение, слышать это. День рождения или любое другое торжество – идеальное время, чтобы восполнить недостаток внимания, если таковой имеется, и успокоить детские страхи: «Мы тебя очень-очень-очень любим!» Когда Ребенок слышит это, когда он убеждается в том, что занимает достойное место в социуме (хотя он еще и не знает, что это такое), – для него это День триумфа.
Учите Ребенка переживать триумф. День рождения – лучший повод к этому.
Приглашайте в гости на дни рождения и другие праздники интересных собеседников – проводников в другие миры. Дети многому учатся, просто наблюдая за взрослыми. Как правило, им интересно то, что обсуждают взрослые, даже если затрагиваются сложные, совсем недетские темы. Ложные нормы вежливости предписывают Ребенку, получив свою порцию внимания, уйти в свою комнату, не мешать общаться взрослым и тем более не встревать в разговор. Но в 5–6 лет интерес к взрослым разговорам насколько велик, что дети часто подслушивают, вместо того чтобы тихо играть у телевизора.
А что, собственно, подогревает этот интерес? Причин несколько.
• Родители предпочитают не рассказывать ему о своих делах. Но в четыре года Ребенок уже в состоянии заметить, что за его спиной что-то происходит. Папа и мама шепчутся, заговорщицки подмигивают друг другу: «Да он ничего не поймет!» Как это не поймет?!
• Ребенку интересно, что ждет его впереди. Как живут эти взрослые, что происходит в их мире?
• Ребенку интересны люди своего пола, он пытается представить, будет ли таким, когда вырастет. Хотя мы настойчиво напоминаем Ребенку, что он похож на родителей, он надеется, что не все так фатально! Один в один? Да этого не может быть! Безусловно, мама и папа – самые лучшие, но девочки любят рассматривать маминых подруг, их платья, туфли, прически. А мальчики не прочь послушать споры отца и его приятеля, даже если говорят они о сугубо производственных проблемах.
Некоторые люди производят столь сильное впечатление, что дети перенимают у них стиль поведения, манеру речи. Бывает, что не родители, а, скажем, их друзья влияют на выбор профессии или даже на выбор брачного партнера. В конечном счете они определяют биографию.
Оглядываясь назад, мы видим образы идеализированных взрослых. Широта ума, обаяние, эмоциональность, дружелюбие – эти и другие «подсмотренные» качества складываются в эталон «идеального человека». Мы ведь говорим про дни рождения? Про гостей? Прекрасно! Вот один гость садится за рояль и свободно, красиво играет. Другой увлекательно рассказывает о своей поездке в Венецию, город на воде! А кто-то садится рядом, чтобы поиграть в детскую игру, но общается по-взрослому – сдержанно и уважительно. Кто-то приносит в подарок интересную книгу с картинками, кто-то новую компьютерную игру. Все это повышает самооценку Ребенка. И, конечно, помогает пережить триумф.
В свою очередь именинник получает возможность проявить внимание к гостям, поухаживать за ними. То есть ощутить себя взрослым.
Детское предчувствие будущего, масштаб этого будущего и его тональность рождаются из воспоминаний о взрослых. И очень важно, какие подарки этот взрослый преподносит Ребенку. Пожалуйста, не забывайте об этом, когда собираетесь в гости в дом, где есть дети. Встреча с вами может оказаться судьбоносной для Ребенка. (Если вы, конечно, верите, что способны произвести сильное впечатление, будоражить детское воображение реальными историями и красивыми фантазиями.) Детям обязательно надо что-то дарить. Раньше было правило: в дом, где есть дети, приходить с пустыми руками – моветон. Обязательно нужно принести какую-то мелочь: игрушку, шоколадку, магнитик, набор карандашей, фломастеры…
Кроме подарков, важная часть поддержки самооценки Ребенка – общение, совместные игры.
Только в общении Ребенок может узнать, как к нему относятся на самом деле, насколько признают его в мире взрослых, котируются ли его успехи в глазах взрослых и вообще, как он выглядит в глазах других.
Ну, а подарок – это и есть тот магический предмет, который показывает, что Ребенок особенный. Подарок – это атрибут избранности, и важно, чтобы сам Ребенок воспринимал его именно так.
Четыре типа подарков
Подарки бывают разные, но и дети разные. Один и тот же подарок может до слез не понравиться одному Ребенку и вызвать восторг у другого.
Внимание! Есть четыре типа подарков, и они, как ни странно, соответствуют четырем типам темперамента.
О типах темперамента я много писала в книге «Американские дети играют с удовольствием, французские – по правилам, а русские – до победы». Но о подарках в этом контексте я пишу впервые!
С темпераментов давайте и начнем. Дети, как и взрослые, делятся на холериков, сангвиников, флегматиков и меланхоликов. Моя теория состоит в том, что исторический отбор оставил среди нас, россиян, главным образом воинственных холериков и страдающих меланхоликов, а не жизнерадостных сангвиников и интеллектуально-вовлеченных флегматиков. Но в данном случае статистика не важна, важны различия, потому что подарки любят все.
Дети-холерики (возбудимые, «красные» по типу реакции) любят подарки двух категорий: во-первых, не просто красивые, а очень красивые, яркие, те, которыми можно любоваться и которыми можно похвастаться. Во-вторых, полезные, но недешевые подарки вроде гаджетов. Совмещение того и другого (красоты с функциональностью) делает заветным и крутой велосипед, и навороченный компьютер, и телефончик со стразами. Мы можем назвать такие подарки предметами престижа, да, собственно, это так и есть. Демонстрируя полученные подарки, дети показывают своим сверстникам, что их не просто любят – их боготворят! Интересно, что эти привычки – с гордостью демонстрировать подарки – равно как и мироощущение («меня любят») сохраняются надолго и переносятся во взрослую жизнь. Взрослые тетеньки хвастаются дорогими подарками поклонников, как будто это и есть главное доказательство любви.
Подарки могут быть инструментом подавления и способом доказать свое превосходство в конкурентной, иерархически устроенной среде. Есть культуры с горизонтальными связями, предполагающими демократию, и в них люди с разными доходами общаются на равных. Есть культуры с иерархическим устройством, в которых по мере повышения социального статуса меняются коды поведения, речевые коды и дресс-коды. Подарки в таких культурах подчеркивают статус. Они могут унизить, а могут превознести.
«Мне все время казалось, что меня не любят родители. Любят на словах, а потом дарят колготки коричневого цвета, хотя колготки в детском саду носили только девчонки. Эта привычка дарить что-то полезное и подешевле так и укоренилась. Я просил их купить мяч, велосипед или часы, мне обещали, но, когда приходило время, снова какой-то обносок или ширпотреб из универсама. Поэтому я не люблю дни рождения – для меня это дни особого унижения. Теперь я сам могу купить себе то, что захочу. Что толку ждать, нарываться на обман и разочарования? Опыт стыда и унижения я вынес из детства».
Я бы не смешивала подарки и статусные покупки. Из соображений политкорректности. Выбор за вами: хотите демократичный праздник, когда каждый может прийти и поздравить, или хотите закрытую тусовку для избранных? Если, допустим, у вас есть возможность (и желание) купить своему Ребенку автомобиль на совершеннолетие, то будет логично, если на праздник к нему придут детки таких же богатых родителей, то есть из всех стратегий социализации вы выбираете для своего Ребенка изоляционизм. Но в золотой клетке счастлив никто не бывает. Клетка – это решетка, тюрьма. Ваш Ребенок будет лишен общения с хорошими, талантливыми, умными и добрыми людьми, настоящую любовь и тепло познать ему будет трудно.
Сангвиники – это второй после холериков «сильный» тип темперамента. Сангвиников можно назвать «желтыми», солнечными, в отличие от «красных». «Желтые» полны оптимизма, любят путешествовать и общаться. Лучший подарок для сангвиника – тот, который подчеркнет его социальный статус. Заметьте: не финансовый, а социальный! Отношения людей они ценят больше материальных благ. Сангвиники умеют добиваться признания. А еще им нужны новые контакты и новые впечатления.
Дети-сангвиники обожают рассматривать карты, глобусы и энциклопедии. Они любят смотреть канал «Дискавери» и читать о дальних странах. Если в комнате вашего Ребенка еще нет такого артефакта, то пойдите и купите ему карту. Даже если это карта Китая или Мадагаскара, Ребенок будет счастлив.
«Мне много дарили подарков – от сережек до фортепиано. Мама мечтала, чтобы я стала звездой, поэтому мы устраивали концерты на каждом дне рождении. Но музыкантом я не стала, талантов не хватило. Я стала радиоведущей – тоже звуки и люди!»
Также сангвиникам нравятся настольные групповые игры, которые требуют не только везения, но и сообразительности.
Игры с мячом, групповые или парные, вроде пинг-понга, хороши как для «желтых», так и для «красных». И те, и другие любят быть звездами, стремятся организовывать вокруг себя «движуху», любят побеждать и получать награды.
Детям холерического склада нравятся физические нагрузки, просто сидеть за столом и веселиться им скучновато. Они устают от вынужденного физического бездействия, все время ерзают, оглядываются по сторонам, начинают громко разговаривать.
Холериков интересуют мощные раздражители: очень сладкая или очень соленая еда, громкая музыка, харизматические танцы. Когда они вырастают, могут добавиться крепкие напитки. Я не пугаю. Я пытаюсь объяснить давно замеченную закономерность: «плохие» зависимости быстрее формируются не у «слабых, безвольных» детей, а как раз у людей сильных темпераментов.
Но есть дети совсем противоположного склада – флегматики. Сказать честно, они и не очень-то нуждаются в днях рождения. Во-первых, они не любят суету, во-вторых, они равнодушны к социальным контактам. Флегматикам присвоили «зеленый» цвет за их страсть к интеллектуальному напряжению. Они не просто интересуются материальным миром, как, например, холерики. Они пытаются проникнуть в мир идей, смыслов, связей.
Невыносимая вещь для «зеленых» – жить как все, делать как другие. Это «эксклюзивные» дети. Поскольку торжество по случаю дня рождения сродни ритуальному действу с набором дежурных предписаний (тушить свечи на торте, произносить тосты в честь именинника, играть в интересные для всех игры и т. д.), флегматики не любят участвовать во всем этом, в том числе они не любят ходить на чужие дни рождения. Но зато они могут сутками, не уставая, заниматься сложными интеллектуальными задачами.
Лучший подарок Ребенку-флегматику – нечто особенное, удивительное, требующее от него определенных усилий в освоении. Энциклопедии – для них. Если они что-то коллекционируют, то это не марки, которые собирают все, а что-то такое, о чем большинство даже не догадываются, например, карандаши со штрих-кодами или компьютерные игры с персонажами, у которых имена начинаются на букву «П». Флегматикам важны оригинальные идеи.
«Напротив кровати, где я спал, когда был маленький, стоял стул, на котором жили несколько собак. Все разные. Одна, самая большая, при нажатии на живот начинала тявкать. У каждой было свое имя, свой характер, и между ними были определенные отношения. Периодически я играл с одной из них или со всеми сразу».
То, что вы только что прочли, – проективное описание типичного флегматика: много собак, но одна из них особенная, лает. Она главная, все ее слушают.
И наконец, четвертый тип – «синие» – меланхолики, дети с развитым воображением. Главное определение для них – любовь, которой всегда мало. Им больше, чем другим, нужны ободряющие слова, похвалы и объятия. Меланхолики живут с минорным настроением, которое сами считают нормой. У них заниженная самооценка, заниженные ожидания, и вообще они во всем «недотягивают». Систематическая поддержка может сделать меланхолика успешным человеком, но внутренне он всегда будет готов к поражению. Поэтому и подарки такие люди встречают с недоверием: «Это мне? Это для меня?!»
Основное состояние меланхолика – созерцание, вот из этого и исходите. Ему подойдет все, что можно долго рассматривать (и тем самым успокаивать). Книга с хорошими иллюстрациями, редкие марки, сувениры с подвижными частями – встряхнешь, и за стеклом разыгрывается, скажем, метель. (Я не понимала, для кого такие игрушки, скучно же, пока ко мне не приехала сестра с племянницей. Девочка с восторгом наблюдала за тем, что происходит за стеклом. Красиво же!) Что еще? Диск с сентиментальными мелодиями, для тех, кто постарше, – фильм, история любви со счастливым концом. Напомню, любовь – это основная тема меланхолика, и перепевы историй о Золушке как раз для них. Меланхолику легче жить, если знать, что рано или поздно произойдет что-то хорошее.
Именно потому, что меланхоликам свойственно переоценивать чувства, они бывают несчастными в любви, но это тема другой книги.
«Лучший подарок из детства – пупсики. С ними можно было не просто играть – разыгрывать разные мелодрамы. (Они универсальные актеры.) Во всем остальном мое детство было совершенно детдомовским, без привязанностей к кому и чему бы то ни было. Кстати, у моей подруги была старшая сестра (намного старше нас, лет, может быть, на пятнадцать), так она обшивала пупсов с двигающимися ручками-ножками – такие пупсики были уже пределом мечтаний…»
Главная тема сангвиников – публичное признание, холериков – обладание материальными ценностями, флегматиков – редкие идеи, меланхоликов – красивые мелочи. Это важные подсказки к поиску подарков.
И последнее: собираясь отмечать день рождения, подготовьте небольшие сувениры не только имениннику, но и его гостям. Взрослые часто недооценивают фактор детской зависти. Если Ребенок приходит на день рождения к приятелю и понимает, что у него никогда не будет такого, он будет чувствовать себя подавленным, и это неприятное чувство может закрепиться надолго. Симпатичный сувенир способен поменять «минус» на «плюс».
2. Магические предметы: откуда они берутся и как работают
• Как простые предметы становятся магическими
• Что, почему и от кого прячут дети
• Как поддержать уверенность и спокойствие в Ребенке, когда вам нужно на время уйти
• Как простые предметы утоляют психологический голод и повышают жизнеспособность Ребенка
• О том, как ритуальные действия помогают снимать напряжение и менять мир
• Как преодоление препятствий позволяет Ребенку аккумулировать энергию жизненного потока
Как простые предметы становятся магическими
Свойства магических предметов отражают свойства внутренней жизни Ребенка: амбивалентность эмоций, избирательность восприятия, памяти, конкретно-образное мышление
Люди приписывают одному и тому же предмету или существу не только положительные, но и зловещие функции. Та же кошка, которая только что нас умиротворяла, перебежав перед нами дорогу, уже воспринимается как предвестие неудач.
Амбивалентность эмоций обеспечивает возможность предписывать добро или зло любому предмету. По сути, наши далекие предки, прародители суеверий, учат нас поступать со своей психикой так, как если бы она была материальна: раскладывать на «плохое» и «хорошее», стараться избавляться от «плохого» и накапливать «хорошее». Не только окружая Ребенка предметами, но и обозначая их, приписывая им те или иные свойства, мы создаем определенную среду, которая может держать Ребенка в напряжении, может успокаивать, а может и радовать.
Амбивалентность эмоций проявляется тогда, когда мы оцениваем события, людей и предметы, «взвешивая» их на внутренних весах. Природная адаптивность заставляет и учит людей балансировать между стрессом и эйфорией, хватаясь за возможности, прижимая к себе заветные сущности. Сталкиваясь с неизвестным, психика проводит примерку, мгновенную оценку – угроза или награда?
И тут обнаруживается закон: люди склонны драматизировать события, давать отрицательные оценки и прогнозы. Психика любого жителя Земли, с самого детства, на всякий случай преувеличивает неприятности. Эксперименты показывают, что в условиях неопределенности даже нейтральные картинки чаще оцениваются как тревожные, «плохие». Одно из самых простых и убедительных объяснений: опыт выживания в условиях естественного отбора сделал опасные сигналы более значимыми. Выделяя из всех стимулов отрицательные сигналы, человек совершает положительную работу по самосохранению. Вот такая диалектика.
Точно так же и Ребенок избирательно реагирует на сигналы. Закономерность, пожалуй, такова: эмоционально неуравновешенные дети (холерики и меланхолики) склонны драматизировать события: холерики сердятся, становятся агрессивными, меланхолики начинают плакать. Дети с уравновешенной психикой будут ориентироваться на «хорошие» сигналы и приметы, а «плохие» – игнорировать как незначимые. В нашу систему воспитания «зашиты» приемы воспитания неуравновешенных детей. Главная причина неуравновешенности детей – непоследовательность в воспитании, когда мама или папа принимают разные решения или кто-то из родителей часто меняет решения.
Предмет несет печать реакций взрослых и детей. Если мамочка с любовью застилает постельку для своей дочки или сыночка, запах простыней, цвет наволочки могут ассоциироваться даже у взрослых с добрыми словами и нежными материнскими жестами. Но если в комнату Ребенка будет влетать разъяренный родитель с дежурной репликой «Опять бардак!», в памяти останется ощущение тревоги и дискомфорта, исходящее и от родителя, и от своего пребывания дома. Ребенок будет мечтать об одном: поскорее вырасти и избавиться от этого тихого ужаса, от постоянного психологического давления, опыта ежедневной агрессии и нелюбви. У детей, которых часто критикуют, упрекают в неаккуратности, «бардак» в комнате будет только нарастать. Он отражает внутренний сумбур, неприятные переживания, которыми Ребенку не с кем поделиться. Его переживания свалены в кучу, как вещи вокруг. Критика парализует, если она избыточна. И у взрослого опустятся руки, если начальник на работе начнет преследовать, критиковать, выставлять напоказ плохо сделанную работу. Разбросанные предметы как бы препятствуют движению «чужака» по комнате Ребенка. Пока гнев родителя обрушивается на разбросанные вещи, Ребенок получает фору.
Рано или поздно он обнаруживает, что эмоциями взрослого можно управлять: вызывая гнев, наказывать взрослого за свои неприятные эмоции.
Детям свойственно собирать «волшебные» предметы. Сила «волшебных» предметов в их уникальности. На свете полно скатертей, но только одна из них самобранка. Много ковров, но только один из них самолет. Много зеркал, но только одно из них говорит и показывает, как настоящий телевизор. Обладатель уникального «волшебного» предмета становится особенным человеком, может управлять судьбами других людей, достичь небывалых высот и добиться недосягаемых целей. Поэтому в тайнике, под подушкой, в кармашке своего малыша вы можете обнаружить вещь, которая показалась ему необычной, хотя для вас это мусор – фантик от конфетки, высохшая ягодка, желудь, ржавая гаечка, обрывок старой газеты, канцелярская скрепка. Вы будете мучиться в догадках: «Зачем это ему нужно?» Потом вы с удивлением обнаружите, что Ребенок ни за что не хочет отдавать вам грязный, старый, ненужный предмет: вцепился в него мертвой хваткой, плачет, кричит, дерется. В такие минуты родитель в тихом ужасе думает: «Не сошел ли он с ума? Да мой ли это ребенок?!»
Нет. Просто пока Ребенок хранил в тайничке важную вещицу, эта вещица, вернее, ее образ наполнился для него очень личными переживаниями. А объяснять личностные смыслы трудно даже взрослому, ведь они насыщены ассоциациями. Чем больше мы про кого-то или что-то грезим, тем дороже нам образ. Одна из причин затянувшейся безответной влюбленности в человека как раз в детской склонности грезить и наслаждаться воображаемым единением с другим человеком, приписывая ему несуществующие достоинства.
Силу эмоциональной привязанности к объекту желания мы с детства путаем с силой влияния этого объекта на нас.
Мы целиком отождествляем себя с заветным предметом, повторю – целиком. Тотем, к примеру, это целиком проекция «Я». Человек, в которого вы влюбляетесь по Интернету, – это на самом деле вы, ваша душа, которую вы проецируете, как диафильм, на монитор, на чужого, неизвестного вам человека с нечетким размытым образом. Механизм проекции выполняет познавательную функцию, он делает неопределенный образ более четким.
Приписывая чужим сущностям свои черты, мы шаг за шагом присваиваем мир. Придет время, и Ребенок забросит заветную игрушку, вещицу или бесполезную деталь неизвестно от чего. Когда Ребенок убедится, что «волшебному» предмету (то есть ему самому!) ничего не угрожает, что он навсегда в его распоряжении, он и сам с легкостью выбросит вещицу в мусорное ведро.
Предметы теряют свою магию, когда не они, а мы сами ими распоряжаемся, то есть справляемся со своими эмоциями.
Примечательно, что магией обладают предметы, назначение которых непонятно. Неопределенность образа как раз и делает предмет универсальным. Восприятие человека так устроено, что оно стремится завершить образ, замкнуть контур. Вот тут-то и выясняется, что главные характеристики предметов не физические, а смысловые. Если смысл предмета не ясен, он будет выделяться, обращать на себя внимание в большей степени, чем другие, по контрасту.
Закон соотношения фигуры и фона проявляется в том, что новые, непонятные предметы всякий раз выступают на первый план, активизируя ориентировочный рефлекс «Что такое?» Чтобы снять психологическое напряжение, сознанию лучше придумать историю для этого предмета, найти ему место.
Так появляются целые классы «волшебных» предметов с некоторым внешним сходством. Им приписывается и функциональное сходство: волшебные палочки, зернышки, камешки – все они могут творить чудеса.
Способность «волшебных» предметов быть вроде и обычными, но в то же время проявлять особые свойства, использовала Джоан Роулинг в эпопее о Гарри Поттере. Имя героя – Поттер – означает «гончар», то есть тот, кто лепит горшки, производит обычные, но важные для ежедневной жизни предметы. В детских сказках посуда, горшочки часто выручают людей, которые находят в них то золото, то вкусную кашу, то мед, в зависимости от желаний. Волшебные предметы мира Гарри Поттера тоже включают знакомые нам с детства волшебные палочки, мантии, камни… Например, бузинная палочка обладает определенными физическими свойствами – длина 14 дюймов, сделана соответственно из бузины. Согласно легенде, палочка дает своему хозяину способность побеждать в любых магических дуэлях. Поскольку у Ребенка нет возможности проверить правдивость рассказа, ему остается только верить в него. Еще один предмет – уникальная мантия-невидимка. Она надежно прячет, не изнашивается, а надевший ее защищен от всяких заклинаний. «Воскрешающий камень» обладает свойством воскрешать мертвых, но воскрешенные уже не могут вернуться к нормальной жизни, а остаются полупризраками. Видеть их способен только тот, кто их вызвал. В русских народных сказках тоже есть вещество, способное вернуть жизнь герою, – живая вода!
Особыми свойствами могут наделяться и очень дорогие, украшенные узорами, осыпанные драгоценными камнями кубки, подвески, мечи. Большинство из этих предметов не столько артефакты из особых миров, сколько атрибуты (отличительные признаки) класса избранных. Любая избранная группа старается придумать себе такие атрибуты, чтобы выделяться и не смешиваться с другими. Дороговизна предметов-атрибутов не только отличает группу, но и затрудняет возможность проникновения чужаков.
Блестящие или отсвечивающие предметы (то же стеклышко, на которое упал свет и привлек внимание Ребенка) вынуждают концентрировать на них взгляд и оказывают не столько магическое, сколько гипнотическое воздействие.
Родители догадываются, настолько дети гипнабельны. Мы думаем: если поблизости нет гипнотизера, то нет и гипноза. Но к категории мягкого гипноза и легкого транса можно отнести состояние, когда малыш, не отрывая взгляд, смотрит на что-то подвижное. С Ребенком может произойти то же самое, что и с курицей, перед которой фокусник на глазах у публики качает маятник – грузик на нитке: курица застывает. Функцию маятника чаще всего исполняет телевизор. Если усадить малыша перед экраном, он откроет рот и будет завороженно смотреть на быструю смену кадров и подвижные фигурки. Этим-то и пользуются мамы и няни, ловко впихивая в рот малышу кашу, которая, возможно, ему не очень-то и нравится. Вот почему, по данным итальянского исследовательского центра «Демоскопеа», переедание стало главным неприятным следствием сидения перед экраном. Формируется мощная условно-рефлекторная связь между слюновыделением и телесмотрением, мощная настолько, что потом всякий раз, когда уже взрослый человек сядет перед экраном (телевизора или компьютера), у него будет быстро нарастать аппетит. В мозге возникает сильный очаг возбуждения, который блокирует все остальные процессы. Сильная внезапная концентрация требует разрядки, расслабления. Поэтому после возбуждения наступает состояние сонливости.
В силу особенностей нервной системы привычка к специфическим удовольствиям формируется быстро. Дети ловят свой «кайф», доставая из карманчиков и разглядывая блестящие стеклышки, отшлифованные морем камешки, затертые пуговицы, металлический лом, детали сломанных вещей. По-видимому, психоэмоциональная подпитка происходит через простые условно-рефлекторные связи. Сосредоточенное наблюдение за огнем, водой, шуршащими листьями умиротворяет, гармонизирует нервную систему.
Наконец, способностью к волшебству наделяются персоны-лидеры, например короли и королевы. В этом контексте магический предмет может стать показателем статуса. Поэтому в детстве мальчишки делают погоны из кленовых и дубовых листьев (они похожи на эполеты), причисляя себя к группе людей с особыми привилегиями и кодом поведения. Поэтому женщины носят бусы и сережки, чтобы не просто блистать красотой, но и привлекать всеобщее внимание, притягивать удачу. Они хотят стать чаровницами, как и девочки, кстати, которым тоже нравится всякая бижутерия.
Существует целая наука о значении и влиянии камней на судьбы. Необычные, яркие, крупные украшения действительно привлекают внимание и делятся своей харизмой с хозяевами. История происхождения, как правило, мистическая, придает камням еще больше магической силы. Психологический эффект украшений настолько силен, что, даже если это не настоящие драгоценности, а подделка, фокус действует!
Детям до шести лет любые сложные действия кажутся магическими, поскольку им трудно понять истинные причинно-следственные связи между предметами.
Дети любят разглядывать вместе что-то необычное.
– Смотри, смотри! – зовет один.
– Ух ты, дай глянуть! – кричит другой.
Из рук в руки переходит какой-нибудь куриный бог. Для тех, кто не знает, что такое куриный бог, объясняю: это плоский камень с естественным отверстием, образованным проточными водами. Легенды про куриного бога передаются из поколения в поколение, и это делает приписываемые ему свойства еще более убедительными, хотя в доме уже никто не вешает на видное место камешек на веревочке, чтобы оградиться от нечистой силы.
Вера в то, что, обладая тем или иным предметом, можно навредить или, наоборот, здорово помочь себе и другим, связана не только с языческими верованиями. Я бы сказала, наша симпатия или же настороженное отношение к предметам и людям объясняются амбивалентностью эмоций. Магические предметы призваны уравновешивать образы, придавать обратимость событиям, трансформировать жизнь наилучшим образом и без усилий.
Магическим предметом может стать любой предмет, если у него есть история. Про волшебные предметы мы узнаем из сказок, а сказки и тем более легенды – авторитетные свидетельства, раз люди говорят, значит, так и есть, нет дыма без огня. В основу легенды ложится, как правило, история из жизни, которая из-за многократного пересказа теряет всякую связь с реальностью. А главное, ее нельзя проверить. Магические свойства предметам приписывали сказители – мудрые, опытные люди, а в старину опыт старшего по возрасту человека служил своего рода методом верификации истины, гарантией правды.
Сегодня управлять иллюзиями можно с помощью одного всем известного магического предмета – компьютерной мышки. Но и она тянет за собой длинную фольклорную историю. Потому что в наших сказках маленькая шустрая Мышка играет роль случайного фактора, мелочи, которая может роковым образом повлиять на результат: в сказке про «Курочку Рябу» Мышка мимо бежала, хвостиком махнула, яйцо и разбилось. А в сказке про Репку только Мышка, вцепившись за Кошку (в жизни-то наоборот!), помогает веренице персонажей справиться с нелегкой задачей – вытянуть овощ гигантских размеров из земли, обеспечив продуктовый запас для всей компании.
Стеклышки красивы, особенно если смотреть через них на солнце: грани переливаются, а оттенки меняются в зависимости от угла зрения и освещения. Стеклышки блестят даже в темноте, если заглянуть в сложенные лодочкой ладошки. Камень можно показать подружке, и она ахнет, попросит подержать, предложит обменять на что-то другое – так он ей нравится. Пуговицы часто теряются, отрываются, висят на нитке. Вот ведь непонятно, почему все пуговицы на месте, а одна возьми и оторвись. Ясно, что оторванная пуговица особенная!
Что, почему и от кого прячут дети
– У дочки нет секретов от меня, – с гордостью говорит молодая женщина.
– А секретики? – лукаво спрашиваю я.
Секрет – это способ найти границу между своим «Я» и миром. У всех детей есть секреты. И не только у детей.
Все дети что-то прячут от своих родителей – под подушку, в кармашек, во дворе под ступеньками. Чаще всего дети делают тайники по тем же причинам, по которым их делают и взрослые.
Во-первых, Ребенку нужно личное физическое и психологическое пространство, чтобы оставаться неуязвимым. Оно должно быть недоступным для внешних воздействий. Это крепость, в которую можно спрятаться в случае особой опасности. По сути, это запасная база, запасной аэродром. Чаще такие «аэродромы» есть у мальчиков, для которых безусловный контроль над отдельной территорией – одна из базовых, видимо, генетически заданных потребностей. Для девочек важней «хранить под замком» что-то такое, вокруг чего возникает ажиотаж, что помогает привлекать и хранить любовь. То есть они чаще коллекционируют эмоции или то, что с ними связано, – украшения, записки, фотографии дорогих людей. А под подушки прячут дневники с описаниями переживаний.
Во-вторых, мы прячем то, что боимся потерять или растратить, – тот личный ресурс, который помогает нам лучше управлять своей жизнью, справляться с трудностями. То есть те вещи, на которые успели спроецировать свои чувства.
В-третьих, человек может наделять важной психологической функцией любой предмет и таким образом – с его помощью – управлять своими и чужими состояниями.
Количество оберегов, выполняющих роль психологической защиты, не подлежит исчислению, и все они разные по качеству. Кто-то считает, что камешек на подоконнике оберегает дом от неприятностей. Другим помогают звенящие висюльки, специальные рисунки на стенах, молитвенники и домовята… Погремушки, первые игрушки Ребенка, – это тоже обереги! Они призваны отгонять злых духов, а не просто привлекают внимание Ребенка, завораживают его.
Когда взрослый говорит: «Вот тебе камешек, он особенный, спрячь его в кармашек, придет время, он поможет», он как бы передает Ребенку часть своей силы. На самом деле камешек сам по себе не обладает никакой физической силой. Он просто напоминает о том важном для Ребенка чувстве защищенности и уверенности, которое возникает всякий раз, когда рядом находится сильный и дружелюбный взрослый.
Волшебные (психологические) свойства часто приписывались камням, которые дарили (и дарят) детям в виде украшений. Например, та же бирюза в сережках – от сглаза, агат – для гармоничного здоровья. Традиция носить украшения на открытых частях тела перешла к нам от предков. Украшения – это обереги. Шея не голая, значит, ты защищен.
Принято было вязать амулеты, например, из бисера, причем сделать амулет должны были мама или бабушка, кто-нибудь из близких. Красная нить на левом запястье у Ребенка – тоже известный оберег. Если рассматривать обереги с точки зрения телесных проекций, то нить завязывают на левой руке потому, что весь негатив, как считается, входит в нас именно с левой стороны.
В старые времена крестьянским детям делали куклу-пеленашку из родительской одежды. У такой куклы не было лица; безликая, она была абсолютно безвредной. Иногда от сглаза носили иголку или острую шпильку на обратной стороне ворота – чтобы глаз завистников колоть: кто-то захочет вам навредить и останется без глаз, то есть перестанет видеть, и поделом. Кстати, когда Ребенок прикрывает лицо руками, он считает, что становится невидимым для других: «Если я не вижу, то и меня не видят!» Для него это форма защиты.
В играх часто воспроизводятся магические действия. Если вы помните, в некоторых играх можно было сделать условную крышу над головой, сложив ладошки под углом: «Чик-чик, я в домике!» Это значит, что трогать тебя нельзя.
Почему убили? Важно! С психологической точки зрения, оберегом может быть что угодно и даже кто угодно. Например, во многих культурах в роли берегини дома могла выступать живая кошка. Проецируя на предмет, животное или воображаемое существо свою потребность в любви и защите, человек прошлого делегировал функцию хранителя, защитника самым разным сущностям, и Ребенок в своем развитии только повторяет пройденный путь.
Казуистика защитных психологических механизмов состоит в том, что они произвольно, как попало переписывают внутреннюю жизнь, воспоминания и фантазии с единственной целью – сохранить положительную идентичность, оправдать «Я», защитить от страхов, откреститься от вины и наказания.
Психика универсальна точно так же, как универсален физический мир. Только люди могут связывать оба мира, приписывать человеческие способности неживым предметам, но люди делают это не из познавательного азарта, а чтобы лучше управлять собой и своей жизнью, которая проходит в физическом и психологическом пространстве. А еще точней – чтобы с помощью других предметов и людей справляться со своими страхами, неизвестностью перед грозной стихией.
Психоаналитики пришли к выводу, что в основе антропоморфизма – приписывания предметам свойств человека и анимизма – приписывания предметам свойств животных лежит противоречивое желание – одновременно избежать наказания злых духов и получить от них защиту. Отсюда стремление умиротворять тотемы, совершать культы поклонения, молиться, приносить жертву. Так и Ребенок может вести себя заискивающе, ластиться, стремиться угодить, чтобы получить гарантию защиты и любви от всемогущего взрослого, родителя. Но при этом детям не нравится, когда их ограничивают, когда не помогают им.
В-четвертых, мы прячем не столько предметы, сколько скрываем свои «слабые места» – от всех. Вспомните сказки, в которых магические предметы прячут подальше от людей, чтобы сохранить герою жизнь или важные свойства: Кощеева иголка, спрятанная в яйце, шкура Царевны-лягушки. Есть такая часть души, потеряв которую можно потерять самого себя, а значит, жизнь. Таков урок сказок. В русском языке есть много крылатых выражений, убеждающих нас, что у души действительно есть потемки, тайники, глубины.
В-пятых, мы можем скрывать что-то важное бессознательно. На языке психоанализа – у души есть теневая часть, невидимая для самого человека. Видеть не видишь, но, по некоторым признакам, точно знаешь, что есть.
Знакомая многим картинка: Ребенок играет со своей тенью, пытается ее поймать, остановить, убежать от нее. Малыш сердится из-за того, что тень не слушается. Он может испугаться, если тень большая и выше его ростом. Переводя эту метафору на психологический язык, тень – это та часть души, с которой человек не справляется и которую лучше видит посторонний. Мы становимся уязвимыми перед лицом другого человека, который может многое о нас понять, видя нашу «тень»: непроизвольные жесты, гримасы, выражение глаз, а за всем этим – наши желания и страхи.
Ребенок острее, чем взрослый, чувствует опасность и свою уязвимость. Пряча артефакты, магические предметы, он прикрывает себя от неприятностей.
Конечно, тревожные дети в большей мере склонны таиться. Иногда скрытность – это культурная или семейная норма, иногда – личностная особенность, которая определяется темпераментом, но в этой книге нас больше интересуют общие закономерности в отношениях Ребенка с предметным миром.
Почему, например, дети строят шалаши?
Строительство домиков у детей сродни строительству укрытий в истории человечества: пещеры, шалаши, яранги, вигвамы, хижины, избушки и так далее. Родители иногда с опаской наблюдают за детскими экспериментами, но дети всего лишь копируют нас, взрослых! Они видят, как мы натягиваем палатку в походе, как ведем дачное строительство. Все взрослые что-то строят, а дети хотят быть похожими на взрослых.
В три года на фоне первого психологического кризиса «Я сам!» Ребенок ищет способы физически эмансипироваться от взрослых. Он уже знает, что любимая мама, добрая няня, заботливый папа могут быть не только источниками добра и любви, но и источниками притеснений, гнева, недовольства. Нужно не только у них искать защиты, но и от них тоже!
Когда малыш прячется под одеяло, под стол, в шкаф или за дверь, он показывает, что ему нужно свое пространство свободы. Строительство укрытий может совпадать с началом конфликтов в семье и, увы, усугублять их, потому что раздраженные взрослые не готовы к детскому произволу.
Разоряя детские «гнезда», родители не понимают, что нарушают границы формирующегося отдельного «Я» Ребенка. А «Я» со слабыми границами не может накапливать ресурс для дальнейших прорывов, не будет развиваться.
В 4–6 лет дети вовлечены в ролевые игры. Дети осваивают роли пап и мам, «готовят» еду, «убирают» в доме, «покупают» обновки, «ремонтируют» «квартиры», принимают гостей. Когда появляются друзья, фантазии Ребенка становятся более смелыми. Уже в 7–8 лет дети вместе могут фантазировать на темы побегов из дому, но если отношения в семье хорошие, то это только фантазии, почти художественная выдумка. Тем не менее дети с радостью готовят экипировку, снедь, делают тайники с небольшими деньгами. В это время они ревниво относятся к посягательству взрослых, стараются строить «шалаши» подальше от родительских глаз. Им интересно, а смогут ли они прожить одни в случае землетрясения, потопа или если родители вдруг уедут в командировку или длительное путешествие? Еще один фантастический вариант: «А вдруг папа рассердится и выгонит меня из дому?!»
Поражает разнообразие детских придумок, как обустроить свой собственный домик-укрытие, в ход идут столы, лестницы, перевернутые на ребро матрасы и стулья, скатерти, занавески, подушки и одеяла. Ребенок получает большой опыт конструирования и сенсорную подпитку от активного контакта с физическим миром предметов.
Психоаналитики сказали бы, что укромное, комфортное место, в котором дети так любят проводить время (они даже просят родителей разрешить им переночевать в «шалашике»), напоминает материнское лоно. В животике у мамы Ребенок чувствовал себя максимально комфортно и защищенно, поэтому, строя укрытие, он пытается восстановить естественную для себя среду. Не препятствуйте ему, уступите его просьбам – это хороший способ приучить малыша вовремя ложиться спать. В своем «шалашике» он будет засыпать с удовольствием, а когда привычка вовремя ложиться укоренится, можно будет перенести действо в кроватку: почему бы не расположиться там так же, как в домике?
Как поддержать уверенность и спокойствие в Ребенке, когда вам нужно на время уйти
– Только когда я ухожу, а он плачет, я понимаю, как сын ко мне привязан…
– Надеюсь, вы не очень часто испытываете эту привязанность. Нитка, которую натягивают до предела слишком часто, может в конце концов порваться.
Больше физического наказания дети боятся быть брошенными, оставленными на произвол судьбы. Каким бы строгим ни был взрослый, мотив страха наказания дополняется у Ребенка мотивом удержания в поле зрения родителя. Это одна из причин, почему Ребенок плачет, когда родитель уходит. Не обладая в силу возраста ментальной способностью оценить последствия такого ухода, Ребенок оценивает исчезновение родителя из поля зрения как роковое, бесповоротное.
Панический страх расставания с родителем может потом преследовать Ребенка всю жизнь, возвращаться всякий раз, как только возникнет риск расставания с близким человеком, другом или возлюбленной.
Взрослому, как и Ребенку, нужно на что-то опереться, за что-то уцепиться, чтобы перестать волноваться. Мальчик Коля знает, что после того, как вечером в детском саду он доест ужин, за ним придет отец, – да вот же он, стоит в дверях! Коля будет радоваться ужину, будет торопиться поскорее все доесть, но при этом он будет часто отвлекаться от тарелки, ища глазами знакомый силуэт. Для него это и есть зацепка. Когда мы не знаем, как будут развиваться события, мы ищем подсказки, нюхаем воздух, разглядываем свои ладони, листаем гороскопы.
Так как же успокоить Ребенка, если вы уходите на работу или по делам?
• Окружите его символическими предметами, обозначающими присутствие взрослых. Папина шляпа на вешалке, мамина сумочка на стуле, фотографии родителей – предметы, на которые стоит обратить внимание. «Ты видишь, папина шляпа дома, он тоже здесь!»
• Овладеть чувствами помогают магические ритуалы. У вас с малышом обязательно должны быть придуманные вместе магические ритуалы, которые будут выполнять те же функции – обозначать присутствие взрослых. «Возьми эту горошину, она волшебная. Спрячь в тайничок. Если будешь скучать, достань ее, тихонечко погладь и скажи: “Мама-мамочка, вернись!” Я и вернусь».
• Отдельно следует сказать о ритуальных действиях. Когда мы ничего не делаем, мы испытываем отчаяние. Ритуальные действия позволяют снизить уровень психологического напряжения, создавая иллюзию приближения развязки. Попросите Ребенка сделать что-то и скажите: «Это помогает ждать! Если так делать, мама придет быстрей, вот увидишь!» Здесь есть еще один момент: Ребенок будет благодарен вам, если вы с вниманием отнесетесь к его переживаниям, в данном случае к переживанию разлуки.
• Можно оставить малышу что-то свое, какую-нибудь вещицу, чтобы успокоить его. Оставьте пуговицу в кармашке, привяжите ниточку на пальтишко. Дети верят в силу желания, потому что иногда ничего больше не остается. Когда Ребенок не знает, что именно нужно сделать, чтобы достичь желаемого результата, но очень хочет что-то предпринять и от этого мается, не находит себе места, лучше канализировать это беспокойство через ритуалы, успокоить, научить владеть собой, точнее определять свои эмоции.
• Хороший способ изобразить присутствие родителей – сымитировать звонок по телефону. Опытные няни так и поступают: дают Ребенку сказать по телефону все, что он хочет. «Алло! Это мама? Мама, дорогая, любимая, я тебя жду!» Даже если это только игра, она позволит снизить напряжение ожидания, страх одиночества.
• Торопясь на работу, оставляя Ребенка с няней, бабушкой или в детском саду, не обещайте скоро вернуться: «Не плачь, не заметишь, как день пролетит, и я приду!» Лучше сказать: «Я тут, с тобой. Вот мой платочек. Пусть он пока у тебя будет», «Вот моя пуговичка, давай я тебе в кармашек брошу. Ты только береги, не теряй. Никому не показывай. Это наш секретик!», «Я всегда с тобой! Я – рядом! Вот, возьми мой карандаш, ты можешь нарисовать им кораблик?»
Ритуал знакомства с новым местом
Если бы правила санитарии позволяли, можно было бы принести в детский сад, куда впервые идет малыш, кошку и выпустить ее у порога. Вы ведь, конечно, знаете, что кошку всегда пускают в новый дом перед хозяевами. Она призвана собрать и унести все страхи перед сменой обстановки. Кошки, которые первым делом обойдут и обнюхают все углы, обладают удивительной способностью завораживать и успокаивать. Ребенок, конечно, с удовольствием последовал бы за ней. Но поскольку ритуал с кошкой невозможен, попросите у воспитателя разрешения вместе с Ребенком обойти незнакомое помещение. Кстати, вместо кошки можно использовать машинку с дистанционным управлением. Если воспитательница пойдет навстречу, Ребенок может поиграть, поездить везде, как бы «обнюхать», «пометить» новую для него территорию.
Адаптироваться в незнакомой обстановке и пережить разлуку с мамой помогут любимые игрушки. Возьмите с собой молоточек, и пусть малыш постучит по столам или стульчикам. Возьмите мячик и, как в боулинге, отправьте его катиться в противоположный конец помещения – малыш последует за ним. Любимая игрушка, знакомый предмет помогут освоить новую территорию.
Собираясь в гости, возьмите с собой что-то из дому: тапочки, игрушку, конфетки, которыми можно будет угостить всех. Смысл этих манипуляций – освоить незнакомое пространство. Неизвестность может пугать в любом возрасте. Живым интересом к новому и высокой адаптивностью обладают немногие из детей. Часто психологически устойчивые от природы дети перенимают настороженность, недоверчивость и робость взрослого рядом.
Упражнение
• Спросите Ребенка, как он узнаёт, что родители скоро вернутся? Ждет ли он вас с нетерпением? Скучает ли?
• Расскажите ему, как скучаете вы, как считаете ступеньки, когда поднимаетесь в квартиру, как представляете улыбающуюся мордашку, как вы мечтаете уткнуться в сладкий животик.
Как простые предметы утоляют психологический голод и повышают жизнеспособность Ребенка
– У сына под подушкой целый склад мусора. Я выбрасываю, а он снова тащит в гнездо всякую ерунду – гвоздь, желудь, скрепку.
– Это же магические предметы. Выбрасывая их, вы лишаете его силы, защиты и уверенности в себе.
Простые ощущения от предметов очень важны для Ребенка. Он борется за источники сенсорной стимуляции. Мы мало знаем, как простые сенсорные реакции восполняют энергетический баланс Ребенка и повышают его витальность (жизнеспособность). Ребенок растет с дефицитом витальности. Сколько бы он ни получал информации и подкрепления извне, ему все мало. Дети занимаются бесполезными вещами с точки зрения взрослых: гуляют, спят-едят, играют, ползают, бегают… Родители пытаются придать смысл раннему детству, научить Ребенка каким-нибудь фундаментальным навыкам, которые точно пригодятся во взрослой жизни: чтению, счету, письму. Сто лет назад элементарная грамотность действительно гарантировала статус и более высокий уровень жизни, поэтому имело смысл тренировать интеллект. Сегодня – нет. Главными, сверхценными качествами становятся те, которые оказались в дефиците уже в начале XXI века. В гонке за высокими зарплатами и уровнем жизни, за высоким IQ мы истощили личностные резервы и тем самым пожертвовали качеством жизни. Вот почему самым важным на сегодня психологи считают способность адаптироваться к быстрым переменам в жизни, жизнеспособность.
На детском опыте мы видим, что помимо воли к победе, помимо воспитания и образования человеку нужна именно высокая витальность, потому что тот образ жизни и стандарты, которые предлагает общество, требуют огромных сил. Человеку нужна уверенная адаптивность, потому что мир меняется быстрее, чем сменяются поколения. Именно у детей мы можем научиться восполнять энергетические запасы!
Сегодня, когда дети мегаполисов живут в комфортабельных домах, приходится напоминать родителям о бедной сенсорной среде и необходимости восполнять этот дефицит. Если условный энергетический резервуар пуст, Ребенок теряет интерес к жизни, становится вялым, апатичным, раздражительным. Точно так же и мы чувствуем себя в состоянии сенсорно-эмоционального голода, когда перегружены работой, но давно не были в отпуске, на природе, на даче.
Все сенсорные системы Ребенка должны быть включены и тренированы: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.
Добавьте сюда кинестетический кайф, радость движения и другие физиологические радости, которым мы еще, представьте себе, не придумали названия, потому что телесность в нашей стране аскетических идеалов описывается грубо и даже брезгливо. Мы воспринимаем предметный мир благодаря целостности восприятия. С момента, когда восприятие становится целостным, мир человека обретает четкость.
Психологи уже доказали роль осязания в формировании целостности предметов. Прежде чем рассмотреть что-либо в деталях, Ребенок берет предмет в руки, а потом, если возраст того требует, тянет в рот, чтобы попробовать на вкус. Осязание, вкусовые ощущения, обоняние опережают зрительное восприятие, ближний круг предметного мира важней, чем все, что происходит дальше вытянутой руки Ребенка. Гарантия безопасности малыша – его мама, на доверии (или недоверии) с которой строится образ мира. Ребенок очень долго движется в пространстве не только с помощью своего, но и с помощью маминого тела, на доверии.
Целостность мира сообщает чувство гармонии. Если Ребенок понимает, что происходит вокруг, если он получает обратную связь, понимает, как соотносятся предметы и люди, он оказывается в комфортной физической среде. Но гармония – момент полного баланса – достигается редко, потому что жизнь по сути – это движение и дискомфорт.
Мы переоцениваем роль визуальных стимулов. Миф о том, что девяносто процентов информации человек получает благодаря зрению, дает нам «плохую» подсказку о том, как соотноситься с реальностью. Если следовать этому мифу, то мы должны оставаться пассивными наблюдателями. Нагрузка на зрение у современных детей чрезмерно высока. Дети растут перед экранами телевизоров, мониторами компьютеров и прочих гаджетов. Если визуальная информация – это почти все, что нужно человеку, то он – глупое бессмысленное озеро, которое пялится в небо! Или ослик Иа, который, не отрываясь, смотрит на свое отображение в пруду. Зрение отражает, но далеко не исчерпывает жизнь.
Главным источником сенсорной радости является вода. Почему мы стремимся к воде, почему не можем оторвать от нее глаз, а отдых планируем у водоемов, на море, а еще лучше у океана, чтобы уж целиком отдаться первородной стихии? Маги считают воду самой сильной стихией среди остальных – огня, воды и воздуха. Влюбленные переживают счастье как обрушившийся на голову дождь, а мальчишки грезят о дальних морях. Мы жаждем предельного расширения, абсолютного влияния и воплощения в физике. Нам кажется, что максимального слияния с Космосом мы достигаем не через воздух, а через воду. Психологические иллюзии воды еще не изучены. Может, это физиологическая память возвращает нас в лоно матери, первородную стихию в буквальном смысле слова? Девять месяцев абсолютного счастья, о которых забыли даже выдающиеся психологи. Все психологические классификации развития человека начинаются с рождения, со зримого, а не осязаемого периода. Мы недооцениваем историю своих тактильных переживаний, а вместе с нею и роль простых ощущений в жизни Ребенка.
Наши отношения с миром пропитаны тактильными переживаниями. Взять, к примеру, украшения. Обычно к ним приятно прикасаться. Они доставляют не только эстетическое (визуальное), но сенсорное, тактильное удовольствие. Бусы или четки приятно перебирать, колечко приятно крутить на пальчике, сережку поправлять в ушке. К тому же украшения привлекают внимание окружающих, вводя и их в состояние куриного гипноза.
Магия мелких предметов, с точки зрения Ребенка, состоит в том, что их легко можно спрятать в ладошку, кармашек и тайно от других ощупывать, перебирать.
Среди магических предметов, гладких на ощупь, с блестящими бочками, могут попадаться желуди, рябиновые ягодки, арбузные семена, которые, кстати, девочки любят нанизывать на нитку и носить как бусы. У меня в детстве был большой ящик с игрушками. Чаще всего я доставала из него маленького, с мизинчик, дятла, коричневую, гладкую фигурку. Лет в шесть мне сообщили, что на самом деле это был пеликан, но я его запомнила как дятла. Его было так приятно гладить по голове и рассматривать. В этом, думаю, магия нэцке, вырезанных из кости, камня или дерева фигурок, популярных в Японии. Их прямо-таки рекомендуется тереть пальцами, от чего они нагреваются, делая тактильные ощущения еще более приятными.
Ребенок нуждается в положительном (а не в каком попало!) сенсорном опыте.
Популярность энергетических подходов к состояниям человека, от депрессии до ажитации, до сих пор не получила должного психологического объяснения. Почему некоторых детей или взрослых переполняет энергия, а у некоторых пастозные лица, как будто оплавленный на солнце пластилин? Мой ответ: богатство сенсорного опыта определяет, будет Ребенка переполнять энергия или, наоборот, он будет вялым и пассивным. Внутри Ребенка как будто бы находится энергетический сосуд, который становится пустым, если сенсорная стимуляция иссякает, и переполняется, если Ребенок много гуляет, играет с водой и песком, пробует ягоды, обнимает собаку, моет пол вместе с мамой, раскатывает тесто вместе с бабушкой, катается на велосипеде вместе с дедушкой. Дети учат нас, как именно восполнять дефицит энергии. Но в отличие от нас они еще не могут управлять событиями, не умеют защищаться и оценивать вероятность неприятностей. Мне кажется, каждому из нас дается счастливое детство, чтобы заправить баллоны с энергией, перед тем как отправиться в дальнее путешествие.
Самое сложное для человека, настроенного на страдания, это сделать шаг навстречу новому, принять его как в принципе позитивный, хотя и чужой опыт.
Вот эти установки и закладываются в детстве. Несчастный родитель иногда держит в черном теле Ребенка, потому что таким было когда-то и его детство, а любой родитель склонен считать себя достойным образцом для подражания. Очень сильная для нас, россиян, норма «Не баловать Ребенка!» предполагает аскезу, отказ и презрение к удовольствиям. Решая «не баловать», вы просто ревнуете Ребенка к предметному миру, потому что в глубине души уверены, что роль самого важного источника сенсорных впечатлений должны выполнять именно вы, а не куклы, желуди и дешевая бижутерия. На самом деле так и есть.
О том, как ритуальные действия помогают снимать напряжение и менять мир
– Дочка, ты счастлива? Как оно – в лучшем на свете лагере?
– Папа, если ты не пришлешь за мной вертолет, я выброшусь из окна этой тюрьмы.
Магическое мышление свойственно простому, или, если смотреть с высоты организованной личности взрослого, примитивному «Я», у которого расстояние между желанием и его исполнением субъективно очень короткое, минимальное, а реальные способы исполнения желаний неизвестны. То есть при субъективной готовности к немедленному исполнению желаний вероятность их реального исполнения мизерна! А у Ребенка просто нет опыта осуществления желаний.
К сожалению, родители часто прибегают к грубым методам тренировки воли детей: резкими строгими запретами мы хотим приучить Ребенка к дисциплине, чтобы он «знал слово “Нельзя!”». Но если воля тренируется в жестком двухфазном режиме «можно-нельзя», «да-нет», Ребенок вырастет и начнет отказываться от событий и контактов, которые он еще не успел оценить, понять, примерить; он будет вариться в прошлом, будет бояться пересечь границы когда-то и кем-то дозволенного, отказываясь от своих желаний.
История, которая произошла со мной в девяностые годы, стала поворотной в моем профессиональном и родительском мировоззрении. Напомню молодым родителям, что то были годы бедности и свободы. Денег, продуктов вдруг не стало, ходили в секонд-хенде, но зато верили в новую жизнь, о которой имели крайне призрачное представление. Очень хотелось поехать за рубеж, мир посмотреть, ну, и себя показать. В советские времена все-таки сумели сформировать комплекс исключительности и у рядовых граждан: мы были уверены, что мы самые умные, самые красивые, самые сильные, и сейчас они там, на Западе, падут ниц. В годы перестройки мы начали усердно учить иностранные языки, которые до падения «железного занавеса» были не особо нужны, – английский, немецкий, французский. И вот в это время ко мне подходит коллега из местной школы и говорит:
– Мы твоего сына протестировали, у него повышенный IQ. Сто тридцать восемь!
– Приятно, конечно, но что с этим делать? – развожу руками.
– В Москве есть организация такая, «Евроталант», они собирают группы из одаренных детей и отправляют их в летние спецшколы. Попробуй.
Жили мы тогда в Подмосковье, в Ногинске, что важно для данного рассказа, потому что в конце концов именно мэр города Ногинска оплатил поездку одаренных детей из России в Авиньон, в лагерь для столь же одаренных детей со всего мира. Деньжищ это стоило немереных. Я помню, считали, и получалось, что можно год всей семьей жить, если бы деньгами за путевку выдали. И поскольку переговоры с мэром вела тоже я, то и сопровождать группу отправили меня: инициатива наказуема.
Готовили мы детей целый месяц. Я подошла к мероприятию со всей ответственностью: если уж выпал шанс, нужно его использовать по полной. Организовала языковые курсы, провела работу с родителями в духе: наши дети – первые делегаты страны, пионеры, по ним будут судить о тех, кто пойдет следом. Ну и про себя не забыла:
– В отряде должна быть абсолютная дисциплина, полное послушание, беспрекословное повиновение.
Надо ли говорить, что обалдевшие от удачи мамаши и подчиненные им папаши ринулись намыливать головы своим детям, муштровать, читать морали и напоминать: если бы не репутация родителей, вряд ли тебя взяли бы в поездку, – любим мы подавить авторитетом.
Отряд (см. выше) – это как у космонавтов, потому что у меня действительно было чувство, что мы – первые, кто отправляется в космос. Сейчас это вспоминается даже с умилением, если бы у этой истории не было печальной подкладки.
Нас встретили в аэропорту Шарль де Голль и отвезли ночевать в какую-то школу, разместили в спортзале, спали мы на матах. А утром мы отправились в переполненном поезде в провинцию. Конечно, после комфортабельных лагерей союзного масштаба вроде «Орленка» или «Артека», где, впрочем, ни я, ни родители моих детей никогда не были, а только видели это великолепие по телевизору, мы рассчитывали, что на Западе все еще круче. Мы думали, что для детей, особенно для одаренных, да еще со всего мира, там выстроены хрустальные дворцы с фонтанами.
Но, к нашему изумлению, привезли нас в какую-то школу, маленькую, вроде избушки без окон, без дверей. Точно без дверей, потому что двери спален были сняты и в проемах висели занавески из плотного материала. Но самое главное, стоял там невообразимый гвалт, дети бесились, галдели, бросались вещами, а один маленький негритенок забрался на стену, как паучок. Никто из взрослых не собирался успокаивать детей, хотя бы чтоб поздороваться.
Наших детей развели по разным спальням. Мы с опаской оставили вещи и отправились во двор. А во дворе новичкам предложили пройти ритуал братания: дети ложатся на землю и поочередно перекатываются вдоль шеренги.
Мои гордо вскинули головы, как герои-партизаны, которые никогда не сдадутся врагу. Мне пришлось вмешаться, попросить отложить экзекуцию, публичную казнь, как это виделось нам, гостям. У нас ведь для гостей все самое лучшее, стараются угодить, во всяком случае спрашивают, интересуются желаниями, состояниями…
– Тогда, – сказал лукавый директор лагеря, – вы сами поучаствуйте пока, покатайтесь, а дети пускай посмотрят, поучатся.
– Ну, знаете! – возмутилась я.
Умом я понимала, что в этом летнем лагере детям просто дают оторваться по полной; одаренные дети нуждаются в особом режиме движения (активном), питания и отдыха, но перейти черту, превратиться из гиперответственной, тренированной тети, несущей высоко знамя национальных достижений, я не могла. «Не могу поступиться принципами!» – как писала одна фанатка советского строя в самом начале перестройки. Именно так я себя и чувствовала – советским пионером-героем.
С отчаянием я осознавала, насколько все мы табуированы, с детства заговорены от того, чтобы стать свободным и счастливым. Французские воспитатели правы: свобода носит телесный характер! Тот, кто может свободно двигаться, без вечной оглядки и опасений, тот и счастлив…Печаль моя усугубилась, когда дети решили не сдаваться. В тот день нам не удалось сбросить оковы вековых табу…
– Будем драться! – крикнул мальчик из нашей делегации.
– Никто на вас не нападает! – обняла я его.
Я забрала детей, и мы, обиженные и возмущенные, пошли гулять отдельно от всей веселой международной компании.
А вечером одна из наших девочек, дочь топ-менеджера нефтяной компании, со слезами на глазах попросила по телефону:
– Папа, пришли за мной вертолет! Если не пришлешь, я выброшусь из окна, – настолько трудным для нее оказался конфликт ценностей, норм, установок…
Я перезванивала и успокаивала родителей. Ну в самом деле, не объявлять же нам войну Франции из-за того, что нас пригласили поиграть?
Слава богу, родители интересовались главным образом качеством питания – наследие голодных времен. Простительно, если учесть, что в России тогда здорово недоедали. Даже кино такое есть у нас, всенародно любимое, «Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещен», в котором высмеивается директор лагеря, бюрократ и демагог, в положении которого я на время оказалась. Он тоже взвешивал детей и пристально следил за дисциплиной и питанием.
Тогда я впервые увидела, как весело проводят время дети из Франции, Англии, Германии, Японии и как в тех же самых условиях страдают наши. Вот оно, счастье, только рукой протяни, но нет: наглухо спеленали мы детей родительскими запретами: «Не нарушай дисциплину!» А никакой дисциплины-то, порядка в лагере и не было. Если еще добавить, что французы живут, как дышат, на ходу готовы пересмотреть расписание в течение дня, поменять состав группы, могут вместо занятий отправить детей на экскурсию, потому что отличная погода… Вопрос, можно ли жить свободно и счастливо в условиях строгого порядка, беспрекословных авторитетов и железного режима дня, до сих пор остается открытым.
Через три дня я поняла, что нужно ритуальное событие, чтобы снять у детей табу, запрет на дисциплину. Я вышла на круг, как вождь племени краснокожих, и сказала:
– От лица родителей и от своего собственного имени я вам разрешаю веселиться. Отныне можно смеяться, кричать, говорить неправильно, обниматься с чужими, есть сладкое, жирное, жареное, все, что подадут к столу. Будем изучать европейскую жизнь, а потом посмотрим, что лучше! Тот, кто пройдет все занятия, а не будет стоять у стенки, тот получит дополнительную порцию мороженого.
Вечером я уже презентовала десерт (оторвала от себя) первому нашему «чемпиону» непослушания. А потом соорудила из местных маслин браслетики, нанизав ягодки на нитку, чтобы вручать самым адаптивным, маневренным детям. Вожди обычно вручают знаки отличия, чтобы повысить ранг членов своего племени, и мне пришлось придумать магические предметы. Конечно, можно было бы обойтись словами, но так интересней и так легче сменить код поведения.
У этой истории хорошее продолжение. Дети выросли, и сегодня у каждого из них профессия так или иначе связана с международными контактами. Поездка в Авиньон стала удачной прививкой, дала свои ростки, оставила интерес к другой культуре и уверенность в том, что к новым условиям можно адаптироваться, а других людей понять, даже если они говорят на ином языке.
Ритуалы, игры, артефакты, сказки учат Ребенка умению ожидать, опираясь на внешние признаки, самому структурировать свое время, управлять настроением.
Из приемов укрепления уверенности, настройки на удачу мне лично нравятся мотивационные значки.
В издательстве «Эксмо», где и вышла эта книжка, остроумно придумали мотивационные значки для малышей, призванные поощрять их небольшие, но важные достижения, а также подбадривать в трудных ситуациях: «Я не боюсь уколов!», «Я делаю зарядку». Значок – яркий пример артефакта, который меняет отношение Ребенка с миром. Значки, которые можно сделать самостоятельно, закрепляют новую роль Ребенка как компетентного члена сообщества, которое принимает его, признает, поощряет на дальнейший прогресс. Это – детские медальки, которые напоминают не только взрослым, но и самим героям о совершенных подвигах.
Подвиг в три года – каждый раз застегивать пуговицы на пальто, кофточке, халатике, не перепутав петельки. Малышам иногда трудно выговаривать «Р» или «Ш», но они стараются изо всех сил. Мне кажется, нужны награды и за такие действия. Или, например: «Умею стоять на одной ножке!», «Умею подниматься по лестнице!», «Умею прыгать!», «Быстро бегаю!», а то и вовсе: «Ну-ка, догони!» (были когда-то такие вкусные-превкусные конфетки «Ну-ка, отними!»). Можно было бы обыграть и классические сказки: «Дружу с Красной Шапочкой!», «Считаю поросят! Три!»
Вручая значок, папа и мама должны сказать: «Ты молодец! Ты делаешь это лучше, чем другие! Возможно, даже лучше меня… Я горжусь тобой!» Для Ребенка самая важная награда – похвала родителей. Папа и мама – самые красивые, самые умные, самые сильные и самые умелые люди на свете. Малыши часто думают: «Как же мне повезло родиться в такой семье!»
Значки нужны и для родителей, это объединяет семью. Хорошо быть членами одной команды, команды чемпионов: «Лучший папа», «Самая красивая мама».
Носить значок очень приятно. Каждый, кто встречает тебя на улице или в детском саду, поздравляет, хвалит, восхищается. Можно снова и снова переживать триумф. Но это и обязывает. От героев ждут только хорошего. Приходится стараться и каждый раз заново показывать, что ты уже умеешь делать.
«Ну-ка, прочти стишок!», «Покажи, как ты умеешь считать!», «А вон ту вывеску сможешь прочитать?» – обращаются с просьбами и вопросами взрослые.
У каждого малыша должна быть наградная лента, на которую можно прикалывать новые значки. Такую ленту хорошо надеть на день рождения или просто поносить, чтобы поднять настроение.
Значки можно складывать в коробочку, а потом передать своим детям в наследство, как память о жизни и достижениях семьи.
В этой связи нельзя не коснуться проблемы лидерства. Лидер – это тот, кто просто и ясно излагает задачу, формулирует команды, а главное, умеет поощрять членов своей команды. Умение хвалить, поощрять, как и умение принимать признание и награды, – важные навыки будущего «карьериста», успешного человека.
Образному (визуальному, зримому) языку учатся в детстве. Все дети мира играют в мячи, катаются на велосипеде, ждут своих родителей после работы, обожают обниматься с мамами и не очень-то любят убирать игрушки.
Если малыш научится изображать смыслы, его возможности взаимодействия чрезвычайно расширятся. Смыслы можно изображать с помощью пиктограмм, предупреждающих или напоминающих о чем-то. Отметки на косяке двери (рост Ребенка) это тоже своего рода пиктограммы.
И снова возвращаясь к значкам. Лучше прибегать только к утвердительным подписям, без всяких там «не». Например, вместо «Не боюсь докторов!» лучше написать на значке «Дружу с доктором!» Не стоит педалировать и больную для родителей тему: «Без капризов», потому что за этим стоит косвенное порицание: «Ты – капризуля». Негативизм и табу, разного рода обзывалки слишком сильны в нашей системе воспитания, дети вырастают и помнят только, что «не делать». Это деморализует, консервирует страхи, занижает самооценку. Мы очень поможем Ребенку, если будем подсказывать, как себя вести, а не ставить подножки, окликать, предвещая беду.
Как преодоление препятствий позволяет Ребенку аккумулировать энергию жизненного потока
– Почему мы так любим качаться на качелях? Туда-сюда! Туда-сюда!
– Потому что помимо удовольствия мы накапливаем энергию маятника!
Как происходит сцепка с реальностью и аккумуляция энергии в живом организме, мы можем пока только гадать. Энергия – то, без чего невозможно решить ни одну задачу, – в психологии мало изучена. Можно предположить, что в отличие от растений, в листьях которых под воздействием лучей солнца образуется хлорофилл, запускающий процесс фотосинтеза(преобразование энергии света в энергию химических связей), и в отличие от животных, которые движутся, подчиняясь инстинктам выживания, Ребенок, начиная с младенческого возраста, способен «заправляться», вступая в синергетические связи со взрослыми. Для этого он использует богатейший набор движений, слов и предметов. Взрослые также «подпитываются» от Ребенка, и таким образом осуществляется взаимный энергообмен.
Важным условием поддержания энергообмена является состояние резонанса, ритмической синхронности между Ребенком и взрослым.
Когда мама, укачивая Ребенка, поет ему колыбельную, она многократно повторяет одни и те же слова и производит одно и то же действие. Тем самым она настраивает себя и малыша на определенный ритм. Живая человеческая речь имеет ритмическую природу. Первые слова малыша – всего лишь ритмическое повторение одного и того же слога – ма-ма, па-па, ба-ба…. Первые движения, первые шаги, ладушки, приседания – у всего есть ритмический рисунок. Внешние ритмы влияют на ритмы внутренние, гармонизируя их; они могут успокоить или, наоборот, взбудоражить психику. Шум дождя, мерный звук прибоя, ровное пламя свечи не только завораживают, но и умиротворяют, стирая следы аритмии тревог и страхов.
Ритмы учат паузам. В человеческих взаимодействиях пауза – это когда один из участников взаимодействия уступает, согласно заданному ритму, инициативу другому, а тот, перехватывая ее и осуществляя то, что от него требуется, в свою очередь делает паузу, и это чередование продолжается до тех пор, пока взаимодействие продолжается. Любые упражнения по синхронизации движений, вроде игры в «Ладушки-ладушки, где были? У бабушки», тренируют чувство сопряженности, а когда оба участника активны и довольны, гармонизируют отношения.
Чему бы ни учили Ребенка, обучение вовсе не выглядит, как одностороннее воздействие более опытного партнера на новичка. Обучение возможно только в том случае, если Ребенок имеет шанс повторить, скопировать или интерпретировать действие партнера. Соответственно пауза – это еще и возможность оценить перспективу своих действий.
Танцы – лучшая иллюстрация того, как синхронизируются не только действия, но и чувства. Если оба партнера танцуют с удовольствием, они, образно выражаясь, возносятся до небес. Потанцуйте со своим Ребенком, я уверена, положительные эмоции захлестнут вас обоих. Или попрыгайте с ним на кровати, подбрасывая подушки до потолка. Когда дети активны, они, подзаряжаясь энергией, создают мобильные «аккумуляторы». Чем больше участников подвижных игр, подразумевающих синхронные движения, тем больше «батареек», тем сильнее возможности каждого из игроков. Вот почему игра в футбол или хоккей доставляет детям удовольствие: физические нагрузки приводят к активному накоплению психологической энергии у каждого участника.
Повторяю, психологические механизмы аккумуляции энергии не изучены, но я могу высказать гипотезы. Одна из них состоит в том, что причиной подзарядки (повышение настроения и поднятие тонуса) служит внутренний маятник. Он работает за счет смены фаз: центрация – децентраця, «Я» – «не-Я». Партнеру как бы перебрасывается воображаемый мячик, тем самым перемещая центр восприятия в другую физическую точку. Пока Ребенок следит за движением мяча, летящего к другому игроку, накапливается напряжение: поймает ли тот мяч? вернут ли ему мяч? И вот мяч возвращается, накопленное напряжение (напряжение ожидания) моментально спадает, и внутренний маятник начинает двигаться в другую сторону – разрядка, удовольствие, физиологический подъем. Таким образом, удовольствие мы получаем не искусственно, как инъекцию, а напротив, пережив вынужденное психологическое или физическое напряжение и последующую разрядку.
Этот прием, кстати, используется в кино; он носит название suspense, что с английского так и переводится – напряжение. Считается, что зритель будет смотреть фильм, не отрываясь, если постоянно держать его в напряжении. Но это не совсем так, на деле авторы фильма используют метод «Между Раем и Адом». Герой то возносится до небес, то падает в бездну. Если между зрителем и героем устанавливается парапсихологическая связь, душа зрителя то сжимается от сопереживаний, то расцветает от удовольствия. Облегчение, которое мы испытываем, когда все злоключения остаются позади, дают нам дополнительные кванты энергии. Подчас мы аккумулируем гораздо больше энергии, чем нам нужно, но это не значит, что она пропадет впустую. Когда энергия накапливается, это только плюс. Представьте, что вы накопили денег, чтобы купить дом. И вдруг у вас появляется возможность купить не только дом, но и машину, и даже слетать в отпуск.
Энергетическая жизнь Ребенка проходит фазы аккумуляции, высокого напряжения и разрядки.
Разрядка – очень важный момент в становлении личности Ребенка, потому что иногда родители – из лучших побуждений, разумеется, – стараются во всем опекать свое чадо, устраняя всякую необходимость напрягаться. Результатом такой гиперопеки могут оказаться вялые реакции, слабая мотивация и низкая активность Ребенка; эмоциональный фон поведения окрашен в блеклые тона. Между тем чувство вовлеченности в жизнь, предполагающее повышение тонуса, может породить только собственная активность.
Сегодня разрабатывается даже особая наука – комплитология, от слова complete – препятствие, осложнение; основатель этой науки – профессор Александр Поддьяков. Люди, как все живые организмы, начиная с простейших одноклеточных, создают препятствия друг другу и вынуждены потом эти препятствия преодолевать. Мы живем в условиях конкуренции, и нужно правильно готовить к такой перспективе Ребенка. Конкуренция в человеческой среде не всегда носит людоедский характер.
Великий смысл конкуренции в том, что все ее участники вынуждены находиться в хорошей форме, в тонусе, чтобы быстро приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям. Оберегая детей от трудностей, мы заведомо снижаем их шанс на адаптацию.
Также мы лишаем детей мышечного удовольствия, физиологического напряжения и разрядки, живительного психологического стресса.
Очевидно, что один из приемов обучения детей состоит в том, чтобы ставить перед ними все новые и новые задачи на преодоление, в том числе и физических препятствий. Мы не должны быть жестокими по отношению к детям, но быть требовательными – обязательное условие воспитания. При этом Ребенок должен чувствовать, что за каждой неудачей его ожидает понимающий взрослый, а не карательный отряд.
Начало жизни Ребенка проходит в условиях плотного, иногда жесткого сцепления с физическим миром. Ему еще трудно различить живую и неживую природу. Все дается Ребенку с трудом – поднимать голову, самостоятельно переворачиваться на животик, сидеть, ходить, подниматься по ступенькам, наклоняться, поднимать мяч. Все это – благотворное напряжение по освоению свободы движения, восприятия, переживаний. Верно и обратное: избегая мышечного, интеллектуального, эмоционального напряжения, мы теряем сцепку с жизнью, выпадаем или, как теперь говорят на сленге, выпиливаемся из жизни. Чтобы вернуться в жизненный поток самых разнообразных стимулов, придется проделать трудный путь заново.
3. Золотой ключик к заветной дверце: главные тайны предметного мира Ребенка
• Молчание Ребят, или Пятое измерение предметного мира
• Как с помощью слов Ребенок познает мир
• Этапы освоения предметного мира: от погремушки до воображаемых миров
• Как каждый день мы обесцениваем предметный мир Ребенка, а вместе с ним и самого Ребенка
• Как укрепить в Ребенке уверенность в себе через предметы
Молчание Ребят, или Пятое измерение предметного мира
– Мой сын разговаривает с машинкой, с ручкой, с канарейкой. Это нормально? – спрашивают озабоченные мамочки.
– Ненормально, если не разговаривает совсем, а молча пялится в экран, – отвечаю я.
Последите за руками малыша: он все время что-то щупает, трогает, тянет в рот, бросает, переживая при этом целую гамму чувств, пока мама или папа заняты своими делами или отдыхают от трудов праведных. Конечно, очень важно научить Ребенка делиться образами, выражать свои желания и страхи в разговоре с самыми близкими людьми. Но папа и мама – не единственные важные собеседники. Если Ребенок разговаривает не с вами, это не значит, что с ним что-то не так, что он «заболел». Неприятное беспокойство, которое вы испытываете, когда Ребенок разговаривает с кем-то (кошкой или попугайчиком) или – о, ужас! – чем-то, может оказаться простой родительской ревностью, сигналом, что Ребенок нарушил границу вашего влияния, выходит из-под родительского контроля.
Дети живут не среди вещей, а среди живых существ, которые скрываются за оболочками вещей. Предметы – не антураж, к которому можно относиться с небрежением. Для Ребенка везде жизнь, везде!
– Придет серенький волчок и укусит за бочок, – убаюкивают малыша мама.
– А почему он укусит за бочонок? Он любит мед? – интересуется малыш.
Или вот. Папа пафосно сообщает малышу:
– Человек сам кузнец своего счастья!
– А почему кузнечик? Он что, плохо живет? – простодушно недоумевает малыш.
Абстрактные непонятные выражения перекодируются в знакомые Ребенку конкретные образы. И такая работа происходит все время, даже когда Ребенок молчит и просто наблюдает за жизнью вокруг.
Фантазия Ребенка полна разнообразных картинок, из которых он пытается складывать первые простые сюжеты. Любое послание извне, незнакомая комбинация слов тут же перекодируются в понятную картинку. Так мозг адаптируется к новому: переписывает все на знакомый лад. Между прочим, наш взрослый мозг работает точно так же. Мы опираемся на любые, понятные нам ассоциации; это примерно как паучок плетет сеть, чтобы захватить новую добычу, а потом уже переварить ее. Только сеть эта в нашем случае – из слов и понятий.
А знаете, в чем разница между родителем и Ребенком? Ребенок живет с чувством огромного дефицита информации. Он понимает только то, что видит, что слышит, что может потрогать, дотянувшись. Именно по этой причине дети задают так много вопросов: они просят нас помочь им перекодировать слова в картинки, звуки и прочие образы. А опыт взрослого соткан из категориальных сетей, слов, понятий, которые позволяют нам не столько кодировать, сколько вспоминать то, что уже известно. По мере того как мы взрослеем и набираемся опыта, реальность отодвигается от нас, она уже не производит такого сильного впечатления, потому что знания амортизируют активное воздействие стимулов извне, приглушают яркие сигналы, экранируют бурные воздействия среды. Мы мало спрашиваем, мало открываем нового, придумывая связи для далеких по содержанию предметов, – мы просто классифицируем уже известное. Детскому мифотворчеству противостоит взрослая классификация (категоризация). Мы складируем новости, пока дети их создают.
– В гостях хорошо, а дома лучше, – говорит папа, забирая Ребенка домой из гостей.
– У кого дома? – живо интересуется малыш, готовый отправиться к новым гостям, в новый дом.
Краеугольный камень отечественной психологии состоит в том, что общение родителя и Ребенка опосредовано артефактами, предметами, которые имеют человеческое содержание, помимо своих физических свойств. Кроме трехмерного пространства и времени есть еще пятое измерение – значение предметов в жизни человека. Мячик – круглый, красный, упругий. Прямо сейчас вы держите его в руках, собираясь бросить ребенку. Игра в мяч и есть значение этого красного круглого упругого предмета. Наверное, правильней было бы сказать – предназначение. Но не только. Не все предметы можно взять в руки и использовать напрямую, но все равно они рождались во взаимодействии людей и только во взаимодействии имеют смысл. Не случайно некоторые психологи называют предметы не просто артефактами, но и орудиями, инструментами, в которых хранится передаваемое из поколения в поколение магическое мастерство, даже искусство!
Рис. Треугольник взаимодействия
Облекаясь в слова, артефакты укореняются в сознании, но у детей пока еще в привязке к воображаемым ситуациям. Точнее было бы называть слова символическими инструментами. Слово «мяч» уже обладает воображаемыми виртуальными характеристиками. Мы мысленно бросаем его и ловим, а не забиваем им, например, гвозди.
Примеры несовпадений значений слов и личностных смыслов:
В психологии различают значения слов и их личностный смысл, чтобы показать этот всегда существующий зазор в понимании людей, который может стимулировать общение, но может и блокировать его. Ребенку грозит обнаружить себя в полном одиночестве, а точнее, наедине с артефактами, которым он будет приписывать личный смысл. Разница между общеупотребимым значением слов и личным, важным для Ребенка значением может быть очень большой. По этой причине дети с яркой фантазией чаще попадают в плен своих проекций и становятся если не изгоями, то, по крайней мере, чудаками, с которыми никто не хочет дружить. Им трудней озвучить образы и трудней подобрать правильный ключ, чтобы открыть заветную дверцу. В руках одаренного Ребенка связка ключей, а впереди целый каскад дверей. Ребенок, которого не понимают (или не принимают все богатство его образов), может навсегда остаться в маргинальном положении. Молчащих или «невнятных» детей опасаются, от них стараются дистанцироваться, в их присутствии испытывают неприятные чувства, вроде вины или стыда.
Название этой главы не случайно перекликается с известным голливудским хоррором «Молчание ягнят». Детские «заветные уголки» наводнены не только игрушками, сандаликами и панамками. В них обитают страхи, которые туда поселили родители. С некоторыми из химер нам и предстоит разобраться, потому что Ребенку это не по силам.
Если Ребенок тише воды ниже травы, ему достается меньше и внимания, и заботы. Некоторые дети говорят невнятно, невыразительно. А некоторые и вовсе отмалчиваются! В том-то и дело, что нет прямой связи между богатством внутреннего мира и экспрессивностью! За молчанием Ребят, которые не дергают своих родителей, не грузят их своими проблемами, могут скрываться миры, о которых они пока не в силах рассказать.
Дислексия – нарушение способности к овладению навыками чтения и письма – стала проблемой нашего времени. Энтузиазм Ребенка в освоении мира, его желания, в том числе и желание высказаться, конечно же, парализуются страхами. Вторая причина – распространение новых технологий, которые заставили и нас меньше говорить вслух или говорить обрывочно, не глядя в глаза Ребенку. Глаза родителя скользят по экрану гаджета, когда он что-то сообщает малышу. А без тактильной и зрительной связи теряется и психологическая связь.
Упражнение «Интервью в прямом эфире»
• Попробуйте обнаружить личностный смысл пяти – семи предметов (то есть тот смысл, который вкладывает в эти предметы ваш Ребенок). Проще всего это сделать, играя в «телевизионное интервью». Спросите Ребенка: «Скажите, пожалуйста, Петя, что такое фонарик? Зачем он нужен? А зачем вам, Петр Алексеевич, карандаш? А что делают с этой гаечкой?» Отнеситесь серьезно ко всему, что говорит Ребенок. Дети обожают давать интервью, и ваш малыш ответит искренне. И ему будет приятно почувствовать себя звездой.
Задача родителя помочь Ребенку из всех свойств предметов, которые он видит или осязает, сосредоточиться на главных. Большинство речевых ошибок, которые описаны в книге Корнея Чуковского «От двух до пяти», как раз и связаны со слабой способностью к различению; ассоциативное мышление малыша пока еще мешает отделить главное от второстепенного. Для Ребенка это трудная умственная работа. Он часто путает слова по созвучию, как бы не узнает их, путает «лица». Детские речевые ошибки – норма, зазор, который взрослому нужно иметь в виду в общении с Ребенком.
Вот современные примеры: Красная Пашечка (вместо «Шапочка»), Три Спонсоренка, Три Спросонка (вместо «Поросенка»), Стервый (вместо «Серый») Волк, Царевна-лохушка (вместо «лягушка»).
Комический эффект возникает из-за того, что дети ошибаются совершенно серьезно, они не играют в слова, они спотыкаются, поступают со смыслами примерно так, как с пуговицами, когда путают петельки и застегивают рубашку наперекосяк.
Как с помощью слов Ребенок познает мир
Процесс перевода слов из внешнего плана во внутренний называется интериоризацией. То, что наблюдает взрослый, когда Ребенок разговаривает с игрушками, насекомыми или предметами, и является промежуточным этапом между общением внешним и внутренним. Там, внутри нас, продолжается диалог, когда все персонажи внутреннего театра вступают друг с другом во взаимодействие, создавая многоголосье.
– Давай уже полезай в кармашек, – говорит маленькая девочка пустому совочку, похлопывая им по столу.
Никакого кармашка, никого рядом.
– Кто в кармашке?
– Конфетка, большая.
– Но ведь у тебя нет конфетки.
– Есть! Есть! – сердится девочка.
– А кто тебе ее подарил?
– Сама подарила, сама!
На языке маленькой девочки это означает: «Я сама хочу играть. Это моя конфетка. Я ее вижу. Я ее прячу в карманчик. Карманчик тоже мой, я его вижу, а тебе не покажу».
Детский эгоцентризм (Я – центр Вселенной!), который прочитывается в желании Ребенка отстоять право на то, чтобы распоряжаться своими игрушками, образами, желаниями, помогает ему аккумулировать, накапливать опыт. Объем воспринимаемой Ребенком информации гораздо больше, чем тот, которым он готов делиться. И если уж на то пошло, информации у Ребенка пока еще маловато, поэтому не стоит ожидать от трехлетней малышки пластичности и способности понимать разные точки зрения. Большое достижение для нее – выразить то, что она видит.
Развитие речи Ребенка происходит в три этапа
• Родитель сам приписывает значение тем или иным действиям Ребенка, постоянно повторяя одни и те же комбинации слов, помогая ему выучить наизусть: «Маша улыбается!», «Петя хочет кушать!», «Сейчас мы пойдем гулять!» Мы внушаем Ребенку, что мир вокруг именно такой, как мы его описываем, хотя сами-то знаем, что это не совсем так, возможны варианты.
• Ребенок повторяет слова или предложения сам, даже если взрослого нет рядом. Попытки взрослого вмешаться в разговор могут отвергаться на фоне кризиса «Я сам!» в четыре с половиной года. Ребенок может проявлять агрессию по отношению к особо назойливым взрослым. Особенно обидно бывает добрым, заботливым няням, которых упрямые малыши буквально вытесняют из детской.
• Ребенок учится играть со сверстниками, его слова направлены на равного, собеседника. Несмотря на неизбежные противоречия, дети испытывают огромный интерес друг к другу, начинают играть общими игрушками, делиться предметами, показывать и рассказывать о своих намерениях.
Некоторые психологи, например знаменитый швейцарец Жан Пиаже, считали, что эгоцентризм врожден, а вместе с ним врожденными скорее всего оказываются и первичные понятия, представления о пространстве, последовательности, способность сравнивать, оценивать предметы. Наш психолог Лев Выготский, наблюдая за малышами, пришел к выводу, что все понятия, которые прививаются детям, приходят извне, формируются настойчивыми взрослыми. И основу понятий образуют слова, которые, будучи записанными на подкорку и подпитанные опытом, позволяют впоследствии развивать более сложные ассоциативные ряды. Слово дает Ребенку свободу перемещения, позволяет эмансипироваться от реального мира.
Ребенок может попросить яблоко, которого он не видит, просто назвав его. Два процесса эмансипации происходят одновременно – отделение от родителей и независимость от конкретных предметов. И тем, и другим можно подобрать замену, не абсолютную, не тождественную, но все же: гулять можно не только со своей мамой, но и с мамой Вовы, есть можно не только с помощью своей маленькой ложечки, но и с помощью большой, папиной.
Помните сказку про Машеньку, которая заблудилась в лесу и оказалась в доме медведей? Там она попеременно садится на разные стулья, ест из разных тарелок и так далее. Это и отражает процесс эмансипации: Ребенок самостоятельно опробует разные варианты. Вообще проявляет самостоятельность.
– Кто, кто сидел на моем стуле? – спрашивает папа-медведь.
– Кто-кто ел мою кашу? – спрашивает мама-медведица.
– Кто-кто спит на моей кроватке? – спрашивает Медвежонок.
В сказке события происходят в последовательности «от взрослого к детскому». Так и есть: мы усваиваем, интериоризируем (впитываем) опыт взрослых, но в детских формах. Ребенок сам открывает то, что ему подходит, но вначале он пробует все!
Повторение, которое мы используем, когда терпеливо учим Ребенка ходить, держать ложку, снимать туфельки, навсегда останется важным педагогическим приемом.
Когда Ребенок начинает механически повторять слова и предложения, многим родителям кажется, что он уже вовсю болтает, а значит, и понимает все, не хуже взрослых, то есть должен понимать – сразу, с полуслова.
Это – большая ошибка. Три раза! – вот норма, артикулированная в сказках. Чтобы достичь цели, герои сказок должны предпринять три попытки. Троекратно, как в сказке, повторив просьбу «Принеси полотенце!», мы поможем Ребенку: 1) обратить внимание на нас и на предмет, 2) мобилизовать внимание, отвлечься от того, чем он сейчас занимается, 3) исполнить нашу просьбу. Раз-два-три.
В ролевых играх девочки влезают в «шпильки» своих мам, нахлобучивают на голову бабушкину шляпу и вешают на шею бижутерию. Мальчики агрессивно стучат по всем поверхностям, а в качестве молотка используют игрушечные инструменты или то, что попадется под руку, но самым заветным остается папин молоток.
Нам кажется, что дети посягают на наш мир, берут чужое, а они просто расширяют свой мир, преумножают то, что у них есть, прежде всего свои собственные навыки, знания и представления.
Этапы освоения предметного мира: от погремушки до воображаемых миров
– Самое лучшее, что вы можете сделать для своего ребенка, это обуться не на ту ногу, перепутать петельки для пуговиц и перевернуть тарелку с кашей…
– Вы издеваетесь?!
В отечественной психологии именно манипуляции с предметами считаются ведущим видом активности у малышей до трех лет. Круг общения Ребенка пока слишком ограничен, он сам нуждается в постоянной опеке и помощи. До некоторого времени все предметы исполняют одну и ту же функцию: так или иначе утолять сенсорный голод Ребенка, потребность в движении и новом сенсорном опыте. Ребенку все равно, чем стучать по столу – молотком, пультом от телевизора или папиной ложкой, – все идет в ход. Ребенок не прочь порисовать, и он рисует на стенках, скатертях и простынях. Он получает мышечное удовольствие, он радуется свободе движения и передвижения!
Общая динамика усложнения манипуляций выглядит так:
• 1 – 1,5 года: Ребенок не знаком с функциями предметов, использует их в случайном порядке, учится совершать более точные движения.
• 1, 5 – 2,5 года: закрепление функций за предметами, использование их по назначению.
• 2,5 – 3 года: перенос функций одних предметов на другие, начало игры.
Постепенно с каждым годом расширяется и словарный запас:
• 1 год – 10 слов.
• 2 года – 100 слов и 10 словосочетаний.
• 3 года – 300 слов и 50 словосочетаний.
• И так далее, по нарастающей.
Иногда родители читают по полчаса мораль ничего не понимающему малышу. А вместо этого достаточно объяснить, как выглядит ситуация со стороны, чтобы Ребенок все понял и надолго запомнил урок. Возьмите лист бумаги и нарисуйте картинку: за окном ночь, темно, а мама стирает разрисованную скатерть. Наглядно? Наглядно. Рисунки экономят время и лучше передают смыслы, чем тысячи миллионов слов.
Малыши только учатся высказываться правильно и ясно.
До шести лет у Ребенка конкретно-образное мышление, и картинки – его главный язык, самый важный код.
Вот почему дети любят рисовать, даже если это не очень получается. А часто ли вы рисуете вместе с малышом?
Мама может попросить Ребенка показать, как кушает кукла «понарошку», и он с удовольствием сымитирует действия куклы. Более того, Ребенок уже знает, что некоторые предметы нельзя трогать или использовать как попало, хотя и не всегда понимает почему.
С трех лет начинается бурное развитие воображения. Именно вслед за воображением начинают подтягиваться другие функции – внимание, память, мышление. Развитие воображения позволяет Ребенку разыгрывать условные сюжеты, а вместо куклы или машинки использовать универсальные предметы: кубики, палочки, пирамидки.
Родители часто считают признаком успешного развития словарный запас и двигательную активность. Но это не так. С трех лет главные признаки успешного развития не лежат на поверхности. Чтобы обнаружить их, придется вступить в контакт с Ребенком, скажем, в процессе игры поддержать его попытки создать и описать свой мир.
Интересно, что бурный рост воображения приводит к первому пику лихого детского вранья. Происходит это в районе четырех лет. Дети рассказывают небылицы, обижаются, когда им не верят, требуют участия в явно придуманных сюжетах. Это время, когда к малышам прилетают Карлсоны.
К взрослым Карлсоны давно не прилетают, но мы, взрослые, служим детям примером, они копируют наше поведение. Однажды психологи провели в детском саду эксперимент: именно чтобы доказать, что дети будут копировать любые действия взрослых. В одной группе специально приглашенный актер избивал надувным молотком игрушки, изображая агрессию. После его ухода дети немедленно взялись колотить своих мишек-хрюшек.
В другой группе был устроен благотворительный обед для игрушек, и дети, когда актеры ушли, стали понарошку кормить игрушки, гладить их, прижимать к себе.
Конечно, взрослые дети (школьники) не стали бы заниматься экзекуциями (вспомните рассказ Драгунского «Друг детства»), но с трех до четырех лет детям действительно свойственно копировать поведение других людей, и это сродни актерству: изображать все подряд – до чего же это интересная игра!
Ребенок застревает на этапе аутичных игр, то есть продолжает играть сам с собой, если ему не с кем играть. Так происходит и в том случае, если предметный мир ролевой игры (предметы, которые можно трогать, создавать из них разные комбинации) заменяется виртуальным компьютерным миром. Универсальность человеческого мозга такова, что он может приспособиться к любой ситуации. Если Ребенка оставляют в условиях простого взаимодействия с миром, его мозгу не нужно развиваться, и он начинает функционировать в монотонном режиме. Дети соответственно вырастают мономанами, готовыми часами делать одно и то же. И мы не можем рассчитывать на то, что организм ребенка сам подскажет, как функционировать и развиваться мозгу.
Игра в дошкольном возрасте является главной деятельностью Ребенка. Игра – это сложно организованный процесс, и мне кажется, мы упрощаем и недооцениваем возможности игр. Ребенок вступает в игру, подражая взрослым, но если для взрослого игра – это условность, то для Ребенка – это серьезная активность. Ребенок наблюдает за движениями, взаимоотношениями взрослых, их разговорами и пробует повторять. Он пока не понимает, почему люди ведут себя так или иначе, не может спрогнозировать и оценить последствия своих действий.
Последовательность в освоении навыков зависит от того, какой воспитательной стратегии придерживается родитель, есть ли у него индивидуальные особенности воспитания.
В книге «Как спокойно говорить с ребенком о жизни, чтобы потом он вам дал жить» я предлагаю выделять три стратегии воспитания:
• родитель-фанатик,
• родитель-реалист,
• родитель-романтик.
Там же я привожу тест, с помощью которого можно определить стратегию воспитания. Если у вас возникнет интерес, найдите эту книгу и прочитайте. А здесь я скажу в дополнение, что стратегии воспитания должны выбираться соответственно возрасту ребенка.
До того как Ребенку исполнится семь лет, родителям лучше выпустить своего «внутреннего Ребенка», разрешить ему смеяться и плакать вместе с малышом.
Романтик – это взрослый, который верит в чудеса, который получает удовольствие от каждого движения и все время с удивлением рассматривает предметы, которые попадаются ему на пути.
До школы лучше подыгрывать Ребенку, чем пытаться его убедить. В этом отношении лучший взрослый для малыша – Клоун, который, кажется, только на полшага опережает его. Клоун предлагает малышу во всем следовать за ним, вовлекает его в свои игры. Например, берет надувной молоток и стучит по поверхности стола, по дивану, по полу – стучит и прислушивается к разным звукам. Или пытается надеть чужую шапочку, и у него ничего не получается, то завязочки не стягиваются, то помпон свешивается и щекочет нос. Клоун пальцем трогает кашу, потом слизывает капельку, потом берет ложку и съедает все, а когда съест, проводит языком по ободку тарелки. Не бойтесь показаться смешными, вы не потеряете главное – контакт с малышом, для которого неловкие движения Клоуна служат сигналом того, что его, малыша, понимают, ведь и у него получается примерно так же.
«Помоги мне! Пожалуйста! Еще разок!» – будет клянчить Клоун.
Так он придаст уверенности малышу в том, что он, малыш, кое-что умеет делать лучше, чем этот смешной взрослый.
Романтик, следуя за своим «Ребенком внутри», во всем ищет удовольствий, но ведь возраст до семи лет действительно самый счастливый в жизни человека.
За первые семь лет происходит очень много важного. Формируется ядро личности, мироощущение, вкусы и предпочтения, накапливаются фантазии, сила которых ведет нас потом всю жизнь. Энергия детских желаний – вот что аккумулируется в эти годы. И главная миссия родителя – помочь «заправить баллоны» для путешествия длиной в жизнь.
Фантазируйте вместе с Ребенком. Для этого пригодятся любые подручные предметы. Солонка может превратиться в ракету, ложка – стать лодкой, причем подводной, а салфетка – солнечной батареей. Фантазировать – это не пустое времяпрепровождение! Не бойтесь, что малыш вырастет мечтателем. Опыт побед и прорывов накапливается уже в детских играх. А у предметов появляется новый смысл: они становятся инструментами достижения важных для Ребенка целей, волшебными артефактами исполнения желаний.
Любой предмет может стать символическим инструментом достижения цели и, как следствие, символом победы.
Образ предмета насыщается положительными эмоциями, и с каждым разом он становится все значимей и значимей. Незатейливый с виду предмет становится универсальным инструментом достижения самых разнообразных целей. Он становится магическим, волшебным, всемогущим артефактом!
Как каждый день мы обесцениваем предметный мир Ребенка, а вместе с ним и самого Ребенка
– Сложи одежду на стульчике. Она уже вся помялась! Опять стирать! Отнеси грязные ботинки в ванную, сейчас будем мыть, – говорит раздраженно мама.
«Я такой грязный, такой нелепый…» – запоминает малыш.
Когда родитель требует убрать все «ненужные» предметы, навести порядок в комнате или на столе, он умерщвляет среду Ребенка. Предметы обесцениваются, их значение в жизни Ребенка снижается, сводится к совокупности физических свойств. Отдавая приказ «убрать», мы узурпируем право Ребенка распоряжаться предметным миром. Как следствие, разрывается множество ассоциативных связей между Ребенком и предметами, которые питали его и поддерживали.
Вчера плюшевый мишка был источником радости и любви, он – друг, участник игр… Сегодня его в сердцах бросили в угол и превратили в «старую грязную игрушку».
Еще не эмансипировавшись от предметного мира и взрослых, Ребенок присваивает себе те характеристики, которыми мы наделяем все, к чему он прикасается. Если вы хотите выработать у Ребенка низкую самооценку, устойчивое чувство стыда и унижения, не жалейте плохих оценок. У Ребенка сложится устойчивое ощущение, что любое его телодвижение только усугубляет то, что и так плохо. И в комнате у него грязно, и одежда мятая, и игрушки плохие. Все на него смотрят и видят, какой он ужасный.
Одна из причин варварского отношения к предметному миру Ребенка состоит в том, что мы воспринимаем этот мир в категориях иерархии: ниже – выше, сильней – слабей. Предметы в этой иерархии занимают самые нижние позиции. Классификация по степени сложности хороша в науке, например, зоологи считают, что насекомые стоят ниже птиц по своей организации, а птицы примитивней млекопитающих, а обезьяны, понятно, несравнимы с людьми. Математики тоже считают, что арифметика – детский лепет по сравнению с интегральным исчислением. Но формальная логика не работает в психологии, в мире отношений. Все предметы имеют то значение, которое мы им приписываем.
Почему мы иногда так сердимся на предметы? Почему бросаем их в сердцах? Иногда готовы взять молоток и разбить на мелкие части, но иногда прижимаем предмет к себе, будто дороже и нет ничего, – почему? Но уж коль мы с собой не можем разобраться, нам придется принимать на веру переживания и привязанности Ребенка, даже если мы не знаем о происхождении этих переживаний. С чувствами Ребенка нельзя обращаться как попало. Когда он горюет или радуется чему-то, первым делом нужно разделить с ним это горе или радость. Плачет из-за куклы, рука оторвалась? И вы поохайте, пожалейте куклу, а потом попробуйте починить.
Вспомните, как вы негодуете:
– Перестань реветь из-за такой чепухи. Подумаешь, чашку разбил. Если бы тебя видели другие дети, они бы рассмеялись над тобой! Как не стыдно!
В это самое время у Ребенка формируется ощущение, что его самые важные чувства, как только о них узнают, будут осмеяны, а сам он – пристыжен. Подумайте, легко ли с таким опытом будет признаваться в любви уже взрослому человеку?
Когда родитель требует тишины от Ребенка, он хочет, чтобы тот хотя бы на время отказался от своей сущности – сущности живого и деятельного человека, который открывает этот мир заново. Вместо радости от нарастающих возможностей Ребенок может расти с чувством вины из-за того, что он мешает взрослым, крутится под ногами.
Мы верим в магию предметов, летим через океан, чтобы прикоснуться к бронзовому божеству, стучим по дереву, чтобы не сглазить, носим на шее зуб тигра, когда особо нуждаемся в помощи или любви. Но Ребенок в помощи и любви нуждается непрерывно. Это нечестно и жестоко – «расколдовывать» предметный мир Ребенка, развеивать детские иллюзии, лишать энергии уникальных связей с миром, обесценивать его усилия и важные для него чувства!
Как укрепить в Ребенке уверенность в себе через предметы
– Он собирает всякую ерунду и носится потом с ней. Я устала чистить его карманы!
– А если эта чепуха делает Ребенка всемогущим?
Вместе с представлениями о мире Ребенок накапливает знания о самом себе. Процессы познания и самопознания происходят одновременно. В зависимости от того, какую обратную связь получает Ребенок, положительную или отрицательную, формируется ядро его личности. Формируется или продуктивная положительная самооценка, или отрицательная, блокирующая спонтанное поведение, исключающая уверенные поступки.
Даже если у родителей не хватает времени на общение с Ребенком, они все равно определяют качество обратной связи.
Между потаканием и подкреплением есть большая разница.
Потакание – это опережающее удовлетворение любых, даже воображаемых потребностей. Ребенок получает все, чего только душа не пожелает!
Подкрепление поддерживает попытки Ребенка осуществить некоторый замысел. Например, когда мама сама заботливо, с умилением застегивает пуговицы на курточке сына, она ему потакает. А если мама предлагает сыну самому застегнуть курточку и хвалит его за дерзость справиться со сложной задачей, то такая обратная связь – подкрепление: «Да, так… Правильно!»
Подкрепление как метод воспитания используют дрессировщики, принцип простой: правильное поведение животного поощряется хорошей порцией еды, неправильное – наказанием или лишением лакомства. Но люди, особенно малыши, ценят психологические поощрения больше, чем материальные. Добрые слова, поглаживания, объятия воспринимаются нами с детства как проявления любви и заботы.
Мы потакаем молча, а поощряем вслух. В этом и подлость гиперопеки, что она может проявляться активно, но тихо и бессознательно. Не нужно судорожно помогать, не нужно стараться побыстрей все сделать вместо Ребенка, чтобы сэкономить время. Лучше потратить время сейчас, пока Ребенок мал, чем потом кормить и водить его за ручку до конца жизни.
Для эффективности обратной связи важно – сканируем мы действия Ребенка с прицелом на достижения или изначально критически относимся ко всему, что он делает.
Первая стратегия (прицел на достижения) усилит желание пробовать и учиться. Очень часто дети не хотят учиться, чтобы избежать избыточной критики.
Критичность отбивает охоту к экспериментированию. Если Ребенок получает отрицательную обратную связь, сигналы о своей некомпетентности, он начнет придумывать способы, как избежать наказания.
Например, начнет «стучать» одному члену семьи на другого, жаловаться на здоровье («Ой, живот заболел»), прятаться за спины других детей, отказываться есть («Будете ругать, перестану завтракать и заболею») или, напротив, пообещает немедленно все исправить, чтобы отсрочить санкции.
Усиливать «Я» Ребенка с помощью предметов легко. Нужно подтверждать его пробы и не ругать за ошибки. «Да, ты прав!» – вот что нужно говорить на все лады.
Самое трудное в искусстве воспитания – это ничего не делать, молчать и наблюдать за тем, как у твоего малыша пока что-то не получается. «Помолчи! Погоди! У него все получится! Не торопись! Не сейчас! Не лезь своими руками! Пусть пробует!» – вот команды, которые нам стоит повторять про себя, потому что рядом не будет никого, кто защитит Ребенка от родительской экспансии.
Это не дети должны молчать и слушать. Мы!
Несколько приемов усиления «Я» Ребенка (по-научному идентичности) с помощью простых манипуляций с предметами
• Любимую игрушку ставим на видное место, ей особый почет и уважение, даже если лично вам она не очень нравится. Это может быть старый некрасивый клоун или кукла без глаза. Фокус в том, чтобы побуждать Ребенка не забывать старых друзей. Можно спрятать в коробочку и оставить на память то, что доставляло столько радости. Так вы поможете Ребенку формировать долгосрочную память и глубокие психологические привязанности, без которых сильного положительного «Я» не сформируется.
• Высказывайте уважение к тому, что делает Ребенок. Многие мамы прячут в особую папку детские рисунки. Иногда для себя, а иногда, чтобы показать гостям. Покажите, если так хочется, но есть одна непубличная процедура, о которой мы подчас забываем: разбор полетов. Если рисунки соби
