Читать онлайн Славный путь к поражению бесплатно
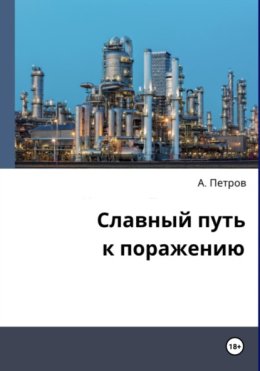
Вместо предисловия
Автор данной книги, пройдя сложный путь от мастера до руководителя подразделения Совета Министров СССР в ранге министра, к концу 1980-х годов пришел к выводу о том, что учение К. Маркса по основным положениям ошибочно. Детально обосновав выводы в монографии «Экономика и политика: иллюзии и реальность», он указал на отсутствие перспективы у страны, которая опирается на это учение. При этом предупредил о том, что устремления реформаторов, направленные на ускоренное разрушение сложившегося в СССР строя, носят хищный, авантюристический характер и нанесут стране большой ущерб.
В данной книге автор, охватывая почти тридцатилетний период своей трудовой деятельности в СССР, с 1963 по 1991 годы, ненавязчиво, во многих случаях с иронией, подводит читателя к осознанию того, как обычные для того периода времени действия руководителей «строительства коммунизма» в сочетании с опорой на ложную государственную идеологию сделали неизбежными трагические события 1991 года. Первое издание книги вышло в 2017 году. Через 26 лет после самоуничтожения СССР автор подталкивает читателя к вопросу: «Насколько мы изменились и что нас ждет?». В процессе подготовки второго издания книги автор уделил значительное внимание характеру деятельности руководителей СССР, с которыми работал в Аппарате Совета Министров СССР, глав ведомств и союзных республик.
Курск – первая производственная школа
Учеба в Англии как причина будущего роста
В производственной карьере в химической отрасли, выбор которой я считаю, как большое счастье для специалиста, значительную роль сыграла учебная поездка в Англию. Сам факт того, что она состоялась, явился совпадением большого числа случайных в большинстве своем положительных обстоятельств.
В 1963 году я окончил Ивановский химико-технологический институт. Учеба давалась легко, сильно не усердствовал, много занимался спортом. Большая часть оценок составляла пять баллов, меньшая – четыре. По среднему баллу я претендовал на очередность выбора места работы седьмым из пятидесяти выпускников своей специальности. Имел льготу как чемпион области и института, призер студенческой спартакиады по нескольким видам спорта. Она передвигала меня на несколько мест вперед. Выбрал, на мой взгляд, лучшее для того периода предприятие «Курский комбинат синтетического волокна». Перед приездом в Курск прошел трехмесячные военные сборы в районе небольшого городка на Волге Решмя. Получил военную специальность «Защита от оружия массового поражения». Имелось в виду ядерное, химическое, бактериологическое оружие.
В начале октября приехал в Курск. Начал работать мастером-стажером в химико-прядильном цехе опытно-промышленного производства. За два года последовательно прошел ступеньки: начальника смены, технолога цеха. В 1965 году был назначен заместителем начальника цеха. В том же году женился на Людмиле, дочери сельских учителей из Ивановской области. Она работала мастером в химическом цехе производства «Капрон». Через год у нас родился сын Константин.
Это было время, когда страна осуществляла крупномасштабные закупки оборудования у западных фирм и на их основе с использованием разработок отечественных конструкторов и ученых создавались промышленные технологии. Основным видом продукции первой очереди комбината были волокна и нити лавсан. Данная аббревиатура расшифровывалась следующим образом: лаборатория высокомолекулярных соединений Академии наук. Имелась в виду Академия наук СССР. Волокно и нити лавсан выпускались на оборудовании фирмы «Крупп» (Германия) и фирмы «Когорн» (США).
Технические характеристики установки Круппа были довольно низкие. Установки Когорн основывались на более прогрессивных технологических решениях, но из-за низкого уровня проектных работ их пуск сопровождался громадными трудностями. Американцы, в большинстве своем летчики, демобилизованные по окончании войны с Вьетнамом, бросили эти установки, не доведя до гарантийных испытаний. На заводе занимались их модернизацией несколько лет. До пуска основных цехов на опытном производстве была запущена линия по отработке технологии всех основных видов продукции. Это был завод в миниатюре. Он выпускал полимеры, регенерировал растворители, формовал волокно, нити и подвергал их текстильной обработке. По планам Министерства химической промышленности (далее – МХП) после запуска большого завода на площадях опытного производства мы должны были обеспечить быстрое развитие отечественных технологий в области полиэфиров и создание новых видов оборудования. Эта идеология имела серьезный изъян, так как импортное оборудование имело низкие характеристики по производительности. При недостатке опыта наших ученых полученные на лабораторных стендах результаты имели еще более низкие параметры.
Работа по созданию новых процессов была сложная и, кроме того, сопряжена с высоким уровнем риска. В условиях действующего производства, использующего в качестве основного сырья, такие пожаровзрывоопасные продукты, как метанол, этиленгликоль, динил, шел монтаж новых крупногабаритных химических установок с применением в больших масштабах сварочных работ. Много усилий было вложено в создание оборудования для формования волокна – три типа экструдерных установок по производству полиэфирных волокон, два типа по производству полипропиленовых волокон.
Производством отечественного оборудования занимались как специализированные фирмы, так и новые предприятия, как правило, из оборонного комплекса. Это было время значительного сокращения Советской Армии и соответственно военных заказов. К гражданским заказам оборонные заводы относились как к временной повинности со всеми вытекающими последствиями. Так, автоклавное оборудование по производству полимеров производил судостроительный завод из Киева «Ленинская кузница». Он взял за аналог американскую установку Когорн со всеми ее проблемами и добавил еще массу своих. Выявление недостатков было осуществлено быстро, но их устранение затянулось. Шли споры, чьи это ошибки – научно-исследовательских институтов, проектных организаций, конструкторов или изготовителей оборудования. Ни у кого не было резервов финансовых средств для доводки, и это было причиной споров. Несмотря на это, по значительной части проблем были найдены технические решения, определены источники финансирования. К 1967 году сформировалась довольно хорошая перспектива доводки оборудования до проектных показателей. К сожалению, к тому времени стало известно, что еще в 1965 году с фирмой “ICI” (Англия) был заключен контракт на поставку нового завода в Белоруссию по производству полиэфирных волокон и нитей, превышающего мощности Курского завода почти в десять раз. При этом одновременно была закуплена технология во всех ее подробностях.
Таким образом, явно просматривались две тенденции. С одной стороны, делались большие заказы отечественным институтам и заводам по созданию новой техники, с другой – по той же тематике шли крупномасштабные закупки за рубежом. При этом контракты на поставки импортного оборудования заключались еще на стадии разработки и монтажа отечественных головных образцов. Аналогичная участь, то есть ускоренный монтаж, доводка, пуск и скорое забвение, постигла затем и установки по регенерации отходов, экструдерные установки по производству волокна из полипропилена. Были прерваны испытания отечественного экструдерного оборудования – машин нового поколения по формованию полиэфирных волокон. Вместо них были проведены испытания новых малоперспективных машин, сделанных в Германии, Несмотря на неудовлетворительные результаты, они были закуплены. В тот период я еще не мог делать обобщений. Все это казалось мне неудачным совпадением обстоятельств.
Закупленное в 1965 году у фирмы “ICI” (Англия) для Могилевского ПО «Химволокно оборудование» – было аналогом того, что англичане запустили у себя в стране в 1953 году. Это был не единичный случай. Как правило, установки, прототипы которых имели подобный срок эксплуатации, продавались по высоким ценам СССР. Иностранные создатели технологии и оборудования за пятнадцатилетний период эксплуатации у себя на родине добивались их устойчивой безаварийной работы. Аналоги этих установок в короткие сроки монтировались в СССР и выводились на проектные показатели. Подобные проекты формировали славу производственникам, работникам Минвнешторга и Минхимпрома. В связи с внедрением в экономику новых синтетических материалов они существенно продвигали вперед промышленность СССР, ускоряли прогресс в смежных с химией отраслях. Тот факт, что при этом наши западные конкуренты уже имели новое поколение технологических процессов и оборудование, превышающее на порядок по мощностям установки, проданные в СССР, оставался в тени. Запад и особенно США принимали все меры, для того чтобы мы были лишены возможности их приобретения.
В связи с этим поставка новых для нас, но морально устаревших для Запада процессов, не сокращало наше технологическое отставание, не формировало у наших институтов и машиностроительных заводов комплексного потенциала для создания нового. В целом оно закрепляло нашу технологическую зависимость.
Во многих министерствах сформировалось группы лоббирования импорта. Всегда, когда ставилась очередная народно-хозяйственная задача, ее решение реализовывалось по двум направлениям: закупка по импорту, отечественная разработка. В полиэфирах побеждали в большинстве случаев лоббисты импорта. Как правило, их очередная победа сопровождалась заявлениями типа: «Это последняя закупка, она нужна для закрытия плановой потребности в сырье для производства товаров народного потребления, далее будем ориентироваться на свое». «Далее» длилось бесконечно.
Для разработки образцов отечественной техники старались использовать опыт соцстран. Многие из них имели налаженные каналы получения технической информации от своих соотечественников из-за рубежа, их специалисты активно посещали технические выставки западных фирм. В начале 1968 года меня включили в состав группы специалистов, направляемых в Чехословакию со специальной миссией. Группа должна была ознакомиться с работой новой машины по производству полипропиленовых нитей. Наши машины формовали нити на скорости до шестисот метров в минуту. После формования требовалась дополнительная операция вытяжки на крутильно-вытяжной машине. Машина, которую нам следовало изучить в Чехословакии, формовала нити из расплава на скоростях две тысячи четыреста метров в минуту, они приобретали сразу же высокие физико-технические характеристики, что позволяло уйти от второй операции.
В состав группы вошли два специалиста отраслевого института ВНИИСВа – начальник конструкторского бюро и технолог. Я попал в ее состав как производственник, осваивающий отечественное оборудование для полипропилена. Оформление заняло несколько месяцев, в марте мы выехали. Для меня это был первый выезд за границу. Мои коллеги имели более богатый опыт загранкомандировок. Первый блин комом, таким был и мой первый выезд.
Ехали поездом, вечером сели в Москве, к концу следующего дня подъехали к границе с Чехословакией. При подготовке к сну, забираясь на верхнюю полку, обратил внимание на красный рычаг, расположенный рядом с хромированной ручкой, предназначенной для подъема на вторую полку. Спросил своих коллег, для чего рычаг. Получил ответ – очевидно, стоп-кран. Заметил, что вряд ли это так, ведь неразумно располагать его рядом со вспомогательной ручкой для подъема на вторую полку, ночью можно ошибиться. Отметил, что нет пломбы, как на наших стоп-кранах. На все замечания получил один совет: «А ты попробуй». Попробовал, поезд резко затормозил ход и остановился, оказывается, на самой границе СССР–Чехословакия. По вагону суетливо забегали проводники. Пришлось выходить из купе и признаваться, что это была ошибка при подъеме на верхнюю полку. Проводники успокоили – не ты первый. К сожалению, это было только начало данного злополучного путешествия. Рано утром приехали в Попрад – маленький словацкий город у подножия Высоких Татр. В этом городе был расположен институт, который разработал высокоскоростную машину. Остановились в местной гостинице, позавтракали, дождались микроавтобуса, приехали на завод. Директор института Павел Гривняк, несмотря на ранее имеющуюся договоренность, на месте не оказался. Его заместитель извинился, объяснив, что его срочно вызвали на совещание в министерство в Прагу. При этом он сообщил, что ему поручено обеспечить работой нашу делегацию. Старший группы, начальник КБ объяснил цель нашей командировки и причины ее возникновения. Руководители министерств СССР и Чехословакии встречались недавно в Москве и договорились об организации совместной работы по доводке машины и подготовке документации для серийного производства. Мы приехали для ознакомления с машиной и обсуждения условий сотрудничества.
Заместитель директора сделал удивленное лицо и пояснил, что указанной машины в институте нет, ее недавно демонтировали и отправили на доработку в отраслевое КБ в город Брно. В подтверждение своих слов он провел нас по цехам института, заявив: «Смотрите все, нам скрывать нечего». Расстроенные, мы ушли из института и, чтобы как-то поддержать наше настроение, замдиректора предложил совершить нам на следующий день поездку в горы, в зону горнолыжных трасс. День провели в горах, Татры понравились. Через границу посмотрели издалека на польский курорт Закопане, где в начале века проживал в добровольной ссылке В. И. Ленин.
На следующий день утром купили билеты на поезд и поехали в Брно. По дороге со мной случился еще один курьез. Мои коллеги оказались заядлыми преферансистами, я также имел высокую квалификацию в этой игре. И хотя у меня по служебному рангу был билет в вагон второго класса, они предложили оставить мой чемодан и пальто в их купе первого класса и сесть с ними играть в карты. Так и сделали. Но через некоторое время пришел контролер, обнаружил нарушение и предложил мне перейти на свое место. Но мои коллеги сообразили: «Чего ты будешь таскать чемодан, оставь его здесь, а чтобы контролер не придирался, иди, повесь на свое место пальто». Я пошел в соседний вагон и воспользовался их советом. Вернулся, игра продолжилась. По пути было несколько остановок, и в какой-то момент я решил проверить сохранность пальто. Пошел в свой вагон, но передо мной оказалась дверь тамбура, в окно которой я увидел убегающие шпалы, то есть вагон моих коллег оказался последним. Подумал, что перепутал направление, пошел в обратную сторону, попал в соседний вагон и нашел место соответствующее моему билету. Но пальто отсутствовало. Попытался словами и жестами объяснить сидящим пассажирам, что еду из Попрада, оставил в данном купе пальто, спросил, не видели ли они его. Мне теми же приемами объяснили, что тоже едут из Попрада, но ни меня, ни моего пальто за все время пути не видели. Ясность внес дежурный поезда. Он посмотрел мой билет и сказал, что я ищу пальто не в своем вагоне. Мое пальто висело в вагоне, половина которого была отведена под ресторан. Это был словацкий вагон, и его отцепили на последней перед границей с Чехией станцией. Впереди нас ждала остановка на крупной станции, и мы попросили его от дежурного позвонить на последнюю словацкую станцию. Он отказался, объяснив, что не может покинуть поезд. При этом чувствовалось, что он имеет и другие причины. Поезд остановился, нашли дежурного, высказали ему просьбу о возвращении пальто, указали адрес гостиницы в Брно. Дежурный понял не сразу, но когда вник в суть проблемы, категорично заявил, что звонок ничего не даст: «Ведь там эти идиоты словаки – они просто пошлют меня подальше». Тем не менее позвонил, продиктовал адрес, долго ругался и, в конце концов, резко положил трубку. Видно, что на другом конце провода реализовали его прогноз. Приехали в Брно, гостиница оказалась рядом с вокзалом, дошли до нее пешком. Следующие два дня – субботу и воскресенье любовались красотой Брно, я из окон гостиницы, мои коллеги – прогуливаясь по городу. В понедельник необходимо было ехать на работу. Мартовская погода с температурой минус десять градусов не позволяла ходить в пиджаке.
Пальто в гостиницу не поступало, и я уже смирился с тем, что придется потратить мои скромные командировочные на приобретение одежды. Утром в понедельник договорились, что с работой спешить не будем, дождемся открытия магазинов одежды. Но неожиданно одному из моих коллег пришла мысль о возможности поступления моего пальто в камеру забытых вещей на вокзале: «Есть у них в Европе такие камеры и, потом, кому нужно твое пальто курского пошива». Сбегал на вокзал, благо, что он был рядом, нашел камеру, одел свое злополучное пальто, и счастливый вернулся в гостиницу, заявив коллегам: «Давайте быстрее, сколько можно вас ждать». Но в конструкторском бюро нас ждало разочарование. Заместитель директора пояснил нам, что эти парни из Словакии слышали звон, да не знают, где он. Машину, которая вас интересует, две недели назад перевезли на модернизацию в Прагу в отраслевой институт, вам следует поехать туда вечерним поездом. Далее он любезно предложил машину и сопровождающего для осмотра знаменитых моравских карстовых пещер Мацоха, которые создала подземная река. Сели в лодку, проехали по ее руслу, выяснили отличия сталактитов от сталагмитов. Вечером отбыли из Брно в Прагу. В Праге остановились в самом центре – на Вацлавской площади. Утром на завтраке посмотрели местные газеты. Страной уже правил Дубчек, каждый день приносил сенсации. Крупные заголовки сообщали, что из страны сбежал на запад генерал комитета госбезопасности. Все ждали его откровений: одни с тревогой, другие со злорадством. Даже утром за завтраком ресторан гудел.
Пришли к началу рабочего дня в институт и получили информацию от его руководства о том, что словаки над нами подшутили. Машина продолжает непрерывно работать в Попраде. Круг замкнулся. Напрашивался вариант возвращения в СССР через Попрад с выведением на чистую воду шутников. Пришли к выводу о его бесполезности. Предложение об обращении в МХП с просьбой о воздействии на словацких коллег получило ту же оценку. Я высказал мнение о необходимости обмена билетов на более раннюю дату и досрочном возвращении в Москву. Старший группы отверг его сразу: придется писать объяснение о причинах выезда в загранкомандировку без достаточно качественного согласования с принимающей стороной программы поездки. Придется заплатить в десятикратном размере компенсацию за валюту, потраченную на билеты, гостиницу, суточные и получить при этом выговоры по административной и партийной линиям. Далее он пояснил, что его вытолкнул в командировку директор института после разговора с замминистра и он не может их «подставить». Решили остаться в Праге до окончания срока командировки. На мой вопрос о написании технического отчета по командировке он ответил коротко: «Сам напишу, у меня все данные по машине есть, я хотел здесь уточнить детали». Смотрели Прагу, обедали в маленьких пивных с многовековой историей. Везде гудел народ, страна стремительно двигалась навстречу августовским событиям. Узнавая в нас русских, многие из присутствующих обступали нас и втягивали в разговор. Мы старались доходчиво убеждать их в преимуществах братской дружбы двух стран, имея при этом наглядные примеры их практической реализации в области техники. Ехал назад в Москву, Курск и думал о том, как нам не повезло: стоп – кран, пальто, прядильная машина – «летучий голландец». Но главное, что все это, может быть, еще не конец злоключений, дома с нас спросят «по полной». Но все обошлось, моя поездка имела секретное задание, и поэтому на своем предприятии мне можно было не отчитываться о результатах. Но надо же так было случиться, что командировка в Чехословакию получила неожиданное счастливое продолжение.
В апреле 1968 года на Курский комбинат пришло указание срочно оформить для четырехмесячной поездки в Англию специалиста, владеющего знаниями по технологии всех стадий производства полиэфирных волокон и нитей. Перед поездкой первой группы специалистов Могилевского комбината в Англию обнаружилось, что в ней нет ни одного специалиста, комплексно знающего технологию полиэфирного волокна, т. е. владеющего знаниями по производству мономера, полимера, волокна, нитей. В главке удивились, как же вы будете изучать новый процесс, если у вас нет специалиста по полиэфирам. Вы же не сможете ни одного вопроса грамотно задать. Над вами англичане смеяться будут. Единственным предприятием по производству полиэфирных продуктов в СССР было «Курскхимволокно». Затребовали срочно дирекцию Курска, и она представила мою кандидатуру. При этом я был далеко не самым квалифицированным специалистом. Нет, просто кандидатуру нужно было представить срочно, а период проверки на политическую благонадежность занимал два месяца. При этом мой допуск, оформленный для поездки в Чехословакию, которая состоялась в марте того же года, оставался действующим. Порядок оформления выезда в Чехословакию был приравнен к выезду в капстраны.
Следует отметить, что мои анкетные данные отвечали самым строгим требованиям.
Мой отец Петров Александр Николаевич был специалистом по производству боеприпасов. Умер в сорокалетнем возрасте в 1952 году от саркомы головного мозга. Врачи связывали его раннюю смерть с отравлением, которое он получил перед войной в период работы в институте, создающем технологии производства химического оружия. Моя мама – ровесница Октябрьской Революции – имела специальность химика-технолога. Вся ее трудовая деятельность с восемнадцати лет была связана с производством боеприпасов. Она – героическая женщина – после смерти отца в тридцать пять лет осталась одна с четырьмя детьми в возрасте четырнадцати, двенадцати, десяти и пяти лет, сумела всем дать высшее образование. Родители очень любили друг друга, и память о папе, с которым я расстался в десять лет, о его взаимоотношениях с мамой для меня всегда были эталоном. Большую поддержку маме оказали родственники по обеим линиям, воинское подразделение в г. Рыбинске, на котором они с папой служили. Несмотря на громадные трудности, выпавшие на ее долю, она прожила до девяноста трех лет, сохранив в памяти мельчайшие детали своей жизни. В девяносто лет она написала на семидесяти пяти страницах отчет о своей жизни перед детьми, внуками и правнуками, которых у нее было двадцать пять человек.
Профессия родителей создавала необходимость быть исключительно осторожным, взвешивать все свои действия, выполнять работу тщательно. При этом она формировала способность быть психологически устойчивыми, находясь в условиях постоянного риска. Все это передавалось и нам – детям. Послевоенное детство для всех было тяжелым, нас в значительной степени поддерживала память об отце.
В мае 1968 года прошло собеседование с руководителями главка, мне нетрудно было его выдержать, так как производство полиэфиров было в стране одно, и в главке профильных специалистов не было. В итоге меня включили в состав группы, уезжающей в Англию. Направил комбинат одного из шести тысяч работающих, одного из тысячи ИТР. Это была серьезная реклама для двадцатишестилетнего начальника цеха.
В целом группа специалистов насчитывала более тридцати человек. Ее большая часть уезжала из Белоруссии. Из Москвы уезжали трое. Ученый из Тверского института – начальник лаборатории полиэфирных волокон Э. М. Айзенштейн, главный специалист «Союзхимволокно» В. Г. Комаров. Они выезжали первый раз в капстрану, но жили в Москве, и, по отзывам других специалистов, хорошо были осведомлены, как нужно готовиться к подобной поездке. Я во всем с ними соглашался. Коллеги сказали, что едем надолго, надо хорошо запастись по предельно допустимым нормам, а именно по три бутылки водки, по три килограмма сырокопченой колбасы, по пятнадцать банок кильки, обязательно в пряном соусе – за границей тянет на соленое. Это для себя, для наших друзей в Лондоне – несколько буханок хлеба, непременно черного, и селедку. Так наставляли их по телефону заводские приемщики оборудования из Лондона. День искал в Москве сырокопченую колбасу, наконец, измученный попал на нее в гастрономе на площади Маяковского. Давали по полкило. Отстоял несколько раз, но установленную мне норму за полдня получил. Килька была закуплена без проблем, но здесь произошли некоторые отступления от указаний. Меня всегда напрягала работа с этими рыбешками: отрываешь им хвост, живот, пачкаешь пальцы и потом ешь. Подумал, что здесь какая-то ошибка в инструкции, и купил десять банок кильки в томатном соусе, десять – пряного посола. С водкой, селедкой и черным хлебом проблем не было.
Отъезжали на следующий день вечером с Белорусского вокзала поездом Москва–Берлин. К нему были прицеплены вагоны до Амстердама, Парижа и наш вагон до Хук Ван Голланда. Э. Айзенштейна провожали жена, дети, седой элегантный мужчина преклонного возраста – его отец. В. Комарова провожала жена. Свадьба состоялась незадолго до отъезда. Я был без провожающих. Заграничный характер командировки придавал особую окраску проводам. Хотя отправлялись на четыре месяца, признаков грусти не было: уезжающие и провожающие одинаково были счастливы. Трудно передать словами ту радостную праздничную атмосферу, которая царила в момент проводов у дверей вагонов. И отъезжающие, и провожающие, до этого момента, знающие о возможной поездке в течение нескольких месяцев, не надеялись на нее, не верили в свою избранность. Позади многочисленные анкеты, проверки, комиссии – и вот у тебя в руках билет в конкретное купе, конкретного вагона с неизвестной тебе доселе табличкой Хук Ван Голланд. Эти детали говорили о многом. Это уже был не только билет на спальное место в международном вагоне – билет в иную жизнь. Во-первых, было признано, что мы соответствовали жестким требованиям – тебе доверяют. Людям текущего десятилетия, разъезжающим по многим странам на основе полученных в течение недели турпутевок, этот трепет и радость понять невозможно. Принималось во внимание и многое другое. Ты получишь преимущество в технических знаниях и развитии, ты станешь лидером в своем деле. Учитывались и материальные вопросы, иначе зачем бы и килька покупалась. Четырехмесячная командировка в капстрану по доходам могла приравниваться к трем годовым зарплатам в СССР, для ее участника реальностью становилась машина, кооперативная квартира на Родине. Для меня, рано потерявшего отца, выросшего в семье, где мама одна растила – четырех детей, да и для всех ребят моего возраста – двадцать шесть лет, это была недостижимая мечта.
Сели, поезд тронулся. Ставлю на столик купе водку, сырокопченую колбасу, кильку в томатном соусе. Немой вопрос моих коллег – почему в томате? Мы же предупреждали, что за границей тянет на соленое, к тому же, что очень важно, килька в пряном посоле хранится очень долго. Прошу прощения, не все понял на прошлом инструктаже, купил десять банок в томатном соусе, десять – пряного посола. Водку выпили, колбасу съели, но и килька в томатном соусе пришлась всем по вкусу.
В Белоруссии, в Орше, в наш вагон сели ребята из Могилевского ПО «Химволокно» вместе с руководителем П. Н. Зерновым – главным инженером предприятия. Белоруссию проехали, не заметив за разговорами окрестностей. Двухчасовая остановка в Бресте для смены пар колес с колеи СССР на колею Восточной и Западной Европы. Рекомендация: сходите в привокзальный ресторан и съешьте на память наш борщ с белорусским салом, была воспринята, как рекомендация по исполнению гимна – всеми. Далее – Польша, Восточная Германия, ночью – Западная Германия с кричащей на десятки километров рекламой на зданиях Западного Берлина. Все это проходит как в калейдоскопе с всевозрастающим уровнем благоустройства и освещения городов, вокзалов, перронов. Поражали люди на перронах: спокойные, неторопливые, очень хорошо одеты, причесаны, с прекрасными чемоданами. Это был другой мир для меня, имеющего тесную связь по жизни с Москвой, но еще большее удивление было написано на лицах ребят из Могилева. Это просматривалось прежде всего в пристальных взглядах, сопровождающихся поворотом голов до момента, пока не исчезнет объект удивления. Но при этом никаких восторгов, удивлений вслух. Согласно проведенному инструктажу в ЦК, мы не должны были ничем восторгаться. Русский, восторгающийся Западом, – находка для вербовщика. Логика простая – наша страна и жизнь в ней краше всех. В обеих Германиях еще оставались участки разрушенных домов, костелов, усадеб. Шел двадцать третий год после войны, но далеко не все раны еще были залечены.
Утром третьего дня вышли на территорию Голландии. Дома стояли так близко от железнодорожных путей, что казалось – ты едешь на трамвае. И это не отдельные участки в каком-то городе, это значительная часть пути. Но что это были за дома! Двух-, трехэтажные, отделанные кирпичом, плиткой, окрашенные во все цвета радуги, без заборов, но с участком газона, засаженного тюльпанами и другими цветами. И сами железнодорожные пути, прилегающая к ним территория, были настолько аккуратны, что составляли часть этой прекрасной картины. Это было начало июня, время когда цвели тюльпаны. В сравнении с хаосом на полосе отчуждения нашей железной дороги контраст был поразителен. Цветы не только в городах. В сельской местности ими были засажены громадные земельные участки, очень много было теплиц. Нам казалось, что это были не города, не страна, а сплошные театральные декорации суперфешенебельного театра. Громадное количество людей на велосипедах усиливало впечатление нереальности. Поезд прошел всю Голландию и прибыл на конечный пункт Хук Ван Голланд. Рельсы привели нас прямо в порт к берегу Северного моря. Оставшиеся несколько часов до отхода нашего парохода, идущего в Англию, шла погрузка овощей. Голландия первой поняла преимущества дешевой нефти и создала много отапливаемых теплиц, в которых круглый год вызревали помидоры. Наш пароход заполнялся именно этим грузом. Ящики с розовыми недозрелыми плодами грузили в трюм на верхнюю и нижнюю палубы, в проходы. У нас было полтора часа для ознакомления с окрестностями порта. Удивительно то, что береговая линия была обнесена девятиметровой дамбой, а за ней начинался массив земли, расположенный значительно ниже уровня моря. За несколько лет до 1968 года в этом городе произошла трагедия: за одну ночь при прорыве дамбы погибло несколько десятков тысяч человек. Но последствий этого заметно не было.
Путешествие на «помидоровозе» длилось несколько часов. Северное море было относительно спокойным, но волны все-таки раскачивали корабль. У некоторых ребят от качки появились признаки морской болезни. На корабле работал бар, нам уже выдали часть командировочных, и многие коротали время с бутылкой пива на палубе. Наконец, вдали показался английский берег, он оправдывал название «туманный Альбион». Мы прибывали в бухту порта Гарвич. Это достаточно скромный по размерам порт на северо-востоке Англии. Навстречу нам шла яхта с большими белыми парусами и черным крестом на главном парусе. Это своеобразное крещение на входе в страну казалось нам символическим предзнаменованием успеха нашей командировки. Причал, выход на берег, морской вокзал, поезд – все это произошло в считанные минуты. Нас сопровождал представитель фирмы “ICI”. В поезде мы впервые познакомились с одним из символов капитализма того времени, атрибутом общества потребления – алюминиевой банкой для напитков. Сопровождающий раздал пиво и заметно удивился, когда понял, что подобной упаковки мы никогда не держали в руках и, несмотря на кажущуюся простоту, не решались «дернуть» за кольцо клапана. После краткого инструктажа все стало на свои места. Такая мелочь кажется сегодня смешной, но фактически эта банка оказалась диковинкой для России до начала 1990-х годов. Значительно позже – в 1989 году, то есть двадцать лет спустя, проходя по рядам Измайловского «блошиного» рынка, я с удивлением смотрел на выставленные для продажи пустые алюминиевые банки из-под пива разных зарубежных марок. Характерно, что их выпуск за рубежом был налажен сразу же после внедрения технологии производства особо прочного дюралевого проката для авиационной промышленности. Логика простая. Новый материал разработан, но себестоимость его производства слишком высока. Направляйте «на гражданку», совершенствуйте технологию, оборудование и за счет значительного увеличения объемов производства сокращайте себестоимость материала с целью ускоренного проведения модернизации военной техники. У нас на «гражданку» в то время отправлялись лишь материалы, морально устаревшие в оборонке.
Пейзаж северо-восточной части Англии незатейлив. Холмы, небольшие участки лугов, ограниченные стенками из песчаника и дренажными канавами, поросшими кустарником, скот, пасущийся самостоятельно в своих квадратах. Все кажется просто, но сочетание бесконечно чередующихся ярко-зеленых лугов с облачным небом, периодически возникающими на горизонте участками моря, создавал гармонию вечности, спокойствия, благополучия, и это определяло красоту данного региона. Приехали к месту назначения – город Солтберн, что в переводе означает «соленый берег».
Всех распределили по нескольким небольшим отелям. Меня поселили с Э. Айзенштейном и В. Комаровым в отеле «Марина», что в переводе означает «Морской». Встречал хозяин – пожилой англичанин с крупной головой, крупными чертами лица, отставной военный. Рядом громадная овчарка по кличке Кинг, спокойная, близкая по поведению к своему хозяину.
Отель имел бар с большим залом, несколько номеров, общую ванную комнату и зал для просмотра телевизора. Очевидно, главный доход давал бар. Хозяин не был готов к приему жильцов, но четырехмесячная гарантия проживания первой группы и приезд в последующем еще трех групп делали целесообразным прием нашей группы. При нас была переоборудована ванна в душевую, сменилась обстановка в комнатах.
Прекрасным было расположение отеля. Он стоял на расстоянии пятидесяти метров от края сорокаметрового скалистого обрыва. От основания обрыва до моря шла песчаная полоса. Во время отлива ее ширина составляла сто метров, в период прилива она почти вся покрывалась водой. Между отелем и краем обрыва проходила узкая асфальтированная улица и лужайка с английским газоном. Скалистый обрывистый берег уходил влево и вправо до горизонта. Обрамляя естественную бухту, он создавал типично курортную панораму. И такое сравнение было неслучайно. При знакомстве с городом нам рассказывали, что в Викторианскую эпоху англичане предпочитали отдыхать у себя в стране и по этим причинам сформировали курортные городки аналогичные Солтберну. С развитием автотранспорта и паромных рейсов очень популярным стало проведение отпусков на автомобиле в Испании, однако популярность Солтберна для уикендов сохранилась. Температура моря составляла четырнадцать градусов, температура воздуха в большинстве дней держалась на уровне семнадцати градусов. Специфика приема солнечных ванн в северо-западной Англии в июне, июле была такова. На скалистый обрыв приезжали женщины всех возрастов на личных авто, вытаскивали из багажников шезлонги, набрасывали на них норковые шубы, дубленки и укрывая ими спину от морского ветра, подставляя лицо, грудь и ноги летнему солнцу. Морской йодированный воздух и нежаркое солнце полезнее, по мнению многих, суеты на пляжах с сорока градусами. Мужчины, молодые девушки отдыхали по-своему. Футбол на уплотненном песке, скачки на лошадях по прибрежной полосе вдоль кромки моря, серфинг в гидрокостюмах, запускание с детьми «змеей», поиск морской живности после отлива. Это то, что привлекает большое число жителей из отдаленных городов к морю. Нас, приезжих, подобное место учебы вполне устроило.
Перед заселением в гостиницы мы получили указание собраться через час для проведения совещания на краю обрыва, спускающегося к морю. В назначенное время все пришли, но совещание было сорвано. Уже в первые минуты с высоты в несколько десятков метров мы заметили, что по широкому пляжу, уплотненному прибоем, разъезжает велосипедист. Присмотревшись, один из наших коллег, знавший английский, обнаружил, что велосипедист колесами прочертил на песке пятиметровыми буквами лозунг «Долой Вильсона». Об этом тут же было доложено П. Н. Зернову, нашему руководителю командировки, который сразу же в этом увидел провокацию. Вильсон был премьер-министром страны, нам предлагалось поддержать свержение Правительства. Представитель советского торгпредства, сопровождающий нас, пытался успокоить Зернова, объясняя, что в Англии это происходит каждый день и велосипедист может совершенно ничего не знать о нашем приезде, это простое совпадение. Но тот был непреклонен – это провокация, мы прекращаем совещание.
На следующий день в понедельник началась учеба. Два микроавтобуса забрали нас утром и доставили на располагавшийся на расстоянии шести миль (девять с половиной километров) завод фирмы “ICI” в Вилтоне. Фактически это был даже не завод, а громадная промплощадка, на которой располагалось несколько очень крупных предприятий. Очевидно, что терилен, аналогом которого считался наш лавсан, был не самым главным продуктом. Говорили, что завод быстро вырос в годы войны на заказах государства по производству взрывчатых веществ. Комплекс был в прекрасном состоянии: установки, коммуникации, асфальт, идеальный газон, щебень на площадках вблизи установок и коммуникаций. Нас разместили на заводе по производству терилена. Здания были спроектированы таким образом, что никаких излишков помещений не было. Первый ярус химических установок находился, как правило, в закрытых зданиях, далее они стояли на открытых этажерках. Мягкая зима позволяла их успешно эксплуатировать. Несколько лет назад при посещении завода королевой Англии Елизаветой для ее приема рядом со зданием по вытяжке нитей терилена был построен небольшой стеклянный павильон. Его и предоставили нам для занятий.
Группа была разделена на подгруппы согласно специализации. Но после индивидуальных занятий все периодически собирались в королевском павильоне. Наше деление по подгруппам стало неожиданностью для некоторых обучающихся. По условиям контракта ICI должна была обучить весь набор рабочих и инженеров, которые должны были пустить первую очередь Могилева. Дублеров не было, но при комплектовании группы в нее были включены представители других организаций.
Если, например, Э. Айзенштейн и я шли как специалисты контроля качества и тема обучения была полезна для нашей работы и интересна, то главный специалист из ВО «Союзхимволокно» Минхимпрома В. Комаров проходил по списку, представленному ВО «Техмашимпорт», как слесарь насосной мастерской. Участок этот для производства волокон очень важен, он во многом определяет качество нитей. Англичане, зная, с кем имеют дело, настояли на том, чтобы Виктор всю практику разбирал и добросовестно чистил металлической щеткой прядильные насосики и фильерные комплекты. Подобная пунктуальность была свойственна всей программе обучения. Я впервые столкнулся с процессом передачи в составе контракта «ноу-хау», то есть полного набора инструкций «как делать». Все параметры процесса были зафиксированы в документации, все действия персонала были отражены в рабочих инструкциях. Нас учили лучшие специалисты, которые на период обучения были полностью освобождены от своих прямых обязанностей по управлению производством. Для меня, например, программа предусматривала освоение нескольких позиций – сменный лаборант, сменный контролер, дневной аналитик службы контроля качества, начальник лаборатории.
Поражала организация труда на рабочих местах. Работая в смене, я весь день был занят испытаниями нитей. Нужно было выполнить большую группу анализов на сотнях образцов. Методики в значительной степени моделировали поведение нити на будущих операциях. Давалось два перерыва по пятнадцать минут на чаепитие, оплачиваемое фирмой. Все рабочие операции проходили без большого физического напряжения, но свободного времени не было. Это было большим контрастом с работой наших производственных лаборантов, наших служб, характером оборудования технического контроля. Наряду с освоением конкретных рабочих мест в программу обучения входили семинары, на которых все специалисты контроля качества осваивали вопросы взаимодействия всех заводских служб при наличии крупных технологических срывов, изучали порядок исследования и нахождения причин. Для нас несколько необычной оказалась структура кадров ICI и порядок их взаимодействия. По многолетней традиции большинство инженерно-технических работников ICI вышли из рабочих. Наиболее способные из них назначались мастерами, далее начальниками участков, начальниками цехов и могли расти по служебной лестнице вплоть до директора. Это сопровождалось обучением на корпоративных курсах. Между рабочими и руководством сохранялись теплые дружеские взаимоотношения, и ICI гордилось, что это является причиной отсутствия забастовок, которые были характерны для других фирм. В последние годы фирма в целях ускорения технического прогресса начала привлекать на производство представителей науки, но в целом их абсолютно большая часть шла в научные учреждения фирмы.
Число обучавших нас специалистов составляло ориентировочно пятнадцать человек, из них только один имел звание «доктора». Можно много и долго рассказывать о программе нашего обучения, более яркое представление о миссии в Великобритании даст чудом сохранившаяся при многочисленных моих переездах английская газета.
Нашу группу обслуживали три переводчика из Белоруссии, один – из советского торгпредства в Лондоне, четыре – из Англии. Мы работали на северо-востоке Англии, недалеко от границы с Шотландией. Выговор населения данного региона, несмотря на близость к Лондону, существенно отличался от разговора столичных жителей и тем более дикторов Би-Би-Си. Учеба наших переводчиков в вузах Львова и Минска шла по классическому диалекту, а переводить приходилось с диалекта Северо-Запада. Девушки-переводчики в первые дни командировки плакали и восклицали: «Но они же (англичане) совершенно не знают английского языка». Через некоторое время они освоились и впоследствии стали классными специалистами. Четыре переводчика – граждане Англии были выходцами из России, двое – эмигрантами конца 1930-х годов из Западной Белоруссии, двое попали в Западную Европу в период Второй мировой войны. Между ними просматривалась большая разница. Первые двое, очевидно, процветали, были любезны к нам, но при этом чувствовалось их высокомерие. Своих коллег-эмигрантов Второй мировой войны они как бы не замечали. Последние старались подчеркнуть свой патриотизм к России. Галина Павловна мечтала увидеть Москву с семью новыми высотными зданиями. Как она говорила, копиями кремлевских башен. Еще большие чувства высказывал господин Сосновский. Прошло двадцать три года после окончания войны, он с женой – русской военнопленной перебрался из Германии в Англию, вырастил двоих детей, а тоска по Родине не утихала. Никаких грехов и преступлений за ним не числится, а в Россию приехать, посмотреть на мать, братьев, родные места в Ростовской области опасается. Восторгается сообщениями из России, хвалит марки машин «Москвич», «Волга», ждет от СССР завоевания роли мирового лидера в автопроме. В свободное время он выходил на обрыв перед морем, садился на лавочку и часами смотрел в сторону края Северного моря, за которым начиналась Балтика, омывающая Россию. В Лондоне он подвозил нас к подъезду своей двухэтажной типично лондонской квартиры в бедном квартале. Показывал фотографии детей, знакомил со своей женой, очень скромной женщиной, уже разучившейся говорить по-русски. Это вызывало сочувствие: самое родное близкое – здесь в Англии, а душа – все еще в России. Руководство Техмашимпорта взялось за организацию его встречи с родственниками в России, впоследствии она состоялась.
Каждая страна пережила тяжелую войну. Прошло двадцать три года после ее окончания, а для многих – и англичан, и белорусских командировочных она была свежа в памяти. Англия – островное государство. Она не допустила врага на свою территорию, и ее экономика была настолько сбалансирована и самодостаточна, что и в годы войны в условиях интенсивных бомбардировок и блокады она обеспечивала страну всем необходимым. Хватало хлеба, мяса, овощей, в дефиците были колониальные товары. И для представителей старшего поколения, не участвующего по каким-либо причинам в боевых действиях, память о войне складывалась иногда по этим «лишениям». Один из специалистов с пафосом разъяснял на перерыве за кофе: «Мы сейчас наслаждаемся, пьем кофе, а представьте, в годы войны мы месяцами, до подхода очередного транспорта из Южной Америки были лишены этой простой радости». Ребята из Белоруссии из вежливости молчали. Паузу нарушила переводчица из торгпредства: «Мы тоже воевали, и у нас тоже, к сожалению, люди иногда месяцами не ели хлеба». Больше тему лишений во время войны англичане тактично старались не поднимать.
Со спецификой методов работы английской прессы – поиск сенсаций даже среди бытовых мелочей, мы познакомились в первые дни пребывания. Приехали представители местной прессы и попросили дать интервью. П. Н. Зернов из осторожности поручил это сделать переводчице из торгпредства. Человек несколько лет живет в Англии – не ошибется. Ошиблась. На вопрос, как вам нравится английский чай, ответила, нравится, приятный вкус, но русские не привыкли – вы его слишком крепким завариваете. На следующий день газета графства вышла со статьей на первой полосе, посвященной беседе с нами под заголовком: «Русские любят жидкий чай». Позвонили из торгпредства и сказали: «Вы приехали учиться, вот и учитесь». Интервью мы больше не давали.
Учеба была напряженной, требовала большого внимания, и мы очень уставали. Вначале многие мечтали, что в свободное время освоят английский язык. Но практика показала, что сил для этого не было. После работы уходило много времени на систематизацию в виде дневников полученных за день знаний, обмен технической информацией с друзьями. Одной из задач командировки было выявление того, что было внедрено нового на производстве ICI. По контракту это новое они должны были передать бесплатно, но добровольно фирма не считала нужным это делать.
Мы узнали, что рядом с производством терилена в Вилтоне, на котором мы учились, на соседнем производстве идет отработка новой технологии. Оно было непрерывным, построено на совершенно новом техническом уровне. Большие инвестиции были вложены англичанами также в создание «космического волокна» кевлар. Это волокно было в шесть раз легче стали, но по прочности нити из него превышали показатели стальной проволоки. Его уникальные свойства оказались полезными при изготовлении космических аппаратов и ракет.
Наша группа не имела специального поручения по обеим темам, слишком высок риск компрометации всей программы, но работа с английскими специалистами в Могилеве позволила получить в последующем нужную информацию; не все коллеги оказались патриотами Англии.
Передовые позиции англичан в области производства полиэфирных волокон в значительной степени были связаны с высоким уровнем научных разработок. Крупные фирмы после Второй мировой войны создали мощные исследовательские центры, которые и обеспечили мировое лидерство в этой области. У ICI такой центр по исследованиям функционировал вблизи Вилтона в городе Харрогейте. Это был чудесный город-парк, с прекрасной гостиницей, созданной в Викторианскую эпоху. В центре на одной площадке было размещено несколько зданий лаборатории. Общая численность сотрудников в 1968 году достигала 2000 человек. Здесь разрабатывали такие интересные проекты, как кевлар – волокно для изготовления космической техники, новые процессы в области производства полиэфирных волокон и нитей. Это был аналог нашего ВНИИСВа, но, очевидно, что результаты его работы за период до 1968 года были более значительны. В целом это была гордость ICI, и они считали своим долгом ознакомить с этим всех иностранных партнеров. Специалисты занимались разработкой и новых видов текстильной продукции. Англичане очень гордились, что исследования осуществлялись по всему «фронту» от мономера до готовых колготок.
Пример с териленом наглядно показывает способность западного общества решать вопросы интенсивного продвижения научных достижений во все сферы общественной жизни. Синтез полиэтилентерефталата был осуществлен ученым Уилтоном в довоенные годы. Тогда же было определено, что новый полимер позволяет получить волокна и нити с принципиально более высокими свойствами. В войну не было возможности реализовать процесс в производственном масштабе, было потеряно время. Дело в том, что организация, обладающая изобретением, имеет право на эксклюзивное его использование в течение строго ограниченного времени. Для новых процессов международное право этот срок определяет в двадцать лет. На исследование потрачены деньги, их нужно не только вернуть, но и многократно приумножить. Заявляя патент, вы раскрываете суть изобретения, и любая серьезная организация, доминирующая в этой сфере, способна воспроизвести процесс. Патент защищает вас на соответствующий срок. Итак, есть образцы новых прекрасных волокон и нитей, но нет соответствующего промышленного оборудования, нет подготовленного потребителя новых волокон и нитей, то есть производителя ткани, нет нового направления развития швейной отрасли, использующего по максимуму достоинства тканей из новых нитей. Есть только ограниченный срок действия нового патента. И “ICI” – фирма, нарастившая свой потенциал во время войны на взрывчатке, а далее на топливе и удобрениях, берется за решение сложнейшей задачи. Она создает с помощью субподрядчика новое оборудование по производству мономера, полимера, волокон и нитей, создает в Харрогейте полигон для отработки текстильных технологий, то есть превращения волокон в ткани в смеси с другими видами сырья (хлопок, лен, шерсть), а для нитей разрабатывает совершенно новую технологию – текстурирование (придание искусственной извитости). На основе новой технологии создается новый вид трикотажного полотна – кримплен. Все это произвело революцию в текстильном производстве. Ткани для костюмов стали несминаемые, особо элегантны не только на прилавке, но и на протяжении всего процесса носки костюма. Новое трикотажное полотно «кримплен» перевернуло все представления о процессе производств трикотажа. Количество подготовительных операций сократилось в несколько раз. Джерси, которое раньше было униформой лишь очень богатых людей, дошло до каждого гражданина сначала Англии, а потом всего мира. Новый трикотаж мог быть окрашен в сотни цветов на стадии изготовления нитей или уже в готовом волокне, на ткань могли быть нанесены тончайшие рисунки, и прочность окраски была вечной. Гамма красителей и сам процесс крашения также были разработаны ICI в ходе этой программы. Кримплен стал технической и экономической основой всей мировой операции «мини-юбка». Модницы всего мира, всех сословий бегали за ним, как в свое время мы в СССР за плащами «болонья». Развивающаяся вслед за этим кампания по колготкам опиралась на аналогичные технологии в переработке нейлона.
Создав все эти процессы в содружестве с машиностроителями, представителями текстильной и швейной отраслей на своем отделении в Харрогейте, ICI провела широкое обновление всей промышленности, предоставила на коммерческой основе лучшим предприятиям свое «ноу-хау» и торговую марку «терилен», которая наносилась на готовую продукцию. В короткие сроки удалось осуществить техническую революцию во всей цепочке: мономер-полимер-(волокна, нити) – ткани, трикотаж-швейное изделие. Приобретение патента было с лихвой окуплено. Но на этом дело не остановилось новые технологии пошли в широкую продажу в другие страны, принося громадные дополнительные доходы за продажу «ноу-хау». «Ноу-хау» – это свод документации, это бумага, в которой имеется описание тонкости того, как вести процесс. Продажа такого «ноу-хау» осуществлялась под занавес этой кампании, к моменту, когда срок действия патента уже заканчивался и ценность самого процесса как товара, могла резко снизиться вследствие освоения более современных технологий. Его покупка в сочетании с покупкой оборудования создавали впечатление, что вы за деньги можете ликвидировать отставание между вами и продавцом «ноу-хау». Однако многое зависело от того, на каких условиях она осуществлялась. Для стран СЭВа она всегда оборачивалась привязыванием покупателя к устаревшему, прошедшему пятнадцатилетнюю апробацию процессу, и ограничивала их на поиск и развитие собственных технологий.
Для самой ICI вся эта программа была исключительным явлением, после ее завершения она уже не имела лидерства в данной области. Посетив Харрогейт через двадцать два года (в 1990 году) я застал на месте процветающего института законсервированные корпуса. Общая численность персонала сократилась с двух тысяч пятисот до двухсот человек. Когда я выразил сочувствие и рассказал молодым англичанам о делах 1960-х годов, они с иронией сказали: «Это рынок, он не терпит вечных лидеров». Я по аналогии вспомнил заповедь: «Не сотвори себе кумира». Рынок творит кумиров, но, как правило, всегда на короткие сроки.
Несмотря на высокую занятость на производстве, работа не мешала проявлять зрительный интерес к местным девчонкам. Мы все были женаты, но здесь, вероятно, срабатывал типичный мужской инстинкт поиска восторженных взглядов новых поклонниц. На производстве ICI женщин почти не было. Все те изнурительные операции, которые в СССР мы предоставляли женщинам, в Англии совершали мужчины: ткачи, крутильщики, лаборанты. Это было обусловлено законами и традициями – женщины не должны работать в ночное время. Но в то же время на дневных рабочих местах было достаточное число молодых девушек, которые, как правило, работали секретаршами, кладовщицами, учетчицами, курьерами. Они вносили своими яркими шелковыми халатами определенный колорит в одноцветную производственную жизнь и по этим причинам пользовались некоторыми привилегиями. Так, на заводе в его центре было две столовые. В одну ходили только рабочие, в другую инженерно-технические работники. Мы спрашивали, каким образом происходит разделение. Что мешает рабочему идти в столовую ИТР, ведь инженеры, которые в нее ходят его вчерашние коллеги по рабочему месту. Нам объясняли, что в рабочей столовой пища дешевле, но, думаю, что не это четко делило людей на категории. Работали негласные законы, традиции, мораль. Ты хочешь пойти в столовую для ИТР, так заслужи этого, вырасти и встань на новую позицию, а в качестве выскочки не лезь. Привилегия девушек – служащих была в том, что они были признаваемыми посетительницами столовой ИТР. Тем самым как бы общественная мораль закрепляла приоритет инженеров на выбор молодых девушек. Мы также обедали в столовой для ИТР. Те из нас, кто по тем или иным причинам побывал в рабочей столовой, могли убедиться, что серьезных различий в ассортименте и ценах блюд, сервисе не было. Везде было самообслуживание с очень высоким уровнем культуры и организации. Пища простая и качественная: три–четыре вида супа-пюре, два–три вида мяса с набором гарниров – лапши, картофеля, ложки моркови, стручковой фасоли, свеклы, по твоему усмотрению. Очередь длилась три–пять минут. Обеденная сорокапятиминутная пауза заполнялась встречами друзей, знакомых, обменом информацией. Интерес местных девушек к нам был велик. Сначала простые любопытные взгляды, затем улыбки, приветствия. В конечном итоге все это перерастало в «случайное» совпадение мест за столом для двух–четырех человек.
Исходная точка в этой эволюции взглядов просматривается в возгласе нашего учителя Грина. В один из первых дней пребывания в Солтберне группа наших ребят после рабочего дня пошла на уплотненный после отлива песчаный берег. Поставили двое ворот и начали играть в футбол. Через десяток минут появляется наш учитель под руку с женщиной и, встав поодаль, наблюдает за нами. На следующий день спрашиваем: «С кем Вы были господин Грин». Отвечает: «С женой. Она попросила меня показать “русских”». Ну и что, посмотрела, что сказала. Короткая пауза, смех и ответ. Сказала: «Майкл, но ведь они совсем как мы, и у них нет никаких бород, они даже смеются». В их представлении, воспитанном средствами массовой информации, все русские похожи на медведей, ходят у себя в России с бородами. Очевидно, на такой исходной позиции были и наши девушки с завода, которая со временем сильно изменилась. Они стали нам предлагать встречи после работы и в выходные дни. Либерализм в отношениях, в том числе сексуальных, у молодых людей в Англии достаточно развит, в этом плане они не очень отличаются от своих сверстников в католической Европе. Девушкам была непонятна наша нерешительность. Мне, как наиболее молодому и, пожалуй, наиболее спортивному члену нашей группы более всего внимания уделяла кладовщица производства терилен. Очевидно, она была неформальным лидером среди своих подруг, посещавших столовую для инженеров. Высокая блондинка с типично английским лицом имела среди ИТР прозвище «сексуальная Лулу». Потеряв надежду на встречу после нескольких разговоров со мной, она однажды публично за обедом в присутствии группы английских инженеров предложила вместе пойти в кино с 2Х. 2Х – это значит фильм с крутыми сексуальными сценами. Предупредила, что если не приду, она всех нас будет считать импотентами. Я не пришел. На следующий день она по диагонали через зал столовой кричала: «Александр, вчера ты не пришел на свидание. Признайся, что тебе запретила это делать Лубянка». Я понял, что для самолюбия молодой красивой девушки подобная формула является наиболее удобной. Ответил, нет, я работал над лекциями, у меня просто не было возможности согласовывать. Потом уже в продолжение нашего разговора спросил, откуда она знает слово «Лубянка». С удивлением получил ответ: «Мой папа водил конвой судов во время войны в Мурманск, однажды, после того как его транспорт был потоплен, его подобрали в море спасатели и сдали в Ваше учреждение». Шел 1968-й – двадцать три года мирной жизни, а память военного поколения отчетливо влияла на психологию нового. Вообще никаких конкретных инструкций для нас о взаимоотношениях с английскими женщинами не было. Предполагалось, что их просто не должно быть ни в какой форме. Зачем в этом случае инструкции, рекомендации. Был ряд курьезных фактов в этой области.
Где-то через месяц учебы у курильщиков кончились российские сигареты, а у всех ребят запасы водки. Руководство торгпредства предложило собрать небольшую группу специалистов для поездки в Лондон и покупки в магазине торгпредства этих и других товаров для всех обучающихся. Меня также включили в группу. Выехали утром в субботу, без приключений добрались до Лондона и торгпредства. По сложившейся традиции до решения хозяйственных вопросов возложили цветы на могилу К. Маркса. Она располагалась вблизи на Хайгетском кладбище и очевидно этим определялось место выбора торгпредства. Магазин удивил нас низкими ценами. Бутылка московской водки в экспортном исполнении стоила шесть шиллингов (1/2 фунта стерлингов), соответственно стоили все продукты питания, одежда. Встали в очередь, по советской традиции давали по норме в одни руки три бутылки. Вслух рассчитывали, кто сколько возьмет. Но когда очередь дошла до нас, оказалось, что водка закончилась. Думаю, что продавщица слукавила, опасаясь, что мы выберем весь ее месячный лимит.
Эмиль – душа всего коллектива и покоритель многих женских сердец в нашей отрасли, привыкший к темпераментным научным дискуссиям, начал убеждать продавщицу, что мы особые покупатели, приехали за двести миль, наших покупок ждут другие товарищи. Продавщица была непреклонна и Эмиль с улыбкой на лице, обращаясь к очереди, а больше к продавщице, воскликнул: «Вот жизнь. Ни водки тебе, ни женщин». Посмотрели Лондон, вечером приехали в Солтберн. Эмилю передали, что его ждет руководитель группы П. Зернов. Вышел от него наш друг мрачный и злой. Оказывается, через полчаса после нашего неудачного шопинга позвонили из торгпредства, поинтересовались кто у нас «темноволосый красавчик» и объяснили, что он публично требовал в торгпредстве «вина и женщин». Как далее пояснил П. Зернов, ему удалось убедить работника торгпредства в невозможности работы группы без научного консультанта, и он лично гарантирует, что подобного не повторится. Эмилю также пришлось взять соответствующие обязательства. Для нас этот случай был курьезом, к которому мы отнеслись всего лишь как к проблеме Эмиля.
Но для Зернова, которому было всего лишь тридцать восемь лет, он сыграл негативную роль.
Отец его работал на одной из Ивановских текстильных фабрик, закончил рабфак, за короткий период стал директором фабрики. Предприятие имело хорошие показатели. В 1930-е годы необоснованно был арестован по подозрению за участие в подготовке эсеровского мятежа. Эта волна репрессий прошла в те годы по всем предприятиям Ивановской области. На допросах при обвинении в измене делу партии он не выдержал и ударил следователя в лицо (по словам Зернова). Вскоре был расстрелян как враг народа. На Зернова легло тяжелое клеймо сына врага народа. По своему виду это был человек русско-татарских кровей, невысокого роста, с острым носом, похожим на нос Ивана Грозного. В нем был громадный темперамент, стремление быть лидером, природное тяготение к командованию людьми. Он рассказывал, что после смерти отца, мать всю жизнь посвятила тому, чтобы заставить детей быть осторожными. Учился на отлично, чтобы преодолеть влияние биографии, был отличным общественником и спортсменом. Но, очевидно, сочетание темперамента и требование быть осторожным по-своему влияли на поведение, давали дополнительную нагрузку на психику. На Заводе искусственного волокна (ЗИВе) в Могилеве он быстро вырос до должности главного инженера. Директором предприятия был заслуженный фронтовик, награжденный многими боевыми наградами А. М. Никонов. За успехи в работе предприятия его перевели на должность руководителя республиканского главка химической промышленности. Зернов сменил его, и в тридцать пять лет стал директором этого прославленного орденоносного предприятия. А затем произошло ЧП. Во время ремонта в одном из проходных туннелей, по очереди спасая друг друга, задохнулись от серо-углерода четверо рабочих. Налицо было грубейшее нарушение основополагающих требований техники безопасности. Трагедия вызвала большой резонанс в маленьком городе. Для молодого директора такая психологическая травма была соразмерна со смертью отца. Обком и министерство вернули с должности начальника белорусского химического главка на завод прежнего директора А. М. Никонова. Зернова перевели на строящийся «Лавсан», назначили главным инженером. Поездка руководителем группы в тридцать человек в Англию стала для ослабленного после психологической травмы организма чрезмерной нагрузкой. Время было суровое. Россия выходила на принципиально новые более высокие позиции в мировой политике, противостояния со странами Запада. Все ждали провокаций. Для Эмиля этот курьезный случай перестал играть какую-либо серьезную роль. Зернов же, напротив, во главу своей требовательности поставил наше отношение к девчонкам. Каждый день мы получали замечание. После окончания рабочего дня наш автобус проходил всегда девять километров по определенному маршруту. На пути следования были три-четыре деревни. Было лето, каникулы, и они были полны молодежи. Девчонки из этих деревень, зная, что будут ехать русские в приуроченное время, выходили и садились вместе на деревянные мостки. Они всегда махали нам, и мы приветствовали их. Само по себе зрелище: полдюжины девчонок, сидящих на перилах мостков в мини-юбках с голыми не только коленками, но и всей верхней частью упругих бедер, явление эстетически привлекающее, и мы, естественно, проезжая, как роботы поворачивали головы назад на сто восемьдесят градусов, чтобы задержать в памяти эту картинку. Зернов нас начал убеждать в том, что это делать неприлично, а затем, поняв бесплодность увещеваний, вообще запретил обращать внимание на девушек, объяснив, что мы находимся под постоянным наблюдением английской разведки, и она сумеет вычислить, кто из нас может поддаться соблазну.
Шел второй год внедрения в моду мини-юбок. Англия была в лидерах новой моды. Нам рассказывали, что летом прошлого года их одевали единицы. Летом 1968 года они захватили всю молодежь и значительную часть взрослых женщин. При этом шло своеобразное соревнование, у кого она короче. Надо сказать, что англичанки отличаются своей спецификой. Лица большинства девушек кажется лишены той природной пропорциональности и красоты, которые присущи славянским народам, но со временем, приглядевшись к ним, обнаруживаешь своеобразную прелесть и притягательность. Что же касается фигур, то они традиционно стройны. Что оказалось удивительно и что только открылось с внедрением новой моды, то эта сексуальность всего нового поколения англичанок: стройные длинные ноги, красивые упругие бедра, хорошая грудь. Это было свойственно практически всем окружающим. Мини убедили молодых англичанок в своих достоинствах и преимуществах перед девушками других национальностей. Они сделали ненужной показную скромность, когда сидящая в обычной юбке девушка стыдливо руками сдвигает полы, чтобы закрыть коленки своих ног от взглядов любопытного собеседника.
В начале лета мини-юбки было принято носить только в жаркие дни и с короткими носками. Следующим этапом, якобы вследствие холодного лета, мини пошли в сочетании с длинными чулками, которые резиновыми бретельками прикреплялись к скроенному «под мини» короткому женскому поясу. Челси и Кингроад – места демонстрации новинок моды в Лондоне, пошли дальше. Там девушки ходили в сапогах по середину бедра, выше заканчивались чулки с бретельками, выше – через полоску голых бедер светился низ белого пояса для крепления бретелек чулок, а еще выше нижняя оборка мини юбки. Такого изыска не видел и Париж. Все это создавало особый восторг мужчин (не только русских), особенно на эскалаторах крупных магазинов и метро. Все взгляды были обращены туда вверх, где у очередной незнакомки все просматривалось снизу до самой талии. Бум охватил производителей белья, его детали стали доступны не только для хозяйки или ее партнера, но и для всех жителей города. Настоящая революция произошла к концу лета. Первые производители выпустили новый товар – нейлоновые колготки, они соединили чулки с трусиками. В крупнейших универсамах и в ларьках на улице девушки за ними стояли в таких же длинных очередях, как в московском ГУМе. Колготки в сочетании с мини-юбками вернули англичанок к традиционной английской строгости и элегантности в одежде, чем тут же не преминули воспользоваться английские деловые леди. Промышленность выпустила для них строгие деловые костюмы в варианте мини. Это был сезон женщин Англии. Они победили в своей стране, отбросив традиционное увлечение англичан пивом и футбольными матчами на задворки общественных интересов. Они победили Европу с ее тяготением к парижской и итальянской моде, они победили весь мир. На этой основе причуды женской толпы продолжали расширяться. Популярными в тот год стали танцы на столах в баре. Концерты знаменитостей типа Тома Джонса проходили под буйство девушек, танцующих перед своим кумиром у сцены. Танцы заканчивались срыванием ими своих лифчиков и бросанием их под ноги певцу. Картина, когда певец шел по колено погруженный в эти символы любви, была достаточно частой. Эпопея с мини-юбками и раскрепощением молодежи напоминала фейерверк салюта. В общество, в самостоятельную жизнь триумфально входило поколение двадцатитрехлетних. Это были дети победителей военных сражений, которые еще в эмбриональном состоянии усвоили величие произошедшего и далее впитывали его с каждым днем до совершеннолетия. Они не слышали ни одного пушечного залпа кроме залпов салюта по поводу окончания войны. Новое поколение входило со своей раскрепощенной идеологией в своей униформе под песни группы «Битлз» и других культовых певцов типа Тома Джонса. Многие мужчины старшего поколения в те годы испытали сильный стресс от этого триумфального шествия, но для Зернова как руководителя он многократно усиливался тем, что воздействию подвергались его тридцать подопечных.
Еще одним фактором риска, который стал формироваться на второй месяц пребывания, стали наши операции по приобретению товаров. Быстро освоившись с окрестностями и учитывая, что в субботу англичане работали только до обеда, мы стали останавливать свой автобус на полпути в городе Редкар (Redcar – красный автомобиль), имеющем крупные торговые центры. Здесь мы имели возможность походить по магазинам в поисках покупок для близких. К этому времени для нас стало ясно, какие реальные суммы требуются на питание, и что мы можем потратить на покупки. Режим питания был отработан. Утром английский завтрак: сок, овсяная каша или яичница с беконом, булочка, кофе. Для нас это было бесплатным, так как входило в стоимость проживания в гостинице. Обед на заводе в столовой для ИТР – салат, суп, мясо с набором овощей. Все это укладывалось в один фунт стерлингов. Ужин – бутылка молока, по формуле рекламы «Одна пинта каждый день», чай, бутерброды, фрукты также стоимостью меньше фунта. Воскресные дни, как правило, сопровождались экскурсиями по окрестным достопримечательностям с сэндвичами и пивом, оплачиваемыми фирмой. Первый месяц определенную экономию средств давала сырокопченая колбаса. Приобретение кильки, как показала жизнь, оправдала себя не полностью. Мои десять банок кильки в томатном соусе были проглочены нами (Эмиль, Виктор и я) в первый месяц. Килька в пряном посоле «не пошла». Ни на сухую в рабочие дни, ни под водку в воскресные. Специфический запах и «работа» с потрохами оказались камнями преткновения не только для меня, но и для моих коллег. Холодильника не было и, помня заявления опытных командировочных о том, что она хранится очень долго, мы с Виктором сняли с банок этикетки и сложили их в штабель под мою кровать, предполагая, что горничная со своим пылесосом туда не заглядывает. Очевидно, что в наше время банки приняли бы за взрывчатку, а нас за террористов. Но таких проблемы тогда еще не было, и наша килька спокойно лежала более полутора месяцев. И все же внешнее сходство подтвердилось. Однажды ночью я проснулся с мыслью, что мне приснилась война, взрывы бомб, я ранен, но чудом уцелел и, мало того, помог спастись Виктору. Были утренние сумерки, тишина, и пока я осмысливал, что бы это значило, раздалась серия достаточно громких хлопков, в воздухе явственно запахло, нет, не пороховыми газами, а пряностями посола, в котором находилась злополучная килька. Понял, что приснившиеся мне взрывы были связаны с прогибанием днищ банок. Я не среагировал на них, и они стали отрываться от корпусов. Разбудил Виктора, раздвигаем кровати. Все ясно. Три банки разорвались от вспучивания, их содержимое разлилось на наши прекрасные английские ковры. Ясно было, что канонада нас может сопровождать и дальше, большинство банок были вспучены. Спешный сбор банок в спортивную сумку и вынос на улицу для последующего размещения по близлежащим мусорным ящикам. Инструкцией для нас было запрещено оставлять остатки пищи и упаковку из-под нее в контейнерах для мусора, установленных в гостинице. Мойка ковров, их отжим, сушка и снова мойка, открывание окон и проветривание комнаты от запаха пряного посола, все это не устранило следов «ночной бомбардировки». Уходя на работу, оставили с Виктором достаточные чаевые на столе для горничной. Инцидент не получил огласки, слава богу, килька была ликвидирована, и он не имел продолжения.
На втором месяце командировки, живя нормальной жизнью, мы с некоторым удивлением обнаружили, что рассказы о возможности приобретения легковой машины в течение года сильно преувеличены. По нашим расчетам, за четыре месяца четвертая часть командировочных уходит на питание, на приобретение «Москвича-412» было достаточно их половины наших командировочных, четвертая часть оставалась для приобретения сувениров, подарков близким. Цены на товары были очень низкими. Прекрасная мутоновая шуба для женщины – шестьдесят долларов, свитер из английской шерсти – четыре доллара. Естественно, в этой ситуации та часть группы, которая приехала на четыре месяца, потеряла интерес к еженедельным хождениям по магазинам и стала экономить деньги для покупки своей мечты – «Москвича».
Валютные операции в СССР в то время были строго регламентированы. Вы могли потратить все командировочные на приобретение вещей в стране пребывания, в том числе по достаточно низким ценам в магазине торгпредства, но оставшуюся валюту вы должны были поменять на безналичные сертификаты Внешпосылторга. На них вы могли приобрести товары в СССР в магазинах «Березка». Цены там были в несколько раз выше и, поэтому, это был не самый популярный вариант. Если же вы хотели приобрести в России на сертификаты автомобиль, то вы должны были в Торгпредстве получить именной сертификат на заявленную марку автомобиля. По наивности мы все полагали, что для получения именного сертификата необходимо только наличие нужного количества валюты. Смотрели проспекты Внешпосылторга, выбирали цвет автомобиля, с каждым днем все явственнее чувствовали комфорт его кресел. Недели за три до окончания командировки ждали приезда в Солтберн экономического советника посольства. Приедет, у него и уточним порядок, детали получения сертификата-авто.
Приехал молодой элегантный человек в хорошем английском костюме. Собрал нас, прочитал лекцию о том, как посольство и он лично стоит на защите советского рубля. Поползновений уронить его авторитет много, и работа сложная. Примеров конкретных названо не было, но весь вид специалиста говорил о значимости его персоны. Беседу продолжили в баре за пивом. Спросил нас, как с деньгами, много ли собираемся покупать товаров в магазине Торгпредства, закажите заранее. Сообщите также, сколько валюты будете менять на сертификаты. Здесь и выяснилось, что порядка десяти человек хотели бы приобрести автомашины и просили уточнить, как это лучше сделать. Ответа не получили. Разговор быстро завершился, приезжий остался с руководителем. Утром руководитель сообщил, что автомашины покупать запрещено, и надо искать другие пути использования валюты. Приобретение автомашины, пусть даже «Москвича», для командированных на четыре месяца специалистов может рассматриваться как «результат чрезвычайно экономного проживания, подрывающего достоинство советского человека, а еще хуже, как результат продажи каких-либо секретов нашим соперникам». Никто не стал ставить под сомнение ни правильность указания, ни причины. Уже позже наши специалисты-приемщики из Лондона сообщили, что наша командировка совпала по срокам с обращением посольства в Совмин СССР с просьбой об увеличении в полтора раза командировочных, вследствие их несоответствия крайне дорогому уровню жизни в Англии. Приобретение на этом фоне десяти автомашин было бы ударом по этой петиции. Конечно, никто бы из нас после полученного предупреждения не осмелился бы его проигнорировать, но впереди еще было более двух месяцев учебы, и новый фактор усилил общее стрессовое давление на Зернова. Страх, что специалисты из нашей группы нарушат требования к поведению советских граждан, увлекутся местными девчонками, останутся за границей, сыграл свою роль. Учеба шла по плану, контакты с англичанами были на хорошем уровне, не было никаких видимых причин для беспокойства. Наряду с учебой нам была предоставлена возможность посетить все окрестные достопримечательности. Это было предусмотрено контрактом, но надо сказать англичане обставляли эти поездки с большим комфортом, превращали их в прекрасные пикники.
Неожиданно Зернов к концу второго месяца заболел и был госпитализирован. Нам объяснили, что произошел микроинфаркт, но по его поведению в последние недели мы понимали, что во многом болезнь определялась напряженностью психического состояния. Некоторые ребята, уставшие от его замечаний, отнеслись к больному без должного сочувствия. Типичной была шутка: «Вот до чего доводят девочки серьезного человека».
Полтора месяца нашего знакомства, предшествующие болезни Зернова, оказали решающее влияние на мою судьбу. Мне было двадцать шесть лет, я имел пятилетний стаж работы на полиэфирных установках, ему – тридцать восемь лет, из которых шестнадцать были посвящены работе на ЗИВе, заводе с принципиально другой технологией. Меня направили на обучение с могилевской группой в Англию, чтобы кто-то мог задавать «умные вопросы» по технологии и направлять беседу в нужное для обучения русло. Иными словами, я работал в качестве вопрошающей головы (по аналогии говорящая голова – пресс-секретарь фирмы). Аналогичную роль в области науки выполнял Э. Айзенштейн. П. Н. Зернов был высококлассным специалистом в области вискозных волокон и нитей, но его уровень подготовленности по теме обучения – технологии «лавсана» был не выше, чем у остальных сотрудников. Мои вопросы к английским специалистам у него сначала вызывали усмешку, что выражалось коротким: «Это всем известно, читайте главу 54». Но по мере того, как я осваивал процесс во всех его подробностях, а остальные выявляли лишь основные отличия технологии полиэфиров от технологии вискозных нитей, отношение к моим вопросам и соответственно ко мне изменилось. Зернов понял глубину моих знаний в этой области, оценил способность быть тактичным и умение вести дискуссии. Я почувствовал, что он начал консультироваться по вопросам технологии со мной. Авторитета добавило мое стойкое отношение к притязаниям «сексуальной Лулу», мои регулярные спортивные тренировки. К тому времени я стал ведущим в футболе, один из немногих регулярно купался в Северном море при 14 °С, освоил катание на лошадях английских фермеров, был равнодушен к русской водке и английскому пиву. Нашему сближению также способствовала натянутость взаимоотношений П. Н. Зернова с некоторыми сибиряками – выдвиженцами генерального директора В. С. Белявского. Болезнь Зернова еще более сблизила нас. Он лежал в госпитале, в одном из медицинских центров рядом с Вилтоном. Очевидно, его охватывал страх, и он попросил, чтобы возле него сидела не просто сиделка, а ребята из группы. Для большинства походы на эти дежурства были в тягость, для меня они не создавали никаких проблем. Я дежурил три раза, брал с собой документацию и в период сна больного активно изучал ее. Когда он бодрствовал, я с удовольствием для него поддерживал беседу. Понял, что, исходя из прошлой жизни, он был подозрителен ко всем, а значит, и очень одинок. Передо мной находился 38-летний мужчина, быстро достигший успеха в жизни, но уже уставший от падений, которые приготовила ему судьба. Меня подозревать было не в чем, я был на двенадцать лет моложе, менее опытен, не имел никаких видов на работу в Могилеве, и был крайне доволен моим недавним назначением на должность начальника цеха в городе Курске. Мы окончили один институт Ивановский (ИХТИ), его сокурсники были моими преподавателями. Говорили обо всем: о технологии, спорте, людях. Мне кажется, эти беседы его успокаивали, для меня это был редкий случай поговорить по душам со старшим, более опытным руководителем. Проявлял ли я лесть по отношению к нему, использовал ли я этот инструмент для завоевания доверия. Очевидно, и да и нет. Его высокая оценка (интуитивно я так считал) нужна была мне для того, чтобы он дал ее в главке, и далее она дошла до руководства Курского ПО. Но форма лести была выбрана своеобразной: я внимательно слушал все его рассказы о себе. По-видимому, последняя трагедия на ЗИВе поколебала его веру в себя, болезнь в Англии добавила к этим сомнениям новую составляющую. Ему нужно было отбросить все это, как случайные недоразумения. Он рассказывал о достижениях отца (в музее города Иванова есть стенд ему посвященный), об учебе с отличием, о том, что он был лучшим хоккеистом института. Много говорил о своей прекрасной жене Нонне Михайловне, о незаурядных музыкальных способностях своих двух дочек. С гордостью говорил о процессах, которые внедрил на ЗИВе. Обычно потребность в таких беседах появляется после пятидесяти. У него она возникла к сорока годам. Я внимательно слушал. Позже прочитал, что самая действенная формой лести – интерес к откровениям руководителя. Я случайно, в силу того, что потерял отца в десять лет, проявил неподдельный интерес к описанию жизни человека, близкому ему по возрасту. Полагаю, что это духовно сблизило нас. После двух недель пребывания в госпитале Зернова отправили самолетом в Москву.
Ликвидация контроля не изменила линию нашего поведения. Работа осуществлялась по напряженному графику, вечерами мы систематизировали записи дневных занятий, изучали документацию новых, находили время для футбола и для купания в море. Со своими знакомыми девушками ограничивались приветствиями, улыбками, взглядами.
В скором времени нам пришлось ближе познакомиться не только с показной публичной стороной чувств, но и с реальной организацией сексуального быта Великобритании 1970-х годов. Произошло это в Северной Ирландии. Там в пригороде Белфаста в местечке Килрут фирма “ICI” построила новый завод по производству полиэфирных нитей. Эта часть страны традиционно была бедной, инвестиции не вкладывались в силу продолжающегося конфликта между двумя религиозными общинами. Уровень жизни населения существенно был ниже английского. Группа наших специалистов, в которую в основном входили ведущие руководители, должна была пройти двухнедельное обучение на заводе в Килруте. Нас доставили самолетом в Белфаст вечером в воскресенье и разместили в гостинице Белый дом на краю города в полутора километрах от Килрута. Гостиница действительно напоминала Белый дом Президента США. Прекрасные зеленые лужайки, парк и в центре его белое здание с колоннами. Представительный холл и, к нашему удивлению, очень маленькие комнаты. Высота 2,1 м., ширина 2,5 м., длина 3 м. Кровать занимала большую часть комнаты. Большое окно выходило в Прекрасный парк. Разместившись, мы пошли на ужин, где наши английские сопровождающие нам объяснили куда мы попали. В добрые времена королевы Виктории среди богатых людей была распространена мода приезжать из провинции в столицу (Белфаст – столица Северной Ирландии) со своими любимыми животными кошками, собаками. Богатые хозяева размещались в гостиницах в центре города, мужчины занимались бизнесом и политикой, женщины – покупками. Но чтобы не скучать по любимым питомцам, они размещали своих любимцев в пансионатах – гостиницах, расположенных в парковой зоне. Там под присмотром персонала столичной жизнью наслаждались и они. Богатые люди могли регулярно проведывать их и ублажать себя. Итак, нас поселили в бывшем кошачьем пансионате. Это была экзотика для того времени, и она привлекала туристов. Англичане нас успокоили с заговорщической улыбкой на лице, что стесненность комнат будет компенсирована другими преимуществами.
Первая неделя занятий прошла полностью по плану. Было объявлено, что в субботу вечером в гостинице будут танцы с местными девушками, в воскресенье рано утром выезжаем на северную часть острова, туда к океану. Танцы начались в назначенное время. Собрались наши сопровождающие из Англии, переводчики от ICI, все специалисты из СССР. Девушки не заставили себя ждать, пришли все вместе. Оказалось, что они работают на рядом стоящей табачной фабрике и являются постоянными посетительницами подобных вечеринок. Было достаточно вина. Все быстро вошли в контакт друг с другом. Трудно было отличить, где мы, где наши коллеги. Я люблю танцевать и, как правило, нахожу достойную партнершу. В моде был казачок. Его зажигательный характер дошел и сюда, до самых глухих районов Великобритании. После нескольких танцев с девушками, наконец-то, мой выбор остановился на одной. Станцевал один раз, понравилось, пригласил второй, она любезно в танце опустила мою правую руку ниже ее талии. На третий раз она пригласила сама, в конце танца уже ее рука скользнула ниже моей талии. Воспринимал все это, как местную специфику танцев. Подошел переводчик от ICI – господин Фрейберг: «Господин Петров, Вам нравится Элизабет?». – «Да, она хорошо танцует». «Это прекрасно, но я должен предупредить о местных правилах. Вы должны за полтора часа до окончания вечера определиться с выбором девушки на ночь и сказать ей об этом. Они платят хозяйке гостиницы за вход на эту вечеринку, и каждой хочется получить эти деньги назад и немножко заработать. Если Вы по каким-то причинам считаете, что Вы не делаете выбор, у девушки будет время подыскать другого партнера. Хозяйку также нужно предупредить заранее, она очень строгая, не допускает ничего плохого в номерах. Для “влюбленных” в саду стоят вагончики, она подготовит для вас постели и легкий ужин на двоих». Такой уровень организованности привел меня в восторг, но все же я вынужден был отказаться со ссылкой на то, что завтра надо рано вставать на экскурсию. Господин Фрейберг далее обошел всех наших ребят. Через несколько минут все они с плохо скрываемым друг от друга смущением собрались самопроизвольно в холле и пошли спать. Каждый переживал, что его небольшие шалости в танцах привели к столь любезным приглашениям.
Утром в автобус пришла только половина англичан, как мы пошутили «некурящих». Во время поездки мы посетили побережье Ирландского моря, которое было вымощено самой природой из правильных шестигранников.
Ехали, посмеиваясь, вспоминая вечеринку. Я спросил у Гарланда – почему он здесь, а не с коллегами. Гарланд, интересный внешне англичанин средних лет, прекрасный специалист по текстильному производству. Имеет очень красивую молодую жену и дочку, в которой души не чает. Думал, что сейчас он мне будет говорить о волшебной силе любви, верности. Оказалось, проще. Он сказал, что ICI не поощряет связь с женщинами. Здесь в автобусе специалисты ICI, там в вагончиках остались субподрядчики. Вопрос: «Что фирма выполняет роль настоятеля церкви, блюстителя нравов?». Снова ответ удивил: «Нет, дело не столько в религии. Фирма считает, что сегодня изменил жене, завтра изменишь фирме. А при наличии у каждого секретных знаний, ущерб может быть очень велик». Вот те на, в итоге наша формула «Изменил жене, завтра изменишь Родине» почти оказалась тождественной корпоративной заповеди.
В Англии я убедился, что эта формула за границей имеет некоторые послабления. В нашу группу в начале работы была включена представительница Минвнешторга СССР некто Надежда Ивановна. Это была женщина за сорок лет, то есть в том возрасте, когда женщины считают год за два. Она была интеллигентна, выполняла роль переводчика и нашего наставника. Все, конечно, понимали, что она, должно быть, выполняет и функцию надзора, поэтому были с ней осторожны. Поселилась она в одной гостинице с подгруппой ребят, изучающих текстильные операции. Возглавлял подгруппу А. – статный высокий мужчина со спокойным характером. Вначале Надежда Ивановна была чем-то озабочена. Постепенно на ее лице начала появляться улыбка, далее оно начало светиться радостью. Все воспринимали это как результат смены тяжелой лондонской обстановки. Оказалось, причина другая. Для защиты А. от соблазнов Надежде Ивановне пришлось пожертвовать своими моральными устоями и уложить нашего коллегу в свою постель. Сказка продолжалась два месяца. А. должен был со своей подгруппой уезжать в Могилев, наша подгруппа оставалась еще на два месяца. Слезы Надежды Ивановны и откровенное: «Я никогда не была так счастлива» напоминали курортные расставания. А. уехал, через неделю. Не выдержав одиночества, вернулась в Лондон и контролер нашей нравственности. Никаких последствий для влюбленных не было, они поступили патриотично.
Вторая неделя в Килруте также прошла в напряженной работе на заводе. Однако в течение ее г-н Фрайберг успел нам напомнить о том, что для снятия вагончика на ночь, совсем необязательно ждать субботы – девушки ждут. Но им опять не повезло.
Вернувшись, обогащенные техническим и немного жизненным опытом из Северной Ирландии в Солтберн мы обнаружили, что и бары нашего городка исправно исполняли те же функции. Посетители бара при нашей гостинице парочками уединялись на некоторое время в телевизионный зал на втором этаже для просмотра «любимой программы». Через полчаса после ухода они, как правило, довольные и с «заговорщическим» видом возвращались в бар. Случился парадокс. Однажды при проведении в телевизионном зале производственного совещания нашей группы я, сидя на кресле, почувствовав некоторое неудобство, запустил под подстилку руку и машинально, продолжая дискуссию по техническому вопросу, что-то нащупав, стал тащить наружу. Всеобщий смех вызвал предмет, который мне повезло достать. Это были красивые женские трусики. Так что по всем этим данным слухи о холодности английских леди оказались сильно преувеличенными. Религия, обычаи позднего замужества располагают к сексу в девичестве. Местные девушки убедились, что рассказы о бородах русских ложь, но то, что мы заработали у них славу деревянных парней, а проще импотентов – это точно.
Выдержали все наши ребята и испытания валютой. Как и предполагалось, количество валюты к концу четырехмесячной командировки составило суммы, существенно превышающие стоимость «Москвичей-412». Пришлось прилагать героические усилия, чтобы «промотать» их на одежду, обувь, электронику. Но и при этом нам были в виде рекомендаций высказаны ограничения: отдавайте предпочтения товарам «МАРКС И СПЕНСЕР». Наши ребята увидели в этом связь с великим пролетарским вождем. Более объективный ответ на этот вопрос был получен мной лишь через двадцать два года во время командировки Правительственной делегации во главе с А. П. Бирюковой. Тогда, в 1968 году в Лондоне жены наших приемщиков – работников торгпредства оказали нам неоценимую помощь. Шубы мы купили прямо на подпольной фабрике у пакистанца, четырехдорожечные магнитофоны Грюндиг приобрели без пошлины в специальном магазине, часть товаров – без пошлины в магазине торгпредства. Все остальные товары купили по рекомендации жен приемщиков в обычных магазинах. Они выполняли роль и консультантов, и манекенов. Когда все наши фантазии иссякли, а значительная часть денег осталась неизрасходованной от них поступила рекомендация приобрести женское белье. Пошли покупать по соответствующим отделам. Продавщицы, пряча улыбки, спрашивают размеры, мы не знаем. Были записаны у каждого размеры бедер, талии, бюста своих жен, а номеров лифчиков не было. Никто не думал, что мы снизойдем до такой счастливой миссии. Спрашивают главного механика, здоровенного парня, отвечает – «не знаю», а потом, подумав, сложил две громадные ладони в одну «чашечку» и вертит ими перед глазами продавщицы: «Вот такая». Механическая память оказалась надежней, предложено было взять наибольший размер. Как потом оказалось, механик не ошибся.
Можно представить чувство молодого человека, когда он разменивал уже свою реально ощутимую легковую машину цвета «кофе с молоком» на два чемодана «барахла» своим близким со специфическим запахом западного антимоля. Этот запах не выветривался из нашей квартиры много лет. Сестра моей жены окрестила его, как тлетворный запах капитализма, но для жены он имел другой вкус.
Интересно, что я застал в Англии продолжение чешских событий весны 1968 года. В августе 1968 года, как известно, войска Варшавского Пакта заняли Чехословакию. Это вызвало большой протест ведущих стран Европы, США. Телевидение и газеты непрерывно передавали репортажи с места событий. В Лондоне и других крупных городах Англии проходили крупные манифестации. У российского посольства в Лондоне непрерывно дежурили пикеты с лозунгами: «Русские, прочь руки от Чехословакии, СССР – оккупант» Волна протестов в Англии усилилась, когда газеты напечатали сообщение о том, что русские шпионы выкрали из Англии и отправили в Москву через Париж дочь Биляка – секретаря ЦК КП Чехословакии. Девушка была студенткой Пражского университета, в Англии находилась на летней практике. Похищение было выполнено советскими спецслужбами в целях предотвращения шантажа отца со стороны английской разведки. Особый резонанс в английском обществе вызвало то, что оно совпало по времени с широкой демонстрацией в Англии знаменитого фильма «Из России с любовью». По фильму главный герой Джеймс Бонд, обманув всех советских контрразведчиков, успешно возвращается с задания из России вместе со своей новой возлюбленной, которая ради любви к Джеймсу жертвует всем. На практике наши контрразведчики воспроизвели его сюжеты в Англии. Отношение к нам на работе не изменилось, но ICI, опасаясь нападения на нас в гостиницах, закрепило за каждой своего охранника. Наш защитник не разъяснял своей миссии, но нахождение под постоянным контролем создавало дискомфорт, казалось, что человек постоянно следит за каждым нашим шагом. Позднее мы познакомились с ним ближе и даже воспользовались его транспортом для осмотра близлежащих городов.
Англия, как объект для инициирования мировой революции
Период 1961–1972 годов для Англии были не самыми благоприятными. Разрушенная войной Германия с американской финансовой помощью и передачей ей новых технологий и оборудования встала на ноги. Совместно с Францией они были двигателями развивающегося Европейского экономического сообщества. Англия не имела столь значительных, как Германия разрушений во время войны и ее экономика, ослабленная войной, не получила столь масштабной поддержки. Под давлением профсоюзов на производстве сохранялась зарплата, не соответствующая его углубляющемуся технологическому отставанию. Большая нефть и газ Северного моря еще не стали двигателями экономики, а традиционных источников доходов было недостаточно. В упадке находились металлургические заводы, порты. Страна перестала быть империей, а прошлые амбиции у большей части населения сохранились. Мы это ощущали на производстве. Рабочие в узком кругу жаловались на низкую зарплату. Некоторые в открытую говорили: «Вы обошли нас, как и США, в космосе, мы верим, что обойдете нас и в химии, текстиле». Сейчас нам хорошо видна наивность их рассуждений. Мы вели в Могилеве монтаж и пуск значительной части того оборудования, которое они уже демонтировали, а освободившиеся площади подготавливали под оборудование нового поколения. Но тогда мы не задумывались над этим, мы все это воспринимали, как подтверждение нашего близкого триумфа и конца капитализма. При наличии указанных единичных настроений в период нашего пребывания мы не заметили каких-либо социальных выступлений. Во время пребывания в Лондоне специально с друзьями ходили в уголок ораторов в Гайд-парке. Нам много о нем говорили английские переводчики, указывая, что там можно говорить что угодно, но при этом нельзя ругать королеву. Пришли на небольшую площадку на краю парка, огляделись. В качестве трибуны крепкий деревянный ящик. На него поочередно залезают ораторы и говорят о своем, наболевшем перед аудиторией в двадцать–тридцать человек. Наши переводчики переводят, а мы своим ушам поверить не можем. В страстных выступлениях нет призывов к свержению власти. Люди говорят том, что каждый должен заботиться о комфорте своих действий для окружающих. Если, например, один из нас пьет свой утренний кофе, то важно чтобы сосед не гремел воротами своего гаража в такой момент. Поняв, что с этими ребятами мировую революцию не сделаешь, мы разочарованные покинули митинг.
Существенным фактором социальной стабильности в тот период для Англии продолжала играть победа во Второй мировой войне. Англичане воевали с Германией почти семь лет: 1939–1945 годы. Гитлер надеялся массированными бомбардировками крупных промышленных центров и морской блокадой сломить дух нации и подготовить вторжение своего морского и воздушного десанта. После завоевания Англии вслед за легкой победой над Францией он планировал направить все свои силы на войну с Россией. Патриотический подъем всего населения, хорошая боеспособность английской армии в сочетании с островным положением страны (непотопляемый авианосец) сломали планы фюрера. Не завоевав Англию и потеряв надежду на скорую победу над ней, он вынужден был переместить основной театр военных действий на восток в Россию. Очевидно, надо признать то, о чем никогда не говорят в нашей стране. Стойкость англичан дала нам дополнительно два года для подготовки к обороне страны. И в период военных действий против СССР Гитлер вынужден был держать для продолжения войны с Англией громадное количество войск на западном побережье Европы. Она единственная из европейских стран не покорилась. Большинство остальных или напрямую присоединились к агрессии против СССР или начали работать по заказам военной машины Германии. Фактически, как и при Наполеоне, России противостояла объединенная континентальная Европа. Насколько мы использовали двухлетнюю отсрочку войны, это уже наша проблема.
Озлобление фюрера по поводу потерянной быстрой победы на островах сохранялось всю войну, и это выражалось в применении тактики ковровых бомбардировок. Эшелонированные ряды бомбардировщиков методически сбрасывали бомбы, покрывая ими всю площадь важных промышленных центров. Одной из наиболее крупных жертв фашисткой авиации стал город Ковентри. Этот город расположен в самом центре Англии вблизи Бирмингема. Разрушения по английским меркам были самыми значительными, город стал синонимом Сталинграда. После войны он был отстроен заново, восстановлена промышленность, которая преимущественно была представлена высокотехнологичным машиностроением. В память о трагических событиях войны горожане оставили в прежнем разрушенном состоянии кафедральный собор, назвав его храмом бога войны. Вы входите в обычные храмовые ворота в главный зал и видите – открытое небо над головой. Бомба разрушила кровлю, свод и разорвалась в помещении. Традиционные церковные украшения и стены повреждены осколками, в центре храма вместо алтаря стоит памятник идолу – богу войны. Во время нашего посещения храма был дождливый день, плитки пола были мокрые и отливали темно-серым свинцовым цветом. Все это в сочетании с тяжелым облачным небом, мертвой тишиной пустого помещения усиливало трагичность всей композиции. Но жизнь продолжается, и в подтверждении этого, в контрасте с остатками разрушенного храма город построил в нескольких десятках метрах от них новый храм в модернистском стиле.
Лучшие художники мира были приглашены для его украшения. Каждый в соответствии с общей композицией и идеологией оставил свое произведение в виде скульптуры, фрески, барельефа. Привлекала внимание скульптура, созданная американкой. На небольшом круглом постаменте из рваных кусков металла – остатков автомобиля, попавшего в трагическую аварию, она изготовила бюст одного из погибших – близкого ей человека. Установив в храме жизни этот символ глобальной человеческой трагедии, автор хотела показать, что и в этой прекрасной продолжающейся жизни ежедневно и ежечасно по всему миру на дорогах всех стран не прекращается война, и сотни тысяч жизней, так же как в период варварского разрушения Ковентри, приносятся в жертву идолу из соседнего разрушенного храма. Это было актуально для Англии, где в 1968 году погибло несколько тысяч человек, но для России, в которой по итогам последних лет на дорогах ежегодно погибает более 30 тыс. человек, актуальность этой композиции и сейчас неизмеримо выше.
Способность англичан делать красивой жизнь везде вокруг себя и получать ежедневно эстетическое удовольствие для нас была особенна интересна. Ситуацию можно просто выразить словами – курорт вокруг своего дома. У нас в России у наиболее обеспеченной части населения имеется непреодолимая тяга отдыхать где-то вдали от дома, как правило, в прошлом – на курортах Черного моря и Балтики, сейчас – в зависимости от доходов на зарубежных курортах по всему миру. Мы оправдываем это суровыми климатическими условиями центра России, необходимостью поправить свое здоровье, но, возвращаясь домой, уже по дороге из аэропорта, всматриваемся в нашу действительность и впадаем в депрессию. Она даже получила в 1990-е годы официальное название – послеотпускная депрессия: отпуск позади, деньги потрачены, ты снова дома. На самом деле – причина в ином. В период между отпусками мало наших соотечественников заботится о содержательном отдыхе рядом с домом. У нас нет праздника, который всегда с тобой, того образа жизни, который умеют создавать себе народы стран Западной Европы. Думаю, что одной из причин нашей страсти к перемене мест в период отпуска является необустроенность всего того, что окружает нас за пределами нашей квартиры. Мы устаем от окружающего, и эта усталость свойственна жителям как малых, так и крупных городов. Пустыри, металлолом, остатки железобетона, старые разрушенные заборы, сараи, кучи мусора рядом с нашими домами, дачами, дорогами, по которым мы ездим – вот, что нас угнетает и гонит, тех у которых есть средства, хоть на пару недель съездить и поприсутствовать на чужом празднике. Многовековые традиции заботы об этом празднике для королевского окружения и подданных сформировали в Англии атмосферу доступности благ для людей различных категорий. Известно, что в период пребывания в Лондоне королева живет в Букингемском дворце. К нему примыкает прекрасный парк-сад, окруженный высокой стеной. Безусловно, это громадное благо для ее величества. Но и простые подданные не лишены подобного. Прекрасно спланированные парки «Риджинг сквер», Гайд-парк, Грин-парк. Они поддерживаются в хорошем состоянии круглый год и имеют не только декоративный характер, но и генерируют кислород. Прежде всего они предназначены для ежедневного отдыха и наслаждения от суеты центра. Я ходил и бегал по утрам, иногда по два часа, и удивлялся, насколько они нужны тысячам людей совершенно разных социальных групп. Рано утром многие скамейки заняты людьми, не имеющими пристанища в этом мегаполисе. Это, как правило, молодые и среднего возраста мужчины. Назвать их бродягами трудно. Они приходят поздно вечером, выбирают свою скамейку, достают из рюкзака поролоновый матрас, спальник, снимают обувь, ставят ее под лавку. Рюкзак под голову, залезают в спальник и так до раннего утра. С рассветом достают бутылку с водой, чистят зубы, собирают вещи и уходят. За ними дорожки парка заполняют поэтапно сотни бегунов, мужчин и женщин всех возрастов. Цепь парков окружена несколькими станциями метро и за несколько минут вы можете добраться до них из самых удаленных районов. Для жителей близлежащих кварталов это великолепие «под рукой». Бегунов сменяют велосипедисты, далее – пожилые люди, ежедневно прогуливающиеся по утрам. В десятом часу специальные дорожки всей цепи парков заполняются состоятельными людьми, гарцующими на лошадях. Молодые и в возрасте, женщины и мужчины в прекрасной экипировке гарцуют по песчаным дорожкам. приветствуют друг друга, обмениваются при кратких остановках короткими разговорами и едут дальше. Во время ланча газоны парков заполняются тысячами служащих близлежащих офисов, посетителями магазинов. Пришли, сели на траву, вытащили из портфелей пакетики, съели сэндвичи, выпили пепси, колу, покормили остатками еды белок, уток, скворцов и пошли работать дальше. Уровень заполнения парков сохраняется до позднего времени. После обеда приходят школьники поиграть в футбол. Вечером сюда приходят для встречи и прогулки молодые люди и пожилые пары. Каждый участок цепи парков одинаково доступен со всех сторон, одинаково благоустроен: зеленый опрятный газон, вековые вязы, отстоящие друг от друга на двадцать–тридцать метров, маленькие озера. И это все не в размере пятачка, а несколько сотен гектаров в центре Лондона. Архитектурные памятники, наблюдаемые сквозь кроны многочисленных вязов, еще более украшают это великолепие. Интересно, что это яркое впечатление о роли английских парков, сложившееся в 1968 году, за последующие почти полвека для меня еще более усилилось.
В провинции нас поразили некоторые детали жизни англичан: приветливость соседей, посетителей магазинов, ресторанов и обслуживающего персонала, радушие прохожих. Мы видели, что все это прививается с детства. Играющие каждый день под нашими окнами на газоне маленькие футболисты никогда друг на друга не кричали. Вся игра совершалась с каким-то удивительным изяществом и техничностью. Вести себя грубо, толкать соперника считалось так же плохо, как неумение играть вообще. Удивительная взаимная вежливость на автодорогах даже в условиях пробок в Лондоне. Определенные элементы искусственности, театральности в жестах доброжелательности присутствовали, но в основе всего этого были все-таки доверие и уважительность друг к другу. Это подтверждают и такие факты. Сотрудники ежедневно приезжают на площадку перед заводом, оставляют автомашины, не закрывая дверей, и уходят на целый день на работу. То же самое повторяется в городке по дороге домой, причем здесь уже на переднем сиденье может быть спокойно оставлен портфель с документами. Рук никому за воровство не отрубают, но в период нашей трехмесячной командировки ни одного случая воровства не было зафиксировано.
Некоторое объяснение ситуации дает следующая картинка, наблюдаемая нами в Белфасте. В нашей гостинице «Кошкин дом» был небольшой бар, где посетители могли выпить хорошее пиво. За стойкой стояла молодая девушка. За две недели проживания наши ребята почти каждый день заходили в бар выпить пиво, чай. Приятно было в тишине поговорить о жизни. У девушки был большой старый кассовый аппарат, каждую кружку пива она сопровождала прокручиванием ручки аппарата и выдачей чека. На табло для клиента фиксировалась стоимость кружки, на внутренней стороне для барменши на табло фиксировалась стоимость выручки. Я спросил барменшу: «Что Вы, Марго, гремите этим паровозом. Неужели нельзя хотя бы одну, две кружки продать за день, не фиксируя выручки». Я привык к поведению наших буфетчиц в те годы, которые не только не фиксировали выручку, но еще и дополнительно разбавляли пиво, недоливали его. Получил ответ: «Я не хочу лишиться работы в Северной Ирландии». Вопрос: «Почему лишиться. Мы друзья, приехали с другой страны, и ты можешь доверять нам». Ответ: «Наши налоговые инспекторы представляются в любом обличии – иностранца, восхищенного поклонника и др. Но как только ты не зафиксируешь выручку, хотя бы одну кружку, такой поклонник наложит большой штраф на мою хозяйку, и она выгонит меня с работы. Но куда бы я ни пошла наниматься вновь, с меня потребуют рекомендацию предыдущей хозяйки или запросят по телефону у нее мою характеристику. После случая, о котором я говорю, мне все в пределах Северной Ирландии откажут в хорошей работе, я не смогу выйти замуж за приличного человека». Говорила она страстно, с полной убежденностью в своих словах. Я подумал: «Руку не отрубают, как на Востоке, но ярлык инвалидности, которым наделяет общество нарушителя морали, по уровню своего негативного воздействия на его судьбу соизмерима с ситуацией на Востоке».
Англичане для большинства из нас были первыми иностранцами, с которыми мы общались так близко и, конечно, всё в них у нас вызывало любопытство. Перед поездкой я почитал повторно Шекспира, Голсуорси, Диккенса, книги по истории Англии, но это было малополезное занятие для прямого общения с их потомками. Я всегда пытался понять, чем они отличаются от нас. Мне трудно было сказать, насколько наши преподаватели и инструкторы представляли нацию, и какую ее категорию. Первое, что бросалось в глаза, их породистость: высокая интеллигентность лиц, спокойная значительность в движениях, разговоре, дискуссиях, тонкий юмор. Свои действия они сопровождали глубоким анализом ситуации с выявлением вариантов версий, отбором наиболее значительных, высокой концентрацией мысли в последующем поиске. Многие из них наряду с достоинствами руководителя считались признанными лидерами в том или ином виде своего хобби. Один был известным в гольфе, другой – в теннисе, третий – специалист в изготовлении вина, и они гордились всем этим. По совокупности этих свойств в сравнениях пар: наш руководитель – его английский коллега, они превосходили нас. Это превосходство не было для них результатом какой-то театральности, оно было естественным, и нам долгое время это казалось традиционным высокомерием англичан. Они были всегда вежливы, но и вежливость в этой ситуации рассматривалась как высокомерие. Учили они системно, терпеливо и доброжелательно. Первоначальные наши чувства, что от нас прячут главное, что нам преподают не то, что это все не нужно, все есть в документации, по мере более глубокого ознакомления с процессом исчезло. Англичане всей группой готовились после обучения первой группы приехать на пуск в Могилев с семьями и потому заботились о том, чтобы у жен и детей исчезло представление о русских, как о бородатых мужиках. На каждую экскурсию по очереди наряду с английскими специалистами приглашались жены и дети, и все они могли подготовить почву для дружеских семейных отношений в Могилеве.
По случаю окончания учебы нашей группы ICI давала банкет. Для этого мы были приглашены в загородный дом приемов – дворец Викторианской эпохи, и там в течение двух часов был организован фуршет.
Хозяева показали себя большими мастерами того, чтобы заботой и вниманием был окружен каждый наш специалист. Интересной была концовка вечера. Я видел, что англичане со своим женами хотят остаться и думал, в какой же форме они проводят нас. Через два часа нас поблагодарили за то, что мы любезно приняли приглашение на участие в ужине, и переводчица нам сказала, что это и есть сигнал о расставании. Фотография этого ужина появилась во всех газетах графства. Что касается обыденной жизни англичан, то необходимо сказать, что она отличается спецификой. Лето 1968 года было дождливым, дожди шли по несколько раз в день. В наших краях температура находилась на уровне восемнадцати градусов. Мало солнца, постоянно штормящее Северное море с температурой четырнадцать градусов. Говорили, что зимой дождливо, пасмурно, температура января шесть градусов. Этот климат оказывал негативное влияние на многие поколения англичан. Нехватка витаминов развивала в людях сутулость, ухудшала цвет лица. В послевоенные годы с ростом достатка более богатые люди могли позволить себе отпуск в Испании, но в целом проблема здоровья нации оставалась актуальна.
Реакцией на погодные условия стало изменение образа жизни. Была реализована очень дорогостоящая программа вывода угля из отопительных систем городов. Сначала от сажи, копоти, смога избавились созданием предприятий по газификации угля и передачей газа на отопление домов, далее его заменили природным газом. На здоровье новых поколений существенное влияние оказало отношение к досугу. Большая часть населения Англии живет в сельской местности или в зеленых пригородах в двух-, трехэтажных домах. Каждая семья имеет свой дом или секцию в двухэтажном доме с прямым выходом на улицу. Большую часть свободного времени в светлый период и взрослые, и дети проводят на воздухе, работая на своих пятьдесят–сто квадратных метров в палисаднике, играя на газоне в футбол, катаясь на велосипедах.
Показательны в этом отношении суббота и воскресенье. Большая часть Англии садится на колеса, и семья в полном составе: родители, дети, собаки выезжают на пикник. Если вы живете в десяти километрах от моря, вы едете к морю. Там, на громадных выровненных лужайках с газоном, таких семей собираются сотни, и, разбившись по интересам, все поле играет. Дети образуют один клуб. Взрослые играют в свой футбол, женщины сидят, беседуют, образуя свои секции. Кто-то запускает змеи, кто-то играет с собаками, кто-то укрепляет себя бегом. Если погода позволяет, то наиболее подготовленные ходят на серфингах, пытаются взобраться на доске на волну прибоя, ходят на яхтах. Постоянно по песчаной косе проскакивает на фермерских лошадях молодежь. Все это броуновское движение часто дополнялось какими-либо организованными действиями, конкурсами барабанщиц. Все школы готовят свои команды, и квадраты марширующих в мини-юбках девушек борются за первое место. Проводятся соревнования бегунов, велосипедистов. За участников болеют всей семьей, эмоции выплескиваются через край. Для людей постарше и побогаче – крикет, гольф, охота на фазанов, ловля форели в горах является хорошей разрядкой. В каждом маленьком городе масса спортивных площадок, теннисных кортов. У меня создалось впечатление, что англичане значительно больше, чем мы уделяют внимание детям, уикенды в этом занимают особое место. Очень популярны автомобильные прогулки вместе с детьми к памятникам старины и местным достопримечательностям. Едут зачастую с детьми от полу- до годовалого возраста. Мама или папа одевают за спину специальный рюкзак, и все вместе часами ходят по парковому дворцовому комплексу. Все эти действия и праздники насыщены ярками красками автомобилей, тентов и палаток, змеев, мячей, одежды. Все сопровождается улыбками, доброжелательностью. Иметь пять месяцев зимы это плохо, но, в нашем понимании, погода в Англии – это весь год осень, ранняя или поздняя, но осень, и в этих условиях надо иметь особое мужество жить так. В итоге праздник всегда рядом, всегда с тобой.
Особо нужно сказать об английском газоне. Он окружает вас везде: в больших мегаполисах, в маленьких городках, деревнях, на футбольных полях, площадках для отдыха возле городов. Англичане шутят: достичь такого качества нетрудно: двадцать сантиметров чернозема, хорошие семена, триста лет поливайте и стригите, у Вас будет то же. Поливает водой сама природа, хотя мне предоставлялась возможность в более поздние поездки видеть выжженный, желтый покров Гайд-парка. Забота о газоне окупает себя. Проживая даже в таком промышленном центре, как Лондон, вы обнаруживаете, что рубашка и на третий день носки имеет чистый воротничок, машина неделями не требует мойки, ее салон остается чистым без каких-либо чехлов. Все фильтры автомобиля: бензина, воздуха имеют повышенный ресурс. Ваши квартиры чисты и не требуют ежедневной уборки. Для производства это также очень удобно. Фильтры кондиционеров годами остаются чистыми, что обеспечивает меньший расход электроэнергии на вентиляторы и обеспечивает их нормальный режим работы. Подшипники всей вращающейся техники и, в первую очередь, электродвигателей имеют повышенный моторесурс, сами обмотки электродвигателей не перегреваются и служат дольше. В цехах требуется меньше уборщиц. Газон берегут и, если есть необходимость проведения земляных работ, сохраняют и быстро восстанавливают. Мы наблюдали на заводе в Килруте, как прокладывали кабель связи. Наметили трассу, запустили мотоблок, он снял слой газона шириной тридцать сантиметров, высотой пять сантиметров, нарезал их на куски полметра, уложил их вдоль трассы на пленку на расстоянии полметра от трассы. Далее прошел малый роторный экскаватор, выкопал траншею, уложив землю на пленку в холмик на другую сторону от срезанного газона. Уложили кабель, сдвинули грунт, хорошо уплотнили его до отметки пять сантиметров, сверху уложили куски газона, уплотнили, полили, и к вечеру работа была закончена. Через пять дней глаз не мог отличить газон от первоначального.
В совокупности все, что мы видели: высокий уровень технического прогресса, способность к быстрому освоению новой техники в группе смежных отраслей, прекрасные условия, высокая производительность труда, запрет на использование труда женщин в ночное время и на тяжелых работах, высокий авторитет профсоюзов, налаженные схемы выдвижения рабочих в руководители, отсутствие разницы в уровне жизни между городом и деревней, высокий уровень жизни всего населения, неизбежно подводили нас к мысли о том, что они воплотили в реальности, провозглашенные в нашем моральном кодексе и в программе построения коммунизма установки. Никто из нас не высказывал ничего подобного, но очевидно, что советские идеологи осознавали их неизбежность и опасность. Тот же экономический советник торгпредства, который проводил для нас лекцию о защите рубля, словно предупреждая наши вопросы, отмечал, что высокий уровень жизни есть результат многовековых грабежей англичанами своих колоний, а все остальное, в том числе доброжелательность, есть следствие этого уровня. И это объяснение мы все восприняли как абсолютно объективное, оно успокоило нас. Нам по воспитанию и в голову не могли прийти другие причины.
Каждый, кто достаточно знаком с историей Англии, Франции, России не может не задать себе вопрос: почему монархия во Франции закончилась в конце восемнадцатого века с отсечением головы Людовику XVII, самодержавие в России пало в начале двадцатого века с теми же последствиями для Николая II и его семьи, а монархия в Англии успешно перешла в двадцать первый век и, по мнению большинства англичан, имеет хорошую перспективу на будущее. Очевидно, причин может быть великое множество, и каждый историк определит их на основе своих взглядов. У меня, как у бытового наблюдателя и экскурсанта по местам проживания царственных особ, сложилось свое мнение. Английская монархия благополучно вошла в постиндустриальный период, потому что много лет назад, на заре индустриального периода в шестнадцатом веке английский король за чрезмерные амбиции был приговорен парламентом к смертной казни и обезглавлен. Нация недолго жила без короля. Время, вражеское окружение, опасность внутренних распрей, отсутствие опыта реальной демократии в парламенте убедили всех депутатов в полезности короля. Инстинкт самосохранения нации заставил парламент вручить корону живому наследнику. Но это был уже другой король с другими амбициями и соответственно с другими полномочиями, и это был уже не тот парламент более властный, но в то же время осознающий полезную роль короля для нации.
Сравнивая скромную, не по значимости английской короны, резиденцию короля в двадцать первом веке – дворцы (Букингемский и загородный – Виндзор) с Лувром и Версалем, а тем более с Зимним дворцом, Петергофом, Царским селом, Константиновским дворцом, Московским Кремлем, можно уверенно сказать: Людовики не изучали английской истории. Тем более плохо были осведомлены об английской и французской истории наши монархи. Прорубив в Петербурге окно в Европу, породнившись напрямую с королевской семьей Великобритании, мы не внесли в эти прекрасные дворцы выстраданную европейцами их систему взаимоотношений. У этих дворцов двери для демократических преобразований, для технологического прогресса, для восприятия традиций единства царя и народа остались закрытыми, но зато их открыли для высшего уровня роскоши, оторвав громадные средства от всей страны. Долгие годы Петербург был городом дворцов, чиновников и слуг, городом, закрытым для простых людей России (кроме тех, кто его строил и обслуживал). Промышленный бум второй половины девятнадцатого века изменил его, и 1917-й следует воспринимать, как результат несовместимости условий жизни пролетариата и вызывающей роскоши царской семьи и ее окружения.
Я рассказываю обо всех этих впечатлениях с подробными деталями почти через полвека после первого знакомства с Анг-лией. В подтверждение тому, что это было столь давно, привожу две фотографии королевы Елизаветы.
На первой королева едет на лошади рядом с супругом, на второй она вручает своему сыну Чарльзу атрибуты его власти над Уэльсом.
Через полвека все они сильно изменились, помолодело только здание Вестминстера. В 1968 году оно было черным. После перевода лондонских котельных с угля на газ его отчистили от копоти и сажи, но и тогда и теперь оно было и есть главным символом в прошлом самой большой и могущественной империи.
Я покидал Англию в 1968 году с осознанием того, что приобщился к чему-то такому, что приумножило мой потенциал на десятилетия. В основе этого были технологические знания, восприятие нового стиля управления, системы отношений. Может быть, это было самовнушение, но, в конечном счете, это в дальнейшем подтвердилось в жизни. Мне было двадцать шесть лет.
Сравнивая Лондон 1968 и в последующие периоды до 2012 года, я ясно ощущал главное различие: резко увеличившееся количество темнокожего населения. Этот процесс можно было наблюдать в зачаточном состоянии уже в 1968 году. Характер современной экспансии одной нации по отношению к другим имеет два основных типа: интеллектуальная – пример распространение еврейской нации и низкоквалифицированная – импорт дешевых рабочих рук из Азии, Африки в Европу. Раньше было по-другому. Вы собрали войско, пошли на войну, победили, взяли рабов, привели их в свою страну, заставили насильно трудиться. Получили плоды их труда, дождались их скорой смерти от непосильной работы и тяжелых условий проживания, привезли новых рабов. Или, наоборот, у ваших ворот стоит вражеское войско иноплеменников. Вы собрали свое войско, разбили врага и счастливо продолжаете жить и наслаждаться плодами победы. Но сейчас ситуация другая. Иноплеменник вошел в вашу среду обитания не войском, а поодиночке группами. Вы сами создаете условия для вхождения его и его товарищей. Вы бизнесмен, строите дома и для того, чтобы победить в этой сфере своих конкурентов вы работаете над снижением издержек. Иностранец предлагает вам услуги по несоизмеримо меньшей цене. Вы приглашаете его как рабочего, но приезжает человек. Через некоторое время обнаруживается, что чем больше в строительстве работает иностранцев, тем менее оно престижно для представителей титульной нации. Создаются громадные структуры, для которых доставка рабочей силы становится доходным бизнесом. Стране уже не нужно дополнительное количество рабочих, а эмиграция все более усиливается, и это происходит в большинстве стран, где требуется физическая неквалифицированная работа. Со временем вы становитесь зависимы от новой категории работников. Вы вынуждены повышать им зарплату и создавать более привлекательные условия жизни. Они принимают их и приглашают уже для совместного проживания своих жен и детей. Дети быстро становятся полноправными гражданами страны, приютившей их родителей. За счет более высокой рождаемости новых «завоевателей» процесс переходит в стадию спонтанного саморазвития. Это медленная взаимосогласованная акция в основе своей имеет одну причину – отсутствие технического прогресса в сферах деятельности, связанных с физическим трудом. Вы не можете на данном участке создать привлекательные условия труда, не можете позволить оплачивать его по ставкам высокоинтеллектуального труда и компенсируете свою недоработку в технике и технологиях привлечением гастарбайтеров. Со временем в целом в стране или в отдельных ее регионах накапливается критическая масса новой национальной общности, опирающейся на сохраненные национальные и религиозные особенности, и ситуация становится критической. Рынок, конкуренция, стремление к получению сверхприбылей представителей коренной нации ускоряют эти процессы. Низкая рождаемость титульной нации их подхлестывает.
Еще один шаг в том же направлении – перенос высокотехнологичных производств в страны с наиболее дешевой рабочей силой. Он диктуется желанием высокоразвитой нации непрерывно улучшать уровень жизни при отсутствии возможностей его удовлетворить с помощью собственного труда (технического прогресса, рождения и воспитания большого количества детей, привлечения к работе жен и т. д.). Этот процесс неизбежно приводит к падению конкурентоспособности производств в странах, передавших новые технологии в развивающиеся страны.
Парадокс, но в ведущих странах мира все это сочетается с мощной пропагандисткой кампанией за признание однополых браков, результатами воплощения которой в жизнь станет дальнейшее снижение рождаемости населения титульных наций.
Ежегодные поездки не позволяют воспринять с требуемой остротой всю пагубность этих тенденций, но сейчас, через почти пятьдесят лет после первого знакомства со страной, ты четко осознаешь масштабы изменений и с тревожным чувством задумываешься о том, что будет в последующий аналогичный период.
Могилев, «Лавсан» – новые горизонты
Курск после Англии
Вернувшись в сентябре 1968 года из Англии, я приступил к выполнению обязанностей начальника химико-прядильного цеха Курского ПО «Химволокно». Предложение о возможном переезде в Могилев поступали в период до конца года неоднократно. П. Н. Зернов болеет, и будет болеть неизвестно сколько. Он просит направить Петрова в Могилев. Дирекция Курска мне говорила об этом, но никаких указаний далее не следовало. Я инициативы не проявлял, считая, что среди организаторов моей поездки в Англию главным был Курск. Он послал меня для того, чтобы я изучил новую технологию и внедрил ее на родном предприятии. Уехать в Могилев – это неуважение к воспитавшему меня коллективу.
В конце февраля 1969 года главный инженер ПО «Химволокно» И. П. Панкин направил меня в Могилев с каким-то малопонятным заданием. Приехал, поселок, в котором в тогда проживало менее одной тысячи жителей. Четыре пятиэтажных дома по три подъезда в каждом. Два дома были подготовлены в качестве гостиницы для иностранцев, два – для проживания семей первых отечественных специалистов. Дома были расположены вблизи аэродрома с грунтовой посадочной полосой, его постоянно заметало снегом. Двухметровый забор был почти доверху погружен в снег. Устроился в гостинице для иностранных специалистов, приехал на стройку, расположенную в шести километрах от города. Обошел все строящиеся производства. На производствах диметилтерефталата (ДМТ) и полимера было завершено строительство зданий, шел монтаж основного технического оборудования. На производстве штапельного волокна проводился монтаж железобетонного каркаса здания. Как мне объяснили, отставание в строительстве произошло из-за того, что в процессе монтажа железобетонных колонн, балок и перемычек строители своевременно не установили металлические связующие диагонали, и все конструкции здания на площади в пять гектаров сложились как набор костяшек домино. Хорошо, что это случилось во время обеденного перерыва, люди не погибли. Но мнение о том, что штапель – это «сплошной завал» прочно укоренилось на стройке.
Главный инженер П. Н. Зернов продолжал болеть после английской командировки. Генеральный директор по каким то причинам отсутствовал. Постарался выполнить техническое задание и вернулся в Курск. У меня было предчувствие того, что моя командировка есть своеобразные смотрины. Но получилось так, что меня никто из руководителей предприятия не увидел. Что же касается моего впечатления от стройки, то оно не было положительным. Большое число объектов, малое количество строителей. Явное несоответствие уровня строительной готовности срокам ввода. Из разговоров со специалистами почувствовал, что имеет место существенная конкуренция между группами специалистов, приехавших на стройку из разных регионов СССР, сориентированных на своих лидеров (Сибирь, Новомосковск, Курск, Могилев – ЗИВ). Предприятие начали строить по требованию Хрущева, в соответствии с постановлением Совмина СССР в Сибири вблизи Красноярска. Там и сформировалась первая группа специалистов, перешедших в основном с предприятий Минсредмаша. Директором строящегося предприятия был назначен В. С. Белявский. После ухода Н. С. Хрущева с поста Первого Секретаря ЦК КПСС объект в Сибири был законсервирован. Было принято решение о переносе точки строительства нового завода в Белоруссию. Выбор пал на Могилев, в этом областном центре с 1930 года успешно работал завод искусственного волокна. Дирекция строящегося предприятия из Сибири в полном составе переехала на новое место строительства. Группа специалистов оргсинтеза численностью около тридцати человек во главе с начальником производства И. В. Кудрявцевым прибыла с Новомосковского ПО «Азот». На должности ведущих руководителей на производствах полимера, волокна, нитей были приглашены специалисты Курского ПО «Химволокно». Руководители ЦЗЛ, инженерных служб комбината по инициативе П. Н. Зернова пришли с Могилевского завода искусственного волокна. Разногласия между специалистами этих групп зачастую не позволяли оперативно принять техническое решение по способам исправления достаточно большого числа проектных недостатков. Четыре дома в чистом поле на краю аэродрома тоже не впечатляли.
Вернулся в Курск, считая, что на этом возможный вариант переезда отпал. К этому времени по результатам командировки в Великобританию мной был написан отчет о том, как можно улучшить процессы на ПО «Курскхимволокно». Стал в пределах подчиненного мне химико-прядильного цеха опытно-промышленного производства внедрять новшества. После получения первых результатов стал рекомендовать их внедрение на основном производстве «Лавсан». Этот момент совпал с увлечением руководителей данного производства новой идеей. Его начальник – Л. А. Грайзель, специалист, имеющий к тому времени наибольший на комбинате опыт по эксплуатации периодических установок поликонденсации, предложил создать в химическом цехе на основе изучения одного зарубежного патента установку непрерывной поликонденсации полиэтилентерефталата. Идея казалась привлекательной вследствие возможности ее реализации силами служб комбината. При этом, по мнению ее авторов, комбинат выходил сразу же на более высокий в сравнении с английскими установками в Могилеве технический уровень. В качестве основного технологического оборудования предполагалось использовать аппараты действующей установки периодической поликонденсации. Я видел слабые стороны проекта, отметил их при его презентации. Обратил внимание на то, что больший эффект для предприятия может быть получен от внедрения на «периодике» английского опыта, но замечания не были приняты. Сложности перехода от «периодики» к непрерывке никто на комбинате не представлял, идея получила сквозную поддержку в технических службах и у дирекции. В результате эта программа стала для производства «Лавсан» доминирующей.
Пытался объяснить проблемы, которые невозможно будет решить, убеждал, что рациональней сохранить периодичность процесса синтеза полимера и внедрить усовершенствования из схемы ICI. Но в условиях общей увлеченности идеей, которая «выводит нас на принципиально новый технологический уровень», услышан не был. Дальнейшие события подтвердили неработоспособность установки.
В апреле 1969 года на Курский комбинат пришел приказ из Главного управления Минхимпрома о направлении начальника химико-прядильного цеха опытно-промышленного производства А. А. Петрова для работы на Могилевском комбинате синтетического волокна в должности заместителя главного инженера по производству. Мне было двадцать семь лет, после шести лет работы в Курске и четырехмесячной практики в Англии у меня была уверенность, что в части подготовки по технологии производства «Лавсан» я имею наиболее широкий кругозор среди могилевских коллег. Роль интриг, оппозиции в работе вообще как фактор не воспринимал, и поэтому для меня не было вопроса, справлюсь или не справлюсь с работой в новой должности. Учитывая, что «Лавсан» в Курске пошел в новом направлении, в котором мне не было места, я освободился от сомнений относительно чувства долга перед воспитавшим меня коллективом. При снятии с партийного учета удивился откровению секретаря парткома комбината Д. Горлова. Он сказал, что партком не согласен с моим переводом и не понимает политики дирекции, согласно которой все перспективные специалисты русской национальности с неоправданной легкостью отпускаются с комбината. Я понимал его обеспокоенность. С уходом с комбината большого числа русских специалистов, направленных со значительным повышением на новые предприятия химических волокон в Волжск, Щекино, Могилев, ведущая роль в управлении комбинатом переходила к специалистам еврейской национальности. Но, в отличие от секретаря парткома, не считал, что это есть следствие политики дирекции. Отбор кадров для новых заводов проводил главк, и он действительно больше ориентировался на специалистов русской национальности. Специалисты из Курска вошли в состав руководства новых заводов в Могилеве, Волжске, Щекино, Житомире. Получалось так, что не по вине директора Курского комбината, а из-за наличия дискриминации в кадровых назначениях на новых предприятиях, ведущую роль в управлении его производствами и службами получали специалисты еврейской национальности. На замечания Д. Горлова я промолчал, но он, словно прочитав мои мысли, добавил: «Приказ из главка необходимо выполнять, но первопричины согласования подобных приказов до их выхода надо искать в другом». Детали мы не стали уточнять, он молча подписал открепительные документы члена КПСС.
Приказ по главку воспринял как важное и желанное назначение. Сходил последний раз на городскую демонстрацию Первого Мая, попрощался с коллегами на заводе, с друзьями по баскетбольным и волейбольным сражениям, проводил товарища по волейбольной команде в армию, попросил неделю отпуска, отвез сына, которому было два с половиной года, к теще в Ивановскую область. Она работала учителем в поселке Новые Горки, в тридцати километрах от Иванова. Была весенняя распутица, машины ходили только до Лежнево, далее нужно было нести сына на руках восемь километров по проселку. Было это 3 мая, дул сильный ветер, шел дождь со снегом. Погостили день и уехали с женой в Ленинград напрямую через родные, милые сердцу города Иваново, Ярославль, Рыбинск, Тверь. Приехали в Ленинград, утром и во всех привокзальных киосках стали спрашивать, где можно остановиться на четыре дня. Никто решить проблему не мог. Потеряли надежду. В одном из киосков бросил, как оказалось, волшебную фразу: «Странно, большой город, а остановиться негде. В Москве хоть на окраине, но все-таки устроишься». На пожилую продавщицу газет она подействовала. Упрекнув москвичей в заносчивости, она сказала: «И у нас знающие люди всегда найдут место. Поезжайте на такой-то рынок и устраивайтесь в Доме колхозника». Приехали, получили скромный чистый номер с удобствами в коридоре. Остановились, довольно скоро убедились в преимуществе расположения. Каждое утро свежее молоко, сметана, творог, овощи. Хождение и поездки по северной столице с раннего утра до вечера, вечером – театр.
Встретился со старшим братом, он в то время работал детским врачом. Вместе поклонились бронзовому Петру, которому наши предки были обязаны фамилией. Отец рассказывал, что фамилию Петров (Петров сын) давали сиротам, которых усыновляли подразделения российской армии в период от Петра до Екатерины второй. По рассказам отца усыновление основателя нашего рода произошло в оренбургских степях в селе, разоренном Пугачевым. Фамилия защищала усыновленных от несправедливости окружающих.
Короткое пребывание в Ленинграде оставили двойственное впечатление. Поражало великолепие дворцов при одновременном понимании того, что все это привнесено извне и далеко не соответствует общему уровню страны. В глазах стояла дорога в Новые Горки. С этим чувством мы и приехали вдвоем в Могилев.
Ждали, но по-своему
В первый же день был принят генеральным директором В. С. Белявским. К тому времени я имел уже достаточное количество контактов с руководителями подобного уровня. На Курском комбинате учился у директоров Л. Ф. Сафронкова, К. Х. Кадоглы, но Белявский меня поразил. В нем не было солидности и, я бы сказал, вальяжности моих прошлых руководителей. Это был человек сорока лет, ниже среднего роста с седыми волосами, несколько завитыми и тщательно уложенными для закрытия довольно значительной передней части головы, на которой возможно они не росли. Его темные глаза сверлили собеседника, видя в нем противника или оппонента. Резкие, выразительные черты лица дополняли этот взгляд, подчеркивая постоянную готовность его обладателя к спору. Он был, как боксер на ринге, постоянно напряжен и собран. Манера разговора была немногословна, но очень убедительно словами, жестами, выражением лица защищала его позицию. Все это сочеталось с критической оценкой слов и доводов собеседника. В правильности первого впечатления я неоднократно убеждался позже.
В ту первую встречу сидел напротив нового руководителя, который был старше меня на пятнадцать лет, и ждал от него теплых стандартных слов, напутствия перед моей новой работой. К тому времени я уже знал причину моего срочного перевода. П. Н. Зернов продолжал болеть, министерство было обеспокоено положением дел на стройке, и по его настойчивому требованию осуществило мой перевод. В мои обязанности должны были входить: обеспечение руководства завершением строительства, организация пуско-наладочных работ и запуск технологических линий по группе четырех смежных производств. Но разговор неожиданно для меня приобрел другой характер. В. С. Белявский в очень спокойной, даже теплой манере объяснил мне, что получил письмо главка и рад моему приезду. Но он лично считает, что я человек молодой и всегда успею поработать в должности заместителя главного инженера МКСВ по производству. Сейчас же, в данный конкретный момент, полезнее и для меня, и для комбината, чтобы я пошел работать начальником строящегося производства штапельного волокна и добился существенного увеличения темпов строительно-монтажных работ с целью введения их в график. Именно это производство может сорвать пуск двух смежных производств первого пускового комплекса – по выпуску мономера – ДМТ и полимера – ПЭТФ.
Удар был ниже пояса. Должность начальника производства была на ступеньку ниже по сравнению с должностью заместителя главного инженера. Но и это было не самым главным. Тем самым мне было показано, что инициатива с выпуском письма главка Минхимпрома исходила не от него, и что он не одобряет контакты П. Н. Зернова с главком по данной теме. Второе – он дал понять, что он на комбинате единственный хозяин и чувствует себя настолько сильно, что может не выполнять указания главка. У меня стремительно возникли мысли – что делать: возвращаться в Курск и объяснять, почему пришелся не ко двору. Позор! Начал рассуждать: кто я был в Курске – начальник экспериментального цеха с численностью сто восемьдесят человек. В случае успешного роста я должен был там пройти ступеньки замначальника производства и только потом, лет через пять–семь при успешном стечении обстоятельств, стать начальником производства, масштабы и технология которого была несколькими классами ниже в сравнении с показателями могилевских установок. Мне предлагают стать начальником крупнейшего в СССР производства синтетического волокна, с наиболее совершенной на тот момент технологией, а я должен думать – соглашаться, не соглашаться. Интересно, что, несмотря на осведомленность о серьезном отставании строительства производства волокна, мне не пришли в тот момент в голову сомнения – справлюсь, не справлюсь. Подобные мысли, как правило, последовательно выстраиваются, когда ты осмысливаешь ситуацию в спокойной обстановке. В тот момент они прошли в сознании одна за другой мгновенно. Пауза, которая естественно возникла после предложения В. С. Белявского, была незначительной. Ответ был дан: «Это предложение действительно больше отвечает интересам стройки, и я рад его принять, но для ликвидации столь существенного отставания потребуется Ваша прямая поддержка, и я на нее надеюсь». Очевидно, что ответ для него был неожиданным. Он оставался пребывать в напряжении, готовился приводить новые доводы, затем оно спало, но улыбка не появилась.
Конечно, после разговора с В. С. Белявским и позже я много думал, почему при подборе кандидатуры на должность зам. главного инженера по производству МПО «Химволокно» выбор пал на меня и почему ожидаемое назначение на столь высокий пост не состоялось. Версий и обоснований было много, но они состояли из разрозненных фрагментов и только с годами соединились в более или менее приемлемую для признания картину. Во-первых, необходимо отметить, что определенную рекламу мне создал Курск. Меня включили в состав группы, уезжающей в Англию. Направил комбинат одного из шести тысяч работающих, одного из тысячи ИТР. Это была серьезная поддержка. Во время обучения я проявил настойчивость в получении знаний и характер при толковании той или иной технической взаимосвязи, в том числе в дискуссиях с английскими специалистами.
Вторая причина состояла в том, что выбор своего заместителя делал П. Н. Зернов, при этом он руководствовался рядом критериев. В Англии он серьезно заболел, его положили в госпиталь, и он пробыл там несколько недель до тех пор, пока английские врачи не разрешили его транспортировать самолетом в Москву. Ходила версия, что это был микроинфаркт, но сразу же после обследования в СССР появились слухи, что ситуация сложнее, на восстановление его здоровья потребуется не менее двух лет. Можно было предположить, что микроинфаркт был следствием более серьезной причины. Нервная система П. Н. была напряжена настолько, что она постоянно воспроизводила для него серьезные страхи. Понятно было, что сорвавшись на руководстве заграничной учебой группы в тридцать человек, данный специалист не мог восстановиться в условиях завершения громадной стройки и пуска взрывоопасного производства, программы, на которой было задействовано более десяти тысяч строителей и эксплуатационников. Предприятию был нужен опытный специалист – координатор строителей, монтажников, эксплуатационников – англичан.
Но почему Зернов проявил постоянство в выборе, почему за шесть месяцев преодолел, как я думаю, сопротивление В. С. Белявского и добился в главке моего перевода, можно только предполагать. К тому времени на комбинате работало уже много специалистов, участвовавших в пуске Курского ПО «Химволокно», прошедших школу приемки оборудования в Англии: В. П. Гаврилов, Е. А. Платонов, А. П. Колесник, В. М. Пшеницын, Е. С. Киселев. Много опытных специалистов работало на производстве оргсинтеза.
Чтобы удовлетворить свое самолюбие, я частично объяснял выбор П. Н. Зернова наличием у меня широкого спектра знаний именно по полиэфирным производствам. Но затем я все более осознавал, что это была не единственная и даже не главная причина.
Свою болезнь он рассматривал как временное явление и выстраивал политику так, чтобы к моменту ее неизбежного окончания вернуться к полноценному исполнению обязанностей главного инженера. Угрозу этой программе он видел как в лице генерального директора В. С. Белявского, членов его окружения, так и среди приехавших из Курска руководителей производств. Они не воспримут свое новое выдвижение как инициативу П. Н. Зернова и не проникнутся к нему благодарностью. Ему нужен был посторонний для В. С. Белявского и его группы специалист, который будет благодарен за свое новое назначение именно ему, Зернову. Исполняющий обязанности главного инженера должен обладать достаточным опытом и характером, чтобы не «не наломать дров», но его молодость не должна порождать в нем преждевременных амбиций относительно занятия пустующего кресла главного инженера. После выздоровления Зернова он должен с благодарностью за предоставленную возможность накопления опыта вернуться на место заместителя главного инженера. В Могилеве на его бывшем предприятии ЗИВ не было специалистов по «лавсану». По этим причинам он должен был пригласить специалиста со стороны, чтобы его не «подталкивали» на самовыдвижение старшие члены группы. Настаивая на моей кандидатуре, отвечающей перечисленным требованиям, он, безусловно, рисковал. Молодой человек в двадцать семь лет должен был поддерживать жесткую дисциплину среди известных всей отрасли специалистов – это важнейшее условие безаварийного пуска. Но, очевидно, он не видел других путей для реализации личных амбиций, при этом мудро учитывал, что безопасность и успех в пуске в значительной степени будет зависеть от работы иностранных специалистов.
Думаю, что определенную роль мог сыграть и национальный фактор. Могилев – город сложный с многовековыми традициями сотрудничества белорусской, русской, польской и еврейской технической интеллигенции. В. С. Белявский приехал из Сибири с группой специалистов высокого уровня, инициативных, но при этом большинство из них напрямую или через членов семьи были связаны с еврейской нацией. В партийных органах и в главке должны были настороженно к этому относиться. Белявский в качестве зам. главного инженера по новой технике уже поставил Г. И. Гендельмана. Это был опытный специалист, прошедший долгую практику работы в Барнауле на действующем предприятии химических волокон и выросший там до должности главного инженера нового строящегося предприятия. Вернувшись в свой родной город Могилев, он руководил на «Лавсане» опытно-промышленной установкой и по результатам успешного пуска был выдвинут с должности, равной начальнику цеха сразу же на должность зам. главного инженера комбината по новой технике. Его кандидатура могла быть заслуженно рекомендована на должность заместителя главного инженера по производству, которая по статусу играла более высокую роль, чем его должность на пуске комбината. П. Н. Зернов не приветствовал подобное назначение, ревниво воспринимал симпатии В. С. Белявского к Г. И. Гендальману, у которого видел избыточную уверенность в себе как предпосылку для последующего самовыдвижения. Имея большой опыт работы со специалистами еврейской национальности на ЗИВе и в целом тесно сотрудничая с ними по техническим вопросам, он все-таки в кадровой политике больше ориентировался на русских и белорусских специалистов. Мое русское происхождение, очевидно, также поспособствовало тому, что я выиграл этот негласный конкурс в главке. В то же время решение В. С. Белявского о направлении меня на производство волокна и сохранение при этом свободной должности зам. главного инженера по производству указывали на то, что он не хотел ссориться всерьез с главком.
Экзамен на зрелость
На производстве волокна к моменту моего назначения замначальника производства по технологии работали: Ю. П. Колесник – опытный специалист из Курска; А. Н. Розанов – начальник штапельного цеха, специалист с громадным опытом, пришедший с ЗИВа; В. В. Магдалинский – главный механик, член команды В. С. Белявского, прибывший из Красноярска. Виктор Магдалинский более двух лет работал приемщиком оборудования в Англии. Ю. П. Колесник как жена аналогичного приемщика А. П. Колесника в период 1966–1968 годов также проживала в Англии. В 1969 году она прошла двухмесячные курсы обучения на фирме “ICI”. Подчеркиваю эти детали, чтобы показать их более высокую по сравнению со мной осведомленность в образе технического мышления англичан. Меня, как нового начальника, они приняли доброжелательно. По Курску я был воспитанником Л. Г. Захаровой, начальника опытно-промышленного производства и ближайшей подруги Ю. П. Колесник. Она продолжила негласное шефство. Виктор Магдалинский видел во мне опытного технолога. Начали с выработки идеологии. Инициатива в наибольшей степени исходила от Виктора. Он доходчиво объяснил, что производство состоит как бы из двух частей: одна часть – основные технологические цеха, где нужно установить громадное количество дорогостоящего импортного оборудования, вторая – вспомогательные технологические и энергетические отделения, состоящие из технического чердака, небольших помещений с транзитными коммуникациями и значительным количеством отечественного оборудования. Они как бы окружают первую часть со всех сторон и сверху. Строители и монтажники не хотят работать во второй части. Они «с ножом у горла» требуют отдать в монтаж дорогостоящее импортное оборудование первой части. Их интересуют финансовые показатели, а не обеспечение технологической последовательности, необходимой для пуска. Надо добиться увеличения численности строителей и монтажников для ускорения работ на объектах во второй части и задержать выдачу в монтаж импортного оборудования. Я согласился с мнением Виктора и стал последовательно проводить эту линию на строительных планерках. Руководство треста «Лавсанстрой» после безуспешных длительных дискуссий вынуждено было существенно увеличить численность строителей и монтажников. Но в связи с тем, что они «разошлись» по техническому этажу, каналам, многочисленным вспомогательным помещениям, прогресса на стройке не было заметно. В. Белявский входит в основные цеха, а там неделя за неделей гектары голых полов. Критика начала усиливаться на третий месяц моей работы. Обстановка накалилась до предела. Строители жаловались в ЦК. Белявский на одной из очередных планерок сказал мне резко: «Вас Москва мне навязала, но я не посмотрю на Ваших опекунов и сниму с должности». У меня хватило сил ответить, что число строителей не доведено до установленной Вами численности, и прошу решить эту проблему. При этом я получил неожиданно поддержку со стороны зам. генерального директора по вопросам строительства Н. Е. Розанова. Этот уникальный специалист и руководитель имел к тому времени стаж работы в отрасли более двадцати пяти лет, участвовал в монтаже оборудования по производству капрона, вывезенного из Германии. В своих беседах с молодыми специалистами мог бросить короткую фразу типа: «Проблема была практически неразрешима, но мы с другом дали предложение Алексею, и в результате своевременный пуск установки был обеспечен». При этом под «Алексеем» имелся в виду Председатель Совмина СССР А. Н. Косыгин.
Увеличение численности по указанию Розанова было осуществлено. Мы выиграли время, и работы по вспомогательным объектам вышли на финишную прямую. Наши главные специалисты – В. Магдалинский, Б. Ерофеев, Г. Айрапетьянц – уже разработали под программу пуска четкий график монтажа машин формования и штапельных агрегатов. Она, как и первая программа, держалась в секрете, что позволяло поддерживать у руководства комбината мнение об отставании строительства объекта, до принятия дополнительных мер по ускорению работ и их рационализации.
К моменту сдачи основного оборудования в монтаж Виктор создал внутри производства четкую систему подготовки деталей трубопроводов и узлов к монтажу. За несколько дней до начала монтажа новой линии комплект всех узлов формировался по чертежам и сдавался монтажникам. Имея резко возросший фронт работ и полное гарантированное обеспечение узлами, они перешли на режим работы по двенадцать часов – «световой день», получая в итоге за счет высокой производительности тройную зарплату. К нам без всякого принуждения потянулись в большом количестве монтажники «Союзмонтажлегмаша» из Белоруссии и России. В конце лета мы разрешили монтаж импортного оборудования и сразу же по мере установки его отдельных позиций организовали проведение первой и второй стадий пуско-наладки. Англичане с пониманием включились в этот ритм работы и обеспечили высокий уровень контроля качества. На первых этапах меня поражало несоответствие наших людей их стандартам работы. Были случаи, когда при проведении испытаний на нейтральных средах аппаратчик включит насос, увидит, как он пойдет в разнос от вибрации, и бежит предъявлять претензию шеф-монтеру по поводу неисправности насоса. «Шеф» – так их называли ребята, подойдет, вытащит из папки памятку с перечнем типовых проблем для данного вида оборудования, осмотрит насос и сделает заключение:
– заполните цементным раствором колодец в фундаменте третьей шпильки;
– подтяните гайки на второй шпильке;
– установите проектные мягкие вставки между насосом и трубопроводами;
– очистите от окалины временно установленный фильтр на входе в насос;
– отрегулируйте арматуру вход/выход и т. д.
Замечания устраняются, и насос работает «о’кей». Скоро к этим требованиям все привыкли, и пуско-наладка пошла в хорошем темпе. Но были отдельные случаи, когда преимущество было за нашими специалистами. Так, при пуске установки осушения воздуха для пневмотранспорта мы обнаружили нарушения в последовательности выполнения операций: сушка воздуха – регенерация осушителя – охлаждение осушителя – сушка воздуха. Помучались над решением задачи вместе с англичанами и не достигли результата. Англичане заявили, что модель новая, им незнакомая, схемы нет, будем вызывать специалистов из Англии. Через пару дней сообщили, что специалисты в отпуске, будут через две недели. Нас это не устроило. Останавливалась наладка всей системы сушки, транспортировки. После ухода с работы англичан остались, «погоняли» установку с энергетиком производства Б. П. Ерофеевым вечер и ночь. К утру внесли изменения в схему и запустили осушитель. Англичане возмутились, сняли гарантию, но приехавший через две недели специалист, без принуждения расписался в акте выполненных нами работ и подтвердил гарантию на паспортный срок.
В сентябре 1969 года стало ясно, что при максимальной мобилизации мы способны привести производство в соответствие с высокими требованиями англичан и пустить его к концу года; потребовалось осуществить срочный отбор кадров для пуска, ускорить утверждение всех регламентов, ОСТов, рабочих инструкций. Возник первый трудовой конфликт. В коллективе прядильного цеха на должность аппаратчиков были приняты выпускники одного из белорусских техникумов, в большинстве своем – молодые девчонки. Часть из них работала на подготовке узлов оборудования к монтажу, большая часть убирала строительный мусор. Видя приближение пуска и не замечая инициативы руководства цеха по их обучению конкретным профессиям, они пришли ко мне и поставили ультиматум. Мусор больше убирать не будем, мы – выпускники техникума, давайте квалифицированную работу. Возглавляла забастовку Людмила Грушецкая – красивая девушка с польскими чертами лица. Пришлось уступить, взяли обязательство, что со следующей недели они будут четыре часа в день изучать новую технологию. Приняв это решение, мы тогда не догадывались, что перед нами в лице Грушецкой – будущий руководитель профсоюза всех химиков Белоруссии.
Облик объекта менялся с каждым днем. Строители и монтажники, выбравшиеся из своих нор – вспомогательных помещений, преображали основные цеха. К концу октября 1969 года в целесообразность и возможность пуска поверили и англичане. Мы договорились с Курским ПО «Химволокно» и привезли семьдесят тонн полимера. В декабре производство было введено в эксплуатацию. Стартовая продукция полностью соответствовала требованиям регламента. Важно, что мы полностью запустили проектную схему обогрева помещений, и большая часть отделочников «Лавсанстроя», не имея достаточного фронта работ на других производствах в Могилеве, всю зиму «облизывала» наши цеха.
Осознавая неизбежность пуска, В. С. Белявский еще за две недели до его осуществления вызвал меня и ознакомил с приказом о моем назначении заместителем главного инженера по производству. Оценивая потом успешное преодоление поставленного Белявским испытания, я считал, что мне прежде всего повезло за счет уровня деловых качеств моих коллег. Не случайно, и я могу признаться, без моей поддержки, в дальнейшем Ю. П. Колесник стала главным технологом всего объединения, В. В. Магдалинский – успешным руководителем самого крупного производства комбината – штапеля-3 (в пять раз превышающего масштабы производства штапеля-1), Б. Ерофеев – зам. главного энергетика объединения, Г. М. Айрапетьянц – главным прибористом.
Пуск по-советски
На новом месте работы я постарался определить прежде всего спектр моих обязанностей. Подсказывать мне было некому. Зернов продолжал болеть, и мне сразу же пришлось одновременно исполнять обязанности главного инженера. Белявский поставил задачу лаконично: к столетию рождения В. И. Ленина – 22 апреля 1970 года, то есть через четыре месяца, первый пусковой комплекс – производство ДМТ, производство ПЭТ и производство штапельного волокна должны работать. Уровень готовности первых двух производств позволял считать, что эта задача при максимальной мобилизации может быть выполнена. Но с учетом того, что эти четыре месяца приходились на зимний период, в который из-за низких температур невозможно проводить испытания на нейтральных средах – воде, она казалась нереальной. Но подобные команды не обсуждаются. «Глаза боятся, а руки делают» – эта поговорка наиболее объективно отражает работу на пуско-наладке сложнейших комплексов.
Изучили ситуацию по всему пусковому комплексу. Выяснилось, что отсутствие в течение года главного инженера и зам. главного инженера по производству более всего негативно сказалось на ходе строительства вспомогательных объектов комбината: очистных сооружений, промскладов этиленгликоля, метанола. В наиболее критическом положении находилась эстакада трубопроводов – это кровеносные сосуды производственного организма. Я пришел к выводу о том, что для производства ДМТ я не помощник, так как не знаю технологии. Технология производства ПЭТ мне хорошо знакома, но его начальник Е. Киселев имеет больший, чем я опыт по эксплуатации установок. Нечего мне «путаться» под ногами у двух асов производства: И. В. Кудрявцева и Е. С. Киселева, надо браться за эстакаду, вспомогательные объекты. Тактика оказалась правильной. В. С. Белявский ее одобрил. Более глубокое изучение ситуации показало, что эстакада трубопроводов находится в критическом положении. Она оказалась ничьей. На стальных этажерках лежали вплотную друг к другу десятки километров трубопроводов: параксилола, этиленгликоля, метанола, реакционных побочных продуктов, расплавопроводов ДМТ. Вместе с ними проходили паропроводы всех категорий, трубы оборотного водоснабжения, киповские линии управления. Все это было обвито кружевами труб малого диаметра, обеспечивающих обогрев расплавопроводов. Единого хозяина в период монтажа не было. Не было и единой монтажной организации. Действовал принцип, согласно которому производство, подающее продукт, должно отвечать за монтаж соответствующего трубопровода до смежного производства. В итоге было много хозяев отдельных труб по всей длине эстакады, но не было одного специалиста, который бы отвечал за ее состояние и готовность к пуску. Ситуация осложнялась тем, что англичане не участвовали в проектировании эстакады и не вели шеф-монтаж.
Выявилась еще одна масштабная проблема. Проект эстакады и коммуникаций был разработан под вариант стопроцентной работы всех мощностей объединения. Нашей же задачей был пуск отдельных секций производства ПЭТ. При сохранении проектного варианта создавалась опасность поступления огнеопасных продуктов в корпуса, в которых должны были продолжаться сварочные работы. Потребовалась срочная разработка первого пускового комплекса эстакады с доустановкой большого числа дополнительных задвижек и «закольцовок».
При ревизии эстакады выявилось большое число недоделок, связанных с недоукомплектованностью узлами, несоответствием технических решений при стыковке трубопроводов эстакады с трубопроводами в корпусах, нарушениями СНиПов. Результаты инспекции были оперативно оформлены в виде заданий всем производствам и службам. На их устранение было затрачено много времени, так как работать приходилось на высоте, в тесном лабиринте труб. При этом сварка трубопроводов требовала из-за низких температур их предварительного подогрева. Проводить гидроиспытание по секциям из-за морозов было невозможно, поэтому был организован строгий рентгеновский контроль всех свариваемых швов.
После завершения сварочных работ встал вопрос о проверке каждого технологического трубопровода на герметичность от подающего цеха до цеха принимающего. В соответствии с требованиями это должно было проводиться путем подачи воды с доведением давления до нормативного. Такой вариант из-за зимних условий исключался. Приняли решение проверять герметичность сжатым воздухом. Создали необходимые условия безопасности, провели испытания. Их результаты никакой юридической силы не имели, но это позволило на свой страх и риск отдать распоряжение на проведение изоляции трубопроводов. В этот сложный период выявились высокие организаторские способности и новаторский дух замначальника теплоцеха Л. В. Бойко, начальника водоцеха В. Цалко, начальника бюро котлонадзора С. Ваньковича.
Монтажные и пусконаладочные работы велись в этот период в две, а во многих случаях и в три смены без выходных дней. К марту предпусковое настроение охватило все организации. Никого не приходилось уговаривать проводить большое число дополнительных работ. Строители, которые в течение года не поддавались на требования по исправлению ошибок, допущенных проектантами, сами бегали за эксплуатационниками с вопросами: «Что еще сделать?». Большая нагрузка легла на специалистов авторского надзора Государственного института по проектированию предприятий химических волокон (ГИПРОИВ) под руководством А. С. Власова. Эти люди прошли высшую школу строительства на предприятиях Минсредмаша СССР в Сибири, но наши темпы их удивляли.
С окончанием марта ушли морозы, и это позволило в течение нескольких дней провести гидроиспытания ранее опрессованных воздухом технических трубопроводов. В процессе этих испытаний было обнаружено и устранено очень незначительное число недостатков, сварщики, несмотря на зимние условия, работали на высоком уровне. По результатам гидроиспытаний были оформлены все требуемые Госгортехнадзором документы.
Аналогичные подходы использовались на всех других вспомогательных объектах и к концу первой декады апреля мы приняли большинство цехов рабочей комиссией. В отличие от ситуаций на производствах ПЭТ и волокна, где пуск предполагал поэтапный запуск первых линий из общего большого числа, в цехе ДМТ требовался одновременный пуск всего громадного комплекса. Несмотря на некоторые технологические трудности и значительные масштабы пусковых работ, пуск ДМТ шел успешно, приближался выпуск готовой продукции. Начальник химического производства Е. С. Киселев к концу первой декады апреля доложил о готовности приема ДМТ, отделения смешения полимера и его передачи на производство волокна. Таким образом, после четырехмесячной напряженной работы мы вошли в график, предусматривающий завершение пуска первых трех производств к 22 апреля 1970 года. Однако жизнь готовила нам сюрприз. Английские специалисты, которые полностью поддерживали нас в период проведения подготовительных мероприятий к пуску, отказались подписывать документы о готовности производства ПЭТ к приему огнеопасных химических продуктов: этиленгликоля, ДМТ, метанола. Никакие уговоры, в том числе на уровне В. Белявского, не помогли. Кроме того, они заявили о невозможности транспортировки ДМТ по обогреваемому расплавопроводу на наружной эстакаде в связи с наличием существенных недостатков в изоляции. Круглосуточные переговоры закончились ультиматумом англичан. Их руководитель Лиделл передал письмо и осуществил запись в монтажном журнале: «Полиспиннерс и ICI считают уровень готовности установок недостаточными для пуска, отказываются от подписания нормативных документов и предупреждают о том, что в случае пуска установок российской стороной без их участия все гарантии с оборудования, предусмотренные контрактом, будут сняты».
В отношении проблем на расплавопроводе ДМТ мы считали, что у англичан были основания. В части неготовности химического цеха к приему пожароопасных продуктов мы полагали, что они просто страхуются от традиционных для любого пуска рисков. Эту позицию мне пришлось довести до В. Белявского.
Сутки прошли в обсуждении ситуации, консультациях Белявского по всем инстанциям с Минском и Москвой. Утром была дана команда на приемку ДМТ и запуск производства полимера. Начался пуск. Англичане демонстративно собрались у себя в офисах и не «выглядывали» из них. Началась перекачка ДМТ, и сразу же подтвердились опасения англичан. Насосы работали исправно, но расплав не поступал на производство ПЭТ. Собрали изолировщиков, устранили большое количество недоделок. К ночи ситуация не изменилась, температура расплавопровода находилась всего лишь на уровне температуры плавления ДМТ, что было явно недостаточно. Начальник теплоцеха Л. В. Бойко со слесарями из теплоцеха «крутились» по эстакаде, пытаясь решить проблему. К ночи, когда уже были потеряны надежды, ДМТ неожиданно пошел. Несколько часов мучились с уровнемерами баков хранения ДМТ, устранили недостатки, начался пуск переэтерификации и поликонденсации. Собрались все в зале управления химического цеха. Проблем было много, чтобы определить характер, причины каждой, принять решение о путях устранения приходилось подключать к дискуссии всех присутствующих специалистов. Много было сложностей с дозировкой продуктов. Обычный цикл от приема ДМТ до выпуска гранулята полимера длится десять часов. У нас потребовалось на это семьдесят два часа. Трое суток мы стояли с аппаратчиками у пультов управления и «сторожили» процесс. Никого невозможно было «прогнать» домой. Спали по часу в сутки на столах, в комнате учебы, под голову подкладывали толстый том английской документации. По утрам приезжали англичане, напряженно обходили установки и, молча, «прятались» в своих офисах.
К концу третьих суток удалось наладить всю цепочку от транспортировки ДМТ до выпуска ПЭТ. Первые три партии вышли с отклонениями от норм, последующие стали отвечать требованиям документации. Утром приехали англичане, несмотря на официальный отказ от участия в пуске, дали рекомендации, как лучше смешать партии полимера. ПЭТ пошел на производство штапеля-1, на котором без проблем был переработан в волокно.
Конфликт с англичанами был улажен через Москву, гарантии были восстановлены. Уже после пуска я стал выяснять, почему возникли трудности с транспортировкой ДМТ и что явилось причиной их снятия. Л. В. Бойко признался, что в период пуско-наладки он пришел к выводу о том, что расплавопровод прогревается недостаточно не только из-за плохой изоляции, а по причине конструктивных недостатков системы подачи пара к рубашкам расплавопровода. Англичане впервые в своей практике давали рекомендации по технической конструкции системы обогрева расплавопровода под температуры минус тридцать пять градусов и поэтому допустили ошибки. В условиях наших морозов наблюдался сбой в работе конденсационных горшков, число которых на эстакаде составляло более ста. Не получив результата от работы изолировщиков, Л. Бойко ночью без согласования с нами поднял давление пара в системе обогрева с проектного до уровня, разрешенного при гидравлических испытаниях, то есть на сорок процентов более высокого. При этом конденсационные горшки были отключены. Отечественные трубы все выдержали. Расплавопровод и дальше нам создавал проблемы, пока система обогрева его рубашек не была переведена с пара на горячую воду.
Итак, пуск состоялся, все производства первого пускового комплекса и связанные с ним объекты энергетики стали единым заводом. Важно, что это сделано к юбилею – столетию со дня рождения В. И. Ленина. Далее последовал поэтапный процесс включения в работу дополнительных линий поликонденсации, машин формования, штапельных агрегатов, вывод всех установок на контрактные показатели качества, расхода сырья. Изучение мной в процессе пуска вспомогательных объектов комбината при наличии знания технологии ПЭТ, волокна, нитей, регенерации этиленгликоля значительно расширили мой кругозор и сформировали у моих коллег мнение об обоснованности роли производственно-диспетчерского отдела как главного координатора других служб комбината. Этому также способствовал тот факт, что я получил в Великобритании наибольший объем знаний по системе контроля качества. Мои знания позволяли успешно выполнять и роль арбитра между производственниками и службой контроля качества.
Постепенно происходило мое сближение с руководством производства ДМТ. В первый период работы в должности зам. главного инженера я пришел в цех после предварительного звонка диспетчеру ДМТ для ознакомления с технологическим процессом. На входе встретился с В. Бабкиным – заместителем начальника производства. Он знал меня в лицо, хорошо был осведомлен о результатах успешного пуска производства волокна. Среди специалистов ДМТ было распространено мнение, что волоконщики – не химики, некоторые называли нас «тряпошниками». Встреча позволяла еще раз это подчеркнуть. «Здравствуйте Александр Александрович, Вы к нам, это очень хорошо». Далее второй вопрос: «А Ваши ботинки не имеют стальных гвоздей?» Я растерялся. Он продолжал: «На наших производствах, в отличие от тех, которые Вы пускали, особые требования к безопасности, и гвозди на ботинках должны быть медными». Этих требований я потом при проверке проектной документации не обнаружил, но в тот момент мне повезло – после некоторой растерянности я увидел, что мои ботинки оказались на литой резиновой подошве без гвоздей. Мы вместе осмотрели сначала мои ботинки затем производство, остался под большим впечатлением от его сложности, высокого качества монтажных работ. В. Бабкин уже тогда на комбинате просматривался как человек особых способностей. Вскоре после успешного пуска он перешел работать инструктором ЦК КПБ, защитил кандидатскую диссертацию по технологии ДМТ, а впоследствии стал одним из самых успешных директоров отрасли Минудобрений. Моя дружба с этим контролером «стальных гвоздей» длится уже сорок восемь лет, и я многому продолжаю учиться у него. После ознакомления с производством ДМТ понял, что для его глубокого освоения требуются годы. У меня нет в реальности времени, чтобы в условиях стремительного наращивания мощностей объединения позволить себе эту роскошь. Цех ДМТ для руководителя диспетчерской службы объединения находился вне критики, на нее имел право только генеральный директор. Иван Васильевич Кудрявцев – начальник производства приучил всех вышестоящих руководителей к признанию того, что на ДМТ все и всегда хорошо. Если же какие-либо ЧП иногда и случались, то они сопровождались комментариями: «Слава Богу, что только такие незначительные последствия. Если бы не наши ребята из Новомосковска, могло быть значительно хуже, разнесло бы комбинат в щепки». С этим соглашались, так как действительно при пуске первого ДМТ и последующих трех сложнейших цехов ДМТ произошли лишь три аварии с разрушением оборудования, первая – на емкостях цеха регенерации растворителей, вторая – на динильной печи со сбросом с трубы ее чугунных венцов. Третья – взрыв в отделении чешуирования ДМТ-3. Ущерб от них был незначителен, жертв не было. Но все же в 1971 году мне представился случай показать, что и мы – «тряпочники» не «лыком шиты».
Цех ДМТ-1 задерживал свой выход из ремонта. Запасы кристаллического ДМТ заканчивались, возникла угроза останова производства полимера, волокна, нитей. Пуск указанных производств после незапланированных остановов сопряжен с очень большими потерями. Было восемь часов вечера, на производстве ДМТ все руководство во главе с И. В. Кудрявцевым занималось пуском цеха ДМТ. Я ждал информации о начале поступления ДМТ у себя в кабинете. Звонит В. Белявский, спрашивает, пошел ли ДМТ. Узнав, что поставка расплава ДМТ не началась, сделал жесткое замечание: «ДМТ нет, почему Вы сидите в кабинете, немедленно идите на производство и обеспечьте запуск». Это было новое явление в моей практике, раньше мне рекомендовалось не совать нос в дела данного цеха. Прихожу к Кудрявцеву, в кабинете все руководство цеха и производства. Из беседы узнаю, что не работает одна из колонн дистилляции. Установка диаметром около трех метров, высотой до сорока метров. На столе чертежи, схемы. Причины понять не могут. Кудрявцев неожиданно восклицает: «А помните, у нас в Новомосковске был подобный случай. Один ремонтник работал внутри колонны на сборке тарелок и оставил там свою фуфайку. Никак не могли запустить, пока не вскрыли колонну и не вытащили ее оттуда, думаю, что ситуация аналогичная». Авторитет этого человека был непререкаем. Ребята пообсуждали, никто других версий не предложил. Надо искать списки ремонтников, работающих внутри на чистке колонны и обзванивать их. Послали за списками. Еще раз взглянув на чертежи, молча пошел в цех к колонне. У нас в Курске в цехе, в котором я был начальником смены, работала своя маленькая высотой всего шесть метров установка разделения этиленгликоля / метанола и потому я имел некоторый опыт в дистилляции. На память сразу же пришел курьезный пример. Мой начальник цеха В. Д. Нужденов имел обыкновение иногда ночью в предутренние часы, когда работникам особенно хочется спать, приходить в цех и проверять трудовую дисциплину. В один из таких заходов, он не застал на рабочем месте установки дистилляции аппаратчика, а поискав, обнаружил его в бытовке под душем. Парень хотел сэкономить пятнадцать минут – и после сдачи смены, не заходя в раздевалку, уйти домой. Случай вопиющий, парня решили на собрании коллектива цеха осудить. Украинский парень Александр своим ростом сто девяносто сантиметров и весом под сто двадцать килограммов всегда вызывал добродушные улыбки товарищей. На собрании же он развеселил всех заявлением: «Да, я был в рабочее время в душевой, но контроля над установкой ни на секунду не прерывал. Ее безопасная работа зависит от поступления электричества, холодной воды, пара. Пропадет электричество на установке – погаснет лампочка в душевой, исчезнет холодная вода – меня ошпарит кипятком, прекратится подача пара – на меня польется холодная вода. Штаны надел и через минуту на установке, можете засечь время». Коллектив одобрительно загудел. Насколько опытен был В. Д. Нужденов, но и тот растерялся. Выручил механик В. Вишневский, сказав: «Александр, ты тут театр не устраивай, веселишь всех, а схему и за пять лет работы не изучил. Пар может по паропроводу поступать, а конденсатный горшок установки дистилляции в процессе работы потеряет настройку и нагрев прекратится. В душевой один горшок, на установке другой». Парня заслуженно наказали за нарушение дисциплины и за техническую неподготовленность. Вспоминая эту байку, я подошел к колонне дистилляции и, к своему удивлению, обнаружил, что куб колонны прогревается недостаточно. Поднялся в темноте по лестницам на отметку тридцать шесть метров, открыл краника на манометре, ожидая увидеть поток газообразного метанола. Вместо этого появилась струя жидкого метанола. Спустился, доложил собравшимся, что это ненормально. Ребята мгновенно сообразили, что переполнили колонну полупродуктом, не обеспечив его достаточный разогрев в кубе колонны на стадии пуска из – за неработоспособности конденсатных горшков. Через полтора часа цех был запущен. И. В. Кудрявцев затем объективно осветил ситуацию В. С. Белявскому, и это, конечно, способствовало росту моего авторитета у обоих. Этот редкий случай моего вмешательства в дела ДМТ повторился лишь через тринадцать лет в 1984 году. Высокий уровень работы его специалистов в течение этих лет сделал для меня ненужным углубленное изучение технологии производства мономеров. Но, как показала практика, я должен принять на себя вместе с И. В. Кудрявцевым часть ответственности за перенасыщение объединения этим продуктом, который ко времени строительства цехов ДМТ-3 и 4 уже морально устарел. Американская фирма Дюпон отказала нам в продаже технологии ТФК, отечественные разработки к тому времени не были освоены.
С пуском первых линий трех основных производств комбината моей главной обязанностью стало поддержание их ритмичной работы и подготовка к генеральным испытаниям. При этом сохранилась ответственность за организацию монтажа незавершенной части производства полимера, волокна, подготовка к монтажу производственных площадей ПСКН. Эти функции выполнялись в тесном взаимодействии с английскими специалистами, потому на меня возложили ответственность за организацию сотрудничества с ними.
Дезертирство по указанию
Лето 1970 года прошло в напряженной работе. На производстве ПЭТ каждую неделю вводилась новая линия поликонденсации, на производстве волокна – каждые две недели дополнительная линия формования и штапельный агрегат. П. Н. Зернов начал выходить на работу, но полной нагрузки избегал. В отношении меня и моего влияния на производство я не чувствовал с его стороны какой-либо ревности. Мне в основном по организации эксплуатации действующих и пуску очередных линий приходилось работать самостоятельно. С Белявским складывались нормальные рабочие взаимоотношения, но близости, свойственной его сотрудничеству со специалистами его «сибирской группы» не было. Я не переживал и не стремился изменить ситуацию. Но случай еще раз заставил меня соизмерить роли в моей судьбе Зернова и Белявского.
Показателен в этом отношении пример с моим направлением в армию. Летом 1970 года в разгар освоения первого пускового комплекса и подготовки к пуску первых объектов второго пускового комплекса пришла воинская повестка. В ней указывалось, что мне, согласно приказу замминистра ВС СССР Якубовского, присвоено очередное воинское звание старшего лейтенанта (лейтенанта получил в институте), и я должен явиться для продолжения службы в воинскую часть, расположенную в городе Бобруйске. Указывался срок службы – один год. Для меня служить в армии не было проблемой. Мой отец был офицером в пятом поколении. Я вырос в воинской части, расположенной в окрестностях г. Рыбинска. На военных сборах по окончанию института в Кинешемской бригаде химзащиты один из немногих получил благодарность командира бригады. Но в новой ситуации это была потеря темпа в учебе по управлению сложным производством. Я доложил о приказе В. С. Белявскому и копию повестки сдал кадровикам. Во время очередной строительной планерки, на которой всегда присутствовал В. С. Белявский и секретарь обкома по промышленности А. В. Маслаков, Белявский сообщил ему о том, что главного «пускача» А. А. Петрова забирают в армию. А. В. Маслаков его успокоил, сказал, не беспокойтесь, я приглашу областного военкома, и вопрос будет снят. Прошла неделя, приблизился срок явки в воинскую часть, но никаких сигналов об отмене повестки я не получал. Белявский вновь обратился к Маслакову, но тот развел руками, сообщив, что он «замотался» и забыл о нашей просьбе. Белявский извинился передо мной и сказал, что теперь делать что-либо уже поздно и надо выполнять приказ. Разговор был в присутствии П. Н. Зернова. После этого, как оказалось, Зернов поехал к Г. А. Криулину – первому секретарю обкома партии и доложил о ситуации со мной и пуском нового производства – ПСКН. Г. А. Криулин взялся решить эту проблему. Встретился в Минске в президиуме какого-то торжественного мероприятия с командующим Белорусского Военного округа Третьяком и изложил ему просьбу относительно отмены этого приказа. Третьяк ему в резкой форме ответил: «Я сам никогда не нарушал воинской дисциплины и Вам не советую».
После этого разговора мне было предложено по указанию облвоенкома срочно лечь на обследование в областной военный госпиталь по поводу проверки состояния здоровья. Никаких усилий по представлению себя больным я не принимал, главврач хорошо осведомленный о причине моего направления в госпиталь сам обнаружил отклонение в моем сердце от нормы. Врачи, которые наблюдали меня в институте в период интенсивных тренировок по лыжам, говорили мне, что мое сердце имеет размеры больше обычного, для пульса характерна очень низкая величина на уровне пятидесяти, но это связано с его высокой тренированностью. Действительно в период учебы в институте на сборах мне приходилось бегать на лыжах по тридцать километров в день – шесть дней в неделю. Тогда же меня предупредили, что врачи, которые будут обследовать сердце впервые, могут выдвинуть версию болезни, называемой в медицине «бычьим сердцем». Военные врачи быстро вышли на эту версию и начали проводить более глубокие исследования. Меня продержали в госпитале недели три, после чего было сделано заключение: «К воинской службе годен без ограничений». Но этот момент совпал с другим документом. Вышел приказ Министерства обороны, согласно которому были внесены изменения в предыдущий приказ. Он гласил – воинское звание ст. лейтенанта за А. А. Петровым сохранить, пункт о прохождении годовой воинской службы отменить. Оказывается, Г. А. Криулин, встретившись с Якубовским на ежегодном торжественном мероприятии по поводу первого боевого крещения польской дивизии имени Костюшко в городе Горки Могилевской области, попросил Якубовского отменить приказ. Замминистра с помощью своего помощника сделал это тут же в Горках в течение тридцати минут. Я понимал, что в тех конкретных условиях решающим фактором являлась не столько моя роль в пуске ПСКН, сколько желание Г. А. Криулина доказать командующему БВО Третьяку, что просьбу первого секретаря обкома партии надо уважать.
Из всего этого я сделал и другой вывод. Белявский не смог или не захотел добиться моего сохранения на тяжелой, но значимой для меня работе, а Зернов это сделал. В этом можно было увидеть человеческую заботу обо мне и моей семье. Но можно было увидеть и другие причины. Зернов был по-своему суеверен. Это черта является традиционной для людей, отвечающих за крупные взрывоопасные производства. После пуска первых трех производств, прошедших без жертв и аварий, он в некоторой степени воспринимал меня как талисман. При этом у меня не сформировались какие-либо амбиции, я всегда признавал его безусловное лидерство.
Соответствовало ли это его желанию сохранить комфортную для себя ситуацию на производстве, когда сложная оперативная работа ведется удачливым специалистом, или это было продиктовано чувством долга передо мной, для меня вопроса не стояло. Я был просто благодарен ему. И надо признать, что забота с его стороны не только о моем сохранении, но и дальнейшим накоплении мной технического опыта была в тот период характерным элементом его политики.
Великобритания победила
Для осуществления взаимодействия с английскими специалистами на профессиональном уровне в штат производственно-диспетчерского отдела была введена должность специального заместителя по работе с фирмой. На эту должность был назначен майор органов госбезопасности Г. В. Дмитриев. В наши обязанности входили разработка совместно с англичанами графиков и программ пуска, организация контроля за соблюдением всех контрактных требований и процедур во взаимоотношениях между специалистами обеих стран, то есть своевременное и качественное оформление протоколов испытаний оборудования, фиксирование результатов генеральных испытаний, точная регистрация всех обнаруженных недостатков при монтаже и пуске, определение ответственной стороны и подсчет суммы ущерба. Мелких недостатков при столь громадных объемах работ выявлялось большое количество, и комбинат делал «бизнес» на их устранении. Фирма оплачивала затраты монтажников по расценкам, близким к оценке английских специалистов. За вырученную валюту комбинат приобретал импортную оснастку, инструмент, запчасти.
В. С. Белявский держал себя несколько высокомерно по отношению к руководству фирмы, перепоручая мне и моему заместителю решать все вопросы. Я работал с Белявским совместно почти пять лет. И мог наблюдать, что разочарование, которое преследовало его по линии женщин, и высокое напряжение на стройке приводили к тому, что алкоголь с годами стал играть несколько завышенную роль в качестве компенсатора нагрузок нервной системы. Он был прирожденным лидером, и я стал замечать, что он иногда стал выпивать с некоторой долей азарта, доказывая рядом сидящим их более низкий уровень. Он знал силу своей харизмы и по-своему заботился о ее поддержании. Так среди иностранных подрядчиков укрепилось мнение, что именно этот человек обеспечивает успех всей стройки, только он в нужной степени может воздействовать на коллектив объединения, строителей, местные органы власти, министерство. Он из Сибири, у него необычно суровый характер, он может споить медведя, оставаясь в светлом уме. При этом контакты с иностранными руководителями были минимальны, и причиной этому была позиция В. С. Белявского.
Они осознавали, что для получения уважения у такого человека, необходимо было показать свой высокий уровень – английские заводы, новые разработки, высокий уровень благоустройства городов и малых населенных пунктов. В министерстве тоже понимали, что создавать завод-аналог гигантской площадки фирмы ICI в городе Вилтоне с директором, ни разу не выезжающим на Запад дальше Минска, невозможно. Несмотря на трудности, разрешение было дано, приглашение оформлено, и в 1970 году поездка в Англию состоялась. Прием был организован на очень высоком уровне и после этого та внешняя отчужденность между В. С. Белявским и англичанами, которая существовала в 1965–1969 годах была снята.
Белявский понял, что он интересен для иностранцев в целом не только как директор, но и как личность со всеми своими манерами, способностью поддерживать беседу, тонус застолья. Он стал принимать высоких инспекторов из ICI не только на тридцать минут официальной беседы, но и приглашать их на обеды, ужины. Такая близость поддерживалась руководством ICI. Инспектора на уровне членов наблюдательного Совета корпорации приезжали, как правило, раз в квартал. По нашей традиции застолья заканчивались выносом, в лучшем случае выводом под руки, не стоящего на ногах, инспектора и укладыванием его в постель. Для удобства обеды или ужины совершались в одной гостинице. Я был ответственным за пуск и освоение мощностей установок, и поэтому на мне лежала обязанность работы с иностранцами. Моим официальным заместителем был кадровый работник КГБ. На нас лежала организация встречи директората, личное участие в них. Составляли по результатам разговора отчет. При этом исполняя на подобных встречах обязанности шефа протокола, я должен был ограничивать себя в выпивке. Мой заместитель отвечал за безопасность ужина и потому также должен был воздерживаться от нее. В итоге всю нагрузку по доведению партнера до кондиции должен был брать на себя В. С. Белявский. Несколько удачных застолий с инспекторами дали возможность ему уверовать, что англичане люди слабые, тогда как его способности чрезвычайно велики. Боясь «перебрать», многие из них находили предлог, для прерывания застолья. Некоторых выводили из-за стола помощники. В конце концов, произошел случай, которого следовало ожидать.
Нас известили о том, что на площадку приезжает с инспекцией из Лондона некто А. Это член наблюдательного Совета ICI, фигура очень влиятельная, необходимо найти контакт с ним, так как от него в значительной степени зависит ускорение поставок недостающего оборудования. Официальная часть встречи была организована на высоком уровне, после нее В. С. Белявский пригласил гостя на обед в субботний день. Надо сказать, что инспектор был ирландцем среднего роста и очень худого телосложения, с землистым цветом лица, нездоровой кожей. По всем параметрам было видно, что не «боец» в застолье. В начале обеда все мы предвкушали его быстрое завершение. При этом подсмеивались, что назначенная на вечер встреча инспектора с английской общиной, а их проживало много, порядка 100 специалистов и сто пятьдесят членов семей, по традиции прошлых инспекторских проверок вряд ли состоится.
Обед начался в обычном режиме опробованием гостем блюд белорусской кухни, официальными тостами с небольшим количеством водки в рюмках. При этом руководитель ICI на площадке шотландец Лиделл перед каждой рюмкой делал замечание своему инспектору о том, что надо быть осторожным и ограничивать себя. Упоминались фамилии плохо кончивших его предшественников. Все это не мешало застолью набирать обороты и, в конце концов, пришла стадия, после которой дружеский контакт стал полным. Время шло. Ирландец не ограничивал себя в выпивке, несмотря на ставшие неприлично громкими замечания господина Лиделла о том, что так нельзя, мы не в Англии, а в России. Вас ждет вечером община и т. д. С каждой рюмкой инспектор все больше хмелел и все более казался неуправляемым. В. С. Белявский почувствовал, что необходим решительный штурм, предложил поменять внушительные рюмки на стаканы. Это наша сибирская традиция и надо сказать, что пьем мы ими спирт, а не водку. Стаканы принесли, спирта не нашли, оставили водку. Лиделл категорически воспротивился, на что ему инспектор сказал: «Что ты мне морочишь голову, и мы в Ирландии, и вы в Шотландии все пьем виски стаканами и нечего тебе разыгрывать трезвенника». Лиделл причитая, что ждет община, смирился, тогда Белявский сделал жест доброй воли – налил себе две трети стакана, а гостю полстакана. Договорились выпить за успешный ввод мощностей «до дна», по-английски это звучит “bottom sap” – «задницей кверху». Имеется в виду опустошим стаканы и перевернем их вверх дном. Выпили, у ирландца откинулась голова на плечо. Он практически дозрел, и Лиделл попытался встать, чтобы его вывести. Белявский жесткой рукой остановил его и заставил официанта еще раз налить водку в стаканы в прежнем соотношении, объявив сильно заплетающимся языком, что это последний тост нашего застолья. Он предлагает его выпить за русско-английско-ирландско-шотландскую дружбу и считает, что никто не вправе проигнорировать его просьбу. Лиделл сел, ирландец взял свой стакан. Пили медленно, искоса поглядывая друг на друга. Мы не сомневались в итоговом результате, упасть первым должен был ирландец. Неожиданно с очередным глотком со стула упал Белявский. Подняться он не смог, мы бросились поднимать его, пытаясь показать, что это чистая случайность, но он не мог сидеть. Мы «вывели» его в специально подготовленный резервный гостиничный номер. Лиделл минуту не мог поверить своим глазам, своей победе: ирландец сидел на стуле с головой, склоненной на плечо, но с блаженной улыбкой во все свое серое худосочное лицо. Лиделл, опомнившись, бросился обнимать инспектора со словами ты герой, мы показали наш британский дух, теперь ты понял, что я не зря в тебя впихивал полдня сливочное масло. Они ушли как победители, обнявшись, на своих ногах. На вечерней встрече с коллективом сотрудников и их женами инспектор не смог присутствовать, но вся община праздновала впервые за много лет победу.
Вообще фигура Лиделла заслуживает того, чтобы дать ей более подробную характеристику. Шотландец, возраст ближе к пятидесяти, рост под сто восемьдесят пять сантиметров, прекрасно по-спортивному сложен. В годы войны служил пилотом в тяжелой авиации, его супруга стрелком. На все последующие годы сохранил собранность и решительный характер командира. Много лет проработал на установке полиэфиров в Вилтоне, прекрасно освоил процесс и поэтому был назначен руководителем пуска в Могилеве. Говорили, что он считал себя недооцененным на фирме, связывал это со своим шотландским происхождением. Мне он лично рассказывал, что имеет массу предложений по усовершенствованию технологии и организации труда на установках полиэфиров, но, к сожалению, их не принимает руководство фирмы, при этом ему не разрешается их публикация в виде книги. Достижение успеха в Могилеве было его последней надеждой в более высоком карьерном росте. На первом этапе своей деятельности он был образцовым руководителем, и мы все многому научились у него. Он мог прекрасно планировать работу на неделю и добиваться исполнения задуманного. Благодаря ему мы быстро освоили ведение деловой документации. Он был исключительно требовательным по всем вопросам качества работ к монтажникам, эксплуатационникам, своим сотрудникам. Несмотря на неблагоустроенность зоны пуско-наладочных работ, ходил на работу в тщательно отглаженном светло-сером костюме и светло-голубой рубашке с синим галстуком, При этом нельзя было считать это демонстрацией роскоши, так как большинство рубашек от частых стирок были изношены, но на изгибе воротничка поврежденные участки были аккуратно подклеены родной тканью рубашки. Стиль работы Лиделла оказал для нас неоценимую роль на стадии завершения монтажа и первом этапе пуско-наладочных работ. Он так вышколил советских строителей и монтажников, как нам самим никогда бы не удалось это сделать. Но впоследствии в сотрудничестве с ним обнаружились серьезные проблемы.
В процессе пуска и работы установок выявилось некоторое количество недостатков в оборудовании, и это было сферой ответственности фирмы «АЙ СИ АЙ», интересы которой представлял Лиделл. И надо сказать, что он с присущей себе энергией и настойчивостью стал отрицать во многих случаях наличие недостатков, отказываясь от поиска решения проблем и оплаты работ по их устранению. Среди руководителей шеф-персонала фирмы было несколько англичан с высоким уровнем порядочности, и они пытались указать Лиделлу на серьезные моральные издержки, которые возникают от его поведения. Но он, информируя их, что у фирмы нет резерва средств, не прислушался к советам. Некоторые из них, обладающие очень высокой квалификацией, вынуждены были покинуть площадку. Особенно критическая ситуация сложилась в цехе регенерации растворителей. Им руководил Н. Якубеня, специалист пунктуальный в работе, обладающий хорошей квалификацией. Лиделл вместо того, чтобы согласиться с его замечаниями, связывал все недостатки в работе оборудования с ошибками нашего персонала и личными ошибками начальника цеха. Видя одностороннюю позицию Лиделла, понимая бесполезность споров с ним, мы приняли решение о назначении Н. Якубени ответственным представителем комбината по данному цеху. Лиделлу пришлось более внимательно отнестись к его замечаниям. Интересно было наблюдать, как горячий шотландец вступил во взаимодействие с молодым украинским парубком. Н. Якубеня начал с того, что систематизировал все поручения специалистов «АЙ СИ АЙ» по переделке участков технологических схем. У нас была практика оперативного рассмотрения проблем, принятие совместного решения по их устранению, после чего специалист фирмы выдавал эскизный чертеж на изменение узлов. Чертеж становился частью проектной документации. Систематизировав изменения по всем службам, Н. Якубеня отметил все фактические затраты на проведение изменений и представил счет фирме. Это была практика предусмотренная контрактом, но из-за чрезмерной занятости от нее в прошлом в данном цехе отступили. На очередном совещании Лиделлу был представлены расчеты. Он не принял их и стал оспаривать. Завязался острый спор, наш украинский хлопец с очень большими красивыми черными украинскими глазами сумел сохранить хладнокровие и документально обосновать каждый фунт стерлинга. Лиделл, не ожидавший такой пунктуальности, стукнул папкой с расчетами об стол, встал и стремительно покинул помещение переговоров. При этом он так хлопнул на выходе дверью, что она вывалилась вместе с дверной коробкой. Через пару недель, затраченных на проверку данных, стороны вновь вернулись к определению сумм компенсаций, но ранее представленный список был дополнен по инициативе начальника цеха расходами на ремонт дверной коробки. Лиделл вынужден был согласиться.
Я уже отмечал ранее, что квалификация английских специалистов была значительно выше нашей, но здесь в цехе регенерации растворителей произошел единичный случай, когда мы смогли добиться убедительной победы в техническом соперничестве. Через некоторое время эксплуатации трех аппаратов метанолиза на одном из них был обнаружен дефект. В зоне разгрузочного штуцера в стенке корпуса, которая имела толщину около пятидесяти миллиметров, появилась трещина. Аппарат работал с метанолом при температуре выше трехсот градусов и давлении в двадцать пять атмосфер. Возникший дефект привел к значительной утечке взрывоопасного продукта в помещение цеха. Процесс остановили, аппарат подготовили к сварке. Англичане указали, что столь сложные ремонтные работы можно доверить только специалистам с фирмы изготовителя аппарата. Их срочно вызвали, они произвели сварочные работы. Аппарат вновь был запущен в их присутствии в работу. Однако через несколько недель ситуация повторилась. Снова вызов специалистов, сварка и успешный запуск. Но через месяц дефект появился вновь. Фирма посчитала нецелесообразным третий ремонт и заказала новый аппарат. Это была очень сложная и дорогостоящая позиция, и поэтому на исполнение заказа в Англии потребовалось несколько месяцев. Мы были вынуждены согласиться с предложенным сроком, но сразу же после оформления заказа обнаружили, что два оставшихся аппарата не справляются с потоком отходов и начали искать пути решения проблемы. Нам подсказали, что в Белоруссии есть сварщик, которому поручались самые уникальные работы – изготовление штыков на кургане Славы в Минске и на Брестском мемориале. Уточнили его фамилию – Ванюков, пригласили на переговоры. Он осмотрел аппарат и к нашему удивлению сказал, что выполнит ремонт в течение двух суток после подготовки аппарата к сварке, качество гарантирует, несмотря на то, что зона шва серьезным образом ослаблена в процессе предыдущих ремонтных работ. Согласовав все условия, приступили к ремонту. Подготовка свелась к тому, что аппарат демонтировали, перевезли в ремонтно-механический цех и там поставили на специальный стенд кверху дном. Весь металл в зоне шва с нарушенной структурой был вырезан. После этого сварщик установил четыре газовые горелки и хорошо разогрел зону сварки. При достижении заданной температуры он приступил к сварке и вел ее, не останавливаясь в течение суток, пока не завершил работу. Далее по выданному им графику за счет снижения потока газа аппарат был охлажден до определенной температуры и оставлен на ночь для естественного охлаждения. Монтаж аппарата не составил большого труда, через пару дней он был введен в работу. Никаких проблем с ним больше не было. После поставки новый аппарат остался лежать на складе. Этот случай не способствовал росту душевного равновесия Лиделла. К концу своего пребывания на площадке он достаточно устал, стал раздражительным. Однажды на очередном совещании он сделал мне замечание о том, что в зоне работающего оборудования недостаточно чисто. Согласившись с ним, пообещал устранить недостатки и дал соответствующие указания. Начальник цеха, к сожалению, «замотался» и не полностью провел уборку. На следующем недельном совещании мне вновь было указано на проблему, при этом замечание было дополнено словами: «С вами бесполезно разговаривать, в грязи вы родились, в грязи и умрете». Пришлось принять эту бестактность горячего шотландца молча, и никогда никому о ней не рассказывать, но замечание сыграло в моей дальнейшей работе очень ценную роль. Всегда культура производства для меня была главнейшим объектом заботы, создание английского газона на всех участках моей дальнейшей работы было страстным хобби. Могилевское объединение было к 1973 году доведено до высочайшего уровня культуры, и это было подтверждено специалистами «ICI», приехавшими на комбинат для проведения модернизации оборудования первой очереди. Так, что Лиделл со всеми его достоинствами и недостатками для меня, тридцатилетнего специалиста, был очень полезным учителем. При всей лояльности и тактичности большинства английских специалистов общий дух превосходства над специалистами из стран соцлагеря был их характерной чертой. Нам они шутливо рассказывали о поляках, что те работают по-особому: «Чтобы завернуть лампочку в светильник на потолке один поднимается на стремянку, вставляет лампочку в патрон, а остальные четверо крутят стремянку». Уже позже, лет через пятнадцать, когда я был в польском городе Торуне, на установке построенной под руководством той же «ICI», то с удивлением узнал что, они им приводили ту же притчу только по отношению к русским. Очевидно тот факт, что обе страны покупали иностранные технологии с двадцатилетним стажем эксплуатации, давал им моральное право для одной оценки.
Кремль, Белявский
В 1972 году перед Минхимпромом и главком Правительство поставило задачу ускоренного наращивания объемов химических волокон, и потому был разработан и воплощен на практике сценарий убеждения руководства страны в необходимости очень значительных капиталовложений. После формирования общего инвестиционного плана в проектном институте была разработана детальная программа развития каждого крупного предприятия. Успех строителей и эксплуатационников в строительстве первой очереди Могилева способствовал тому, что значительная часть капиталовложений отрасли была направлена на развитие Могилевского комбината. Были определены параметры и сроки строительства второй и третьей очереди предприятия. Далее по сценарию министр Л. А. Костандов должен был организовать совещание у Председателя Совмина СССР А. Н. Косыгина с докладом руководства Министерства и подотрасли о предлагаемых мерах по наращиванию производства химических волокон. Необходимо знать особенности работы А. Н. Косыгина. Он закончил Ленинградский технологический институт, специализирующийся на текстильном производстве и выпуске сырья для него. Будучи в течение многих лет министром финансов, прошел хорошую экономическую школу. Дополнил ее глубоким изучением межотраслевых балансов промышленности СССР. Он прекрасно сочетал на практике эти две школы, владел цифрами экспортной выручки от продажи сырьевых ресурсов и, что очень важно, последовательно в оптимальном соотношении перераспределял ее в пользу программ развития переработки углеводородов в пластические массы, волокна, минеральные удобрения. Конечной точкой этих схем были предприятия, выпускающие товары народного потребления. Ему не нужно было объяснять, что для производства пользующихся в то время ажиотажным спросом тюлевых гардин, тканей типа кримплен из полиэфирных нитей необходимо было закупить не только плосковязальные машины, но и создать мощности по производству самих нитей, полиэтилентерефталата, диметилтерефталата, этиленгликоля, метанола, параксилола. Исходя из контрольных цифр роста зарплаты в стране, он определял потребность в стоимостном приросте ТНП. Далее по межотраслевым балансам структуры Госплана определяли размеры государственных капвложений, требуемых для производства товаров. Если первая и последняя цифры давали хорошее соотношение, программа принималась и в очень короткие сроки воплощалась в жизнь. Планировался одновременный ввод мощностей на нескольких предприятиях. Иногда их число доходило до десяти–пятнадцати единиц, что не всегда сопровождалось хорошей координацией. При средних сроках от принятия решения до запуска всех мощностей в три с половиной – четыре года, отдельные установки запаздывали с вводом и освоением на полгода – один год. Осуществлялись временные закупки недостающего сырья, полуфабрикатов, но в целом при выходе на проектные показатели подобные программы становились стержнем экономики страны, хорошо работающим межотраслевым конвейером.
При этом у А. А. Косыгина была особая любовь как к текстильной отрасли, так и к производству химических волокон. К совещанию готовились тщательно, особое внимание уделяли подготовке генеральных директоров. Косыгин любил работать с ними напрямую и знал многих в лицо. Докладу по Могилеву придавали особое значение, предприятие должно было добиться получения около пятидесяти процентов капиталовложений всей отрасли, насчитывающей 40 предприятий. Выступать было поручено В. С. Белявскому. Мне дали задание совместно со специалистами проектного института готовить его выступление. Была вторая половина 1971 года. К тому времени он уже имел семилетний стаж работы в отрасли, по возрасту приближался к сорока четырем годам. Я думаю, что хотя для отрасли он не был известным человеком, вследствие того, что его прежняя профессия была иной, но руководители МХП и главка без особых колебаний остановились на нем. Определенную роль для данного решения сыграла его особая харизма. Он не был сановитым, представительным и, я бы сказал, вальяжным человеком, той фигурой, которая была типичной для ведущих чиновников Министерства и группы наиболее признаваемых директоров. Но его отличала суровость взгляда, жесткость вопросов и высказываний. Независимо от того, говорил ли он с подчиненными или с руководством, его голос всегда был тверд, речь нетороплива и обстоятельна. Из литературы он более всего интересовался мемуарами о великих людях, но, мне кажется, старался походить на маршала Жукова, конструктора ракет Королева и других выдающихся людей страны. Его беседы с руководителями подразделений комбината существенно копировали диалоги К. Жукова со Сталиным, сцены из фильмов с участием М. Ульянова, К. Лаврова, Г. Жженова.
Совещание по инициативе группы директоров состоялось. Из директоров в Кремль были приглашены всего семь–десять человек. Как говорили присутствующие, Белявский доложил очень убедительно, представил программу дальнейшего развития самого крупного предприятия химического волокна в Европе, пригласил А. Н. Косыгина посетить комбинат. Принятые решения были запротоколированы, но необходимо было далее внести их в пятилетние планы нескольких отраслей, что должно было обеспечить увеличение выпуска полиэфирных продуктов в пять раз в течение двенадцати лет. Для В. С. Белявского это означало его безусловное признание в качестве лидера среди директоров одной из крупнейшей подотрасли химии.
Уже в начале 1972 года началась работа над проектами и контрактами с иностранными партнерами, но для получения громадных сумм капиталовложений этого было мало. По сценарию, разработанному Госпланом, требовалось привезти А. Н. Косыгина на комбинат и показать все созданное великолепие первой очереди в натуре. Подготовка к приезду Косыгина началась задолго до планируемой даты его приезда. Необходимо было провести предконтрактные переговоры с целым рядом фирм, согласовать все вопросы со строительными и монтажными министерствами по большой группе регионов, в которых предполагалось разместить производства по выпуску сырья для Могилева и переработки продукции МКСВ. Параллельно с работой по формированию планов развития проводилась большая работа по полному освоению мощностей всех производств первой очереди комбината. Результаты были очень высокими. Безусловно, во всем этом наибольшая заслуга была не специалистов объединения. За контракт были заплачены громадные деньги. Почти сто английских специалистов, контролирующих по особой системе в течение нескольких лет каждый сварочный шов на трубах теплоносителя, продуктопроводов, монтаж каждого насоса и аппарата, способствовали успешной работе новых установок. Имело значение и то, что закупленные технология и оборудование были аналогичными тому, которое более десяти лет эксплуатировалось в Вилтоне.
В итоге к моменту полного выздоровления Зернова, то есть к началу 1972 года три из четырех производств были пущены и подведены к проектным показателям, при этом все советские специалисты и рабочие, участвовавшие в пуске, приобрели ценный опыт. П. Н. Зернов не смог получить его в полной мере. Выйдя на работу, он принял тактику, соответствующую его положению. Не стал отнимать у меня приобретенную власть и влияние, и при этом не стремился освоить все особенности процесса. Много уделял внимания работе над проектом второй очереди комбината, переговорам с иностранцами, которые велись в ГИПРОИВе – ведущем проектном институте отрасли химических волокон. В этот же период восстановились его связи с руководством главка и МХП. Подтверждением этого явилась его поездка в 1972 году в США в составе представительной делегации, возглавляемой замминистра В. П. Юницким. Задачей делегации были переговоры с фирмой «Дюпон» о продаже оборудования для производства более прогрессивного, чем ДМТ мономера – ТФК, непрерывной поликонденсации ПЭТ и формования волокна. При этом он заботился о том, чтобы в целом ограничить свою нагрузку, отказывался от участия в застольях. Очевидно, он опасался возможности возвращения болезни, начал работать над кандидатской диссертацией, создал в ЦЗЛ специальную лабораторию и лично руководил проводимыми исследованиями. В отношении меня и моего влияния на производство я не чувствовал с его стороны какой-либо ревности. Это позволяло мне напряженно работать, продолжать накапливать опыт.
В Англию в новом качестве
Интересная ситуация сложилась в 1972 году. Мы готовили к пуску последний комплекс цехов ПКСН – по производству шелка. Была сформирована группа для обучения в Англии в составе тридцати человек. Стоял вопрос, кто ее должен возглавить. Я надеялся, что это поручат мне. В то же время осознавал, что Зернов ясно чувствует разницу в моей и его квалификации и вряд ли примет решение, которое приведет к еще большему разрыву в уровне знаний. Он решил вопрос в мою пользу. Летом 1972 года я был откомандирован на тридцать дней для учебы на текстильные предприятия Англии. Мы учились два месяца в районе Манчестера, прямо на производственных участках – аналогах наших цехов. Но это были «последние могикане», текстильная промышленность Великобритании к тому времени провела модернизацию и ушла далеко вперед.
По программе обучение заканчивалось трехдневным пребыванием в Лондоне. В один из указанных дней мне предстояло посетить организатора контрактов первой очереди Могилевского комбината сэра Сьюарта. Он в течение многих лет был одним из руководителей английско-российской торгово-промышленной комиссии. Именно его громадный авторитет позволил объединить большое число английских компаний, заинтересованных в поставках оборудования для СССР, в один консорциум, согласовать с английскими банками сложную схему выделения и погашения финансовых кредитов и впервые в практике периода холодной войны заключить с внешнеторговыми организациями СССР столь крупномасштабный контракт. Это стало возможно еще в связи с тем, что ведущей организацией консорциума стала знаменитая английская компания “CJB”, которая являлась одним из мировых лидеров в области судостроения и производства химического оборудования. Я много в Могилеве слышал о нем от англичан, это имя они, как правило, произносили с особо значительной интонацией, но лично знаком не был. Нам было известно, что за успешную реализацию нашего и ряда других проектов господину Сьюарту было присвоено королевой высокое звание сэра. Ему было за семьдесят, но он продолжал работать. С нашей стороны во встрече должны были участвовать А. И. Петров – первый заместитель ВО «Техмашимпорт», и я с переводчицей комбината Верой. Встреча должна была состояться в доме сэра Сьюарта, расположенном на окраине Лондона. Петров мне объяснил, что англичане придают большое значение всем деталям протокола, и приглашение в дом должно подчеркивать признание высокого статуса гостя. К месту встречи подъехали на машине Петрова, перед воротами сада нас встретил хозяин. Он был высокого роста, полной комплекции, с крупными типично английскими чертами лица. Чем то напоминал У. Черчиля. Мы вышли из машины и, пропустив вперед Веру, вошли в дом. Уже в первую же секунду поняли, что сделали ошибку. В большой прихожей стояла маленькая Вера, рост ее не превышал ста пятидесяти пяти сантиметров, а перед ней, положив на ее худенькие плечи свои лапы, стояла в полный рост крупная немецкая овчарка. Вера стояла бледная и не могла пошевелиться, так как пасть овчарки находилась в пяти сантиметрах от ее лица. Выручила хозяйка дома, она быстро вышла в смежную комнату и, вернувшись, вложила в рот собаке печенье. Пес снял с плеч Веры лапы и ушел довольный. Хозяева извинились и объяснили, что их любимец приучил всех гостей приходить в дом с печеньем в кармане и для него этот прием стал своеобразным тестом на распознавание «свой-чужой». Хозяин провел по дому и по достаточно большому саду, расположенному за домом, далее беседа продолжилась за столом в гостиной.
Сэр Сьюарт рассказал о последних событиях, предшествующих заключению контракта на поставку оборудования для Могилевского комбината в 1965 году. Все вопросы были решены, но стороны не сходились в цене, разница составляла довольно внушительную сумму. В субботу все участники переговоров пошли на большой футбол на Уэмбли. Команда, за которую болели англичане, выиграла, и на радостях они уступили в цене. Мы вместе с А. И. Петровым сидели и высказывали свое восхищение великодушием наших партнеров, понимая, что каждый крупный проект должен со временем обрастать легендами. Встреча продлилась около трех часов, и прямо оттуда мы поехали на прием, который давала фирма по случаю завершения программы обучения.
Прием проходил в банкетном зале одной из гостиниц в центре Лондона, с нашей стороны была вся группа в тридцать человек, со стороны англичан присутствовали сотрудники лондонского отделения фирмы. Встреча проходила в стиле «фуршет», что создавало для наших специалистов некоторые трудности. Весь вечер вместе с А. И. Петровым нам пришлось поддерживать беседу с директором фирмы «Полиспинерс», управляющей нашим проектом, и стоящей с ним рядом красивой девушкой, которую он представил как свою секретаршу. Беседа велась в традиционном стиле, за четыре года работы я его достаточно освоил. Неожиданным был конец вечера, при прощании директор сказал мне, что автобус для нашей группы стоит у входа в гостиницу и сотрудники фирмы проведут к нему моих коллег. Для меня же заказан номер в гостинице, его секретарша пройдет в него вместе со мной и сможет оказать мне внимание до утра. Утром она отвезет меня к месту проживания. Естественно, я ошеломленный взял паузу, подумал, как я вырос за четыре года. Мне уже оказывает внимание не «сексуальная Лулу» – цеховая кладовщица из провинциального Вилтона, а секретарша директора столь значительной лондонской фирмы. Но ответ был все же традиционен – нет, мне еще нужно решить ряд вопросов с группой, завтра ведь день отъезда. Одобрительный взгляд А. И. Петрова позволил закрыть эту тему.
Неожиданные последствия роста
Время шло, комбинат пустил и полностью освоил все производства первой очереди, значительно возросли масштабы работы по обеспечению ритмичности производства, внедрению новых ассортиментов в текстильную промышленность. П. Н. Зернов стал работать с полной нагрузкой, прошлая болезнь внешне была забыта. Комбинат становился гордостью области, Республики, высоким стал авторитет В. С. Белявского, восстановился и возрос авторитет П. Н. Зернова. К концу 1972 года ему было около сорока двух лет.
П. Н. Зернов занимался вопросами производства, большое внимание уделял повышению уровня техники безопасности на комбинате. При этом ему приходилось много времени уделять совместному с ГДР проекту по созданию линии непрерывной поликонденсации ПЭТФ и пуску отечественной установки по производству ТФК. Для успешной реализации данного проекта штапель-2 была создана Межправительственная комиссия СССР – ГДР. Необходимость регулярного отчета перед ней делало эту тему очень актуальной. Много времени отнимали командировки в Москву в проектный институт, переговоры с «Хехстом» по проекту штапель-3 иногда длились несколько недель. В то же время главной сферой деятельности комбината в этот период стало поддержание рабочего ритма предприятия, выпускающего шестьдесят тысяч тонн мономера, полимера, волокон и нитей. Именно оно стало главным фактором технического перевооружения легкой промышленности страны, от его устойчивой работы уже напрямую зависели показатели области и Республики. Исторически сложилось так, что координация работы его производств и служб в значительной степени осуществлялась подразделениями, непосредственно подчиненными мне. Нехватка времени и отсутствие острой необходимости не позволяли П. Н. Зернову приобрести тот технический опыт, который был присущ специалистам, непосредственно участвующим в пуске основных установок комбината. Он несколько критически оценивал некоторые наши действия. Чувствовалось, переживал, что, несмотря на его отсутствие, освоение процесса и мощностей прошло успешно. Я успокаивал его своей высокой дисциплинированностью, аккуратным и своевременным выполнением всех его указаний. Работы хватало всем с избытком. В какой-то момент почувствовал, что по вопросам производства мне все больше приходится докладывать В. С. Белявскому напрямую и соответственно получать его указания. Обо всех подобных случаях я информировал Зернова и не видел в его реакции негатива.
Однажды при очередной встрече в начале 1973 года Белявский сказал мне о том, что хочет провести совершенствование структуры управления. Вопросы управления действующим производством и подготовки строительства новых мощностей надо разделить. Для этого он согласовал с министерством введение новой должности – зам. генерального директора комбината по производству и предлагает мне занять эту должность. Я понял, что это ущемит интересы П. Н. Зернова, и сказал, что у меня нет дефицита властных полномочий. П. Н. Зернов создал мне хорошие условия, надо мной нет оперативной опеки и руководителям подразделений дано понять, что мои решения подлежат обязательному исполнению. В новой структуре это все может быть нарушено. Белявский настаивал, сказал, что должность зам. главного инженера по производству при введении новой должности будет сокращена, и моя судьба станет неопределенной. Я остался на своей позиции. Что это было? Чувство благодарности к П. Н. Зернову или инстинкт самосохранения. Не исключено, что уже в тот момент я интуитивно чувствовал больший потенциал у П. Н. Зернова, чем у В. С. Белявского и стремился сохранить близость к более сильному.
На следующий день состоялся разговор с П. Н. Зерновым по его инициативе. Он сказал, что считает неправильным предложение Белявского. Предупредил, что я не должен его принимать, а если приму, то он перестанет заботиться о моем воспитании и росте. Доводы были несколько упрощенные: «Учти, что в будущем, если я уйду в отпуск или заболею, то исполнять мои обязанности назначу не тебя, а Г. Гендельмана». Я успокоил его, сказав, что со мной был разговор, я твердо заявил о несогласии с введением новой должности и отказался от возможности ее получения. На этом разговор окончился. Тема закрылась и в течение нескольких недель не поднималась. Дальнейшие события показали, что она получила неожиданное для меня продолжение.
В апреле 1973 года в период пребывания В. С. Белявского в Чехословакии меня пригласили в обком партии и сказали, что, положительно оценив мой опыт работы на Лавсане, обком пришел к выводу о целесообразности моего перевода на Могилевский завод искусственного волокна в качестве директора. Состояние здоровья директора завода А. Никонова стало настолько плохим, что он не может больше руководить коллективом. А. Никонов действительно был болен в течение продолжительного периода, но я тогда, польщенный доверием и высокой оценкой обкома, не связал вместе опасения П. Н. Зернова, отсутствие в Могилеве в период моего перевода В. С. Белявского и возникновение срочной замены давно болеющего А. Никонова. Моему новому назначению предшествовало посещение комбината первым заместителем министра МХП СССР Л. И. Осипенко. Он прошел школу директора очень крупного нефтехимического комбината – Салаватского и пользовался большим уважением у специалистов отрасли.
На ужине, состоявшемся на комбинате, после посещения им обкома партии он сказал в своем тосте, что один из сидящих в зале руководителей может стать директором крупного завода, другой – заместителем министра МХП. Я не придал этому значения. По комбинату задолго до момента приезда Л. Осипенко ходили слухи о том, что на место директора ЗИВа должен прийти секретарь парткома комбината Ю. И. Галактионов. Считалось, что его кандидатуру поддерживает В. Белявский, а это означает, что так оно и будет. Галактионов также присутствовал на ужине. Оказалось, что «царь» – Зернов, как в русской народной сказке, очередной раз послал меня пройти испытание, чтобы не отдавать мне замуж свою прекрасную дочь – одно из лучших предприятий СССР. Через несколько дней меня назначили директором Могилевского завода искусственного волокна. Новое назначение казалось интересным, хотелось попробовать себя на самостоятельной работе. Можно сказать при этом, что пошел выполнять поручение партии, руководствуясь принципом: «на службу не напрашивайся, от службы не отказывайся». Недопонимание интриг того периода и роли Зернова в моем переходе оказалось полезным – я сохранил хорошие отношения с ним, и строились они на базе искренней благодарности за весь период 1968–1973 годов. В. С. Белявскому я был признателен за то, что после драматического приема на работу в 1969 году и согласия на отправку меня в армию 1970 году он сильно изменил свои оценки относительно меня и посчитал возможным мое назначение на должность зам. генерального директора МКСВ. В. С. Белявский, вернувшись из Чехословакии, узнав о моем назначении, «ни одним глазом не повел». Для него высказывание о том, что переход оформлен вопреки его планам и без его согласия было равносильно признанию поражения перед П. Н. Зерновым.
Это было весной 1973 года. Внешне ничто не предвещало того, что произойдет в конце осени того же года, однако мои наблюдения за характерами моих ближайших руководителей создавали некоторый фон для рассуждений. Впоследствии, осмысливая всю совокупность действий П. Н. Зернова в тот период, я пришел к выводу об их логической последовательности. Он – сын красного директора одного из ивановских предприятий, репрессированного в 1930-е годы. Отличник учебы, обладатель красного диплома, лидер институтской хоккейной команды. Были случаи, когда в период 1971–1972 годов в разговоре с ним мне приходилось ссылаться на мнение главка, а именно его руководителя Б. А. Мухина. Как правило, следовало возражение: «Что мне твой Мухин, когда я играл за ИХТИ, он мне клюшки носил на игру». Эта фраза мне сильно врезалась в память, и в 2009 году на юбилее по случаю восьмидесятилетия я спросил у Б. А. Мухина, что она означает. Смеясь, он мне сказал: «То и означает, что я действительно носил ему клюшки. Меня, как члена комитета ВЛКСМ института, назначили ответственным за моральный облик команды. Команда была лидером первенства среди вузов города Иванова, Павел – кумиром среди молодежи. Чтобы ребята не загуляли, не запили, комитет поручил мне сопровождать их на всех матчах. Павел был звездой команды, признанным лидером, и я, чтобы завоевать благосклонность его, а значит, и всей команды, носил на матчи его клюшки». Далее этот отличник и лидер получил назначение в Могилев и под опекой очень опытного руководителя А. Никонова быстро вырос на ЗИВе до главного инженера завода. Когда А. Никонова направили в Минск руководить главком, П. Н. Зернов стал директором завода. Тот факт, что через определенный период на заводе случилась трагедия, не означает, что Зернов не был предрасположен к работе в данной должности. Мнение, которое декларировали его друзья о том, что он больше тяготел к инженерной работе, был слишком мягким, добрым к людям и потому не мог быть директором, на мой взгляд, было ошибочным. Он обладал большим кругозором, был способен к системной кропотливой работе, обладал способностью находить общий язык с подчиненными и с руководством и при этом мнение о его избыточной доброте вызывало сомнения. Отсюда можно с уверенностью сказать, что, лишившись кресла директора ЗИВа во второй половине 1960-х годов и заболев серьезно в 1968 году, находясь в должности главного инженера МКСВ, он не сломался и не сдался, а выработал план действий по своему сохранению в этой должности. Он выбрал меня в качестве второго после себя ведущего исполнителя данного плана. План за четыре года был успешно реализован, но я, его же помощник, могу по инициативе В. Белявского обесценить результаты, достигнутые П. Н. Зерновым. Формально, вчера Петров отказался от предложения, но что он станет делать, когда его ознакомят с приказом о назначении на новую должность. У него просто не будет другого выхода и он будет вынужден согласиться с В. С. Белявским. В результате он находит мне – своему воспитаннику новое место на некотором отдалении от комбината и делает это наперекор своему руководителю. Столь дерзкий шаг означает, что период борьбы за выживание для Зернова закончился. В связи с покушением на его статус полноправного руководителя производства и всех инженерных служб комбината он вынужден поставить для себя новые, более амбициозные цели и для их реализации придется вступить в прямое противоборство с директором комбината В. Белявским.
Директор завода, первые шаги
Итак, в апреле 1973 года, спустя четыре года после приезда в Могилев, я был назначен директором Могилевского ордена Великой Октябрьской социалистической революции Завода искусственного волокна им. Куйбышева. Специально называю его полное официальное название для того, чтобы подчеркнуть богатые традиции коллектива и его заслуги. В городе его просто называли ЗИВ. К тому времени на предприятии работало шесть тысяч четыреста человек.
Завод относился к первенцам индустриализации СССР. Был введен в начале 1930-х годов на базе немецкого оборудования. Прядильные машины для производства искусственных нитей были изготовлены фирмой «Бармаг». В качестве основного сырья использовалась целлюлоза. Принципиально весь технологический процесс превращения древесины в целлюлозу путем вымывания из первой всех смолистых примесей, последующего растворения целлюлозы путем обработки щелочью и сероуглеродом, формования из струй раствора нитей путем осаждения целлюлозы серной кислотой был внешне логичен. В итоге из натурального продукта древесины вы получаете шелковые нити с высокими гигиеническими свойствами. Но в производственном процессе на каждый килограмм готовой продукции использовалось до трех с половиной килограмм ядовитых и агрессивных химикатов. Вредных для работников завода, населения прилегающих к нему районов и окружающей среды. И именно на подобной технологии развивались в течение нескольких десятилетий вся отрасль химических волокон. СССР. Она использовалась для производства шелка, штапельного волокна (аналог хлопка), кордной нити и ткани, формирующих каркас автомобильных покрышек. Люди, работающие на заводе, трудились и жили в атмосфере вредных веществ, и своим здоровьем они расплачивались за высокие потребительские свойства продукции. Для обеспечения высоких гигиенических характеристик изделий, комфорта потребителей довольно значительная по численности группа работников вискозных предприятий страны должна была к сорока пяти – пятидесяти годам терять трудоспособность. Оборудование, действующее с начала 1930-х годов, не отвечало санитарным требованиям, нормы ПДК (предельно допустимые концентрации) устанавливались в стране по уровню концентрации вредных веществ, наблюдаемого при исправно работающем оборудовании, но не по влиянию на персонал. Как компенсацию за ущерб здоровью работники имели высокую зарплату, шестичасовой рабочий день вместо восьмичасового, уход на пенсию в сорок пять лет для женщин, пятьдесят лет для мужчин, а также ежедневные пол-литра молока. Технология и оборудование, задействованные в начале 1930-х годов, к середине 1970-х годов морально устарели. Ведущие страны – их создатели, шли на сворачивание подобных производств, именно в связи с их исключительно вредным влиянием. Создаваемые в отдельных странах образцы новой техники не могли остановить вышеуказанной главной тенденции. Попытки российских ученых и конструкторов не меняли положения. Таким образом, подобные производства, включая ЗИВ, существовали только в связи с тем, что плановая система СССР изолировала их от мировой конкуренции, а люди по многолетней традиции, не воспринимающие свое личное здоровье, как главное благо, отдавали его родному заводу. Судьба завода во многом была героической. В начале 1930-х годов его пустили на немецком оборудовании и с помощью немецких специалистов. В годы войны оккупанты демонтировали оборудование и вывезли его в Германию. Каким был завод после освобождения Белоруссии, наглядно показывает фотография.
После окончания войны оборудование в Германии было найдено, возвращено на разрушенный завод и после его восстановления вновь запущено в работу. К середине 1960-х годов завод по многим показателям – техническому уровню, масштабам стал лидером отрасли. Коллектив был создателем многих новых технологий, на высоком уровне без потери технологической дисциплины внедрил «щекинский» метод, сократив на производстве более тысячи человек. Трудная и опасная технология сплачивала людей. Характерно в этом отношении шутка американских специалистов. В 1972 году делегация от Минхимпрома с участием П. Н. Зернова была приглашена в США для проведения переговоров по закупке нового производства полиэфирных волокон. В беседе специалисты Дюпон сказали, что в США было тридцать девять заводов по производству вискозных волокон и нитей, но ко времени встречи тридцать восемь из них переоборудовали под производство полиэфирных волокон и нитей. Один из наших представителей спросил: «Почему же один завод оставили?», на что американцы ответили: «Оставили, чтобы всем показывать, какие хорошие люди и специалисты воспитывались в условиях вискозной технологии».
Итак, я пришел на завод – противоположность «Лавсану». Время, когда он был в лидерах отрасли, получал знамена, прошло. Полагаю, что из-за строительства Могилевского объединения «Химволокно» ЗИВ ограничили в средствах на развитие и капитальный ремонт. В 1973 году завод имел несколько предписаний на останов большинства производств. На штапельном производстве долгостроем оставался первый отечественный цех по улавливанию сероуглерода и сероводорода, на производстве нитей № 1 была разрушена обшивка сто двадцатиметровой трубы, выбрасывающей сероуглерод. Вместо нее работала временная труба длиной тридцать метров. Один из цехов был в шутку назван по аналогии с парковой зоной города Могилева «Зеленой рощей» из-за того, что его железобетонное перекрытие поддерживалось сотней деревянных столбов. Территория завода: дороги, тротуары, площадки находились в критическом состоянии. Трудно было объяснить, почему направляя на новый завод «Лавсан» многомиллионные вложения, сосредотачивая на нем около десяти тысяч строителей и монтажников, министерство не считало возможным решить наиболее актуальные задачи на ЗИВе. В некоторой степени ситуацию объясняла тяжелая болезнь директора ЗИВа А. М. Никонова, который в последние годы в связи с ухудшением работы сердца, почек большую часть времени проводил в одном из трех «финских домиков», построенных на территории профилактория. Название жилища говорит само за себя: площадь около сорока метров, стены фанерные утеплены мягким картоном. Участник войны, награжденный в военное и мирное время очень высокими орденами, бывший начальник химического главка Республики, один из наиболее авторитетных людей города и Минхимпрома, угасая на глазах, продолжал упорно бороться за сохранение своего прошлого статуса. Связь с заводом он поддерживал через телефонные разговоры с руководителями подразделений, регулярные встречи со своим водителем и секретарем. Завод устойчиво выполнял план по производству нитей и волокна, что способствовало сохранению на своем посту директора-ветерана. В некоторой степени это предопределяла и кадровая политика директора. Первыми лицами на заводе после А. М. Никонова были главный инженер – кореец В. П. Ким и его заместитель – еврей А. Я. Розенберг. Они были молоды, обладали высокой энергией. А. Я. Розенберг, кроме того, имел хороший аналитический ум и техническую подготовку. Директор умело поддерживал у обоих надежду на должностной рост в случае его ухода, хотя ему было известны особенности кадровой политики главка. Первой причиной был национальный вопрос, второй – увлечение обоих руководителей техническим творчеством с извлечением излишней материальной выгоды. В коллективе и в среде партийных работников считалось, что это тормозило решение основных задач завода.
Согласование моего назначения в Минхимпроме, обкоме КПБ и республиканском главке было очень быстрым, и мой приход на завод в качестве директора стал для всех большой неожиданностью. О моей высокой требовательности, способности, если необходимо для дела, доводить ситуацию до конфликтов, заводчане были наслышаны от моих товарищей, перешедших на «Лавсан». Поэтому приход был встречен настороженно. Появились версии о неизбежности снятия тех или иных руководителей, добровольные консультанты по поводу того, с кем надо «разобраться в первую очередь».
Мне шел тридцать второй год. За плечами работа по налаживанию сотрудничества с многотысячными коллективами строителей и производственников и при этом отсутствие опыта в кадровой политике. Каким-то чутьем понял, что хотя и назначен директором, больной А. М. Никонов де-факто остается в должности и имеет большую возможность влияния на коллектив, чем я. Вывод был прост: надо это сложившееся двоевластие привести к одному знаменателю. Единственным способом разрешения ситуации было сближение с А. М. Никоновым. Я приезжал к нему в Межисетки, советовался по делам, по кадрам. В условиях одиночества, которое сформировалось вокруг него, эти встречи для него были приятны. Вновь, как и в случае с английской госпитализацией П. Н. Зернова, был внимательным слушателем. В одну из таких встреч А. М. рассказал мне со всеми подробностями историю, которой в Могилеве дали название «Райкомовские шашлыки». Частично я знал ее по рассказам других участников этого мероприятия, поэтому приведу его описание на основе сводной оценки.
В 1970-е годы ЗИВ был самым крупным предприятием города, получал знамена ЦК КПСС, и Алексей Михайлович в период своего творческого расцвета пользовался большим уважением.
Он с пристальным вниманием относился к поручениям местных органов власти, реакция была адекватной. Его постоянно избирали в партийные органы. Для многих руководителей предприятий он был образцом для подражания. Весь этот комплекс взаимоотношений характеризует одна из притч, ходившая в тот период по городу. Сельское хозяйство к началу 1970-х годов в стране не могло обеспечить население мясом. ЦК КПСС было принято решение о необходимости создать на промышленных предприятиях подсобные хозяйства по выращиванию скота. Директиву требовалось выполнить «вчера», то есть в короткие сроки. А. М. Никонов как член райкома должен был стать примером для других руководителей.
После обсуждения всех возможных вариантов со своим замами он принял решение организовать свиноферму на сто голов в заводском профилактории. Доводы были достаточно убедительны. Есть свободный сарай, все энергоносители, канализация и значительное количество пищевых отходов. Службы завода были отмобилизованы, и предприятие первым в городе отрапортовало о выполнении решения партии. Все шло хорошо, и сводки о привесе молодняка указывали на эффективность фермы. Но далее случился курьез.
Через полгода после запуска фермы Алексей Михайлович позвонил директорам ведущих предприятий города и попросил их приехать «сегодня вечером» в заводской профилакторий. Все полагали, что он по указанию райкома партии будет проводить мастер-класс по выращиванию свиней. Было известно, что днем ранее проводилось закрытое заседание райкома партии. Поворчали со ссылкой на высокую занятость, но в назначенное время все приехали. К удивлению присутствующих, хозяин не стал показывать ферму, а сразу же собрал всех на ужин вокруг открытой жаровни. Предложил выпить и закусить первым продуктом фермы. Выпили, разговорились. Все пришли к выводу, что мясо прекрасно. Неизбежно затронули тему технологии откорма. Один из директоров заметил, что обычно свиней выращивают не меньше года, как хозяину удалось сократить столь сильно сроки откорма. Пришлось Никонову «расколоться» и рассказать об истинных причинах экстренного сбора.
Некоторое время назад в райком поступила анонимная жалоба о том, что под видом выполнения решения партии дирекция организовала в заводском профилактории ферму для выращивания свиней для своих личных нужд. В профилакторий была направлена комиссия партийного контроля, которая установила, что «факты частично подтвердились». Главный врач профилактория из особого уважения к директору завода и его замам определил, что пяток поросят будет откармливаться для них. Свинок пометили краской и каждой дали кличку. Персонал особенно внимательно следил за их безопасностью и аппетитом. Поросенка директора звали любовно – Леша, свинку главного экономиста по его фамилии – Цедик. Ферма находилась в непосредственной близости от зоны прогулки отдыхающих, и по вечерам они могли слушать как персонал фермы зазывал VIP-персон на дополнительную кормежку. Никонов, ранее ничего не знавший об этих фактах искреннего уважения к себе и своим замам, получил на закрытом заседании райкома серьезное внушение. Естественно принял обязательство «завтра же немедленно прекратить безобразие».
На ужине всем он дал разъяснение о том, что никаких новых сроков откорма он не внедрял, мы все присутствуем на мероприятии по выполнению решений родного райкома. За Лешу мной внесены деньги в кассу, вот квитанция, ну а то, что его больше в стаде нет, вы все подтвердите. Подобное откровение не испортило ужина. Алексея Михайловича все директора уважали, и провести вечер в его компании было интересно каждому. При этом директора, которых до этого в течение нескольких месяцев упрекали в недостаточном внимании к решениям партии, получили моральное удовлетворение от того, что передовик, как и положено «выскочке», получил по заслугам.
Алексей Михайлович ничего мне не навязывал, был просто рад встречам. Но сама система получения советов налагала на меня обязанности сохранения близких к нему кадров. Если твои действия искренние, а не показные, ты не можешь снимать с должности близких к нему людей. Так было с секретарем приемной. Иметь при новом молодом директоре секретаршу и при этом фаворитку экс-директора, женщину в зрелом возрасте – это значит, находиться под контролем прошлого директора. И общественное мнение ждало первой жертвы. Но мой опыт уже подсказывал мне, что слепо идти на его поводу, значит, создавать предпосылки для усиления его агрессивности. И я предпочел согласиться с мнением зависимого от Алексея Михайловича руководителя. Он воспринял это с пониманием и, очевидно, свой настрой передал формальным и неформальным лидерам подразделений завода. Вскоре он ушел из жизни. Произошло это через несколько месяцев после моего прихода, но этот срок нашего сотрудничества оказался достаточным для того, чтобы я «не наломал дров» и не противопоставил себя ни коллективу, ни руководителям его ведущих подразделений. Все кадры, ранее приближенные к А. М. Никонову, обладали хорошими деловыми качествами, и поэтому сохранили свои позиции и после его смерти. Наиболее сильная моя сторона как руководителя на «Лавсане» – это высокое преимущество перед другими в знании технологии. На ЗИВе она была принципиально иной, для меня незнакомой. При этом было трудно удерживать себя от поучений традиционно присущих первому лицу. Понимал, что слишком велик был риск ошибок, падения авторитета. Пришлось искать сферы управления, в которых я мог бы действовать наверняка. Ими стали социальные проблемы работников завода, программы ремонта и капитального строительства, меры по повышению культуры производства, благоустройству территории завода.
Абсолютное большинство специалистов на заводе, включая его руководителей, имело высокую квалификацию и не менее высокие деловые качества. Мне не пришлось разрабатывать никаких антикризисных программ. Были поставлены конкретные задачи по завершению строительства цеха газоочистки штапеля, мононитей, трубы производства шелка № 1, заводской столовой. Сами руководители (В. Бадиков, В. Перель) добились в Минхимпроме получения лимитов, организовали строительно-монтажные работы. Аналогичное положение наблюдалось и в области благоустройства завода, эстетического оформления предзаводской территории, заводоуправления, новой столовой. Организатором этих программ был А. С. Громченко. Люди словно стосковались по работе, целенаправленным командам. Оказалось, что завод далеко не соответствует прежним заявлениям ряда критиков о том, что надо его останавливать.
При этом удалось добиться прекращения работы с большой пользой для завода и города сероуглеродного производства. Оно было опасным вследствие сверхвысокой вредности для обслуживающих его работников и жителей, проживающих вблизи завода. Как-то мне пришлось привезти на завод зав. отделом ЦК КПБ А. В. Беденко. Этому руководителю я очень благодарен за многолетнюю поддержку. Он посмотрел труд аппаратчика, который ежеминутно загребал совковой лопатой уголь и забрасывал его в топку сероуглеродной печи. Сверху на свежий слой угля падала струя расплавленной серы, и пары сероуглерода, образовавшиеся в результате взаимодействия угля и серы, испаряясь, поступали на сборники сероуглерода. Конечно, часть их, выходя через дверцу топки, попадала в организм аппаратчика. А. В. Беденко вышел подавленный и кратко сказал: «Когда товарищи из Беларусьфильма будут меня спрашивать, где найти для съемок аналог производства прошлого века, я дам точный адрес». Это производство было вскоре остановлено благодаря тому, что в Волжске запустили завод по производству сероуглерода из метана на основе современной немецкой технологии. Он стал обеспечивать все заводы искусственного волокна СССР. Но в связи с моими неоднократными обращениями в главк о необходимости останова нашего сероуглеродного завода, общественное мнение и руководство города отнесло это к моим заслугам. Так бывает, иногда общественное мнение отнимает тобой созданные плоды, иногда – отдает чужое.
Коллектив завода в значительной степени состоял из женщин, причем их лидерство имело место не только на рабочих местах, но и на уровне начальников цехов, начальников производств. Достаточно сказать, что всеми тремя производствами завода – химическим и целлофановым цехами – командовали женщины. Они самоотверженно трудились на своих постах, зачастую посвящая производству и свои выходные. До прихода на должность руководителя они много поработали в цехах. Общение с ними имело свою специфику. Длительное критическое обсуждение дел на производстве, даже без повышения тональности разговора, вызывало у них слезы, что было, по-видимому, связано с многолетним воздействием сероуглерода, отрицательно влияющим на нервную систему. Это приходилось учитывать в работе, требованиям придавать форму вежливых просьб. Подобная тактичность была положительно оценена.
Первые шесть месяцев моей работы пришлись на теплые месяцы года, что способствовало проведению достаточно масштабных работ по благоустройству. К октябрю 1973 года завод существенно преобразился, выполнение производственной программы и без моего прямого воздействия шло успешно. По заводу перестали циркулировать слухи о планах нового директора по кадровой чистке, руководители всех звеньев успокоились. В этих условиях начало формироваться общественное мнение о том, что назначение парня с «Лавсана» не худший вариант, с ним можно работать. Могилев – город небольшой, мнение заводчан было достаточно весомым фактором, ко мне с вниманием стали относиться в структурах города.
Мавр сделал свое дело…
К лету 1973 года значение Могилевского объединения «Химволокно» для области, Республики, отрасли стремительно возросло. Первая очередь мощностью пятьдесят четыре тысячи тонн по ДМТ, пятьдесят тысяч тонн по волокну и нитям была выведена на проектные показатели, что сделало предприятие крупнейшей площадкой по производству химволокон не только в СССР, но и в Европе. К этому моменту стало ясно, что из-за серьезных недостатков технология и оборудование линии непрерывной поликонденсации и формования, разрабатываемые совместно со специалистами ГДР на площадке Могилевского объединения, не готовы к тиражированию. По итогам «исторического» совещания в Кремле у А. Н. Косыгина в 1971 году, на котором по поручению главка с большим успехом выступил В. С. Белявский, было принято постановление Правительства «О развитии отрасли химических волокон». В 1973 году в соответствии с ним был заключен контракт на поставку МКСВ комплектного импортного оборудования для производства ДМТ-2 мощностью шестьдесят тысяч тонн с фирмой «Крупп», волокна «Лавсан» мощностью шестьдесят три тысячи тонн и товарного полимера – двадцать три тысячи тонн с немецким концерном «Хехст». Это означало, что в течение четырех лет мощности объединения должны были увеличиться более чем в два раза. Контракт предусматривал переход на принципиально новые для комбината технологии – непрерывную поликонденсацию ПЭТ и прямое формование волокна из расплава. Предприятие приобретало новую технологию, близкую по уровню к высшему мировому. По основным параметрам «Лавсан» выходил в тройку ведущих предприятий Республики, таких как Белорусский тракторный завод, МАЗ. Создание второй очереди в два раза более короткие сроки, чем первая (четыре года против восьми), требовало серьезной поддержки союзных строительных и монтажных министерств, четкой работы поставщиков отечественного вспомогательного оборудования. Продолжение строительства обеспечивало высокую загрузку созданной для первой очереди строительства промышленной базы, треста № 17, монтажных организаций, Город и область должны были получить громадные средства на развитие соцкультбыта и инфраструктуры. В середине пятилетки, когда все ресурсы были распределены на объекты, уже включенные в пятилетний план, эти задачи можно было решить только с помощью Правительства СССР. Для этого в 1973 году было подготовлено посещение МКСВ Председателем Совета Министров СССР А. Н. Косыгиным.
В плане его подготовки В. С. Белявскому создали имидж лидера отрасли. В апреле 1973 года комбинату было присвоено имя В. И. Ленина. Для того времени это была высшее признание, оно означало, что предприятие становится флагманом отрасли. Более значимым было только награждение Орденом В. И. Ленина. Качество строительно-монтажных работ на МКСВ всегда отличалось высоким уровнем, но к приезду А. Н. Косыгина были проведены дополнительные отделочные и ремонтные работы, устранены недостатки, выявленные за годы эксплуатации. В. С. Белявский был главным организатором программы по подготовке к встрече высокого гостя. Работники МХП, республиканских органов, обкома, строители и монтажники – все были наделены поручениями. Комбинат выглядел прекрасно.
А. Н. Косыгин приехал сразу же после ноябрьских праздников. Его сопровождали Министр Л. А. Костандов и Первый секретарь ЦК КПБ П. М. Машеров. Они прошли по всем основным производствам. А. Н. Косыгин пришел в восторг от увиденного, выразив его в Книге почетных посетителей комбината следующей записью:…
На совещании была одобрена программа развития комбината и согласовано предложение о создании мощного производства по выпуску полиэфирных нитей в Светлогорске, дано задание предусмотреть в планах 1974–1975 годов все необходимые капитальные вложения и ресурсы для ускоренного создания новых производств и развития соцкультбыта.
Я был директором другого завода, в программе встречи А. Н. Косыгина на «Лавсане» не участвовал, но получил подробную информацию от коллег с комбината и от руководителей Могилевского обкома. В числе директоров крупных предприятий Республики был приглашен на партийно-хозяйственный актив в город Минск по итогам визита А. Н. Косыгина. Косыгин в своем выступлении говорил об успехах БССР, указывал, что по многим позициям Республика является лидером в СССР. В качестве наиболее значимого подтверждения этого он подробно рассказал о своем посещении МКСВ. Дал высокую оценку строителям, монтажникам, обкому партии. Несколько фраз было посвящено лично В. С. Белявскому. По памяти это звучало примерно так: «Предприятие заслуживает самой высокой оценки, руководителем его является В. С. Белявский. Я думаю, что он присутствует сегодня среди нас». Очевидно, рядом сидящие за столом Президиума руководители Республики ему что-то подсказали. Он оглянулся и стал искать глазами Белявского в президиуме. Тот сидел с краю во втором ряду, чуть привстал, чтобы его видел А. Косыгин. Премьер закончил фразой: «Это настоящий хозяин. Я рад, что такие руководители работают в Республике». Раздались аплодисменты, они звучали в моей памяти все последующие годы, как знак высшего признания моего бывшего руководителя и коллеги по сложной директорской работе и как напоминание, что они могут означать на практике.
В. С. Белявского сняли с работы по инициативе Могилевского обкома партии через несколько дней после отъезда А. Н. Косыгина. Партия в лице обкома в период 1970-х годов всегда стремилась к абсолютной монополии власти на вверенной ей территории. Когда же на ее пути вставали люди, способные хотя бы частично нарушить ее монополию, жизнь создавала им большие трудности. Это наглядно просматривается на истории с первым генеральным директором Могилевского комбината «Химволокно» В. С. Белявским. Успешная производственная деятельность и блестящие результаты этого руководителя не могли являться гарантией для дальнейшего продолжения карьеры, необходимо было сформировать особые взаимоотношения с обкомом. Белявский – с очень сильным характером и темпераментом на протяжении многих лет трудился в Сибири. Перед переходом в отрасль химических волокон был директором отдаленного от центра рудника по добыче асбеста в Красноярском крае, в Республике Тува. Один рудник, один город, одна власть и над его работниками и над всем населением поселка в лице директора. В тех условиях, очевидно, не было смысла в ее распределении между дирекцией предприятия, советами и партией. Не было необходимости «притираться» к чиновникам обкома, отрабатывать механизмы взаимодействия на производственном и бытовом уровне. Они слишком далеко были от рудника. Эта школа, по-видимому, вошла в сознание еще молодого директора, который к тому времени разменял лишь третий десяток лет. Когда вблизи Красноярска начал строиться новый завод по производству химических волокон его кандидатура оказалась наиболее достойной. Стройплощадку вскоре после отстранения от власти Н. С. Хрущева перенесли в европейскую часть СССР, то есть в Белоруссию. В. С. Белявский возглавил стройку на новой площадке. Прошло восемь трудных лет. За эти годы на голом месте был построен крупнейший для того времени в СССР и Европе завод по производству мономеров, химических волокон и нитей. Все эти годы его руководитель был бескомпромиссным бойцом против снижения уровня требований по качеству строительства, плодотворным организатором пусков и освоения мощностей. С каждым вводом очередного производства рос его авторитет в новом для него министерстве, в коллективе, среди иностранных фирм. Казалось, ему все было по силам. У В. С. Белявского были чрезвычайно высокие властные амбиции. Он должен был видеть, что окружающие поражены его способностями, энергией и потому готовы ему подчиняться. И действительно, эти качества были очень высоки, и люди на производстве с готовностью принимали его право быть лидером, соглашались с руководителем. Подобные требования он распространял и на женщин. Но те преимущества, которые ему помогали на производстве, во взаимоотношениях с женщинами не срабатывали. Он скромно одевался, был невысокого роста, несколько сутуловат, с прической, искусно закрывающей голые участки головы. Его возраст составлял к 1975 году примерно сорок семь лет, но выглядел он значительно старше. Во взаимоотношениях с женщинами он также требовал, как и в производственной сфере, восхищения, но не получая его, страдал, продолжая дальнейший поиск.
В начале 1970-х годов на совещании в Кремле при А. Н. Косыгине он очень убедительно доложил о важнейших программах Минхимпрома. Раскрылась его очень мощная харизма. Тот, кто смотрел фильм о Королеве – генеральном конструкторе космических кораблей, роль которого блестяще исполнил молодой К. Лавров, мог наглядно поверить в исключительную роль личности в успехе крупной программы. Харизма Белявского была близка к уровню воздействия столь известного артиста на окружающих. Но это была реальная жизнь, а не кино. Доклад в Кремле заранее был обречен на успех, под его параметры уже были подготовлены корректировки пятилетних планов. Но исполнение доклада повысило оценки Председателя Правительства всей программы.
В то же время в Могилеве для него создалась двусмысленная ситуация. Небольшая область и тихий областной центр превращался в центр всей химической индустрии СССР с производствами, основанными на технологиях и оборудовании мирового уровня, с громадными инвестициями в социальную сферу города и области. Лидер крупного предприятия автоматически становился фигурой областного и республиканского масштаба, с мнением которого необходимо было считаться не только на строительных планерках, но и в решении многих важных вопросов развития области. Ведь в значительной степени он должен был определять, сколько и куда вложить денег. В истории Могилевской области в течение нескольких десятилетий до начала 1970-х годов ведущим предприятием был завод искусственного волокна им. В. В. Куйбышева. И обком партии имел разнообразный опыт сотрудничества с директорами этого предприятия. Наиболее яркими личностями были А. Ф. Сафронков и А. Н. Никонов. Первый был прекрасным техническим специалистом и организатором, но его слабым местом было сотрудничество с обкомом. Карьера в Могилеве закончилась конфликтом с обкомом, но Минхимпром, осознавая высокие деловые и моральные качества этого руководителя, направило его переводом на еще больший по значимости вновь строящийся комбинат химического волокна в городе Курске в качестве директора. А. Н. Никонов, – заслуженный участник Великой Отечественной войны, наоборот, не обладая характерной для Сафронкова ярко выраженной технической подготовленностью, хорошо ладил со всеми уровнями власти Могилевской области, города, района. Это обеспечило ему как директору долгожительство, даже в период потери дееспособности.
Харизма Белявского В. С. строилась в значительной степени на абсолютной уверенности в себе, своей самостоятельности, твердости. Перестройка образа под человека, демонстративно послушного руководителям партийных и советских органов области ему была малодоступна. Развитие конфликтной ситуации между двумя наиболее значимыми людьми области с достаточной степенью вероятности прогнозировалось. Предпосылками для этого были, как характер В. С. Белявского, так и стиль работы первого секретаря обкома партии Г. А. Криулина. Это был человек с сильным характером, прошедший школу партизанской войны, имеющий объективные возможности для дальнейшего служебного роста. Стремление показать, кто есть кто между этими двумя руководителями прослеживалось с самого начала. Ф. Матьков – в тот период инструктор обкома – рассказывал мне о случае, который говорит об этом. Г. Криулин на начальном этапе стройки пригласил В. Белявского для обсуждения хода строительства. В. Белявский прибыл в назначенное время в приемную и стал ждать. Прошло более двадцати минут. Приглашения войти в кабинет не последовало, тогда он встал, попросил секретаршу сообщить Г. Криулину, что у него «тоже много дел», после чего покинул здание обкома партии и вернулся на комбинат. Через некоторое время ему позвонил Г. Криулин и извинился, объяснив, что ему пришлось заниматься чрезвычайно важными поручениями ЦК КПБ. В ответ В. Белявский также извинился, отметив, что он сам вынужден был срочно покинуть обком, так как необходимо было до конца рабочего дня завершить подготовку материалов для Москвы.
В прогнозируемом конфликте уязвимость Белявского предопределялась некоторыми особенностями и обычными человеческими слабостями. Он не был человеком, для которого выпивка была ежедневной потребностью, не был спортсменом, футбольным болельщиком, охотником, рыболовом, игроком в карты, то есть не имел хобби, которое помогает приобрести постоянных друзей из коллег равного уровня и разгрузить нервную систему от главной нагрузки – производственной. Отсутствие этих увлечений не позволяло ему сблизиться с руководством области вне производственной сферы. Большую часть стрессовых напряжений он старался снимать, добиваясь внимания женщин. И, очевидно, будучи главным и даже единственным инструментом разгрузки нервной системы, этот фактор создавал для него громадную зависимость от них.
В природе имеются подобные случаи. Самым хищным и во всех отношениях совершенным зверем наших лесов является волк, значительно превосходя всех остальных обитателей леса. Он хитер, быстр, вынослив, знает повадки других зверей, жесток. Но при всем многообразии его сильных черт у него есть одно очень слабое место. Поразительно, зверь, питающийся в основном свежим мясом, окрашенным кровью, более всего в жизни боится красных флажков. Никто новорожденному волчонку этот страх в жизни не прививает. Рождаясь и вырастая, он сохраняет этот страх на всю жизнь. Он заложен у волка на генетическом уровне. Когда и с какой практической целью природа наделила его этой осторожностью – неизвестно. Неоднократно возникали ситуации, способные исправить эту ошибку, но гены зверя брали свое. Мой знакомый лесничий из деревни Эсьмоны Белыничского района рассказывал, что после войны в Белоруссии в лесах осталось большое количество немецких овчарок, используемых в концентрационных лагерях и в борьбе с партизанами. Они были научены нападать на людей, для них проблема страха перед флажками и людьми отсутствовала. Вскоре после войны в лесах появились молодые волки, которые не боялись красных флажков и смело нападали на людей. Попытки их выследить, обложить флажками и уничтожить не имели успеха. Со временем повадки новых поколений вернулись в норму, созданную природой, но отдельные особи сохраняли вновь приобретенные инстинкты. Однажды в Белыничском районе мы выследили стаю волков. Их в конце 1970-х годов развелось много. Из-за недостатка кормов зимой был высокий падеж скота. Руководителями колхозов и властями района это скрывалось. Туши животных тайно вывозились в лес на необорудованные скотомогильники, и это создавало условия для быстрого роста поголовья волков. Но зверь не ограничивался тем, что ему добровольно давали люди, нападал на скот в деревнях, уничтожал собак, были случаи нападения волков на людей. Охота на волков была возведена в ранг обязательной помощи сельскому хозяйству и разрешена круглый год. Наша охотничья бригада активно в нее включилась. В один из дней охоты близился вечер, мы проезжали на уазике лесной квадрат за квадратом, но следов не обнаруживали. Бригадир высказал предложение выйти из машины и пройти по лесной дороге пешком. Прошагали метров 800, лес уже кончался, следов волков нигде на свежем, выпавшем ночью снеге, не было видно. На краю леса к наезженному полотну дороги слева подходили большие глубокие следы, справа после дороги они продолжались, уходя в кусты. Неделю назад дорогу перешел человек в валенках. Следы не вызвали ни у кого подозрений, так как явно были недельной давности. Но один из нас полюбопытствовал, заглянув вглубь следов, обнаружил на дне тридцати сантиметрового провала, на свежем слое снега волчий след. Пошли по ним вправо, дошли до кустарника в болоте и, к удивлению, обнаружили по следам, как пара волков оторвалась от следов человека и пошла веером по болоту в два параллельных следа. Объехали квадрат с болотом внутри, выходов не обнаружили. Быстро размотали флажки и окружили уже при лунном свете болото. Рано утром встали и не завтракая, возбужденные приехали на делянку. Объезд разочаровал. На полянке, достаточно плотно окруженной кустами, обнаружили большое количество волчьих следов. Как будто волки в насмешку над нами проходили, проползали под флажками и возвращались назад. Осмотр следов на внешней стороне от делянки на удалении от нее в двадцати метрах показал, что в итоге этой ночной демонстрации ушел только один волк. Именно он один показывал свою способность «гулять» под цепью красных флажков. Другой, по итогам осмотра, должен был остаться в квадрате. Расставили по периметру внутри делянки стрелков на расстоянии метров сорока от флажков и начали гон. Окруженный волк в подобной ситуации бежит в пяти–десяти метрах от флажков и ищет разрыв в ограждении. Охотник, стоящий в тридцати–сорока метрах от флажков, замечает зверя, увлеченного поиском разрыва в цепи флажков, и стреляет в него. У нас получилось все по теории. Через десять минут после начала гона М. А. Титов, главный инженер ЗИВа, застрелил бегущую волчицу. Это был очень крупный зверь с прекрасным мехом. При более внимательном осмотре обнаружилось, что кожа волчицы на конце одной передней лапы стерта по всей окружности до белой кости, затронута и сама кость, а шея окружена петлей из тонкой стальной проволоки со свободным концом в десять–пятнадцать сантиметров. Опытные охотники сразу объяснили картину. Волчица в прошлом попала головой в охотничий силок – петлю, конец которой был закреплен в земле. Ей удалось порвать проволоку вблизи точки ее закрепления с землей, но при этом она истерла до кости ногу. Оборвав проволоку, убежала со стальной петлей на шее. Ее партнер волк, проходя при лунном свете много раз под флажками, показывал ей, что бояться их не стоит. Она приближалась к линии флажков на расстоянии до трех метров, но совершить всего лишь один прыжок, дающий ей свободу и жизнь, не смогла. То есть, попав в капкан, она нашла силы для спасения жизни и перетерла костью своей передней лапы стальную проволоку, но преодолеть врожденный перед красным флажком страх не смогла.
Белявский по натуре был волк, волк очень сильный. Но его слабым местом было отношение к женщинам. Влюбляясь неоднократно, он переставал адекватно оценивать и свою избранницу и линию своего поведения. Его всегда напряженная, всегда готовая к бою и наступлению натура требовала и находила в них расслабление, но вслед за этим возникала проблема зависимости, неизмеримо более высокого уровня. Его приезд в Могилев из Сибири сопровождала информация о том, что перед переездом он развелся с женой, оставив ей квартиру предприятия. Через четыре года проживания в Могилеве он женился на молодой девушке-кабардинке. Женитьба оказалась неудачной, по словам близких к Белявскому людей, у девушки после родов случилось расстройство нервной системы. Мальчик был взят на воспитание отцом. С супругой Белявский расстался, предоставив ей квартиру за счет предприятия. После некоторого пребывания в холостяках, он увлекся замужней женщиной, работающей в аптеке. Муж ее работал на нашем предприятии. Новая связь была известна многим ИТР и, конечно, обкому. У одних она вызывала сочувствие, у других – усмешку. Белявский не решался завершить эту связь женитьбой, обком – прервать ее. Через несколько дней после отъезда А. Н. Косыгина В. Белявский расписался со своей новой избранницей, еще через несколько дней он был освобожден от работы. Можно предположить, что каждая сторона лукавила.
Секретарь по промышленности А. В. Маслаков на встрече со мной через месяц после снятия Белявского с сожалением объяснял, что он приглашал В. С. Б к себе и говорил: «Сейчас третий раз нельзя жениться, народ до сих пор взбудоражен твоим уходом от второй жены, люди обсуждают твой ежедневный заезд за двухгодовалым сыном в детские ясли утром и вечером, одни сочувствуют, другие злорадствуют, пишут о дарении тобой квартиры комбината второй супруге. Короче, нельзя жениться, надо подождать. Я передаю тебе прямое указание Глеба Александровича (имеется в виду первый секретарь обкома Г. А. Криулин)». Он в ответ мне сказал кратко: «Не могу, я дал слово жениться и уже назвал сроки». Разговор на этом закончился. Далее А. В. Маслаков рассказывал: «Он расписался в Могилевском ЗАГСе, мне Криулин сделал выволочку за то, что я не сообразил предупредить администрацию Загса о необходимости действовать строго по принятым нормам – месяц ожидания до регистрации». Эта фраза «не могу, я дал слово» звучала у всех на устах, повторялась она и мне Белявским при встрече после его освобождения от должности. Она была удобна для оправдания позиции, так как создавала вокруг него ореол рыцаря, пожертвовавшего славой и креслом директора крупнейшего предприятия, работа на котором должна была принести ему в будущем еще больший успех. Аналогичный случай был в истории Англии в конце 1930-х годов. Старший сын королевы отказался от прав на престол, женившись на разведенной американке, не соответствующей регламенту королевского двора. Но моя личная оценка событий того времени не принимает в полной мере версию верного рыцаря. Действительно, В. С. Белявский с высокой настойчивостью искал возможность узаконить отношения со своей избранницей. Полагаю, что он действительно дал согласие своей избраннице на оформление брака, сразу же после партхозактива в Минске. Его рассуждения могли иметь следующую последовательность: «Я получил высшую оценку от второго лица государства; обком со своим разрешением на женитьбу может тянуть бесконечно долго, не исключен вариант отказа; необходимо идти на риск, объявить, что женюсь, и осуществить это. Обком после триумфальной оценки А. Н. Косыгина не посмеет меня тронуть, он “проглотит” мое непослушание, свою победу в будущем можно будет рассматривать как констатацию нового реального соотношения сил: обком/дирекция МКСВ и руководство партии должно будет признать его».
Обком, должно быть, рассуждал по-своему: «Мы его предупредили, он не послушался нас, значит, он выходит из-под нашего контроля. Получая от нас большую помощь по вопросам производственного строительства, он не вступал с нами в дружеские отношения, не уделял, с нашей точки зрения, должного внимания вопросам развития города Могилева. Теперь, после высокой оценки Москвы он будет просто игнорировать нас. Предстоят громадные капвложения в новые производства. С таким директором мы потратим все силы области на стройку, а инфраструктура области, соцкультбыт не получит должного развития. Нельзя мириться, надо убирать непокорного руководителя, негатива его с семейными делами достаточно для обоснования отстранения от должности». Надо сказать, что такой ход рассуждений был необъективен, Могилев уже с первой очередью получил большое число объектов соцкультбыта, и роль Белявского в этом была очевидна. Но аппетиты возросли.
На ситуацию можно было взглянуть и с другой стороны: какое дело обкому на ком и когда жениться. В. Белявский – разведенный холостой мужчина в зрелом возрасте. Правда, при разводе с предыдущей женой он нарушил нормативные акты и выделил ей квартиру за счет предприятия. Ну, раз так, то и восстановите справедливость, обяжите его заплатить полную стоимость квартиры. Примите эти меры в момент, когда произошло нарушение. Особенности того периода состояли в том, что партия закрывала глаза на подобные нарушения морали и закона, при условии полной подчиненности хозяйственного руководителя ее местным лидерам. Юридической основы для подобных действий не существовало, но было такое понятие, как моральный кодекс строителя коммунизма. В нем были изложены требования к каждому члену партии, близкие по сущности к десяти христианским заповедям, но отсутствовала шкала наказаний за отступления от них. И это позволяло местным партийным лидерам выбирать личность, определять тяжесть проступка, меру и время наказания в зависимости от ситуации.
В. С. Белявский не получил должной поддержки в Главке и соответственно в Минхимпроме. За восемь лет, вследствие своего характера, он не проявил достаточной инициативы к личному сближению с высшими руководителями Министерства и партии. Необходимо также учитывать его заблуждение относительно своей роли, как директора предприятия, которое было свойственно многим из нас – руководителям МКСВ. При нашем участии с блеском был построен, пущен и освоен сложнейший технологический комплекс. Мы особо талантливы, а значит, незаменимы. Никто не будет рисковать делом, судьбой новой стройки. Но это было далеко не так. За громадные деньги впервые в СССР были закуплены не только оборудование, основы технологии, но и подробные технологические инструкции для каждого рабочего места, вся оснастка, вспомогательные материалы. Около двухсот специалистов МКСВ прошли стажировку на аналогичных предприятиях в Англии. Десятки специалистов осваивали в Англии опыт изготовления оборудования в течение 4-х лет. На монтаже и пуске постоянно присутствовали около ста лучших специалистов ICI, тогда как мы работали сначала стажерами, затем исполнителями их указаний. Лишь после их отъезда в 1973 году мы приняли процесс в свои руки и достаточно быстро обнаружили недостаток своей технической подготовки. В. С. Белявский был первым руководителем и одновременно одним из самых главных стажеров. Практики самостоятельного руководства сложнейшим производственным процессом он еще не прошел. Его мнение о себе, сформировавшееся на основе яркого успеха, было завышенным, оно не учитывало долю его личного вклада. Это понимали обком и главк при определении его вклада в итоги стройки. Стройка закончилась, первая очередь комбината освоена, строительные мощности для второй очереди созданы, решение по строительству второй очереди Правительством принято, поддержка Премьера получена, хорошая перспектива развития на ближайшие пять лет гарантирована. Что еще области надо, зачем ей Белявский? Мавр сделал свое дело, мавр может уходить.
Подобная вышеописанная схема мышления требовала наличия сильной в человеческом плане и опытной в техническом отношении кандидатуры нового директора. При этом он должен быть местным и уметь хорошо работать. Обком должен был сказать партийным органам и министерству: «Кандидатура есть – П. Н. Зернов, ему сорок три года. Он почти двадцать лет работает в Могилеве, поднял ЗИВ, обеспечил завершение строительства МКСВ и пуск первой очереди. Были некоторые проблемы со здоровьем, но сейчас это все в прошлом. Подобные рассуждения были недостаточно объективны. Его работа в качестве директора ЗИВа закончилась для него и группы рабочих большой трагедией. Многие близкие к нему люди считали, что он по своему характеру не подходит для работы в должности директора. Из-за болезни в период 1968–1971 годов он не смог хорошо изучить особенности технологического процесса «Лавсан» и новые сверхмощные установки порождали в нем чувство чрезвычайной опасности. После болезни он восстановил свое здоровье до уровня, позволяющего ему исполнять обязанности главного инженера, но оно не прошло проверку временем. При этом было ясно, что нагрузка на генерального директора предприятия задачей, которого является утроение мощностей производства, будет неизмеримо более высокой.
Были ли в этот период другие кандидатуры, назначение которых создавало значительно меньшие риски. Да, с моей точки зрения, возглавить комбинат могли К. Х. Кадоглы – директор Курского комбината химволокон или Д. М. Портнов – директор строящегося Гродненского завода химволокон. Первый был председателем Государственной комиссии на приемке первой очереди «Лавсана», второй в качестве руководителя «Белхима» в течение четырех лет принимал прямое участие в управлении строительством комбината. Но решающее слово было за Могилевским обкомом и поэтому кандидатуры «чужаков» не рассматривались.
Я встретил В. С. Белявского через некоторое время после его увольнения, находясь в командировке в Москве в главке Союзхимволокно. Разговор был утром. Он сообщил мне, что в Минске в ЦК КПБ его никто не захотел принимать и он будет стараться попасть в ЦК КПСС. А. П. Крайнов – инструктор отдела химии ЦК все эти годы тесно сотрудничал со мной и думаю, что он выведет меня на разговор с зав. отделом химии ЦК КПСС. Вечером он снова появился в главке, отвел меня к окну в коридоре и сказал: «Я дозвонился до Крайнова и попросил принять меня. До высказывания пожелания об организации встречи с руководителем отдела химии ЦК КПСС дело не дошло. Получил уже после первой фразы очень холодный ответ о том, что к ним в ЦК по данному вопросу от Могилевского обкома просьб не поступало». Отказался от встречи с ним и референт Совмина Г. Буков, который каждую неделю в течение пяти последних лет интересовался по телефону о делах на комбинате. Все произошедшее В. С. Белявский перенес, внешне не изменившись, и я связывал это не только с его душевной стойкостью. Очевидно, он не осознавал всей глубины трагедии, полагая, что это всего лишь недоразумение, которое будет исправлено в короткие сроки. В кругу близких людей своих ошибок он не признавал, лишь выразил обиду, что его снятию способствовало распространение слухов отдельными работниками МКСВ о взаимоотношениях со второй женой. В итоге он был устроен МХП на работу в качестве замдиректора по экономике на Щекинский комбинат ХВ, в дальнейшем перешел на работу замдиректора института по строительству (ВНИИСВа) в городе Твери. Впоследствии стал директором небольшого предприятия по выпуску стиральных порошков в городе Охте вблизи Ленинграда. На всех новых участках он старался работать добросовестно и плодотворно. Но это уже был не тот Белявский. Человек, успешно выполняющий миссию полководца, не может успешно вписаться в роль командира среднего звена. Умер в возрасте близком к шестидесяти лет, комбинат позаботился о том, чтобы поставить ему в Охте надгробие.
Для меня – молодого человека – его судьба явилась наглядным уроком на всю жизнь. При этом я задавал себе много вопросов: были ли какие-либо возможности и попытки урегулирования конфликта поиском компромисса; обоснованно ли было наказание с позиций потери управленческого потенциала для развивающегося объекта. По-простому вопрос звучал так: оправдано ли было решение о снятии, не является ли оно крайне жестким по отношению к крупному техническому специалисту. Остались и другие вопросы. Почему Г. А. Криулин не вызвал В. С. Белявского лично и не сказал ему: «Не женись. Я тебя лично предупреждаю о том, что ты лишишься должности директора». Пытаюсь сам себе ответить и прихожу к выводу о том, что такого разговора не могло быть. Криулин не мог быть уверен, что добьется снятия Белявского, который мог и после подобного разговора жениться. А если бы угроза о снятии не реализовалась, авторитет первого секретаря был бы в глазах Белявского крайне низким.
Для министерства подобная жесткость не была чем-то необычным. В отрасли в прошлые и последующие годы были случаи, когда по малозначительным поводам директора с очень высоким имиджем, имеющего Звезду Героя Социалистического Труда увольняли с работы и лишали партбилета. Так было с генеральным директором Балаковского ПО «Химволокно» Героем Социалистического Труда Л. Бутовским.
Вопрос об увольнении В. С. Белявского и назначении на его место П. Н. Зернова рассматривался одновременно. Этот вывод я сделал на основе моего разговора с Зерновым. Ориентировочно 13 ноября (через четыре дня после партхозактива в Минске), в Могилеве появились слухи о снятии Белявского. В один из последующих дней я получил информацию от В. П. Кима о том, что Белявского снимают с работы. В тот же день ближе к обеду мне позвонил П. Н. Зернов и попросил приехать на встречу на МКСВ. Место встречи было выбрано необычным – центральная лаборатория комбината (ЦЛК). Зернов работал над своей кандидатской диссертацией, и в здании ЦЛК у него было небольшое помещение для проведения исследований. Он встретил меня, очень внимательно всматриваясь в мои глаза. Далее его слова были примерно следующими: «В. С. Белявского снимают с работы, мне сообщили, что на его место назначают тебя и что ты дал согласие. Я лично считаю, что ты еще не подготовлен для этого». Я ответил о том, что слух о снятии Белявского дошел до меня сегодня утром. Со мной о назначении на должность гендиректора МКСВ никто не говорил, и подобного разговора быть не может. Я действительно не подготовлен для такой работы, надо приобрести опыт работы директором на предприятии меньшего масштаба. ЗИВ для этого то, что надо. О том, что у меня есть некоторые предпосылки для работы директором крупного коллектива, показал семимесячный период моей работы на ЗИВе. В тот период на заводе работали шесть с половиной тысяч человек, и они приняли мои методы доброжелательно. На «Лавсане» тогда работало ориентировочно восемь тысяч человек. Мое знание производства, опыт работы со строителями, очевидно, могли породить версию, которая беспокоила Зернова. Но в целом, по моему, для назначения меня на должность гендиректора оснований не было. Я был искренен с ним по одной простой причине, что он казался мне гораздо более опытным руководителем, чем я, с хорошими моральными устоями. Сумел подняться в очень тяжелой жизненной ситуации, отстоял свои позиции в сложном противостоянии с Белявским, и потому мне и в голову не приходило соперничать с ним за освободившееся место. Мой ответ, очевидно, его успокоил. Он предупредил, что о разговоре никто не должен знать, и мы расстались. Возвращаясь к себе на завод, я старался понять, для чего он меня пригласил. Пришел к выводу о том, что он дал мне понять – он будет бороться за должность генерального директора МКСВ. Я не должен путаться у него под ногами.
В короткие сроки Зернов стал генеральным директором. Для себя я отметил, что задолго до этого момента правильно оценил его потенциал по восстановлению жизненных позиций и соглашался пять лет вплоть до последнего разговора с его ролью ведущего.
Интересные события дальше произошли с Г. А. Криулиным. На следующий год после снятия В. С. Белявского, то есть в 1974 году, его направили в Северную Корею полномочным послом СССР. Для человека, посвятившего себя с молодости партийной работе, уход в принципиально другую сферу деятельности в пятидесятилетнем возрасте равносилен завершению роста карьеры. Мне пришлось присутствовать на пленуме обкома партии, на котором его провожали. Вел пленум второй секретарь Могилевского обкома М. К. Кулагин, проработавший к тому времени в Могилевской области около года. При его назначении ходили слухи, что ЦК КПБ обеспокоен чрезмерно авторитарным стилем работы Г. А. Криулина. М. К. Кулагин назначен, чтобы повысить уровень демократичности в областной парторганизации. Если эти слухи имели основания, можно было предположить, что за год работы М. К. Кулагин убедился в невозможности выполнения порученной ему миссии.
На пленуме обкома М. К. Кулагин с большим пафосом провозглашал, что Г. А. Криулин назначается «чрезвычайным и полномочным послом Союза Советских Социалистических Республик». Все присутствующие понимали насколько это назначение некстати для руководителя со столь сильным характером. Он сформировался в партизанах, был полезен в труднейших условиях первых послевоенных пятилеток, сыграл громадную созидательную роль в организации строительства первой очереди «Лавсана». Но, очевидно, ЦК КПБ посчитал, что пришло другое время и нужны новые подходы. В качестве основного недостатка в работе обкома на Пленумах ЦК КПБ указывались низкие показатели работы сельского хозяйства. Природные условия области были менее благоприятны, чем у соседей. Быстрое промышленное развитие вытягивало из села кадры, отвлекало внимание руководства обкома от проблем села. Но это не было принято во внимание. Говорили о конфликте Криулина со вторым секретарем ЦК А. В. Аксеновым, который до своего назначения в ЦК работал первым секретарем в соседней Витебской области. Уже позже мне рассказывали о том, что супруга Криулина, находясь вместе с ним в Москве в период прохождения съезда партии, высказала в холле гостиницы «Москва» Аксенову упреки в отношении нового назначения своего мужа. Лично для меня Криулин сделал многое, и я ему благодарен за поддержку и высокие оценки. Позже, когда я перешел на работу в Совмин Белоруссии, Криулин вернулся из Северной Кореи и был назначен министром социального обеспечения. Мне и моей жене было приятно и полезно продолжить общение с Криулиным и его супругой. Но тогда после его ухода из области я себе задавал вопрос, не есть ли перевод в послы – «божья кара», справедливая оценка за снятие относительно молодого, но очень перспективного руководителя В. С. Белявского, Не является ли это следствием того, что первый секретарь обкома не пожелал наладить контакт с руководителем крупнейшего промышленного предприятия. С годами, ознакомившись более глубоко с особенностями взаимоотношений партийного руководства по линии обком – ЦК Республики – ЦК КПСС и ведомственного управления по линии Предприятие – Министерство – Совмин СССР я укрепился во мнении, что инициаторами и исполнителями «божьей кары» могли быть тандем Косыгин – Костандов. Снятие В. С. Белявского с работы через несколько дней после того, как высокая оценка его деятельности была озвучена Н. А. Косыгиным на Партийно – хозяйственном активе Республики являлось публичным оскорблением Председателя Совмина СССР. Партийное руководство Республики, пойдя на поводу у первого секретаря Могилевского обкома партии, тем самым продемонстрировало свое верховенство над хозяйственными структурами, в том числе союзного уровня. Аппарат ЦК КПСС для поддержания высокого авторитета партии поддержал инициативу ЦК КПБ. Тандем Косыгин – Костандов, понимая, что развязывание дискуссии по судьбе В. Белявского, может остановить реализацию всей огромной программы инвестиционной программы, «без боя» его сдал. Но не в традициях Совмина того периода было играть роль мальчика для бития. А. Н. Косыгину удавалось достаточно успешно проводить свою линию в жизни. Есть основания полагать, что после того, как инвестиционная программа получила официальное одобрение ЦК КПСС Совмин и Минхимпром должны были поставить вопрос о невозможности сотрудничества с действующими руководителями Могилевского обкома.
Первым секретарем Могилевского обкома партии был назначен В. В. Прищепчик, имеющий громадный опыт работы в сельском хозяйстве, председателем Могилевского облисполкома был назначен мой непосредственный воспитатель А. В. Маслаков.
Заводские будни
Зернов приступил к работе в качестве директора Могилевского комбината, я продолжил спокойно свою работу на ЗИВе. Снятие В. С. Белявского довольно долго будоражило работников объединения, но для ЗИВа эта тема не была актуальна. В отношении завода инспектирующими органами было выпущено несколько предписаний, каждое из которых требовало останова одного из технологических производств. Контрольные органы считали, что период моей акклиматизации закончился, и потому настаивали на их безусловном исполнении. Сроки, установленные по всем предписаниям, были нереальны для исполнения, избежать останова производств можно было только демонстрацией высоких темпов работ. Наибольшую сложность представлял ремонт вентиляционной трубы. Это было сооружение диаметром шесть и высотой сто двадцать метров. Понятие труба в данном случае можно было применять очень условно, так как от объекта остался только стальной каркас, сильно подвергшийся коррозии. Он был своеобразной пародией на Эйфелеву башню. Выброс вредных газов с производства сероуглерода и сероводорода из-за неработоспособности проектной трубы осуществлялся через временное сооружение высотой всего тридцать метров. В туманную или дождливую погоду вредные газы стелились по территории завода и прилегающих жилых районов, при этом вентиляция производственных помещений работала крайне неудовлетворительно. До моего прихода на завод была осуществлена одна попытка установки обшивки трубы, но она закончилась неудачно. На заключительной стадии работ из-за наличия отклонений от требований по креплению элементов обшивки ее верхние секции оторвались и, падая, обрушили все ее секции до самого основания. Труба казалась каким-то идолом, она внушала реальный физический страх тем службам, которые отвечали за ее ремонт. Выдвигались версии о том, что лучше не связываться с ней, заказать монтажникам и смонтировать новую. Однако для реализации этой программы требовалось не менее двух с половиной лет. Пришлось провести обширные дополнительные исследования состояния металлоконструкций, проработать вопросы надежности крепления секций обшивки, определить наиболее рациональные методы устранения коррозии и антикоррозионной защиты. По результатам проработок было принято решение форсировать ремонт. Ведущая роль во всей программе подготовки решения и организации ремонта принадлежала главному архитектору завода А. Громченко, но ответственность за принятие решения лежала на главном инженере и директоре. Мы рисковали жизнью сотен людей, работающих в зоне возможного падения трубы. Ремонт ее был завершен в короткие сроки, приятно было каждый день, подъезжая к заводу, наблюдать, на сколько секций вверх продвинулись монтажники ремонтного треста по установке обшивки.
С окончанием работ волнений по поводу надежности конструкции трубы не уменьшилось, так как вновь установленная обшивка значительно увеличивала парусность и соответственно нагрузку на каркас трубы. В случае падения трубы на стоящие рядом здания количество погибших людей могло составить громадное количество. Но надо признать, что последующие годы показали правильность наших решений. Насколько велик для руководителя риск при принятии подобных решений впоследствии показала ситуация на родственном предприятии в Светлогорске. Коллективу этого завода повезло. В майские праздники 1975 года, когда на предприятии был только дежурный персонал, произошло обрушение аналогичной трубы. Но она упала точно вдоль внутризаводского проезда, повредив минимум коммуникаций. Единственный несчастный случай произошел с начальником смены одного из цехов. Увидев в окно падающую на нее трубу, она инстинктивно, согласно женской логике, бросилась под стол и при этом набила себе большую шишку. Труба «легла» в пяти метрах от здания. Директор завода из Светлогорска И. Ефанов мне потом рассказывал, что он несколько раз спрашивал работников ремонтного треста, насколько надежна его труба и получал ответ: «Не волнуйтесь, Ваша труба еще сто лет будет стоять, это не то, что труба у Петрова, та долго не протянет». Слава богу, «труба Петрова» простояла после ремонта еще несколько десятков лет.
Предписание об останове штапельного производства было выдано надзорными органами, в связи с тем что на этом производстве был сорван срок ввода в действие цеха по очистке вентиляционных выбросов от сероуглерода и сероводорода. Это была первая в стране отечественная установка подобного рода – аналог немецкой установки фирмы «Лурги». Многие виды оборудования изготавливались в СССР впервые, поэтому их поставки срывались. С помощью главка удалось решить проблемы, обком помог отмобилизовать строителей. Газоочистка была закончена строительством и в короткие сроки выведена на устойчивую работу.
Решение этих трех вопросов отвели от завода угрозу останова и позволили переключить значительную часть внимания на вопросы развития завода. Я старался по-прежнему большую часть концентрировать силы на тех программах, которые мне были более понятны: строительство и благоустройство. На заводе сформировалась квалифицированная группа капитальщиков. Возглавлял ее В. Бадиков – замдиректора по капитальному строительству, очень опытными строителями были В. Исаков, В. Перель. Хорошие отношения у меня сложились с управляющим трестом № 12. А. Корниевичем. К моменту моего прихода на завод специалисты службы главного инженера практически закончили работы по созданию первой в стране установки по производству вискозной сосисочной оболочки. Это было большим научно-техническим достижением, так как позволяло ликвидировать очень трудоемкие ручные операции в производстве сосисок. В течение многих лет работы велись под руководством А. Розенберга. Их логическим завершением стало строительство производства мощностью триста миллионов погонных метров в год. Я не участвовал в разработке технологии, но довольно много внимания уделял завершению строительства производства. При этом мог убедиться, что наши специалисты были в состоянии организовать проектно-строительный конвейер, при котором параллельно проводились финишные научно-исследовательские работы, создавалось оборудование, велась разработка проекта и строилось здание. Вследствие того, что производить оболочку можно было только из особого сырья – хлопковой целлюлозы, обладающей высоким молекулярным весом, потребовалось изготовление химического оборудования существенно отличающегося от серийного. Машиностроители отказывались его делать вследствие малого размера серии. Инженеры завода нашли выход, установив трофейное немецкое оборудование, которое было демонтировано десяток лет назад при проведении реконструкции химического цеха завода. В итоге было создано производство, которое в кратчайшие сроки было выведено на проектные показатели, а впоследствии реконструировано с приростом мощности на пятьдесят процентов. Для меня участие в этой программе стало прекрасной школой, которая оказалась полезной при проведении строительства новых установок на штапеле-2 на «Лавсане».
Немало внимания приходилось уделять вопросам культуры производства, нужно было привить людям понимание того, что и на заводе со столь большим стажем, как ЗИВ, все должно быть аккуратно и красиво. Интересно, что А. Громченко оказался не только хорошим специалистом по ликвидации аварийных ситуаций, но и прекрасным дизайнером. Под его руководством были разработаны и реализованы проекты реконструкции предзаводской зоны, заводоуправления, бытовых помещений основных цехов. Его большим достижением стал проект оформления новой заводской столовой. Само здание было построено быстро и стало настоящим подарком строительных служб коллективу. Казалось, сделай типовую столовую, и люди будут довольны. Но ко времени завершения ее строительства у многих на заводе появился азарт соперничества: «А у нас должно быть не хуже, чем на “Лавсане”». И одним из главных проводников этой идеологии был именно А. Громченко. Он взял типовой проект и подвергнул его существенной переработке. Предложил новую схему раздачи пищи, сбора подносов и посуды, а главное представил эскизный проект дизайнерского оформления каждого помещения. Я вначале стал возражать, убеждать, что инициатива дизайнеров невыполнима: слишком высок художественный уровень, потребуется много дефицитных материалов, в конечном итоге будет затянут ввод. Но главный механик В. Савкин переубедил меня, и проект был реализован, причем без задержки сроков ввода. В итоге их усилий была создана очень удобная и полезная для работников завода и соседних предприятий столовая. В течение нескольких лет она была победителем различных городских и республиканских конкурсов. Создание нового облика завода было замечено в главке. На завод начали направлять делегации химиков из соцстран для ознакомления с мерами по решению экологических проблем и совершенствования технологии. На традиционных праздничных шествиях руководство демонстрировало единство и уверенность в своих силах. На праздновании Дня химика дирекция выступала единой командой. Но в реальности накапливались серьезные проблемы.
Я не был глубоко знаком с особенностями производства вискозных волокон и нитей, но как специалист с хорошим технологическим кругозором понимал, что важнейшим фактором любого производства химических нитей является устойчивость процесса. Как правило, она определяется уровнем обрывности нитей. Незадолго до моего прихода на завод в цехах формования нитей были внедрены так называемые манжеты. Это новшество было заимствовано с Киевского ЗИВа, оно существенно снизило время проведения съема куличей – самой тяжелой и вредной операции для прядильщиц. Переоснащение машин заканчивалось при мне и часть лавров не совсем заслуженно досталось мне. При ежедневном утреннем обходе цехов женщины подходили ко мне и высказывали благодарность.
Однако на втором году моей работы при посещении прядильных цехов мне начали высказывать замечания по поводу повышения обрывности нитей на формовании. В подобной ситуации резко возрастает нагрузка на прядильщиц, значительно увеличивается время их пребывания в зоне с высокой концентрацией сероуглерода. После каждого разговора в цеху приходилось приглашать главного инженера В. Ким и главного технолога А. Розенберга и пересказывать им разговор в цеху. Ситуация, к сожалению, не менялась и однажды, после очередной встречи с прядильщицами, не застав в кабинете В. П. Кима, я пригласил А. Розенберга в свой кабинет и отчитал его, повысив голос. Понимая, что это был далеко не первый разговор по поводу обрывности Розенберг, принял его с пониманием и пообещал принять меры. Через некоторое время секретарь сообщила мне, что в свой кабинет вернулся В. Ким. Зашел в его кабинет и увидел Розенберга, сидящего за столом с ручкой в руке, и стоящего позади него Кима. Подошел поближе и понял, что А. Я. Розенберг пишет что-то под диктовку Кима. Воспользовавшись растерянностью «писателей», я попросил дать мне листок бумаги. Почитал, в записке на имя начальника главка от лица Розенберга сообщалось, что я крайне грубо отношусь к высококвалифицированным специалистам, без должных оснований обвиняю их в проблемах, не связанных с их функциональными обязанностями. Письмо было не закончено, очевидно, что если бы я не вошел, описание моих недостатков могло продолжиться.
Ушел с незаконченным письмом к себе в кабинет начал осмысливать, что делать. Пригласил секретаря парткома А. А. Статинова, показал ему письмо, рассказал, что ему предшествовало. Статинов взял письмо и сказал, что нужно советоваться с И. П. Людоговским – первым секретарем Октябрьского райкома партии. Через пару дней меня и А. Статинова пригласил к себе И. П. Людоговский и спросил, какое у меня мнение по поводу дальнейшего сотрудничества с В. Ким. Я сказал, что в моей практике раньше ничего подобного не было и поэтому определенного мнения по ситуации не имею. Людоговский высказался твердо. Он сообщил, что ранее в райком поступала информация о том, что служба главного инженера в ущерб вопросам обеспечения технологической дисциплины на основных производствах чрезмерно много уделяет внимания разработкам второстепенного характера. Причину этого люди видят в желании ее руководителей получать высокие денежные вознаграждения. От себя он добавил, что неудовлетворительное состояние основных фондов, которое сложилось к моему приходу на завод связано с теми же проблемами. Почему с вашим приходом их удалось решить за полтора года, тогда как раньше были сплошные оправдания. Болел несколько лет один человек – директор предприятия, но все остальные шесть с половиной тысяч работников во главе с главным инженером исправно получали зарплату и высокие премии. Видя, что этих доводов было недостаточно для принятия мною решения, Людоговский продолжил. Он сказал, что для качественной оценки ситуации необходимо учитывать национальный состав инженерно-технических работников завода. Тебя захотели поссорить не столько с главным технологом завода, а конкретно с А. Я. Розенбергом, безусловным лидером еврейской общины завода, и если не проявить твердости в данном случае появится много проблем. А. Статинов придерживался позиции первого секретаря. В заключение Людоговский сделал жесткое заключение: «Подумай, но я скажу тебе свое мнение – если ты не станешь ставить вопрос перед главком об уходе В. Кима, то его поставит райком». Я попросил пару дней, для того чтобы определиться со своей позицией.
На следующий день пригласил к себе А. Розенберга и попросил его объяснить причины написания письма. Привел доводы о том, что критика группы прядильщиц в мой адрес была обоснованной, и я считаю справедливым, что они вели со мной разговор на повышенных тонах. Соответственно, он должен признать мое право на выбор характера разговора с ним, тем более, что тема уже неоднократно обсуждалась. Неожиданно он расплакался и сделал признание, которое меня удивило: «Я виноват и должен вам признаться во всем. Вы помните тот ужин на “Лавсане”, который был организован по случаю приезда первого замминистра Л. И. Осипенко. От “Лавсана” главным представителем были Вы, а от ЗИВа В. Ким. Он тогда взял меня с собой, и это было очень почетно. Л. Осипенко в своем тосте сказал, что оба могилевских предприятия химических волокон успешно работают и пользуются заслуженной славой в отрасли. Во многом это связано с тем, что на важнейших участках стоят молодые люди с прекрасной инженерной подготовкой. Далее он сказал, что у них прекрасное будущее один из них в ближайшее время станет директором крупного предприятия, другой – замминистра. Через пару недель Вы стали директором нашего завода, после этого Ким мне сказал, что он ожидает своего назначения на должность замминистра. В ожидании того, что это произойдет в ближайшее время, прошло больше года, и весь этот период он требовал полной поддержки его действий. Боясь за себя, я вынужден был выполнять его требования, в том числе и по противодействию Вашим инициативам. Все это привело к написанию жалобы». После этого откровения мне пришлось поверить в обоснованность позиции райкома партии. При принятии решения мной учитывались и другие обстоятельства. Ким имел специальность, не соответствующую профилю предприятия, в молодости он закончил Астраханский рыбный институт. Выполняя в основном административные функции, при наличии в окружении опытных заводских технологов у него не возникла потребность в глубоком изучении особенностей процесса. Его способность к быстрой организации исполнения различных программ породили на заводе шутку о том, что энергию надо измерять не единицами в один ватт, а в один ким. Но для должности главного инженера важно прежде всего умение дать критическую оценку всех сторон программы, в том числе оценить ее влияние на безопасность. Сочетание высокой энергичности с незнанием деталей на химическом производстве крайне опасно. Отрицательно на дела влияло и то, что обе личности в тандеме Ким-Розенберг были натурами увлекающимися. Рутинные обязанности они зачастую приносили в жертву необоснованным идеям.
В. Ким был уволен с предприятия в связи с переходом на другую работу. Главк ему предоставил должность начальника лаборатории экологии в ведущем отраслевом институте, выделил квартиру в подмосковном городе Мытищи. Через некоторое время проблемы с обрывностью были устранены, при этом обнаружилось, что возникли они в связи с переводом производства шелка на работу с повышенной скоростью формования. Для действующего оборудования скорости уже были предельными, и их увеличение даже на пять процентов негативно сказалось на качестве нитей. Переход был осуществлен в порядке выполнения рационализаторского предложения главного инженера без должной проверки новых режимов в малых масштабах, что являлось грубым нарушением действующих норм. Конечно, определенная доля ответственности за возникновение проблемы ложилась и на меня, я должен был знать о внесении изменений в режимы, и критика прядильщиц в мой адрес была справедлива.
На должность главного инженера ЗИВа был назначен М. Г. Титов, до своего назначения работавший в должности замдиректора по коммерческим вопросам. Ранее он прошел хорошую школу на различных производствах завода. Учитывая громадный опыт и знания технологии А. Розенбергом, несмотря на то, что его действия нанесли большой ущерб, он был сохранен в прежней должности. Думаю, что при проведении консультаций и принятии решения определенную роль сыграл и национальный фактор.
До прихода на завод мне казалось, что система управления предприятием достаточна одномерна: директорский корпус, начальники производств и служб, начальники цехов, начальники смен. Через некоторое время понял, что в условиях социализма в стране сформировалась многоплановая система управления и добиться успеха можно только в случае четкого функционирования всех форм влияния. Наряду с административными каналами управления на заводе было хорошо отлажена работа по линии партийного комитета. Его возглавлял А. Статинов. Он прекрасно разбирался в людях, понимал их устремления и сумел вырастить свой актив, состоящий из пропагандистов и секретарей цеховых партийных организаций. Как правило, их выбирали из числа авторитетных инженеров среднего уровня, к этой работе тянулись и молодые люди, желающие обратить на себя внимание. Аналогичная сеть был сформирована по линии профсоюзной организации. Цеховые профсоюзные организации во многих случаях возглавляли опытные рабочие. Эффективной формой повышения качества работы были цеховые собрания. Поощрялся критический настрой при их проведении, «начальству» на них иногда крепко доставалось. Для поддержания обстановки соперничества триумвират: дирекция, партком и профком на каждом этапе развития завода выращивал новых трудовых маяков. Как правило, критерием их достижений был уровень досрочного освоения пятилетнего задания. Наиболее способные становились на обслуживание двойного количества машин. Лучшие участвовали во всех торжественных мероприятиях, награждались высокими наградами. Им разрешалось «после консультаций в парткоме» выступить на собрании или партийной конференции с критикой дирекции и даже городских партийных руководителей. В этом плане завод был уникальным не только в Республике, отрасли, но и масштабах страны. В начале 1970-х годов на заводе трудились три Героя Социалистического труда. В подтверждение привожу копию одной из страниц юбилейного буклета. Большая группа работников, в составе ее директор завода, перемотчица Н. П. Королева были удостоены Ордена Ленина. Награжденные были во всех отношениях очень яркими людьми.
Награжденные были во всех отношениях очень яркими людьми, для меня было интересно наблюдать за процессом роста З. В. Бондаренко и Р. И. Савицкой.
Уникальным по меркам отрасли и Республики был и заводской Дворец культуры. Невозможно в нескольких тезисах рассказать о его громадной роли в жизни и коллектива завода, и населения всего города. Более пятисот детей всех возрастов регулярно занимались танцами, к зрелому возрасту многие из них достигали профессионального уровня. Зал дворца вмещал шестьсот человек, и те работники, кому доставался билет на праздничный концерт, были чрезвычайно рады. Все гадали, чем в этот раз их удивит танцевальный ансамбль.
Дворцом руководил Мамикон Киракозов по происхождению тбилисский армянин. Он же был постановщиком всех танцев. Его творческой музой и по совместительству руководителем танцевальных групп для детей от семи до десяти лет была дочь латышских стрелков Эльвира Петровна. Они были примерно одного возраста, но далеко ни одного роста, что неизбежно вызывало при встрече улыбку. Танцевальный ансамбль завода неоднократно приглашался в другие страны, побеждал на многих конкурсах. Высокое мастерство ребят и художественного руководителя позволило коллективу поставить многие танцы из репертуара ансамбля Игоря Моисеева. Сам Киракозов искрил добрым юмором, мастерски играл роли в пантомимах, причем не только на сцене, но и в жизни. Одна из них, исполненная еще до моего прихода на завод, стала легендой.
На заводе были трудности с сырьем. В. П. Ким со свойственной ему изобретательностью предложил поехать в Москву, пробиться на прием к министру Костандову и убедить его дать согласие на использование мобилизационного резерва. Ясно, что к министру попасть невозможно, но если взять с собой М. Киракозова, то помощники не осмелятся остановить встречу двух земляков. Собрался интернациональный коллектив: В. Ким, А. Розенберг, А. Цедик и М. Киракозов. Заказали четыре билета СВ в кассе на станции Орша. Приехали туда на машине к одиннадцати часам ночи. Обратились в кассу за билетами, а им говорят, что есть только два билета СВ, двум другим могут предоставить только плацкартные. Раздумывать не стали, В. Ким и А. Розенберг взяли СВ, коллегам постарше вручили плацкартные. Разошлись по разным вагонам. Утром перед Москвой В. Ким заказал два чая в свое купе, ждет. Чая нет, проводник бегает по коридору и все что-то носит в купе, расположенное в другом конце вагона. Ким не выдержал, остановил проводника и строго напомнил о чае. Тот взмолился: «Все помню, но ради бога простите меня, у нас такое ЧП. Далее он рассказал о том, что ночью “эти идиоты в Орше”, вместо того чтобы отдать резервные билеты начальника поезда заслуженному человеку, впихнули его на верхнюю боковую полку плацкартного вагона. Его сопровождающий пошел к начальнику поезда, и тот привел обоих ко мне. Начальник дал указание накрыть хороший стол, и мы вчетвером славно посидели. Расул Гамзатов нам читал свои новые стихи, такого прекрасного и в то же время простого человека я еще не встречал. Побегу отдам им свежие бутерброды и немедленно принесу Вам чай. Очень прошу извинить. Ким не сдержал любопытства и пошел за проводником, чтобы взглянуть в проем двери на знаменитого поэта. В купе сидели и наслаждались завтраком М. Киракозов и А. Цедик. Киракозов, увидев лицо Кима за спиной проводника, мгновенно поднялся и обнял Кима. Прошептав ему что-то на ухо, он широкими жестами, демонстрируя кавказское гостеприимство, пригласил его к столу. Тот пытался отказаться, ссылаясь на оставшегося в купе товарища. Пригласили и товарища, остаток дороги пролетел за разговорами о поэзии. В Москве Костандов решил все вопросы, отказать земляку он не мог.
За все время работы в качестве директора ЗИВа и объединения мне не пришлось сделать ни одного подарка руководителям. Это нельзя связывать с особенностями моего характера, просто было такое время, за редким исключением никто это не делал. Не было намеков ни со стороны руководства министерства или партийных органов, не было мне известных примеров для подражания. Один раз я попытался сделать небольшой подарок одному из заместителей начальника главка, но, к моему счастью, дарение не состоялось. В период работы директором ЗИВа один из выходных дней я провел на охоте. Она была удачной, и мне досталась солидная порция туши кабана. На неделе я выехал в Москву решать вопросы по новой технике, решил взять с собой заднюю ногу, чтобы вручить заместителю начальника главка. Поехали вместе с главным экономистом А. Г. Цедиком. При приезде обнаружилось, что будущий получатель подарка срочно вылетел из Москвы на один из сибирских заводов и его до конца недели не будет. Я решил свои дела, дал указание Цедику остаться до понедельника и самому вручить подарок. В тот период все мы с большим трудом устраивались в гостинице постпредства БССР. Это был старинный особняк с большими комнатами-залами, в каждой из которых стояло по шесть–восемь коек. К вечеру они все были заняты директорами белорусских предприятий или их заместителями, специалистам рангом ниже, как правило, мест не доставалось, и они должны были ехать на ночь в гостиницы на окраине Москвы. В ту поездку нам повезло, мы с А. Г. Цедиком спали вместе в зале Чайковского. Так называлась комната в гостинице совершенно круглой формы, в которой по окружности торцами вплотную к стенам стояло восемь кроватей. Холодильника не было, туалет в коридоре, душ отсутствовал. Мясо пришлось повесить за форточку. Я вернулся в субботу в Могилев, вошел в подъезд своего дома и был поражен сильным запахом мочи при входе. Подумал, что раньше этого никогда не было, значит, и до нас добрались хулиганы. Но при подъеме на мой третий этаж я почувствовал, что запах усиливается. Дверь мне открыла жена с категорическим заявлением: «Забирай своего кабана, и чтобы больше я его не видела. Начала его жарить, хотела к твоему приезду приготовить завтрак, но тут же прекратила и уже полчаса проветриваю квартиру». Оказывается, сезон охоты заканчивался, и мы убили матерого самца, который в этот период несет в себе запах мужских гормонов. В выходные дни пытался связаться с Цедиком, который остался в Москве для вручения подарка, но этого не удалось сделать. Вечером в понедельник он позвонил сам. Я со страхом спросил, удалось ли выполнить мое поручение. Цедик ответил: «Только наполовину». Во мне все опустилось, и упавшим голосом спросил: «Как наполовину?» На что он ответил: «Передал, но не заму главка, а уборщице гостиницы. Я вытащил мясо из форточки в воскресенье, а оно, похоже, испортилось из-за теплой погоды, и я решил так будет лучше». Я готов был целовать телефонную трубку за такую удачу и творческий подход к поручениям Цедика. С тех пор я никогда подарки не пытался вручать.
Принимать подарки на ЗИВе тоже не приходилось. Исключение составил один случай. Однажды утром пошел на работу и чуть не споткнулся – у двери стояло полное ведро черники, обвязанное марлевой повязкой. Пришлось занести домой. Через полгода узнал, что это сделала одна работница, которой на личном приеме я решил вопрос предоставления места в детском садике.
Город Могилев невелик по размерам и численности населения и потому директор крупного предприятия и члены его семьи находятся всегда под пристальным вниманием коллег и сотрудников. Образ жизни членов семьи в этих условиях в значительной степени влияет на общие оценки руководителя. Интересно, что находясь среди жителей города, ты можешь не знать, что рядом с тобой стоят твои сотрудники. Однажды я чуть было не попал в историю, которая могла бы повлиять негативно на мою репутацию, но, слава богу, все обошлось. Где-то в августе, я на личной машине «Москвич-412» возвращался с заводской базы отдыха Межисетки. Торопился, потому что в Могилеве у меня была назначена встреча по теннису. Проезжая по шоссе в районе Межисеток, увидел на остановке женщину с ребенком на руках. Свободной рукой она интенсивно махала, давая понять, что ей требуется помощь. Обычно я не останавливался на дороге, боялся, что в случае аварии придется отвечать за травмы подобранного на дороге попутчика. Но подумал, что ребенку, может быть, нужна медицинская помощь и я не вправе проехать мимо. Остановился, пригласил женщину в машину, она тут же повернулась назад и кому-то помахала рукой. Подошел мужчина, стоявший метров в десяти в стороне от остановки, и я понял, что это ее муж. Семья «артистов» села в машину, и мы поехали. Проехав километров пять в сторону Могилева, женщина вдруг «ойкнула» и после некоторой паузы обратилась ко мне: «Извините нас, пожалуйста, но мы второпях на остановке оставили ведро яблок, очень просим вас вернуться за ними». Молча повернул машину, доехал до остановки. Женщина обрадованно взяла ведро, и мы взяли снова курс на Могилев. Приехали в город, женщина назвала адрес, ее дом оказался по маршруту моего движения. Подъехав к нему, я остановил машину и помог семье выйти. Ребенка на руки взял муж, а женщина, покопавшись в сумочке, протянула мне три рубля. Я категорически замахал руками, открыл переднюю дверь и сел за руль. Женщина открыла заднюю дверь и попыталась передать мне деньги через сиденье. Вновь сказал нет, она закрыла дверь и пошла к мужу. Я тронулся с места, но вдруг что-то меня осенило, я повернулся назад и увидел на заднем сиденье злополучную трешницу. Пришлось остановиться, взять ее и догнать семью. Женщина поняла мои намерения и уже в свою очередь замахала руками. Сунул деньги в ее ведро яблок, хотел повернуть назад и вдруг услышал: «Большое вам спасибо, вы так выручили нас, Александр Александрович».
У меня, как говорится в таких случаях, челюсть отвисла от неожиданности. Не прояви я настойчивость перед этой артисткой, прослыл бы директором завода, по совместительству подрабатывающим таксистом. Это всего лишь один случай из многолетней жизни в Могилеве, но, надо сказать, под пристальным взглядом членов коллектива каждый день в течение многих лет находился не только я, но и все члены моей семьи. Оценки их поведения в значительной степени отражались на мнении людей обо мне. Хорошо, что мои близкие в этом плане не создавали проблем. Жена работала инженером-исследователем в ЦЗЛ, сын хорошо учился, занимался самбо, ездил регулярно в заводские пионерские лагеря. Теща вместе с другими своими сверстницами обрабатывала огород на дачном участке в шесть соток, который мы получили на общих основаниях в кооперативе «Лавсана». Чтобы не отвлекать свои силы на стройку купил старый дом в деревне размером шесть на четыре метра, вылечил подгнившие в отдельных местах бревна вставками, приклеенными эпоксидной смолой, построил сам веранду и стал наслаждаться обустройством дома и участка. При этом нельзя сказать, что такое поведение было чем-то особенным. В то время его придерживались все руководители.
Но далеко не все в жизни директорского корпуса отрасли и работе было безгрешным. Продолжая работать в должности директора завода, летом 1975 года я получил возможность ознакомиться с действиями высшего «карательного» органа ЦК КПСС – комиссии партийного контроля, на партийном лексиконе – КПК. В апреле 1975 года в Светлогорске проходило очередной ежеквартальный совет директоров. К тому времени накопилась большая практика их проведения по простой схеме. На три дня директора отрываются от работы, собираются на одном из заводов отрасли совместно с руководителями главка, начальниками его подразделений. Отстающих руководителей отчитывают как плохих студентов, успешные – делятся передовым опытом. Как правило, работа в нормальном режиме проходит в течение первых шести часов, далее концерт художественной самодеятельности и ужин. За ужином многие директора отрываются по «полной». Объяснения достаточно логичные: «Ребята по три месяца находятся на виду своих коллективов, партийных органов, ведут себя как святые, не грех, если они позволят себе расслабиться на один-два дня. Завтра их снова ждет тяжелая работа».
В Светлогорске не обошлось без ЧП. Одному из директоров, молодому парню, в вечер, предшествующий пленарному заседанию местные летчики в ресторане крепко побили «морду». Ссора произошла из-за девчонок. Как шутили потом коллеги, наш директор вел себя по отношению к ним как на своем заводе, забыв, что в чужом городе у него несколько меньшие возможности. Неудачливому директору из-за слишком больших синяков на лице пришлось слушать выступление руководства и своих коллег, находясь в кинопроекторной зала совещания. Этот случай создал некоторую настороженность, и поэтому все остальные части программы отличались более деловым подходом. По окончании совета все собрались на обед, и по традиции на нем необходимо было принять решение о месте проведения следующего совета директоров. В разгар обеда я предложил провести это мероприятие в Могилеве на ЗИВе. Доводы были скромные: «Завод к тому времени пустит первое в стране производство целлюлозной сосисочной оболочки. Вы ознакомитесь с новой технологией и попробуете свежие сосиски». Предложение не вызвало энтузиазма. Возникла пауза, которую прервал командирский голос нового директора Барнаульского комбината химических волокон Сафонова. Он заявил, что у него есть другое предложение, следующий совет директоров нужно проводить в Барнауле. Интересное предприятие и самое главное – он сможет всем показать Телецкое озеро. Иностранцы платят по десять тысяч долларов, приезжают за шесть тысяч километров посмотреть на эту жемчужину Алтая, а вы все увидите в порядке служебной командировки. Доводы подействовали, все с энтузиазмом согласились.
Через три месяца все директора и представители главка собрались в Барнауле. Утром приехали из гостиницы на совещание с предметами первой необходимости. Руководство главка и края вручило директору комбината Сафонову переходящее знамя. Обсудили в течение двух часов итоги работы отрасли за квартал, сели в автобус и прибыли в местный аэропорт. Далее все развивалось по сценарию проведения войсковой десантной операции: посадка в самолет, перелет до Горно-Алтайска, приземление, посадка в вертолеты, полет в направлении Телецкого озера. После осмотра с воздуха озера, приземлились на площадке в непосредственной близости от воды на местной турбазе. Десантную операцию обслуживали два самолета ЯК-40 и два вертолета, ее организация была прекрасной. К вечеру, когда все участники были доставлены, на берегу озера в непосредственной близости от воды был организован ужин. Перед его началом нам дали краткую справку об особенностях озера. Оно образовалось в древние времена в результате землетрясения. Горы, окружающие реку, обрушились много тысячелетий назад и создали естественную плотину, в результате чего уровень в реке поднялся на несколько сот метров. Излучина реки длиной более ста километров превратилась в красивое озеро. Оно постоянно подпитывается горными ручьями и талыми водами с ледников, и потому температура в нем во все времена года не превышает семи градусов. По указанным причинам купаться в озере не рекомендуется, люди, выпавшие из лодки, как правило, теряют способность к плаванию через несколько минут и погибают. Далее было рассказано несколько красивых легенд, связанных с жизнью народностей, проживающих на берегах озера. В основном в них говорилось о несчастной любви и соответствующих концовках. Завершились они заявлением экскурсовода о том, что озеро очень коварно, оно скрывает следы всех трагедий. Из-за низкой температуры воды тела утопших не подвергаются разложению и потому никогда не всплывают. Эта последняя фраза вселила азарт в отдельных участников совещания. Первым, не побоявшись традиционных последствий, разделся главный инженер из Красноярского завода химволокна. Он был очень полным, но крепким мужчиной, и его вес тянул на сто двадцать килограмм. Очевидно, он не планировал свое показательное выступление и потому прямо в трусах по колено, которые у мужчин принято называть «семейными» смело вошел в воды озера. Проплыл размашистыми русскими саженками на расстояние десятка метров и далее, повернув на девяносто градусов, продолжил плавание вдоль берега. Для меня было ясно, что смена курса связана со страховкой, желанием остаться вблизи берега. Но со стороны это смотрелось как демонстрация спортивной доблести перед рядами восторженных зрителей, сидевших вдоль берега. Все приветствовали смельчака криками, раздавались восторженные возгласы: «Вот это Сибирь, вот настоящий сибирский мужик». На финише заплыва ко мне подошел представитель Новополоцка и сказал, что нам белорусам нельзя уступать сибирякам. До полета мы с ним обсуждали детали поездки и пришли к выводу о том, что обязательно надо покупаться в Телецком озере, соответственно одели плавки. В этом разговоре участвовал и представитель одного из московских предприятий. Но тогда мы не догадывались о реальной температуре воды семь градусов по Цельсию. Подошел наш третий коллега и заявил, что Москва готова. Через несколько минут после окончания первого заплыва, мы одновременно вошли в плавках в воду, и надо же случиться такому совпадению – все трое поплыли хорошим кролем. Отошли на несколько десятков метров от берега, развернулись и параллельными курсами пошли вдоль берега. Проплыли несколько десятков метров. Я не боялся за себя, так как в связи с внутриутробным воспалением легких, «заработанного» в январе 1942 года в Челябинских степях, все юношеские годы много делал для закалки организма. Оказалось, что мои коллеги прошли подобную школу. Мы вышли из воды под восторженные крики зрителей – участников совещания: «Вот это Европа, вот это Москва». Больше заплывов не было, все увлеклись ужином, который затянулся до темноты.
На следующий день после завтрака сели на небольшой речной теплоход и поплыли вдоль озера. Картина была очень впечатляющей, водная гладь шириной от ста до трехсот метров была с обеих сторон обрамлена скалистыми высокими утесами поросшими деревьями различных пород. Выделялись вековые кедры. Проплыли большое, расстояние сделали первую остановку у знаменитого водопада.
Собрались все под его струями, сделали несколько снимков, которые, как оказалось впоследствии, приобрели документальный характер. Сели на теплоход и поплыли назад, через некоторое время все высадились на остром обрывистом мысе, выступающем в воду метров на сорок от кромки берега. Там уже все было готово к обеду. Салаты, водка, шашлыки, все было расставлено на простых столах из грубых досок. Оказывается, что мыс был овеян легендами и устроители обеда постарались воспроизвести обстановку времени, в котором они рождались. Аппетит на свежем воздухе был нагулян хороший и первую порцию шашлыков под сладкую водку из алтайской пшеницы «смели» быстро. Но здесь оказалось, что не всем они понравились. Директор одного из среднеазиатских заводов, заявив, что разве так делают шашлыки, отодвинул в сторону заводских поваров, сам взялся за изготовление новой партии. Подручных у него было много, шампуров хватало, и дело закипело. Первые же порции привели всех в восторг, и народ стал выстраиваться в очередь за шашлыками Ахмеда. Скоро слава о них дошла и «до нижних этажей». Оказывается такие возникли вопреки категорическому предупреждению – к воде не приближаться. Группа директоров волжских предприятий, которые, как они потом сказали, не могут «по жизни» выпивать в отдалении от воды, обнаружили у основания мыса со стороны противоположной от причала пятиметровую полоску гравия, нашли выход на нее и там наслаждались видом на озеро, тишиной и блюдами алтайской кухни.
Узнав об успехах нового повара, они начали кричать снизу: «Ахмед, дорогой брось и нам пяток шашлыков». Ахмед, польщенный к тому времени высокими оценками, сам разносил произведения своего искусства, продолжая собирать восторженные отзывы. Это его и подвело. Среагировав на просьбу, он взял пяток свежеприготовленных шашлыков и подошел на голос к краю каменистого, заросшего редкой травой, крутого спуска. Снизу продолжали поступать просьбы, но Ахмед не видел заказчиков и не знал, куда следует бросать шашлыки. Он сделал пару шагов по крутому склону обрыва, поскользнулся и полетел вниз. Пролетев метров пятнадцать по крутому почти вертикальному склону, он в крови, покрывающей все тело, свалился в центр застолья заказчикам шашлыков. Это произошло столь стремительно, что он не успел выпустить свои гостинцы из рук. Народ к тому времени уже «созрел», но информация о том, что Ахмед разбился, довольно быстро всех отрезвила.
Начали обсуждать, что делать. Наша группа, участвующая в показательном заплыве, сидела за одним столом, мы с удовольствием ели шашлыки, но от водки отказались. Для оправдания своей трезвости играли в преферанс. В. П. Семенов – замначальника главка понимал, что из всех участников пикника наша группа более всего подходила для оказания помощи пострадавшему. Он отозвал меня в сторону и попросил принять меры по доставке его на теплоход. Спуск к полоске гравия был очень крутым, и по нему было невозможно поднять Ахмеда, он весил более ста килограммов. Эта особенность мне уже была известна по событиям, произошедшим ранее год назад на совете директоров в Даугавпилсе. Тогда поздно вечером я сидел в номере гостиницы, позвонил представитель главка и попросил одеться и спуститься вниз. Спустился, меня подвели к микроавтобусу и попросили помочь Ахмеду без шума добраться до своего номера. Мы перепробовали несколько вариантов помощи и пришли к единственно возможному. Мне погрузили его на плечо, при поддержке двух сопровождающих я внес его в лифт и далее доставил до кровати. Когда же его стали раздевать для сна обнаружили, что где-то по пути потерялась одна туфля. Бросились вниз, чтобы обследовать «рафик», но он уехал. На следующий день знающие эту историю директора подшучивали над тем, что у меня по молодости нет опыта транспортировки старших товарищей: «Под ноги смотришь, а на ноги клиента никакого внимания». К полудню Ахмед явился на заседание совета в новых туфлях и был встречен аплодисментами. Очевидно, Ахмед, для того чтобы не повторить прошлогоднюю историю и взялся за поварские обязанности, но, к сожалению, ситуация вновь оказалась не в его пользу. Подошла медсестра и сказала, что у пострадавшего может быть серьезная травма позвоночника и поэтому его можно переносить только в горизонтальном положении и на носилках. Нашли на теплоходе носилки, спустили вручную на воду лодку и, обогнув мыс, подплыли к песчаной полоске. Ахмед лежал без движения весь в крови, в шоковом состоянии никого не узнавал. Положили на носилки, далее поместили их в лодку, подплыли к кораблику. Очень рискованной была операция переноса носилок с пострадавшим на борт теплохода. По прогибающимся даже под весом одного человека мосткам, брошенным под большим уклоном с судна на берег, нужно было двоим пронести третьего. Шли медленно, делая следующий шаг только после того, как вибрация от предыдущего движения прекращалась. В памяти были рассказы экскурсовода о коварстве воды в озере. Он нам дал справку, что вертикальные стенки мыса продолжаются под водой и глубина непосредственно у берега составляет несколько десятков метров. Я и мой напарник понимали, что в случае падения пострадавшего прямыми виновниками его гибели будем именно мы вдвоем. Слава богу, все прошло нормально. Вслед за этим на пароход быстро сели все участники пикника, повара и обслуживающий персонал погрузили утварь, оставшиеся продукты. Теплоход отплыл в сторону турбазы – нашего места проживания. Подплыли к турбазе, Ахмеда перенесли в один из фанерных туристических домиков, разгрузили оборудование и продукты. Участники совещания потребовали продолжения его работы по программе. Повара засыпали уголь в шашлычницы, подготовили шампура, нарезали овощи для салатов, работа всего конвейера была быстро восстановлена. Благо, что водка, упакованная в специальные коробки, не успела нагреться. В. П. Семенов сразу же после прибытия на турбазу поручил найти ее директора и врача. Директор нашелся сразу же, сообщил, что врача в штатном расписании нет, но на другом берегу озера есть больница, руководит которой опытный врач. Пришли к выводу, что пострадавшего надо доставить срочно туда. Теплоход к тому времен ушел с группой туристов, и транспортировку больного можно было осуществить только на металлической моторной лодке. На Волге такие лодки называются «казанками» по месту их производства. Директор предложил в помощь двух крепких парней, но Семенов сказал, что операцией будет командовать Петров. Я уточнил, кто из ребят лучше знаком с мотором, попросил его подвести казанку к месту погрузки. Парень завел лодку, продемонстрировал на коротком участке ее исправность и свою квалификацию. С лодки сняли пластмассовый козырек, на носовую часть постелили одеяла, на них положили Ахмеда. Парень сел за мотор, я встал вплотную к носовой части и крепко обнял за руки Ахмеда. Отчалили, в спокойном темпе пошли к другому берегу. Озеро в этом месте имеет ширину не более четырехсот метров, с учетом расположения больницы расстояние до нее не превышало одного километра. Казалось, что мы пройдем его без проблем за несколько минут. Однако мы не учли коварства озера, о котором говорил экскурсовод. При подходе к середине неожиданно вдоль озера подул сильный ветер, и он сформировал большую волну. Это была далеко не та трехметровая волна, о которой предупреждал во время лекции экскурсовод. Высота гребня не превышала две трети метра, но для нашей лодки, в которой два стокилограммовых мужика фактически находились на верхней носовой палубе, и при таких размерах она была очень опасна. В нарушение всех правил центр тяжести лодки из-за неправильного расположения груза был смещен снизу вверх и одновременно с кормы на нос. Лодка зарывалась в волну и реагировала сильным боковым наклоном на каждый ее удар. Мы оказались в центре зоны волнения, возвращение назад было так же опасно, как и движение к цели. Ахмед по сильной качке понял ситуацию, побледнел, но ничего не говорил. В 1950-е годы я жил на Волге в небольшом городе Рыбинске. С тринадцати лет, готовясь к новым сражениям, с друзьями ходил в многодневные походы на шлюпках ДОСААФ по Волге, участвовал в спасательных операциях на Рыбинском водохранилище. В Белоруссии освоил хождение под парусом и вождение моторной лодки. Опасность возникшей ситуации мне была полностью понятна. Парень имел хороший опыт, мы обменялись несколькими фразами и выработали план действий. Повернули лодку для движения по направлению ветра, снизили скорость, приравняв ее к скорости волны, переместили Ахмеда ближе к центру лодки. Двигаясь таким образом вдоль озера, мы медленно приближались к противоположному берегу. Больницу мы проскочили достаточно далеко, но, когда подошли к спокойной прибрежной зоне, повернули назад и быстро доплыли до цели. С обеих берегов за нашей опасной «одиссеей» наблюдало много зрителей, ее успешное завершение они приветствовали аплодисментами.
Работники больницы положили Ахмеда на носилки и понесли к корпусу, удаленному метров на сто от воды. Главврач больницы оказался земляком Ахмеда, весь путь до больницы они разговаривали только на своем языке. На входе в корпус вся группа остановилась, главврач отвел меня в сторону и сказал, что ситуация ясная, у пациента поврежден позвоночник и во избежание самого худшего его необходимо поместить в краевую больницу, только там имеется специальное оборудование. Передайте вашему руководству, что нужно срочно вызывать санитарный вертолет. Я не стал уточнять у главврача, каким образом он сумел, не осматривая больного, установить диагноз, понял, что он делает все правильно в пользу спасения своего земляка. Вернулся на турбазу по совершенно спокойной воде и дословно передал его слова В. П. Семенову. Он поблагодарил меня и стал принимать меры по организации транспортировки Ахмеда. Через некоторое время сообщил, что вертолет будет только завтра. Я вернулся на берег к участникам совещания. Отдельные из них уже разошлись по своим номерам – фанерным домикам на двух человек, однако большинство продолжало работать по программе. Благо, что был реальный повод – пили за выздоровление Ахмеда. Все сочувствовали ему: ветеран Отечественной войны, прошедший от Москвы до Берлина без единого ранения, так нелепо заканчивает свою карьеру, а может быть и жизнь. Водки оставалось много и уже не имело значение, что она за день нагрелась.
Утром раньше назначенного времени приземлился первый вертолет. Директор завода Сафонов дал указание летчикам перелететь на противоположный берег и забрать там больного. Летчики сказали, что сделать этого не могут, так как вертолет не приспособлен для перевозки больных с травмами типа той, которая имеется у пострадавшего. Специально оборудованный вертолет должен прибыть через пару часов в ранее согласованное время. Сафонову пришлось согласиться. К этому моменту у вертолета собралась группа директоров с портфелями, в основном это были те участники совещания, которые не задержались на его вечернем заседании. Они быстро погрузились в вертолет и улетели в направлении Горно-Алтайска. Вместе с ними улетели В. П. Семенов и Сафонов с супругой. Нам объяснили, что о ЧП стало известно руководству края и надо принимать меры во избежание осложнений. На турбазе остался один из заместителей директора Барнаульского завода. Было дано указание Ахмеда не перевозить, пока не будет получена информация о вылете второго вертолета, теплоход держали в резерве. В назначенное время вертолет не прилетел, несколько позже пришло сообщение, что он потерпел крушение. Рано утром он вылетел на лесной пожар для эвакуации пожарных, получивших сильные ожоги, завис над пылающим лесом и из-за резкого падения аэродинамических характеристик в условиях раскаленного воздуха упал в лес. Остальные вертолеты были направлены на спасение пожарных и летчиков. К этому моменту все небо в ущелье над озером заволокло облаками, началась гроза с сильным дождем. Она продолжалась до самого вечера, пришел прогноз краевой метеослужбы о том, что ненастная погода продлится еще трое суток. Наши фанерные домики оказались не приспособлены к этим условиям, они потекли, постели быстро промокли. На следующее утро нас всех переселили в большой деревянный коттедж, объяснили, что это база отдыха краевого комитета партии. Условия проживания были прекрасными, повара базы, соскучившиеся по работе, нас обслуживали как своих постоянных хозяев. Дождь ослабел, но запрет на полеты сохранялся. Он не помешал нам ознакомиться с местной тайгой. Поразила красота алтайских кедров, высоких сопок, заросших так густо деревьями и кустарником, что передвигаться по ним можно было с громадными трудностями. Красота излучин озера с его темно-синей водой в зеленой сетке, сформировавшейся из ветвей кедра, казалась еще более значительной. Походы в тайгу, купание под дождем в ледяной воде озера, игра в преферанс и шахматы – три дня прекрасного отдыха прошли незаметно. Полеты возобновились, и вечером на третий день было дано указание о том, что утром следующего дня все оставшиеся должны собраться в зоне посадки вертолета. Зная, что за час до назначенного времени на площадку доставят Ахмеда, я пришел пораньше. Сидел рядом с лежащим на носилках Ахмедом и вел с ним беседу. Подробно рассказал ему, как развивались события после его переезда в больницу. Он удивился, узнав, что часть директоров улетела первым вертолетом, пришлось объяснить ему, почему мы его не отправили. После некоторой паузы он мне задал вопрос: «Александр, а хочешь я тебе скажу кто “убежал” первым вертолетом». Я задумался, еще не успел ответить, как он стал перечислять мне фамилии улетевших. В итоге назвал десяток фамилий, и я был вынужден признать, что он не допустил ни одной ошибки. Удивленный я спросил, как он догадался. Он спокойно сказал: «Ты еще молодой, поживешь с мое тоже будешь отвечать точно на подобные вопросы». В назначенное время собрались все оставшиеся директора, прилетели два вертолета, мы быстро погрузились, через полтора часа были на аэродроме Горно-Алтайска. В пятидесяти метрах от места посадки вертолета нас ждал ЯК-40, все детали эвакуации пострадавшего были продуманы. Прилетевшим было предложено выстроиться в плотную шеренгу и строем двигаться в сторону самолета. Мне и моему коллеге из Новополоцка поручили под прикрытием строя директоров пронести носилки с Ахмедом до самолета. Все прошло по сценарию до трапа самолета. Но здесь из-за его большой крутизны пришлось срочно подключать третьего носильщика. Узкий трап при этом создавал большие трудности. Ахмед наблюдал за нашей суетой, нервничал, давал краткие советы. Наконец, все закончилось, носилки были поставлены на пол салона самолета. Наш третий, нервы которого были в момент подъема максимально напряжены, увидел на носилках умиротворенного Ахмеда, расслабился и радостно пошутил: «Теперь спи спокойно, дорогой товарищ». Лицо Ахмеда передернуло, но ответа на слова не последовало. Через час с небольшим мы прилетели в Барнаул. Самолет приземлился к нему подъехал рафик, снова под прикрытием строя была произведена перегрузка носилок. Ахмеда увезли в профилакторий завода на обследование, мы остались в аэропорту дожидаться своего рейса на Москву. До отлета оставалось три часа. Через пару часов стали известны результаты рентгеновского обследования. У Ахмеда оказался сломанным безымянный палец на правой руке, именно в ней он держал злополучные шашлыки и не выпускал их из рук, желая угостить коллег. За час до отлета в Москву лучшего подарка для нас было невозможно придумать. Ребята начали шутить, что Ахмеду повезло благодаря их прямой поддержке: «Мы столько выпили за его здоровье в тот день, что Аллах не мог нас не услышать. Жалко, что у нас в тот вечер к ночи водки не осталось, а то мы бы уговорили его и безымянный пальчик Ахмеда восстановить». Говорят, что Ахмед и сам согласился с этой версией. Он улетел на следующий день обычным рейсом из Барнаула на Ташкент.
Наши проблемы начались несколько позже. Как потом выяснилось анонимные жалобы о том, что на Всесоюзной директорской пьянке, организованной на священном Телецком озере, директор комбината Сафонов угробил человека, были направлены в Крайком партии и ЦК КПСС в тот же день, когда произошло ЧП. Подобная оперативность была связана с наличием на комбинате влиятельных людей, пострадавших в результате его действий, направленных на стабилизацию работы предприятия. Комбинат в течение многих лет не выполнял план, его показатели тянули главк вниз, люди не получали премии. Было проведена неоднократная замена директоров, выросших на предприятии. Ситуация не улучшалась и казалась для крайкома безнадежной. Главк предложил назначить директором «варяга», специалиста из Саратовской области Сафонова. Анкетные данные прекрасные. Вырос на одном из ведущих предприятий химволокон – Балаковском комбинате, хорошо знает технологию. Несколько лет проработал в обкоме комсомола, стал первым секретарем. Далее возглавил крупнейший в Поволжье трест мелиорации. Крайком согласился, и Сафонов переехал в Барнаул. На предприятии он быстро, как ему показалось, разобрался с проблемами и, резко повысив требовательность к руководящим специалистам, за два года добился существенного улучшения работы. Предприятие по многим показателям стало передовым, проведение на нем совета директоров с вручением переходящего знамени можно сказать явилось признанием его достижений. Но на пути к успеху значительное число руководителей пришлось снять с работы, в том числе и тех, которые оспаривали его чрезмерно жесткие методы. В годы наведения порядка он получал всемерную поддержку Крайкома партии, в том числе и по вопросам кадровой политики. Но когда он навел порядок, ситуация несколько изменилась. Возникли вопросы почему «варяг» из чужой области за два года справился с проблемами, а Крайком несколько лет «катил бочку» на Министерство. Соответствуют ли требованиям сами работники Крайкома, отвечающие за промышленность. Это породило настороженность у партийных чиновников. Она значительно усиливалась тем, что Сафонов был не просто директором крупного предприятия, ставшего передовым. Как руководитель комсомола области он прошел школу Саратовского обкома, которая заслуженно считалась одной из лучших в стране. Освоив мелиорацию, он приобрел высокие знания в сфере сельского хозяйства. Отсюда, можно считать, что вырастал серьезный руководитель краевого масштаба, но процесс этот проходил в чужой партийной организации с угрозой для клана ее воспитанников. Все эти факторы привели к тому, что «народ и партия» стали едины в желании избавиться от «варяга», который к тому же успел сделать свое дело – наладить работу завода. Рассмотрением жалоб занималась комиссия партийного контроля ЦК КПСС. Министерство не могло занять твердую позицию, ему нужно было спасать свои кадры, без жертв, в деле, получившем столь громкий резонанс, обойтись было невозможно. Сафонову дали строгий выговор по партийной линии и освободили от должности директора. Я увидел в этом финале повторение некоторых особенностей судьбы В. С. Белявского.
Угроза снятия с работы со всей остротой стояла перед первым заместителем начальника главка В. П. Семеновым. Надо сказать, что он спокойно и мужественно вел себя и на Телецком озере, и затем в период работы комиссии. Спасла его благородная позиция начальника главка Б. А. Мухина, который ранее работал в ЦК и пользовался большим авторитетом. Он значительную часть вины взял на себя, объяснив комиссии, что вся программа в деталях была согласована с ним, и Семенов был всего лишь ее исполнителем. Мы директора, прямые нарушители государственной и партийной дисциплины, отделались легким испугом. В течение двух месяцев работы комиссии, по мере выявления ею нарушений, мы последовательно получили из Главка телеграммы: вышлите срочно деньги в оплату авиационных билетов Барнаул – Горно-Алтайск – Барнаул, далее аналогично по перелетам на вертолете, позже по проживанию на турбазе. Последним пришел счет за проживание на даче Крайкома. Позже пришло указание о переоформлении рабочих дней, проведенных во время командировки на Телецком озере, в дни отпуска без содержания. Таким образом, все расчеты с государством были проведены с бухгалтерской точностью. Как оказалось, все списки составлялись по лицам, изображенным на фотографии у знаменитого Алтайского водопада. Когда я показываю снимок своим друзьям, всегда называю его цену, определенную по сумме претензий КПК. Справедливости ради надо отметить, что все расходы на поездку не стоили и десятой части затрат, которые наши турфирмы дерут с иностранцев. Так, что Сафонов все равно был близок к истине, когда говорил, что мы уложимся в обычные командировочные. К сожалению, сказать ему об этом не пришлось. Он полностью выпал из круга нашего общения. Ситуация в жизни напоминала мне воды Телецкого озера с семью градусами по Цельсию.
В целом два с небольшим года работы на заводе искусственного волокна для меня стали неоценимой школой жизни, и я должен высказать слова громадной благодарности всем работникам завода, руководителям цехов, производств и служб. Жалею, что в личном архиве не удалось собрать фотографии всех, кто способствовал моему росту, помещаю в книге лишь имеющиеся снимки. Важно, что руководство заводом было передано моим соратникам по работе.
Хотелось бы отметить еще одно важное для меня событие, которое произошло в первый год работы на заводе. В 1973 году я близко познакомился с В. К. Гусевым. Он, будучи директором Энгельсского завода ацетатных нитей, приехал в Могилев на отраслевое совещание по новой технике.
Наши должности были формально равны, но он к тому времени имел уже почти десятилетний стаж успешной работы директором более крупного, чем ЗИВ предприятия. Я, пообщавшись с ним лично в течение пары часов, увидел громадную разницу не только между его и моей школой, но и уровнем его и моих прошлых руководителей по Курску и Могилеву. Интуитивно я понял, что это образец для моего самосовершенствования. Дальнейшие события полностью это подтвердили, мы снова встретились через пятнадцать лет.
Не сложилось
Новый виток спирали
Летом 1975 года в МХП было принято решение о совершенствовании структуры подотрасли. В соответствии с ним предусматривалось объединение предприятий, расположенных в городе Могилеве, – ЗИВа и МКСВ. Учитывая масштабы МКСВ, его значение для отрасли и Республики, было принято решение об объединении двух заводов на базе МКСВ. Это автоматически означало решающую роль руководства МКСВ в формировании структуры объединения, будущего статуса ЗИВа, судьбы его руководителей. Я с этим мысленно смирился, полагаясь на здравые действия П. Н. Зернова, с которым у меня за два года работы в качестве директора ЗИВа сохранились хорошие отношения. Однако на деле оказалось не все так просто. В один из летних месяцев в Могилев приехал начальник главка «Союзхимволокно» Б. А. Мухин и провел пару дней на «Лавсане» и в обкоме партии. Мы на ЗИВе понимали, что решается вопрос назначения руководителя объединения, сроках его создания, ждали, когда нас проинформируют. На второй день пребывания Б. А. Мухина мне позвонил П. Н. Зернов и попросил, чтобы я приехал после работы в дом приема гостей в профилактории «Сосны». Приехал, вижу, что на ужине присутствуют Б. А. Мухин, его кадровик, секретарь обкома партии по промышленности В. С. Пилюто, П. Н. Зернов, некоторые сотрудники заводоуправления. Быстро поужинали, Зернов предложил всем потанцевать. Он был уже серьезно пьян и необычно возбужден. Подходил к сотрудницам и давал им указание подходить самим к гостям и приглашать их на танцы. Для меня это новая форма вечерних ужинов «с дамами» была необычной. В один из моментов, когда гости были заняты танцами, Зернов подошел ко мне и сказал: «Поздравляю тебя, ты добился, чего хотел. Сегодня Б. А. Мухиным согласован с обкомом вопрос объединения двух предприятий и назначения тебя генеральным директором». Далее он продолжил: «Я не могу сказать, что это справедливо и правильно, но я удовлетворен тем, что я первым тебя разглядел в Англии, добился твоего приезда в Могилев». Далее он сказал для меня неожиданное. Он признался, что много сделал для выращивания из меня крупного руководителя, но были случаи, когда его «путал бес» и он настраивал людей против меня. Он привел мне в качестве примеров два конфликта с отдельными сотрудниками на ЗИВе, но я его успокоил, что никакого вреда они мне не принесли и ему расстраиваться нечего. Ситуация в некоторой степени повторяла ноябрь 1973 года, но в то же время она серьезно отличалась. Очевидно, за нами наблюдал Б. А. Мухин. После слов П. Н. Зернова он подошел, отвел меня в сторону и сообщил ту же самую информацию: «Я сегодня был в обкоме и согласовал с В. С. Пилюто и вторым секретарем обкома М. С. Кулагиным вопрос твоего назначения на должность генерального директора вновь создаваемого объединения. Будь, пожалуйста, внимателен во всех своих действиях». П. Н. Зернов продолжал выпивать, повышать активность, В. С. Пилюто, видя все это, предложил закончить ужин. Мы все разъехались.
Я понимал, что это первый и очень важный этап согласования, далее должны последовать официальные согласования (с ЦК КПБ, ЦК КПСС), должность генерального директора крупнейшего в стране химического предприятия стала номенклатурой секретариата ЦК КПСС. На все это необходимо время, и я ждал соответствующих вызовов. Решение почему-то затягивалось, начал волноваться. Наконец, было объявлено: П. Н. Зернов назначается генеральным директором нового объединения, А. А. Петров – главным инженером – первым зам. генерального директора. Как мне далее пояснили, ситуация после «тайной вечери» в профилактории «Сосны развивалась не по сценарию, согласованному с начальником главка. П. Н. Зернов на следующий день попросил встречи с вернувшимся из командировки первым секретарем обкома В. В. Прищепчиком, высказал ему сожаление о том, что в отсутствие «хозяина области» его замы М. К. Кулагин и В. С. Пилюто проявили самоуправство и обком не должен соглашаться с этим. Отстранением П. Н. Зернова от должности генерального директора создаваемого объединения Министерство хочет доказать неправильность инициативы обкома по снятию В. С. Белявского в 1973 году и назначении на его место П. Н. Зернова. Эти события проходили всего полтора года назад, для всех они были свежи в памяти. При этом П. Н. Зернов убедил обком и Министерство в том, что он сам хотел бы закончить работу на производстве, но просит дать ему поработать в новой должности всего лишь год. За этот срок он закончит диссертацию, получит звание кандидата технических наук и перейдет на работу в Москву, в исследовательский институт.
В. В. Прищепчик увидел логику в доводах П. Н. Зернова, отменил согласования, и все организации начали поиск компромиссного решения. На назначении меня первым замом настояли райком, секретарь обкома по промышленности В. С. Пилюто, М. К. Кулагин. Все нашли эту программу разумной, гуманной. Что касается меня, то несостоявшееся назначение генеральным директором у меня большого сожаления не вызвало. Мне было тридцать три года и стать в этом возрасте главным инженером крупнейшего объединения в химической отрасли СССР было также почетно. Перспектива прихода на должность генерального директора объединения через год также способствовала воодушевлению. При этом оценка П. Н. Зернова как личности и руководителя для меня, хотя и несколько снизилась за период 1973–1975 годов в связи с появлением существенных трудностей в работе объединения, оставалась высокой. Как ранее указывал, он имел бойцовский характер, обладал высокой способностью к мобилизации в трудный период жизни. При этом эта мобилизация носила, как правило, интеллектуальный, комплексный характер. Она формировалась в его голове в виде стройной последовательной программы действий. Очевидно, он ее создал и в данном случае. Моя работа на ЗИВе закончилась в августе 1975 года, и я был рад, что смог передать управление заводом в руки сильных и уважающих меня людей. Директором завода стал А. Статинов.
События по первоначальному выдвижению моей кандидатуры насторожили П. Н. Зернова. С одной стороны, он отмобилизовался и энергично взялся за организацию объединения, с другой стороны, усилилась ранее наблюдаемая подозрительность к окружающим. Он понял, что все руководители обкома и министерства, участвующие в согласовании кадрового вопроса с Б. А. Мухиным летом 1975 года, остались на своих позициях и при своем мнении по отношению к его и моим деловым качествам. Эта ситуация предопределила характер нашей работы в 1975 и начале 1976 года. Руководители подразделений относились к нам обоим с должным уважением. П. Н. Зернов – действующий директор, А. А. Петров – будущий. Надо выполнять требования обоих. Зернов старался советоваться по всем основным вопросам, включая кадровые, программам создания новых производств. Рабочий день был очень загружен. На полную мощность работали производства первой очереди, требовалось много внимания уделять вопросам выполнения плана, технике безопасности, воссозданию на смежных предприятиях импортных аналогов замасливателей, вспомогательных веществ. Выделяемых валютных средств было недостаточно для приобретения импортных запчастей, приходилось вместе с механиками и инженерами конструкторского бюро и запасных частей расшифровывать секреты и особенности изготовления импортных узлов и деталей, воспроизводить их. Показательной в этом плане была работа по воспроизводству комплектов ножей грануляторов для резки полиэтилентерефталата. При работе ножи одного узла должны были с высокой степенью точности входить в зазоры между ножами другого. Комплект состоял из двух узлов, в каждом из которых было пятьдесят ножей и пятьдесят дистанционных колец. Необходимо было обеспечить точность расположения каждого из ножей одного комплекта относительно «своего партнера» на уровне ±3 микрона по всей длине узла, то есть пятьсот мм. Отклонение от этого требования означало выход из строя комплекта уже в первые часы работы. Решение этой и других аналогичных сложных задач было осуществлено, но каждый раз с момента возникновения проблемы до ее качественного закрытия уходило много времени. Страдало производство, падала технологическая дисциплина. Наибольшее снижение уровня работы наблюдалось на ПКСН. Здесь вырабатывались три основных ассортимента – технические нити высокого и среднего текса и текстильные нити. Каждый основной ассортимент делился на ряд видов. Производство каждого ассортимента включало до восьми технологических операций. Это было финишное производство. В нем выявлялись недостатки, заложенные в полуфабрикатах предыдущих производств диметилтерефталата и полиэтилентерефиката, и накладывались проблемы, связанные с нарушением технологической дисциплины в цехах ПКСН. После отъезда англичан в конце 1972 года произошло постепенное ослабление контроля качества по всем технологическим переходам комбината. К концу 1975 года эти проблемы приобрели столь значительный масштаб, что возникла угроза выполнения плана по одному из важнейших показателей – номенклатуре продукции. В четырехмесячный период обучения в Англии в 1968 году все специалисты были разделены по группам технологических операций. И именно меня обучали правилам контроля качества на производстве технических нитей. В 1972 году я прошел аналогичный курс в Англии по текстильным нитям. По указанным причинам именно мне более всего было видно, в какой степени мы отклоняемся от требуемого уровня работы, и насколько это может иметь тяжелые последствия в дальнейшем. Попытки заострить внимание всех служб к проблемам ПСКН вызвали болезненную реакцию П. Н. Зернова. Я почти два с половиной года работал на ЗИВе, и критику работы ПСКН он воспринял, как критику непосредственно в его адрес. Предпосылкой для такого восприятия было также то, что в период моего отсутствия главным инженером комбината работал И. В. Кудрявцев. Он обладал наивысшей квалификацией среди специалистов объединения в технологии органического синтеза, но не имел знаний в области производства нитей. П. Н. Зернов, будучи генеральным директором, лично контролировал это производство. Необходимо отметить, что и мне далеко не все было понятно в причинах периодического появления массовой обрывности нитей на формовании и вытяжке. Одно дело – краткие заграничные курсы на меньших по масштабу производственных участках с ограничениями, связанными с трудностями перевода разъяснений с английского, и другое дело – поддержание идеальной дисциплины на крупнейшем комплексе с числом работающих более трех тысяч человек. К моменту развития этого конфликта ситуация в статусе моем и П. Н. Зернова существенно изменилась. В. В. Прищепчик, взяв на себя ответственность за решение главного кадрового вопроса в пользу П. Н. Зернова, хорошо осознавал необходимость принятия исключительных мер по его поддержке. Обком фактически стал в большей степени, чем в 1973 году заложником своего кадрового решения и должен был нести свой крест молча. С целью защиты П. Н. Зернова он сделал его делегатом съезда КПСС (первый квартал 1976 года) и выдвинул в депутаты Верховного Совета СССР. Не все союзные министры имели подобное сочетание титулов. С ними Зернов стал недосягаем для любых критиков на многие годы. Перед директором с подобными знаками отличия раскрывались двери всех государственных ведомств. Использование этих возможностей создавали прекрасную перспективу и для предприятия, и соответственно лично для П. Н. Зернова. Ему было сорок шесть лет. Мое присутствие напоминало о другом периоде жизни, унизительном для него. Кроме того, я оставался носителем потенциальной угрозы его замещения. В 1976 году мои требования по исправлению ситуации на ПСКН к руководству производства и служб были признаны необъективными, надуманными. Публично было сказано: «Вы, Петров, за два года работы на ЗИВе своими действиями дезорганизовали технологию вискозного шелка, а теперь вернулись и хотите сделать то же самое на ПСКН». Такую оценку в его интерпретации получил краткосрочный срыв технологии, связанный с повышением обрывности нитей из-за увеличения скорости формования по инициативе службы главного инженера ЗИВа. Мне было предложено не мешать в работе руководству производства нитей.
Это стало отправной точкой для формирования новых отношений между нами. П. Н. Зернов перестал советоваться со мной по кадровым вопросам, начали возникать конфликты между мной и его заместителями. Я понимал свою уязвимость в новой ситуации и постарался принять меры по самосохранению. Стал максимально внимателен ко всем его указаниям, добивался их полного выполнения на производственных участках, перестал вступать с ним в какие-либо дискуссии. Ранее они проходили по вопросам технологии, как правило, один на один. Смирился с его политикой по усилению роли других заместителей директоров, в том числе с неформальным позиционированием некоторыми себя в качестве первых заместителей директора. На всех совещаниях старался ссылаться на отдельные положительные итоги, как результаты выполнения указаний Зернова. Здесь я ничего нового не изобретал, я повторял действия П. Н. Зернова в последние годы его совместной работы с В. С. Белявским. Согласился с тем, что меня, главного инженера, отстранили от работы над новыми проектами третьей очереди – ДМТ, штапель-3. Принял на себя наиболее рутинные функции по обеспечению ритмичной работы действующего производства, техники безопасности, экологии, культуры производства. Это создало определенные комфортные условия для П. Н. Зернова. Он, выполняя функции генерального директора, одновременно выделял время для работы в ЦЛК над своей диссертацией, активно включился в любимую им деятельность – изобретательство, в том числе по основному проекту ЗИВа – сосисочной оболочке, активно участвовал в переговорах с инофирмами, представительствовал на мероприятиях Министерства и ЦК КПБ. Спортивный задор, свойственный в полной мере его натуре, реализовался в тот период неожиданно. Он пристрастился к охоте и стал удачливым стрелком. Среди его трофеев были два волка, кабаны. Охота сформировала круг близких людей, в том числе из его некоторых замов, стала весомой частью его жизни еще и потому, что она укрепляла его контакты с руководством МХП, обкома, ЦК КПБ и Совмином БССР.
В 1973 году еще при В. Белявском по итогам совещания у А. Н. Косыгина была согласована программа строительства производства полиэфирного штапельного волокна мощностью первой очереди – шестьдесят три тысячи тонн в год. Был объявлен конкурс на поставку комплектного импортного оборудования для производства мономера, полимера и самих волокон. Причем ставилась задача закупки непрерывной технологии полимеризации и совмещения ее с формованием волокна. Поставщик оборудования первой мощности ICI (Англия) не смог участвовать в конкурсе, так как ее первая опытно-промышленная установка полимеризации оказалась неработоспособной. Дюпон (США) поучаствовал в переговорах, но затем отказался раскрывать ноу-хау, так как имел громадное техническое превосходство перед всеми. У немцев («Хехст») не было на начало переговоров установки совмещения полимеризации и формования. Но в процессе переговоров они провели большую работу на своем заводе в Спартенбурге (США) и решили эту сложную технологическую задачу. В итоге они предложили требуемое техническое решение и оптимальные финансовые условия. Контракт с фирмой «Уде Хехст» был подписан в 1973 году, в короткий срок было построено здание, и начался монтаж оборудования, пуск которого назначался на конец 1976 года.
Могилевское ПО «Химволокно» продолжало строиться чрезвычайно высокими темпами в соответствии с программой, сформированной в период работы В. С. Белявского. Заканчивалось строительство ДМТ-2, первых мощностей производства волокна № 3, продолжалась работа по созданию совместно с ГДР производства терефталевой кислоты и производства волокна № 2 с установками непрерывной поликонденсации ТФК и формования волокна. Практически восемьдесят процентов всех новых проектов, реализуемых в отрасли, насчитывающей почти сорок предприятий, приходилось на Могилевское ПО «Химволокно». Объединение продолжало регулярно посещать высшее руководство страны и Республики.
П. Н. Зернов оказался хорошим организатором подобных приемов. Он прекрасно усвоил школу своего воспитателя, директора ЗИВа А. Никонова и даже значительно превзошел его. Подготовка объекта, посещение его руководителями, доклад возле макета или карты о ходе строительства, банкет для приезжих гостей, далее охота для министров с участием первого секретаря обкома и председателя облисполкома, руководителями ЦК КПБ, ужин на охотничьей базе. Организация всего этого конвейера была на высоком уровне. Для Л. А. Костандова охота была любимым хобби. Коллеги из его сопровождения говорили, что именно из-за нее он получил первый выговор по партийной линии. В день похорон И. В. Сталина, объявленный днем траура, работая директором предприятия в Казахстане, уехал охотиться на перелетных гусей. Он любил приезжать в Могилев, чтобы после ознакомления со строительством новой установки посидеть на вечерней заре с субботы на воскресенье в шалаше на лесной поляне в ожидании тетеревиных токов. П. Н. Зернов еще более усилил связь с министром, тем что способствовал привлечению зятя Л. А. Костандова – работника «Техмашимпорта», к поставкам импортного оборудования для нашего объединения. Участие в проектах Могилева было прекрасной школой, способствовало росту имиджа любого руководителя подразделения Министерства, так как успех был гарантирован. Много внимания уделялось организации летнего отдыха на лесных базах объединения для работников министерства и их детей. Укрепление авторитета П. Н. Зернова на базе хороших финансовых показателей первой очереди, высоких темпов строительства второй очереди и освоения широкого набора приемов сближения с руководством отрасли и партийных органов при занятии мной позиции спокойной «рабочей лошади», очевидно, снизили актуальность задачи устранения ранее опасного соперника. Кроме того, приближалось завершение строительства цехов ДМТ-2-3 и штапеля-3 – объектов, которые по мощности и технической сложности существенно превышали первую очередь. Вновь потребовался опытный координатор пуска.
В конце 1976 года я был подключен к завершению строительства штапеля, официально приказом был назначен председателем рабочей комиссии по его приемке. Руководил производством В. Магдалинский – мой коллега по производству волокна-1, сыгравший неоценимую роль в его опережающем запуске. Войти координатором и арбитром на завершающей стадии строительства между руководством строящегося производства и строителями всегда трудно. Первые требуют максимума готовности, вторые – ускоренного проведения пуско-наладочных работ и пуска, как правило, неподготовленного в соответствии с требованиями безопасности производства. Но у нас с Виктором Магдалинским был опыт совместной работы и единая идеология по совмещению завершающей стадии строительства и пуска. Мы говорили на одном языке. Но к декабрю 1976 год – сроку ввода объекта по государственному плану, о пуске не могло быть и речи. Проект предусматривал очень высокую плотность установки оборудования и прокладки коммуникаций в производственных помещениях. Линии обогрева с температурой теплоносителя триста пятьдесят градусов проходили вплотную с линиями особо огнеопасных растворителей – метанола и этиленгликоля. Предстояло еще огромное количество сварочных работ, проведение которых в условиях хотя бы одной работающей линии было чрезвычайно опасно.
Мы с Виктором встали на позицию нецелесообразности выделения минимального пускового комплекса для демонстрационного пуска на рабочих средах и выдвинули программу проведения возможных пуско-наладочных работ на водных средах при одновременном завершении сварочных работ по комплексу. Немецкие специалисты поддержали данные подходы. Получить на стройку дополнительных монтажников не удалось. Все они были задействованы на реально пусковых стройках Республики и страны. Не удалось из-за значительного числа строительных недоделок существенно продвинуть и пуско-наладочные работы. В результате штапель-3 подошел к концу декабря с низкой готовностью. Несмотря на это, в Москве и Минске было согласовано решение о приеме объекта рабочей комиссией, что означало подтверждение ее эксплуатации на рабочих (пожароопасных) средах. Затягивание фактического ввода объекта на одну–две недели при представлении официальной отчетности об осуществленном пуске было распространенной практикой тех лет. Но в случае с данным производством требовалось подписать документы о приеме объекта в эксплуатацию за пять–шесть месяцев раньше срока будущего реального ввода. При этом под сфальсифицированный ввод министерство устанавливало план выпуска продукции, соответствующий нормативным срокам освоения мощности. Я попытался убедить П. Н. Зернова, что нельзя принимать объект. Он был непреклонен. Сказал, что приемка согласована Министерством и секретарем ЦК, что он получил гарантии Минмонтажспецстроя СССР и Минпромстроя СССР о том, что с января 1978 года на стройку введут пятьсот сварщиков, и они за месяц закончат все сварочные и монтажные работы. Я не согласился с ним, сказал, что по соображениям безопасности и качества работ это не реально, и поехал к секретарю обкома по промышленности В. С. Пилюто. Он меня выслушал, не получив никаких заверений, я вернулся на комбинат. Через час позвонил ему снова, чтобы узнать его позицию. По словам секретарши, он уехал, и до конца дня его не будет. Как потом оказалось, он проникся моими доводами о шести месяцах и поехал в ЦК КПБ убеждать руководителей в отмене решения. Об этом узнал П. Н. Зернов и сообщил ситуацию В. В. Прищепчику. Тот остановил В. С. Пилюто на въезде в Минск и потребовал немедленного возвращения. Я был вынужден подписать акты приемки объекта. Прошел Новый год к концу января со всей Российской Федерации были стянуты большие силы монтажников и строителей. Но их численность далеко не соответствовала обещанной, число сварщиков не превысило сто человек. Стало ясно, что монтаж и пуско-наладка затянутся на полгода. Зернов понял опасность моих инициатив, нарушающих его планы, и стал меня очень серьезно критиковать. Использовался любой повод, который на производстве нашего масштаба жизнь предоставляла ежедневно. Некоторые близкие друзья посчитали это концом моей карьеры. Ситуация была настолько ясной, что часть из них даже нашла повод не прийти на мой тридцатипятилетний юбилей. Он праздновался скромно в домашней обстановке. Звонки по телефону тех, кто не смог прийти с объяснениями ложных причин, действовали удручающе на пришедших гостей. Он – умный, сообразил, а я здесь сижу и рискую. Но меня новая ситуация не пугала. Хорошо понимал, что «коней на переправе не меняют». Вводились мощности, увеличивающие потенциал комбината более чем втрое, и если уж есть необходимость моего снятия, то надо решать, кто меня заменит в столь трудный и опасный период. У меня сохранялось мнение, что после пуска и освоения первой очереди комбината, прошедшего без единой крупной аварии и человеческих жертв, П. Н. Зернов отводил мне роль своего талисмана, и потому желанию избавиться от соперника противодействовало чувство опасности потери этого талисмана. Он был суеверным и твердо считал, что при любых знаниях производства и требовательности в вопросах техники безопасности руководителю должна сопутствовать удача. 8 летняя практика прошлых пусков показывала, что она сопровождала меня. Главное – я сам верил, что она меня не покинет.
Гуд бай, Америка
Пришлось очень напряженно работать по обеспечению сверхвысокого ритма работы монтажников и подготовить пуск, замаливая свой предновогодний «грех». Для успешного пуска необходима была хорошая практическая подготовка. В марте 1977 года мне поручили стать руководителем группы специалистов в тридцать человек, которые должны были пройти двухмесячное обучение на аналогичных штапелю-3 установках «Хехста» в Германии и США. Безусловно, этот великодушный жест Зернов осуществил по отношению ко мне для того, чтобы я приобрел уникальный опыт по эксплуатации установок высшего мирового уровня. Взялся за организацию поездки. По программе в Германии была полная определенность. При этом по США ясности не было. Необходимость поездки в эту страну была совершенно очевидна, так как фирма «Хехст» только в США на своем новейшем заводе в городе Спартанберг имела установку аналогичную той, которая была продана Могилевскому комбинату. Но из-за проблем с американским посольством Техмашимпорту не удалось до нашего отъезда в Германию оформить визы специалистам, которые по программе после месячного обучения в Германии должны были продолжить обучение в США. В конце февраля прилетели во Франкфурт на Майне. Этот город, относительно небольшой по размерам, во время войны не сильно пострадал от бомбардировок. Он не имел крупных оборонных предприятий, кроме того на финишном этапе войны американцы наметили разместить в нем штаб своей группы войск. Размещение штаба состоялось и это предопределило архитектурный стиль послевоенного развития города. Если большинство городов Германии приняли все меры для того, чтобы сохранить или восстановить прекрасное историческое наследие, то Франкфурт начал копировать облик американских городов, вытягиваясь ввысь. В определенной степени этому способствовало и то, что город облюбовали крупнейшие банки. В итоге через тридцать пять лет после окончания войны в центре Германии сформировался некоторый аналог Чикаго, доминирующими зданиями в облике города стали стеклянные башни в сорок и более этажей. Нам предстояло проходить практику в предместье Франкфурта на заводе «Хехста» в городе Оффенбах. Это было небольшое предприятие по производству полиэтилентерефталата. Оно было примечательно тем, что его специалисты самостоятельно разработали технологический процесс и оборудование для производства полиэтилентерефталата по непрерывной схеме. Именно там, на заводе в Оффенбахе, я обратил внимание на то с какой гордостью немецкие специалисты, представляясь, указывают свой титул: дипломированный инженер или доктор. На заводе нас познакомили с механиком производства, по нашим меркам эта должность по рангу относилась к специалистам среднего звена. Но при этом он был представлен как главный разработчик немецкого аппарата поликонденсации. Именно неспособность специалистов «ICI» решить проблему создания горизонтального аппарата поликонденсации, в котором бы мешалка длиной четыре метра и диаметром почти в полтора метра прилегала бы к внутренней поверхности цилиндрического аппарата точно на величину три миллиметра, не позволила англичанам создать установку непрерывной поликонденсации. Таким образом, простой немецкий заводской инженер лишил английский концерн лидерства в области производства полиэфиров, которым они владели несколько десятилетий. Не менее авторитетной фигурой в производстве полиэфиров был доктор Вольф. Он возглавлял на заводе все технологические разработки в этой сфере, сумел добиться высокого уровня качества и обеспечил успешный пуск нескольких установок непрерывной поликонденсации в Японии, Бразилии и других странах. Его назначили ответственным за обучение нашей группы. И надо отметить, что справился с этой задачей хорошо. Нас поселили на некотором отдалении от Оффенбаха в горной парковой зоне. Гостиница была старенькой и неблагоустроенной. Очевидно, что летом она могла пользоваться у любителей природы большой популярностью, однако в марте она пустовала. Фирма, возможно, поселила нас в нее из соображений экономии. Мы протестовать не стали, так как увидели преимущество в проживании в горной парковой зоне. В. Малых – зам. директора института из Твери сразу же попытался нас привлечь к утренним пробежкам по лесу. Я вначале в них не участвовал, отсыпался, приходил в себя после перегрузки на работе, возникшей перед отъездом. Но через несколько дней понял, что надо бегать. Проблема возникла в связи с тем, что бутылка сухого итальянского вина емкостью семьсот пятьдесят миллилитров в тот период в Германии стоила меньше, чем бутылка молока, и многие наши ребята при покупке припасов на ужин стали отдавать предпочтение итальянскому продукту. Начал бегать сам и агитировать всех «за здоровый образ жизни». Сформировался своеобразный критерий: кто по утрам не с нами, тот с ними – итальянскими производителями. Бесспорным лидером в утренних пробежках был В. Малых – рост выше ста девяносто сантиметров, строен, в молодости мастер спорта по баскетболу. Володя намного опережал нас, и я в этих забегах был даже не вторым. В молодости у меня был первый разряд по лыжам, я входил в тройку лучших лыжников института. И понял, что за четырнадцать лет работы сильно потерял спортивную форму. Проблема прежде всего была связана с тем, что я за эти годы сильно прибавил в весе. Через некоторое время оказалось, что не все так безнадежно: умеренное питание и утренние забеги привели к некоторому снижению веса, отставание от лидеров стало заметно меньшим. Обнаружив это, задумался – прошло десять дней командировки, которая должна длиться два месяца. Если все это время я буду регулярно бегать, то смогу восстановить уровень своей тренированности. Далее в каких бы городах Германии мы ни жили, я каждый день по утрам независимо от погоды бегал.
Учеба была напряженной, занимались в аудитории, расположенной в здании, примыкающем к промышленной установке. В качестве наглядных пособий использовались ее рабочие чертежи. Значительное время проводили в цеху, на месте знакомились с рабочими операциями. Занятие вели ведущие специалисты завода, создатели процесса непрерывной поликонденсации, разработчики технической документации для Могилевского проекта: доктор Вольф и доктор Шнейдер. Нельзя сказать, что установки не были совершенны, они все-таки были результатом творчества заводских специалистов, но не ведущих инжиниринговых фирм мира в области производства полиэфиров. Концерн «Хехст» в своей производственной программе имел большое количество химических продуктов и полиэфиры в ней были далеко не ведущими. В мировой практике было две организации: крупнейший химический концерн мира Дюпон (США) и инжиниринговая фирма “Zimmer” (ФРГ), которые специализировались преимущественно на производстве полиэфиров, и потому их установки имели преимущество перед «Хехстом». Но «Хехст» дал более выгодные условия по ценам и порядку финансирования и потому победил. Установка была простой в обслуживании и надежной в работе. В отличие от установки, закупленной для Могилева, технологический процесс заканчивался гранулированием полиэтилентерефталата, стадии транспортировки расплава до машин формования и само формование отсутствовали.
Учеба проходила по графику, группа успешно осваивала процесс, и через пару недель я пришел к выводу, что мне с несколькими специалистами пришло время заняться выполнением поручения министерства, связанного с созданием новых производств. В тот период завершалось проектирование производства полиэфирных текстильных нитей Светлогорского ПО «Химволокно». Спорным вопросом между Гипроивом и «Уде Хехст» был выбор, типа намоточных головок машин высокоскоростного формования. Монопольным производителем этого оборудования в Европе была фирма «Бармаг». Ее оборудование соответствовало высшим критериям качества, но имело высокую стоимость. Понимая перспективность технологии высокоскоростного формования, фирма «Уде Хехст» приняла решение наладить производство оборудования данного типа на своих заводах. Конструкторские работы продвинулись далеко, были изготовлены комплекты намоточных головок для двух машин формования. Машины были запущены в работу. «Уде Хехст» полагала, что намоточные головки будут доведены до требуемого уровня качества и потому заложила их в проект Светлогорского предприятия. Нам предстояло уточнить, завершила ли фирма процесс доводки, обоснованно ли она заложила в проект свои машины. Лимитная стоимость контракта была уже согласована с партнерами. На третьей неделе «Уде Хехст» проинформировала нас о том, что процесс закончен и можно ознакомиться с работой намоточных головок на заводе в городе Бобингене.
Там мы увидели все новейшие разработки не только по вышеуказанной теме, но и по всем новым разработкам. Я усмотрел в этом негатив – фирма не боится нам их показывать, полагая, что мы из-за технической неподготовленности все равно воспроизвести увиденное не сможем. В процессе ознакомления мы смогли ознакомиться с установкой, сочетающей все лучшие для того времени направления мирового прогресса в области полиэфиров: более прогрессивное сырье – ТФК, непрерывная поликонденсация с подачей расплава на машины высокоскоростного формования текстильных нитей. Все было супер, но финишная часть – высокоскоростная намотка нитей имела серьезные недостатки. На концах паковок просматривались значительные утолщения слоя нитей, последние сотни ее метров имели иную кристаллическую структуру в сравнении с начальными. Фирма при обсуждении технологии перед встречей отрицала негативное значение этого, считая, что на устойчивость процесса дальнейшей переработки и качество нитей эта особенность не повлияет. Однако в нашей небольшой группе было несколько специалистов, хорошо владеющих немецким языком. Руководитель экскурсии был отвлечен для беседы по теме, в это время другие специалисты включились в беседу с цеховым персоналом. Руководство по каким-то причинам не успело его проинструктировать, и он подтвердил тот факт, что процесс доводки далек до завершения. Утолщение паковок на концах влияет на структуру нитей, и поэтому их концы имеют другой уровень окрашиваемости. Решение проблемы не найдено, и какие-либо идеи отсутствуют.
После окончания ознакомления эти слова были доведены один к одному до руководителя со ссылкой на то, что таков вывод наших специалистов и мы в нем не сомневаемся. Для фирмы это стало полной неожиданностью, она попыталась опротестовать точку зрения. Мы же попросили осуществить крашение изготовленной из нитей новой установки ткани на наших глазах. Дискуссия закончилась, фирма подтвердила наличие проблем, эксперимента не потребовалось.
Вернулись в Оффенбах окрыленные успехом. При этом мы понимали, что решена только половина задачи: закрыт доступ в проект недоработанного оборудования. Необходимо было согласовать выбор того, что будет соответствовать задачам проекта. Мы поставили перед представителями «Уде Хехст» условие – показать нам работающие установки фирмы «Бармаг». Время шло, ответ задерживался, чувствовалось, что идет подбор вариантов, итогом которого может стать отказ от оборудования фирмы «Бармаг». Учитывая приближение сроков окончания учебы в Германии, мне пришлось использовать нестандартные приемы воздействия на фирму. Все мы, находясь за границей, убеждались в том, что чемоданы и личные вещи в период нашего отсутствия в гостинице регулярно просматриваются как представителями наших органов, включенных в состав группы, так и работниками службы безопасности фирмы. Зная это, мы использовали такие аналоги почтовых ящиков в своих целях. Я написал краткий отчет – донесение торгпредству, в котором сообщал о негативном реагировании фирмы на нашу просьбу по организации встречи с представителями фирмы «Бармаг». Приводилась версия – «Уде» хочет продолжить линию на включение в контракт для Светлогорского завода своей намоточной головки, несмотря на то, что ее доводка на базе созданной конструкции, по мнению наших специалистов, невозможна. Отчет заканчивался предложением обсудить проблему в Москве в Минвнешторге на высоком уровне. Документ был спрятан за подкладку чемодана. Сработал ли он или другие факторы – сказать трудно, через пару дней поездка на фирму «Бармаг» состоялась. Утром за нами приехало два лимузина «Мерседес-Бенц» с директором фирмы по продажам и начальником технического управления. Познакомившись, сели в машины и отправились по маршруту поездки. С нашей стороны было четверо специалистов, среди них наибольшей квалификацией обладал В. Малых. Согласно программе необходимо было посетить большое число заводов, на которых в последние годы было установлено оборудование фирмы по производству полиэфирных нитей. В итоге сформировался маршрут, которому могли позавидовать участники дорогостоящего VIP-тура. От Франкфурта пошли на город Триер, расположенный на границе с Люксембургом. Осмотрели там предприятие с оборудованием «Бармаг», оно понравилось нам. Именно в этом городе родился и провел молодые годы автор Манифеста Коммунистической партии К. Маркс. Опрошенные нами после выхода с завода местные жители не смогли нам ничего сказать по поводу наличия музея К. Маркса, поэтому мы с чистой совестью зашли пообедать во французский ресторанчик. Впервые попробовал лягушек и, надо сказать, остался очень доволен. Увидев с каким аппетитом я их ел, все мои коллеги потребовали поделиться. После короткого обеда пошли по направлению Кельна, в его пригороде располагался основной завод фирмы. Приехали на завод и несколько были удивлены. На промплощадке фирмы, имеющей мировую известность среди производителей химволокон, располагалось несколько небольших низких старых корпусов, в которых велась сборка машин. Ознакомились со всеми стадиями производства, стали понятными ее масштабы. Фирма в течение многих лет жестко проводила линию на специализацию технологических операций. Разрабатывала новый тип оборудования, подетальные рабочие чертежи и поручала изготовление большинства деталей смежным фирмам. В производственных корпусах самой фирмы осуществлялась только инспекция поступающих деталей, сборка узлов, сборка и обкатка ограниченного числа машин. Большая часть продукции, вследствие высочайшего качества изготовления, отгружалась в виде узлов, досборка осуществлялась на площадке потребителя под руководством шеф-персонала фирмы. Внедрению подобной технологии способствовали значительные размеры серий выпускаемого оборудования, фирма осуществляла поставки продукции на большинство новых заводов мира. Вечер провели в знаменитом местном ресторане в разговорах с президентом фирмы. Он пожаловался, что изготавливаемое ими оборудование прекрасно, но есть один очень существенный недостаток – оно служит очень долго. В результате клиенты десятилетиями не осуществляют его смену. Я рад был усилить это заявление примером из моей практики. Строительство трех первых заводов химволокон в СССР с их пуском в 1930 году осуществлялось с использованием машин формования вискозного шелка, изготовленных на «Бармаге». Заводы прекрасно работали до начала войны. Во время войны оборудование Могилевского завода было демонтировано и вывезено в Германию. Оно было запущено вновь и работало до 1946 года. В последующие годы оборудование было возвращено в Могилев, и сейчас через полвека после его изготовления оно продолжает успешно работать. На его базе изготовлено несколько поколений советского оборудования. Пример был по-настоящему поразительным, и его можно было бы успешно использовать в рекламных целях, если бы он не напоминал всем о тяжелом периоде нашей совместной истории.
