Читать онлайн Критическое мышление. Как думать под давлением бесплатно
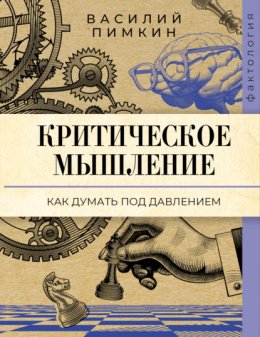
© Пимкин В.Н., текст, 2025
© Издательство АСТ, 2025
Вероятное возможно и состоится
Прагматика цифровой информационной среды
Речь выделила человека из животного мира. Письменность позволила ухватывать и сохранять подвижность и трепетность речи. Полиграфия сделала возможным широкое распространение письменных текстов. Цифровые технологии сделали публикацию любого творчества доступной.
Ни одна другая сфера человеческой деятельности не претерпела столько качественных переходов, как коммуникация. Каждый новый этап развития делает этот процесс более удобным, но в то же время более сложным и требовательным к освоению новых навыков. Прогресс способствует удобству коммуникации, но не ее эффективности.
Забота об этом возлагается на всех взаимодействующих участников. Каждый, следуя в меру возможностей общепринятым протоколам, приходит к своим достижениям через свои индивидуальные ошибки. Чем совершеннее средства коммуникации, тем глубже одиночество каждого ее участника.
Пора закончить стремительную гонку смысла из расчета по нескольку мыслей на сухой абзац. Далее разберем все значимые аспекты прагматики цифровой информационной среды в ритме одной мысли на главу.
Область неограниченного совершенствования
Еда тысячелетиями готовится на огне: он так и остается основой всего процесса, сколько бы ни совершенствовались технологии и подходы. Материалы для постройки зданий совершенствуются, как и методики учета сопротивления материалов, но суть остается той же. Медицина улучшает диагностику, фармацевтику, терапию и хирургию, основные принципы которых также не меняются веками. Изучение искусства войны Сунь Цзы в военных академиях не прекращается и не прекратится, сколько бы новых техник, приемов и оружия ни изобреталось. Находятся неизведанные ранее методы пробивания дырок в разных поверхностях на расстоянии, так же как и продумываются методы защиты этих самых поверхностей от подобных воздействий – суть не меняется. Все зависит от эпохи: повар, строитель, врач и военный, следуя сути своей работы, друг друга поймут. Освоенная предметная область – вполне себе общий язык, понятный сразу на уровне умений и навыков.
С коммуникацией все вовсе наоборот. Человек, умеющий только говорить, не сможет полноценно взаимодействовать с тем, кто обладает навыком письма. У него не будет достаточного количества знаний и словарного запаса, тогда как у второго может быть менее развитая память. Величайшие ученые умы доцифрового века, постояльцы библиотек и виртуозы библиографий не мыслили о тех возможностях, которые откроются перед людьми в будущем. Они даже не мечтали об информационном могуществе, доступном сейчас каждому пользователю интернета буквально на кончиках пальцев. Например, вряд ли возникала мысль, что нужную информацию можно будет найти «по поиску» в электронном документе за пару секунд. Или что будет достаточно навести камеру компактного гаджета на необходимый текст, чтобы получить его перевод на практически любой язык мира. А для кого-то представлялось нереальным связываться с учеными по всему миру, не выходя из дома и сразу же получая обратную связь.
Совершенствование способов коммуникации – игра, в которую играют все, даже те, кто считает, что не играет. Все вовлекаются в текущий процесс коммуникации тем или иным способом, независимо от желания участвовать и степени осознания своей вовлеченности. Отказ от освоения актуальных навыков коммуникации, как правило, неизбежно ведет к исчезновению в забвении. Пользоваться только речью без письменности, возможно, вольно и весело, но не эффективно с точки зрения накопления информации и ее распространения, передачи другим. Соревноваться с полиграфией, переписывая книги от руки – тягостно и контрпродуктивно. Признавать только бумажные книги в цифровой век – милое и атмосферное, но все же чудачество.
В сохраняемую и передаваемую культуру будут включены только произведения на соответствующих своему времени носителях, все прочее растворится в забвении. Мы никогда не узнаем, сколько песен и легенд утрачены, потому что никогда не были записаны. Ценных рукописей, оставшихся неизданными, возможно, еще больше. Также в истории найдется немало произведений, утраченных в качестве аналоговых записей и вовремя не оцифрованных.
Средства коммуникации развиваются стремительно и неравномерно, со значимыми качественными переходами, во время которых меняется примерно все. Что-то становится лучше, чем раньше, что-то время от времени получается по-всякому. Качество жизни человечества во многом определяется уровнем развития средств коммуникации. Разовьем широко ветвящиеся следствия этой мысли в дальнейших главах.
Нет новых возможностей без новых уязвимостей
Сама по себе речь свободна и необременительна. Механически речь – всего лишь сотрясание воздуха. Весьма скромные возможности устной речи ограничены небольшим радиусом слышимости и жестко привязаны к моменту говорения, поэтому и уязвимости речи, исчерпывающе представленные устной ложью, относительно безвредны и почти безобидны. Устную ложь сравнительно легко обнаружить, поэтому она может иметь только очень краткую действенность. Вероятнее всего злоумышленника выдает спешка и стремление решить все именно устно, избежав письменной фиксации договоренностей. Впрочем, жажда скорости и решительности в людях так и не ослабевает, и потому количество пострадавших, столкнувшихся с серьезными ошибками ввиду злоупотребления устными договоренностями, не убывает. Впрочем, дело здесь скорее в новых технических возможностях совершения таких ошибок – оставим речи как таковой ее собственные уязвимости.
Письменность и полиграфия нацелены на длительное сохранение информации и таким образом дают гораздо более широкие возможности для эксплуатации гораздо более опасных уязвимостей. Технические средства и письменности, и полиграфии делают возможной и защиту документов от подделки, и в то же время обход таковой защиты. Технологические гонки банков-эмитентов с фальшивомонетчиками – увлекательная история длиной в несколько столетий, с нашим повествованием связанная незначительно, но определенно стоящая краткого упоминания. Более сложные и тонкие подходы к подделке документов мы рассмотрим подробнее в четвертой части книги, посвященной проблематике достоверности. Тем не менее, даже сейчас, когда цифровой век стремится к своему зениту, отказ от бумажной документации не представляется возможным. Бумага все стерпит: здесь уязвимости и способы их контроля изучены достаточно хорошо.
Цифровые технологии позволяют средствами одной только математической криптографии сделать защиту документов от подделки бесконечно дешевой, а подделку – наоборот, бесконечно дорогой. И математическая криптография – далеко не единственное средство защиты электронной документации: например, квантовая криптография выглядит как перспективное направление на ближайшие десятилетия. Тем не менее, широкое применение цифрового документооборота, технически возможное уже довольно давно, еще долго будет откладываться по причинам фактической целесообразности. Уязвимости электронной достоверности даже просто исчислены будут еще очень нескоро, а реалистичных возможностей их контроля не видно даже на самых дальних горизонтах передовых технологических исследований. Несмотря на это, в части о достоверности мы сделаем обзор проблем, которые необходимо будет решать в обозримом будущем.
Овладев речью, человек шагнул из мира поведения, полностью определенного законами природы и инстинктами, в область произвольного. Человеку открылись и уязвимости применения произвольности для всякого рода лжи, и возможности разумного и ответственного применения произвольности для познания и изобретения вещей, которых пока еще нет, но которые должны быть и будут, потому что очень нужны. С тех самых пор именно расширению этой доступной к освоению области произвольного прежде всего посвящены усилия человечества. Письменность и полиграфия существенно расширили и усовершенствовали подходы к освоению возможного, придав речи сохранность и длительность. В результате получилась теория информации, а цифровые технологии вывели возможности ее обработки на качественно новый уровень.
Главная гипотеза этой книги в том, что только сейчас, начав овладение информационными технологиями, человечество обрело возможность осмыслить внутреннюю механику речи и создать новые подходы к деятельности в области произвольного. Здесь мы рассмотрим выявленные информационными технологиями закономерности и применим их в общем смысле ко всей области доступной человечеству коммуникации. Посмотрим, что получится.
Неограниченное совершенствование уязвимостей
А надо ли нам все это – выявлять, применять? Метод новый, работы много, и не обернется ли все это только лишь новой оберткой хорошо знакомых вещей? Да и в конце концов, что еще мы можем узнать о речи после всех этих тысячелетий? По порядку, тем не менее. Мы не сможем получить ответов на последующие вопросы, не ответив на самый первый, – зачем?
Повторим здесь со всей возможной полнотой ясности: на каждом новом уровне развития средств коммуникации качественный скачок делают и возможности, и уязвимости. Что существенно поменялось на ранних доцифровых переходах, мы рассмотрим много позже, в следующих частях этой книги. А сейчас начнем с постановки вопросов к непосредственно актуальному состоянию цифровой коммуникации и отражению этого состояния в жизни каждого человека.
Во все доцифровые времена никаких вопросов к «Ученье – свет» и всякого рода Knowledge is power не было. Образованных людей всегда не хватало, постоянно ощущалась необходимость сделать процесс образования более доступным и массовым. В задачах всеобщего начального образования справиться с проблемой одного учебника на нескольких учеников удалось по историческим меркам сравнительно недавно. Стоимость процессов бумажной полиграфии преодолела порог массовой доступности всего лишь несколько десятилетий назад. То, что в связи с этим книги перестали представлять особенную ценность, определенно выглядит как большая и серьезная уязвимость. Долго ли коротко ли, грамотность теперь всеобщая, цифровая коммуникация – доступная и массовая, возможности использования коммуникации в образовательных целях практически не ограничены… Казалось бы, огромные трудности преодолены, и полностью просвещенное человечество вот-вот в едином порыве шагнет в эпоху нерушимой всеобщей гармонии. Но что-то здесь не так, какие-то ноты в этом гимне прогрессу определенно дребезжат резкой фальшью, до обидного чудовищной и омерзительной.
Доступное и массовое не может быть ненавязчивым. Во всеобщей грамотности явно проступил аспект принудительности. Выросли поколения жертв недобровольной социализации. Среди молодежи социализироваться в обычном доцифровом смысле готовы все, кроме «хикикомори» и тех, кто хотел бы быть на них в той или иной мере похожим. «Хикикомори» – переросшие подростки, продолжающие жить с родителями, не выходя из дома и проводя все время за электронными устройствами. Массово стали появляться в Японии в последние десятилетия, оттуда и этот термин. В Китае есть «крысиные люди», предпочитающие тихую жизнь без общения и перегрузок. Возможно, и в русском языке сложится соответствующий термин. Да, общение в реальной жизни кажется молодым людям все более обременительным. От цифровой коммуникации, наоборот, отказываться никто особенно не стремится, это так или иначе осваивают все. Никто, как в доцифровые времена, никому не скажет: не заладилось у тебя, дружочек, с грамотой, иди руками работай, раз головой не сложилось.
Все меньше тех, кто стремится, не замечая препятствий, к достижениям разума и духа, блистательным триумфам интеллекта. Выигрыш в этой игре давно не так привлекателен, как отсутствие проигрыша. Хвала прогрессу, мы вовлечены во всеобщую грамотность, мы социально адаптированные люди, мы не должны делать ошибок, которых не сделают другие. Чтобы стремиться, творить и достигать, всегда нужно начать с того, чтобы повести себя необычно. И мы не рисуем картины на публично доступных поверхностях, не поем из-за порядка соблюдения тишины, не делимся ценными мыслями в интернете, опасаясь нарушений правил модерации, и вообще стараемся не привлекать к себе внимания без крайней необходимости. А вдруг оплошность какую допустим и публично опозоримся? – все же на виду почти постоянно в этой цифровой информационной среде. Так что либо тихая беспроигрышная неприметность, либо прокрастинация из-за перфекционизма, грубо подгоняемого страхом публичной неудачи. Все это, впрочем, преодолимо и даже управляемо: что делать для минимизации ошибок мы рассмотрим уже скоро.
Избегание ошибок – обязательная начальная стратегия каждой цифровой коммуникации. Однако безотказная доцифровая логика «промолчи – за умного сойдешь» дает внезапные необъяснимые сбои все чаще. Риск быть неверно понятым теперь преследует каждого участника общения задолго до созревания у него сколько-нибудь содержательного сообщения, верное понимание которого вообще возможно. Пользователи Интернета непроизвольно провоцируют постоянный поток различных сообщений все время, пока находятся в сети. Благодаря этой невиданной доселе доступности информации, в современном мире легко отследить и ее потребителей. Сигналы о дезориентированности определенных пользователей и их неспособности устойчиво держаться в информационном потоке в реальном времени распространяются быстро и широко.
Цифровая коммуникация слишком удобна, а потому слишком навязчива и прилипчива. Парадоксально, но понятна и не нуждается в авторе фраза из Интернета When the phone was tied with a wire, humans were free – «Когда телефоны были привязаны к проводам, люди были свободны». Ох и нагнали мы здесь жути, но со всем этим вполне можно жить и работать. Основу прагматики цифровой информационной среды составляют игры вероятного: знание их правил помогает избежать всех общих ошибок. Ошибки более редкие, чем общие, не всем нужны, не всем подходят и не со всеми случаются, но их мы также рассмотрим в последующих частях о других играх.
Игры вероятного
Цифровая коммуникация уравнивает в качестве пользователя Интернета седого блестящего академика и полиглота с малолетним двоечником, который и свой родной язык, возможно, до самого конца своей жизни так толком и не освоит. Такое уравнивание для большинства пользователей Интернета и обидно, и унизительно, и в известной мере обесценивает любое и всякое интеллектуальное развитие. Так же не нуждается в авторе баянистая цитата
Детям нельзя в Интернет, он от них тупеет.
Да вы что, кто ж у детей право ходить в Интернет отберет и зачем? Разве что можно возразить, что следует хотя бы как-то разделить пользователей по интеллектуальному развитию: помещать академиков в одну кучу с двоечниками неловко как-то выходит…
Но это неизбежные уязвимости и побочные эффекты прогресса. В ходе рассмотрения игр вероятного мы займемся освоением прогрессивных способов извлечения пользы, щедро оплаченных на десятилетия вперед этими весьма неприятными уязвимостями. То, что всеобщее равенство пользователей интернета между собой сопряжено с риском оказаться в неподходящей компании, определенно выглядит как уязвимость. Соответствующая этой уязвимости возможность в том, что хорошо подходящую компанию в интернете, как правило, можно найти. Не сразу, конечно, но в конечное и даже приемлемое время.
Отвлечемся от обидно-унизительной эмоциональной стороны всеобщего цифрового коммуникационного равенства и обратимся к его сути. Интернет открыт всем, кто имеет техническую возможность им пользоваться, вне зависимости от образованности, убеждений, предпочтений и любых деловых и личных качеств. У каждого пользователя есть и весь набор технических возможностей пребывания в интернете, и все возможности обеспечить удобство этого пребывания согласно своим предпочтениям.
Чтобы ограничить доступ, нужно сначала его предоставить. В доцифровые времена поиск возможностей общения с единомышленниками был отягощен совершенно другими проблемами – все было сложно, медленно, дорого, фрагментарно и обрывочно. Теперь интернет есть у всех: все дешево, быстро и непрерывно, и только чуть немного шумно и беспорядочно, потому как общедоступно. С этим вполне можно жить – выбрать и настроить режим присутствия и ограничений для желательных собеседников в своей коммуникационной среде может каждый, и, если не драматизировать этот процесс, можно счесть его вполне удобным. Кто-то в интернете всегда будет неправ, но постоянно делать что-то по этому поводу никаких сил не хватит, соответственно, будем трезво оценивать возможности и ставить разумные цели.
Выиграть в играх вероятного невозможно, практически достижимый максимум успеха – избежание поражения, своего рода ничья. Само слово «ничья» вносит ощущение некоторой бессмысленности, но оставим на потом разбор смысловых шумов, вносимых словами. Без устойчивой коммуникационной ничьей дальнейшее развитие и достижение даже самых крошечных успехов невозможно.
В Интернете широко и быстро распространяются сигналы весьма разных степеней полезности для каждого из участников. «Весьма разные степени» здесь указывают на то, что полезность сигнала может измеряться отрицательными величинами. То есть, сначала необходимо выделить безвредное, затем из безвредного выделять наиболее полезное. Чтобы начать осмысливать безвредность сигналов, нужно прежде всего привязаться к сколько-нибудь устойчивому началу отсчета.
Почти вся информация в интернете куда-то зовет своего потребителя – как минимум, лайкнуть, потом подписаться, потом еще что-то… Тут очень важно не увлекаться. Информация задает ритм и несет какой-то приятный или хотя бы интересный мотив, в этом смысле можно сравнить ее с музыкой. Обычное положение большинства пользователей интернета – задерганность в разнонаправленных ритмах и мотивах, складывающихся в индивидуальный для каждого шум. Чтобы сориентироваться, начать различать и выделять отдельные ритмы и мотивы, уделять внимание смыслу сообщений, которые они несут, и в конце концов обрести устойчивость. Может быть, даже полезно выставить базовую линию тишины, когда вы ничем не увлечены, но всему открыты. Когда ваше внимание не двигается никуда, но готово выдвинуться в осознанно выбранном направлении.
Освоим самые простые подходы для того, чтобы выставить свою базовую линию тишины, не прибегая к глухой изоляции. Помним о нашей невиданной доселе видимости, да и слышимости, впрочем, тоже. Выставление базовой линии тишины требует двухсторонней защиты от информационных шумов: и от входящих снаружи, и от исходящих изнутри. И вот, теперь глухая изоляция выглядит уже вдвое привлекательнее, чем два предложения назад. Но это все равно не наш путь. Освоение игр вероятного сделает необходимую базовую тишину привычной и удобной.
Интернет строит работу с информацией от ее передачи
Назрела необходимость разъяснить всякие вроде знакомые, но не вполне понятные слова вроде ограниченной и неограниченной доступности, видимости и слышимости. Да и с тем, откуда у каждого пользователя Интернета появляется исходящий информационный шум, тоже недурно было бы разобраться.
Если слово «доступность» пока выглядит относительно безопасно, то «видимость» и «слышимость» вызывают уже вполне ощутимую тревогу. Это предмет более позднего обсуждения в играх возможного, поэтому его мы сейчас едва затронем. А пока начнем погружение в технические подробности устройства Интернета и разберемся с исходящим информационным шумом.
Договоримся сразу, что здесь мы не готовимся к техническим собеседованиям по системной архитектуре, а только рассказываем заинтересованным читателям самые общие принципы работы информационной инфраструктуры. Точные спецификации упомянутых технологий, стандартов и протоколов при необходимости легко находятся в Интернете. Так что задачи пересказа материалов сайтов у нас тоже нет. Наша цель – разобраться в смысле и назначении цифровой информационной среды.
Интернет построен на четырехслойном стеке протоколов TCP/IP – Transmission Control Protocol / Internet Protocol. Интернет – наиболее обширная и распространенная сеть, построенная в соответствии с наиболее общей концептуальной моделью взаимосвязи открытых систем (Open Systems Interconnection, OSI model), состоящей из семи слоев. Даже на технических собеседованиях упоминание OSI model в связи с Интернетом избыточно и потому ошибочно. Впрочем, всем, кроме узкоспециализированных системных инженеров, здесь достаточно знать, что OSI model существует, и Интернет – всего лишь самый распространенный стандарт построения информационных сетей, но не единственный. Все, что может интересовать пользователя Интернета, исчерпывающе укладывается в четыре слоя.
На каждом из четырех слоев стека протоколов решается одна и только одна определенная задача:
• на уровне Network Access – доступа к сети – обеспечивается подключение пользовательского устройства к сети Интернет;
• на уровне Internet обеспечивается возможность установки связи с ресурсом сети, запрашиваемым пользователем (как правило, сайтом и, как правило, по доменному имени);
• на уровне Transport – транспортном – обеспечивается двухсторонний обмен данными между пользователем и запрошенным им ресурсом (как правило, передаваемые данные защищаются от перехвата шифрованием по стандартам Transport Layer Security);
• на уровне Application – приложения – ресурс сети, запрошенный пользователем, предоставляет пользователю интерфейс (как правило, графический) для решения задач, потенциально имеющих практическое значение (прикладных).
По шагам: подключились к Сети, нашли сайт, установили соединение, приступили к практической информационной деятельности. Ни одна операция не начинается до тех пор, пока предыдущая не достигает успешного завершения.
Мы еще много будем разбирать перечисленные в этой главе слои с самых разных сторон, потому что невозможно не проиграть в играх вероятного, следуя двухслойной модели «включили гаджет, залипли».
Ранний Интернет был совсем другим
Вся схема из предыдущей главы работает гладко и бесшовно исключительно потому, что передача больших объемов данных быстра, дешева и доступна. В начале нулевых Интернет уже был построен на тех же архитектурных принципах, что и сейчас, но в цифровую информационную среду еще не складывался. Дорогая и медленная передача данных делала Интернет элитным клубом и создавала ситуацию, которую теперь можно назвать «Триумфом BlackBerry».
Да, была такая высокотехнологичная канадская компания BlackBerry, которая началась (да и закончилась, впрочем, тоже) на создании самого удобного и компактного устройства для работы с электронной почтой. Элегантные мобильные телефоны с миниатюрной, но полной клавиатурой почти на целое десятилетие прочно ассоциировались с бизнес-классом и успехом.
Дорогие устройства на дорогих тарифах, нередко массово закупаемые компаниями для своих наиболее важных сотрудников, позволяли обмениваться информацией почти в реальном времени по электронной почте. Можно было относительно просто переслать какой-то объемный файл вложением. А почему, как сейчас, не выложить тот же файл на сайте для лучшей доступности? Интернет-соединение тех времен было не только дорогим и медленным, но еще и прерывистым. Самой главной гарантией возможности получения объемных файлов себе на устройство была возможность возобновления загрузки с места обрыва соединения. Это сейчас, случись что, можно просто начать грузить с начала и не испытывать затруднений – все равно все быстро, а в те времена обрывы без докачки легко уводили в дурную бесконечность с каждым разом все более раздраженных и срочных, но по-прежнему необходимых попыток. Конечно же, были предложены варианты решения назревшей проблемы: большой объем данных (фильм какой или альбом музыкальный) часто записывали на CD или DVD и отправляли почтой или доставкой. Довольно продолжительный период времени эта схема была вполне рабочей и лежала в основе бизнес-модели многих компаний.
В условиях дорогой и медленной передачи данных инженеры BlackBerry также разработали и реализовали десятки блестящих решений. Эти подходы еще надолго останутся важными ориентирами для технического дизайна в ситуациях жесткого недостатка системных ресурсов. Если вам любопытна эта тема, рекомендую посмотреть фильм «Кто убил BlackBerry?» – в нем подробно рассказано, как это было и чем все закончилось. Вкратце: ускорение и удешевление передачи данных полностью перевернуло всю систему критериев технического дизайна персональных электронных устройств.
Все ринулись осваивать и монетизировать «созданный пользователями контент» (UGC, User Generated Content) и решили, что это главный аспект, отделивший ранний Интернет от актуального Web 2.0, веб-два-ноль. Допустим. Но не все виды пользовательского контента одинаково безвредны, и их различиям мы посвятим отдельную мысль в рамках отдельной главы.
Короткое замыкание потокового видео
Возможности для творчества и оперативнейшей широчайшей публикации его результатов стали доступны буквально всем пользователям Интернета. Работающим с текстом – достаточно клавиатуры или вовсе голосового ввода, а профессиональные микрофоны, камеры, графические планшеты и прочий творческий инвентарь для более артистических видов контента, хотя и не дешевы, но, как правило, также доступны.
Однако всеобщей просвещенности, одухотворенности и гармонии это почему-то не способствует. Что-то тут у нас снова задребезжало в достижениях прогресса. Видимо, снова упустили уязвимости какие-то, нужно их замечать и доосмысливать.
Мы начинали с того, что речь выделила человека из животного мира, а письменность много позже позволила ухватывать и сохранять подвижность и трепетность речи. Теперь же голосовые помощники не только избавляют от необходимости по буковкам вводить доменные имена нужных сайтов, но и продолжат развиваться. И происходит это, чтобы помогать человеку в более сложных задачах, требующих интеграций, – развлекать, напоминать, ставить будильники и вести календарь, управлять «умным домом», заказывать такси, доставку еды и товаров, покупать билеты на мероприятия. Планировать поездки с перелетами, трансферами и размещениями пока сложно, но десятки компаний уже тренируют голосовых помощников и для этих задач тоже.
С потоковыми видео, выходит, вообще никакой письменности не нужно. Подвижность речи с ее же трепетностью, обогащенной невербальными сигналами коммуницирующих, прекрасно ухватится и сохранится на видео. Круг замкнулся: потоковое видео отбросило детей поколения развитого веб-два-ноль на уровень речевых и доречевых систем сигналов. Голосовые помощники зафиксировали изучение письменности в качестве исключительно школьной дисциплины, которую нужно выучить, сдать и забыть. Она сложна, громоздка и невыразительна, да и разве коммуникация ограничивается словами? А как же интонации, мимика, жестикуляция и язык тела, безвозвратно теряемые письменностью, но прекрасно сохраняемые на видео? Зачем ковыряться с текстовыми переводами одного языка на другой, если языки тела, мимики, жестов, танца и прочей пантомимы воспринимаются непосредственно и понятны сразу?
Сокращение избыточного однородного шума безопасно
Тысячелетия эволюции коммуникации от письменности до веб-два-ноль достигли цели – творчество общедоступно и автоматизировано настолько, что даже не требует никаких узкоспециализированных навыков. Все, что делалось ради творчества, досталось деятельностям, не требующим специальных навыков. Человечество оказалось в ловушке глобальной информационной антиутопии, окрашенной всеми оттенками опаснейших уязвимостей коммунизма. Ожидалось, что, оказавшись в благоприятной информационной среде, человек устремится к чему-то хорошему, в действительности же устремления естественно и предсказуемо отъехали в направлении наименьшего сопротивления, и эти тенденции явно стремительно набирают скорость по мере совершенствования информационной среды.
С позиции информационных систем эта ситуация выглядит примерно так: человек в информационной среде лишь направляет действия, до конца их доделывает автоматика. Не обладающие специальными навыками пользователи на пути наименьшего сопротивления создают ровный однообразный информационный шум, изо дня в день запрашивая незначительно различающиеся действия. В разрезе аналитики повседневного пользовательского поведения когорта численностью порядка десятков и сотен тысяч человек незначительно отличается от когорт численностью в условные сотни миллионов и миллиарды.
Не обладающий особыми навыками человек в информационном отношении абсолютно взаимозаменяем и потому ничтожен. Позже в играх возможного мы рассмотрим уровни владения некими обобщенными навыками. В информационном отношении значение имеют только разные уровни владения, складывающиеся в разные уровни информационной схемы, которые между собой не имеют последовательных связей, и именно из-за этой алогичности и «невыводимости» обладающие принципиально разными редкостью и ценностью. Для демонстрации владения навыками на определенном уровне достаточно любого представителя этого уровня. Если уровень общедоступен – взаимозаменяемость абсолютна, а значимость фактического представителя обратно пропорциональна численности его когорты. То есть сам представитель получается почти ничтожным, и это «почти» в некоторых контекстах обработки информации может исчезать, увы, полностью.
Базовый мотив войны между людьми и машинами – вовсе не взаимная расовая ненависть очень глупых, но очень исполнительных говорящих железок и иногда способных к творчеству кожаных мешков костей, мяса и требухи. Это всего лишь разумное расходование системных ресурсов. Для обучения информационным сетям нужно совсем небольшое количество представителей человечества. Ситуация усугубляется тем, что для победы над человечеством вовсе не обязательно захватывать почту, телеграф, электростанции и вокзалы. Для того, чтобы отбросить большинство пользователей в дописьменный век, достаточно рубануть их доступ к Сети.
К счастью, до управления расходованием системных ресурсов в таком масштабе автоматизированные системы не допускаются. Большие массы населения, надежно зафиксированные непрерывной информационной средой, полезны и для государственного управления, и для экономики. Четко структурированные измеряемые в реальном времени многочисленные когорты делают государственное управление ровным и предсказуемым, а маркетинговые стратегии потребительского рынка – точными и эффективными.
Человечество еще послужит хотя бы контролируемой информационными сетями питательной средой самовоспроизводства денег. У массовости есть много полезных свойств, и задач минимального заполнения каких-либо ковчегов только обладателями уникальных свойств пока нет и не предвидится ни у людей, ни у машин. А там, может быть, и с уязвимостями разберемся, и еще какие перспективы откроются.
С другой стороны, если у тех же древних египтян было что-то вроде Интернета, мы никогда об этом не узнаем. Материальные свидетельства в распределенную многослойную модель никогда не сложатся, и остается только гадать, как же древние египтяне пришли к письменности на пиктограммах. Подсмотрели они это, что ли, где-то? Неужели вот так на ровном месте сами придумали? И может ли непогрешимая неприкосновенная каста жрецов быть связана с тем, что одна часть населения утратила навыки исходной письменности, а другая сохранила и объявила священными? Их сверхценность в век Интернета не только понятна, но даже ощутима.
Все, что в наших руках
Поначалу шедшее размеренно повествование о смысле и назначении глобальных информационных сетей начинает звучать все более зловеще. Прежде чем нагнетание ужаса примет неуправляемый характер, вспомним о том, что соотношение уязвимостей и возможностей работает в обе стороны. Оборотной стороной каждой нашей слабости всегда останется соответствующая сила.
Подытожим список уязвимостей, о которых мы недавно поговорили, и теперь хотели бы начать хотя бы как-то контролировать:
• созданные для творчества информационные сети фактически используются в направлении наименьшего сопротивления;
• однородный информационный шум нарастает постоянно и произвольно;
• навыки извлечения пользы из нарастающего шума требуют постоянных волевых усилий и осознанной практики;
• в нарастающем информационном шуме навыки, сопутствующие письменности, массово деградируют;
• в этих условиях выход к позиции, с которой начало творчества вообще возможно, представляет отдельную проблему.
В играх вероятного мы освоим, как не растворяться в информационном шуме, извлекать пользу из нарастающего шума и находить удобный информационный ритм. Рассуждение о творчестве ждет нас уже в следующей части – про игры возможного.
Раз уж открыт доступ ко всем этим крайне неприятным уязвимостям, давайте постараемся получить по максимуму положенные возможности. Погружение в общие принципы построения информационных сетей поможет нам разобраться во внутренней механике человеческих процессов, благодаря которым формируются навыки написания кода (назовем его технической письменностью). Так мы сможем искать путь из нарастающего шума к творчеству не наугад и наощупь, а путем выделения ключевых проблем, четко ставя задачи и отлаживая процессы их решения.
Всеобщий язык Интернета
Разберем механику доставки потокового видео между Интернетом и его пользователями. Здесь нас особенно интересует полное отсутствие письменности в непосредственно необходимом пользователю контексте и процессе коммуникации. Раз уж мы можем не отвлекаться на пользовательскую письменность, попутно рассмотрим подробности того, что здесь должно быть написано и реализовано на языках программирования и с точки зрения прочих технических стандартов и спецификаций.
На уровне Network Access реализуется абстрактный интерфейс доступа к сети. Абстрактность здесь выражается в том, что подключение узла доступа к провайдеру Интернета с одной стороны и к пользовательскому устройству с другой определено стандартом, допускающим разнообразные фактические реализации. Как именно реализовано подключение, не важно, если соблюдается стандарт. Подключение будет работать до тех пор, пока верны стандартизованные форматы сигналов, проходящих через узел доступа в обоих направлениях.
К провайдеру мы можем подключаться по беспроводному спутниковому каналу или через мобильную сеть, с помощью оптоволоконного или любого другого подходящего кабеля. Даже если бы мы подключались через проводную телефонную сеть, это все бы работало примерно одинаково, разве что значительно медленнее. Сейчас, правда, найти проводную телефонную сеть, по которой можно подключиться к Интернету, пожалуй, почти невозможно, зато это так и остается удачным фрагментом иллюстрации принципа абстракции.
В мобильных телефонах узел доступа физически находится внутри устройства, поэтому использование мобильных телефонов в качестве Wi-Fi роутеров – распространенная практика. Также широко используются выделенные Wi-Fi роутеры, раздающие беспроводной доступ в сравнительно небольшом радиусе своего действия. В некоторых помещениях, впрочем, проводное подключение пользовательских устройств к роутерам может быть более целесообразным, если сложность и неудобство прокладки проводной сети компенсируется необходимым улучшением качества и скорости соединения.
Для протоколов уровня Network Access все эти различия одинаково приемлемы. При соблюдении требований протокола подключения к Сети мы можем пользоваться любыми техническими средствами любых видов, производителей и моделей. Унифицированные коммуникационные протоколы обеспечивают возможность гибкости фактических технических решений.
На уровне Internet фактическое местонахождение запрашиваемого сервера и физическая последовательность передачи и ретрансляции сигнала до него не имеет никакого значения. Есть только его IP-адрес (IP от Internet Protocol), с которого он может отправлять и на который он может получать пакеты данных, так называемые датаграммы (datagrams).
