Читать онлайн Царь Иоанн IV Грозный бесплатно
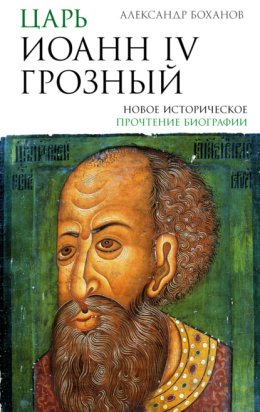
© ООО «Издательство АСТ», 2025
© А.Н. Боханов, наследники, 2024
Об авторе
Боханов Александр Николаевич (1944–2019) – крупнейший знаток истории русской государственности, первый современный биограф Императора Николая II, Императора Александра III, Императрицы Марии Федоровны, Императрицы Александры Федоровны и других выдающихся государственных деятелей России. Всемирно известный специалист по буржуазной прессе, предпринимательству, крупной буржуазии России, русской благотворительности. Автор историософских работ, школьных и вузовских учебников по истории России.
Во имя исторической справедливости (вместо предисловия)[1]
Царь Иоанн Васильевич Грозный – одна из самых известных и знаковых фигур в истории России. Он родился 25 августа 1530 года в селе Коломенское под Москвой, имя получил в честь Иоанна Предтечи, которого считал своим небесным покровителем и тезоименитство отмечал 29 августа – день усекновения главы Иоанна Крестителя.
В декабре 1533 года воспринял от отца титул Великого князя Московского. В январе 1547 года венчался на Царство в Успенском соборе Кремля, став Первым Царем в Русской истории. Преставился Иоанн Васильевич 18 марта 1584 года в Московском Кремле, приняв перед уходом постриг с именем Иона и был погребен в соборе Святого Архистратига Михаила (Архангельском соборе) в Кремле в монашеском одеянии.
Позже его назовут «Грозным», хотя современники почти и не пользовались подобным определением. Этот народный титул широко распространился уже после смерти Иоанна, в начале XVII века, в период разорения Руси, получивший название «Смуты».
Выдающийся русский лексикограф В.И. Даль (1801–1872) дал русскую лексическую интерпретацию эпитета применительно к правителю: «мужественный, величественный, повелительный и держащий врагов в страхе, а народ в повиновении»[2]. Только в этом смысле и можно воспринимать данный титул, а совсем не в тех значениях, которые ему произвольно приписывают. В переводах на иностранные языки термин «Грозный» переводят как «кровавый», «ужасный», «страшный», что совершенно искажает русское смысловое содержание.
Исторической эпитафией Первого Русского Царя навсегда стали слова очевидца правления Иоанна святого Первопатриарха Московского Иова (30-е годы XVI века – 1607), сказанные через полтора десятка лет после кончины Грозного. «Благочестивый тот Царь и Великий князь всея Руси Иоанн Васильевич был разумом славен и мудростью украшен, и богатырскими победами славен, и во всем царском правлении достохвально себя проявил, великие и невиданные победы одержал и многие подвиги благочестия совершил. Царским своим неусыпным правлением и многой премудростью не только подданных богохранимой своей державы поверг в страх и трепет, но и окрестных стран иноверные народы, лишь услышав царское имя его, трепетали от великой боязни»[3].
Иоанн наследовал титул Великого князя Московского в возрасте трех лет, после смерти отца – Великого князя Московского Василия III Ивановича (1479–1533, Великий князь с 1505 года). По отцу он – потомок в пятом поколении легендарного победителя хана Мамая Великого князя Владимирского Дмитрия Ивановича Донского (1350–1389). По матери – Елене Васильевне Глинской (1508–1538), Грозный, как принято считать в генеалогии, являлся потомком разгромленного в 1380 году русскими ордынского правителя Мамая (ум. 1380)[4]. Это только одна часть родословия, причем не самая древняя.
Иоанн Васильевич по отеческой линии – преемник двух великих династий. Первая – Рюриковичи – восходила к IX веку, к легендарному Рюрику (ум. 879) – основателю правящего владетельного рода в древнем Киеве. Его отец (Василий III, 1479–1533), дед (Иоанн III, 1440–1505), прадед (Василий II, 1415–1462), – Великие князья Московские, все происходили из числа потомков Рюрика.
Бабка же Иоанна Васильевича, Великая княгиня Софья (Зоя) Фоминична (1456–1503), была урожденной греческой принцессой из царского рода Палеологов; она являлась внучкой «Императора ромеев» (1391–1425) Мануила II и приходилась племянницей двум Ромейским Императорам: Иоанну VIII (1425–1448) и Константину XI[5] (1448–1453), правителям Империи Константина Великого, которую ныне именуют «Византией»[6]. Ее дядя, Император Константин, погиб при защите Константинополя от турецкого нашествия в 1453 году и был причислен Православной Церковью к лику Угодников Божиих. Династия Палеологов правила в Константинополе последние двести лет существования «Империи ромеев» (1259–1453).
Из европейских монархов по степени династического достоинства с Иоанном IV никто не мог сравниться. Первый Царь прекрасно знал свое родословие и понимал собственную исключительность в мире коронованных особ. Это свое избранничество он много раз демонстрировал в переписке с властелинами разных стран и народов.
В январе 1547 года Иоанн Васильевич в Успенском соборе Московского Кремля венчался на Царство. То был не просто выбор новой властной атрибутики; это явилось признанием всемирной духовной миссии Руси. Теперь, и де-факто, и де-юре, функция «Священного Царства», некогда принадлежавшая Константинополю, перешла к Москве. Идея «Вечной Империи» нашла новое историческое воплощение в образе Московского Царства и Московского Царя[7].
Отныне Русь – не только государство и правление; но – в первую очередь исполнение мессианского задания, ниспосланного Всевышним Вечной Империи: евангелизации рода человеческого и приуготовлению его ко Второму Пришествию. По словам знатока русской духовной традиции, «Империя есть форма государственно-политического служения Богу. Религиозный смысл ее – создание для всех входящих в Империю народов своеобразного «пространства спасения»… Россия – уже Царство, Москва – уже Рим, София Константинопольская – уже перелетела на Русь и стала Огнезрачной Софией русских икон»[8].
Как написал в этой связи Митрополит Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев, 1927–1995), «Воцарение Грозного стало переломным моментом: русского народа – как народа-богоносца, русской государственности – как религиозно осмысленной верозащитной структуры, русского самосознания – как осознания богослужебного долга, русского «воцерковленного» мироощущения – как молитвенного чувства промыслительности всего происходящего. Соборность народа и его державность слились воедино, воплотившись в личности Русского Православного Царя»[9].
Провиденциальная мессианская миссия Московии, так явно ощущаемая людьми середины XVI века, явила новое русское национально-государственное мировоззрение, поднимавшее Русь на особое место в мировом ходе времен. Московский Царь становился лидером всего православного мира. Не случайно Константинопольский патриарх Иоасаф II в 1560 году в послании в Москву называл Иоанна Васильевича «Царем всех православных христиан»[10].
Русская эсхатология, русские упования отнюдь не сводились к ожиданию конца света; это было осознание открывшегося бескрайнего пути нравственного самосовершенствования, молитвенного усердия, истинного благочестия. Ведь Сам Бог ниспослал Руси всемирную роль, тяжелейшее бремя ответственности и долга – быть Его уделом. И вполне закономерно, что страна, во след за Святой Землей, начинает именоваться «Святой Русью». Это был идеал, это – предел стремления русского социума XVI века. Других примеров подобного возвышенного, надмирного восприятия не «государства», а – «земли» в мировой христианской истории не существует.
Эсхатологическое ощущение времени чрезвычайно важно учитывать при характеристике мировоззрения Царя Иоанна, целиком пронизанного экстремальным порывом, сверхличностным устремлением в сакральную высь. Он всю свою сознательную жизнь стремился служить Богу и видел предначертания Промысла там, где другие разглядеть Волю Божию были не в состоянии. Сохранившиеся документы и свидетельства подтверждают: мироощущение Первого Царя всегда было кафоличным (вселенским) и эсхатологичным (мироконечным).
Первые десятки лет после кончины почитание Первого Царя было всеобщим. Известный книжник начала XVII века дьяк Иван Тимофеев (Иван Тимофеевич Семенов, ок. 1555–1631), имевший немало претензий к конкретной политике Царя, сформулировал как бы общественный код восприятия Царя-Помазанника Божия «народом христианским».
«Осмелиться описывать подробно год за годом лета царствования превеликого князя Ивана, как и когда царствовал он в течение всей жизни своей, – дело не моей худости и дерзости, потому что я не могу и не хочу (этого делать) из-за особого величия его сана, особенно же из-за благочестия его. Он правую веру в Христа, именно поклонение Троице в единстве и единству в Троице, после своих предков до самой смерти, как пастырь, сохранил непоколебимой и незыблемой… Его, Царя нашего, такого верного слугу Церкви, державшего людей в совершенном страхе и, что удивительно, в противоположность этому изменившего крепость своей природы на слабость, за непоколебимое, подобное столпу стояние за веру и утверждение (в ней) прочих, (следует) увенчать, ибо он хорошо знаком был с книжным учением философов об Истине и, кроме того, отличался внешнею скромностью. Ради этого не следует низшим людям много говорить о царствующих и (без) стыда сообщать, если в них что было и порочно; ибо лучше неблагообразие царского поведения покрывать молчанием…»[11].
В вышеприведенном отрывке особо примечательны слова о «величии» сана Иоанна Грозного, о «благочестии» и о «твердости веры» его. «Не прикасайтесь к помазанным Моим, и пророкам Моим не делайте зла». (Пс. 104:15). Этот лапидарный канон содержит могущественное предупреждение Господа, которое люди часто, очень часто, не хотели слышать и не принимали к сведению. А потом следовали вселенские кары, как то случилось в России после 1917 года. Тогда многие обезумевшие от революционного ужаса современники так и не смогли понять: за что им такое наказание?
«Прикасаться» к Помазаннику – это ведь не только некий физический акт, как то случилось с Царем Николаем II в 1918 году. Клевета, измышления, инсинуации – тоже «прикосновение». Подобное злобесивое человеческое неистовство адресовалось многим «Божьим Приставам» и первый в этом ряду – Царь Иоанн Васильевич.
«Личность Ивана Грозного – вот уж загадка из загадок, тайна из тайн русской истории!» – восклицает современный исследователь. «В научной и художественной литературе, в публицистике и поэзии существует масса версий, объясняющих те или иные деяния Первого Русского Царя. Ответов на сегодняшний день дано много… Но вот мотивы поведения самого Ивана Грозного нам до сих пор, в принципе, ясны далеко не всегда»[12].
Подавляющая часть историографии, как отечественной, так и зарубежной, взращенная в линейной системе позитивистско-материалистических координат, традиционно игнорирует духовно-душевную организацию человеческой личности. Эта по преимуществу «западническая» историография явления духовного порядка вообще воспринять не в состоянии. Не понимая ничего ни в христианской природе личности, ни в христианском мироустроении и мироощущении, многочисленные историки (и неисторики) сочиняли бесчисленные одномерные примитивные схемы, модели и описания, говорящие не о героях истории, а только об узости понятийного и смыслового горизонта самих авторов. При линейном взгляде на поток времени происходит не только сужение и «приземление» исторического горизонта, но и подмена исторического смысла.
Подобная аберрация зрения обусловлена гносеологическими причинами. Как точно выразился один из исследователей, «современному сознанию, в большей степени рационалистическому и даже атеистическому, совсем не просто проникнуть во внутренний мир человека, живущего совершенно по другим законам. По законам глубоко религиозно-мифологическим. Такое было время тогда, в XVI столетии. Такими были и люди»[13].
К данному наблюдению позволено будет сделать небольшой корректив. Современному человеку не только трудно воссоздать и почувствовать мир пятисотлетней давности, но во многих случаях у него отсутствует и желание постигать иную, не только временную, но и духовную реальность. Если применительно к обычному человеку такой самодовольный подход к прошлому понятен и объясним, то для историка он губителен. Образно говоря, историк вместо «реставратора» становится «искусствоведом», начинает рассматривать якобы первичную картину, не замечая, что она вся закрыта поздними наслоениями. Такая, с позволения сказать, «гносеология» неизбежно ведет к фальши и примитивизации минувшего.
Находясь всю свою сознательную жизнь в роли правителя Руси, Первый Царь запечатлелся в истории многими делами. Оценка этой деятельности разнится – тут наличествуют прямо противоположные умозаключения, но общий итог не подлежит сомнению. Иоанн Грозный фактически создал единое Русское Православное Государство, мощь и значение которого никто уже не мог отрицать.
Даже авторы, крайне негативно относящиеся к Первому Царю, признавали его несомненные исторические заслуги. В одном из подобных сочинений говорится: «Для России время правления Ивана Грозного осталось одной из самых мрачных полос ее истории. Разгром реформационного движения, бесчинства опричнины, “новгородский поход” – вот некоторые вехи кровавого пути Грозного. Впрочем, будем справедливы. Рядом вехи другого пути – превращение России в огромную державу, включение земли Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири от Ледовитого океана до Каспийского моря, реформы управления страной, упрочение международного престижа России, расширение торговых и культурных связей со странами Европы и Азии»[14].
Если рассмотреть предложенный «баланс» плюсов и минусов с беспристрастной точки зрения, то, несомненно, свершения превышают все прочее. Потому и речь надо вести о выдающемся историческом политическом деятеле, осуществившем грандиозную трансформацию довольно рыхлого и замкнутого государства в великую мировую державу.
Эпоха Иоанна Грозного – совсем не только и не столько «репрессии» и «тирания», а огромный потенциал обретений в области государственно-культурного созидания. За время Иоанна территория государства увеличилась в два раза, достигнув 5,4 млн квадратных километров; Россия утвердилась в Поволжье, в Сибири, на Северном Кавказе. Численность населения выросла почти наполовину и приблизилась к концу его царствования к десяти миллионам человек.
Были проведены реформа судопроизводства, земская реформа; созданы первые регулярные воинские подразделения (стрельцы). По распоряжению Иоанна основано более ста монастырей – этих очагов просвещения и благотворительности, построено более пятидесяти церквей, в том числе и такие мировые шедевры архитектуры, как собор Покрова Пресвятой Богородицы в Москве, или иначе – храм Василия Блаженного. За время Иоанна были канонизированы десятки Угодников Божиих, был проведен Стоглавый собор, регламентировавший церковную жизнь. Появились первая типография, первые печатные книги…
Во многих же сочинениях акцент делается не на достижениях; здесь все ограничивается общими фразами, а на личности Первого Царя. Ему предъявляются бесчисленные претензии, выносятся безапелляционные обвинения морально-этического порядка, вплоть до признания его «душевнобольным». Тем дело часто и ограничивается.
Еще в XIX веке в историографии был как бы канонизирован однозначный и крайне отрицательный взгляд на Царя Иоанна; уже в это время он – устоявшийся аморальный жупел. Для «первого историографа» Н.М. Карамзина (1766–1826), ставшего фактически родоначальником русской светской историографии, здесь все ясно и определенно: Грозный – «кровавый тиран», «деспот», крушивший все и убивавший по своей прихоти, руководствуясь только личными «порочными» наклонностями. В своей «Записке о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» (1811 год) историограф вынес краткий, беспощадный и, как казалось, непререкаемый вердикт.
«Иван IV, быв до 35-ти лет Государем добрым и, по какому-то адскому вдохновению, возлюбив кровь, лил оную без вины и сек головы людей, славнейших добродетелями. Бояре и народ в глубине души своей, не дерзая что-либо замыслить против Венценосца, только смиренно молили Господа, да смягчит ярость Цареву, сию казнь за грехи их! Кроме злодеев, ознаменованных в Истории названием опричнины, все люди, знаменитые богатством или саном, ежедневно готовились к смерти и не предпринимали ничего для спасения жизни своей!»[15] Чуть позже, в своей исторической эпопее – «Истории государства Российского» – Карамзин посвятил второму периоду царствования Иоанна Грозного отдельный, девятый том, полный гневных разоблачений и моральных обличений «Ивашки», так пренебрежительно называл Первого Царя в частной переписке историограф.
Дискредитация принимала порой форму вопиющих и скандальных курьезов. В 1862 году, 8 сентября, в Новгороде состоялось открытие и освящение грандиозного монумента: Тысячелетие России. Памятник был выполнен по проекту архитектора М.О. Микешина и скульптора И.Н. Шредера. Этот шедевр до сих пор украшает Софийскую площадь древнейшего русского города. Огромная колоколообразная композиция насчитывает 128 фигур выдающихся деятелей истории: от Святых киевских князей, Ольги и Владимира, до Императора Николая I.
Памятник поражает своей импозантной имперской статью. Поражает он и тем, что в числе государственных деятелей отсутствует фигура Первого Царя. Пятьдесят лет правления Иоанна Грозного «выпали» из бронзовой летописи Русской истории. Правда, здесь помещены изображения первой жены Грозного Анастасии Романовой и царских сподвижников: Сильвестра и Адашева. Самого же Иоанна Васильевича здесь нет. Авторы проекта и «высочайшая комиссия» во главе с Императором Александром II, принимавшая его, сочли «неуместным» помещать изображение Первого Царя.
К тому времени возобладало мнение, что Царь Иоанн – чуть ли не «чудовище во плоти». Об этом так уверенно говорили и историки, и все прочие «знатоки прошлого». Как с долей иронии заметил один из авторов, «Грозного не обличал разве что ленивый»[16]. Карамзин в своей «Истории государства Российского», которую постигала «вся читающая Россия», которую преподавали во всех гимназиях, так запугал читателей образом кровожадного тирана, что ему на нашлось места на монументе Тысячелетия России.
Мысль о том, что карамзинский образ – плод тенденциозных измышлений, что портрет этот – фальшив от начала и до конца, долго никому не приходила в голову. «Первый историограф» завораживал читателя обилием сносок и ссылок на «первоисточники» и литературным мастерством «подачи факта». Однако выхватывал, выдергивал из документов Николай Михайлович только то, что соответствовало его субъективному и недоброжелательному, а по сути дела – русофобскому взгляду. И да сам отбор, так сказать, вивисекция документального ряда у Н.М. Карамзина изначально предвзята. Потому главными «свидетелями» у него становятся: предатель князь А.М. Курбский (1528–1583), который, оправдывая собственную подлую измену, лгал на Царя без удержу; лифляндские дворяне-перебежчики Иоганн Таубе и Элерт Крузе, английский авантюрист и лазутчик Дж. Горсей и прочая иностранная русофобская нечисть. При этом никто из иностранцев, «очевидцев», не знал даже как-то сносно русского языка, но в своих писаниях приводили диалоги и монологи Царя, Митрополита Филиппа и прочих лиц, которые говорили исключительно по-русски. Карамзин же на это принципиальное обстоятельство не обратил никакого внимания…
Всегда находились люди, не согласные с подобной одномерной и одноцветной оценкой личности и дел Иоанна Грозного. Но их голоса мало кто хотел слышать; во всяком случае, на общественные представления мнения несогласных заметно не влияли. Как выразился русский историк С.М. Соловьев (1820–1879), «явилось мнение, по которому у Иоанна должна быть отнята вся слава важных дел, совершенных в его царствование, ибо при их совершении Царь был только слепым, бессознательным орудием в руках мудрых советников своих – Сильвестра и Адашева»[17].
Историк К.Д. Кавелин (1818–1885), стараясь рассматривать исторические эпохи не изолированно, как то делал Н.М. Карамзин, а в едином потоке временных взаимосвязей, писал, что наступившая через двадцать лет после смерти Грозного в начале XVII века Великая Смута, когда погибли сотни тысяч людей, а государство фактически было сокрушено почти до основания, оправдала жестокие меры Царя Иоанна Васильевича. В этот трагический момент главными разрушителями Руси стали те самые боярско-вельможные родовые кланы, к которым так беспощаден был Первый Царь.
«Сблизьте с эпохой смут фигуру Грозного, – восклицал Кавелин, – и она предстанет перед вами в трагическом величии. Значит, однако, не одна кровожадность и подозрительность заставляли его лить токи крови! Он чуял беду и боролся с ней до истощения сил»[18].
Эпоха Смуты оправдала и возвеличила личность Иоанна Васильевича. Об этом со всей определенностью говорилось в «Утвержденной грамоте об избрании на Московское Государство Михаила Федоровича Романова», составленной в мае 1613 года. В этом документе о Первом Царе написано, что он «благочестию рачитель, и по хрестьянской вере крепкий поборник, и в своих государственных чинах и поведениях премудр, и величайшую честь и вышехвальную славу царствия венец на главу свою воспринял» и «от премудрого его разума и от храброго подвига все окрестные государства имени его трепетали»[19].
Помимо всего прочего, Иоанн Васильевич явился отцом двух угодников Божиих: Царя Федора (Феодора) Иоанновича (1557–1598) и Царевича Дмитрия Углицкого (1682–1691), пользующихся молитвенным почитанием по сию пору. Однако подобные принципиальные вещи не имеют никакого значения для поколений «знатоков», большая часть которых пребывает в состоянии духовной дикости.
Один из современных биографов Грозного, пытаясь рассмотреть личность и дела этого правителя вне рамок старой идеологической схемы, признавался: «Приходится честно сказать читателю, что на вопрос об историческом значении деятельности Ивана IV мы до сих пор не имеем окончательного ответа. Остается лишь надеяться, что его могут принести труды новых поколений исследователей»[20].
Еще раньше известный русский историк С.Ф. Платонов (1860–1933), уделивший много внимания и времени изучению эпохи Грозного, констатировал, что большинство характеристик и оценок Царя, даже «если они остроумны, красивы и вероподобны, все-таки произвольны: личный характер Грозного остается загадкой». Он признавал, что «в биографии Грозного есть годы, даже целые ряды лет без малейших сведений о его личной жизни и делах»[21].
С тех времен ситуация мало изменилась; никаких принципиально новых документальных свидетельств в обращение не поступило. Тем не менее количество сочинений все растет, а «Грознениана» пополняется все новыми и новыми произведениями, большая часть которых лишь перелицовка давних мировоззренческих схем.
Как заметил известный современный историк, «к сожалению, Иван Грозный до сих пор остается не понятым потомками»[22]. Главная беда состоит в том, что понимать-то его как раз большинство историков и не хотело.
Иногда в литературе можно найти вообще вопиюще примитивные суждения, квалифицирующие Грозного земным воплощением «антихриста»[23]. Подобные «аллюзии» к истории отношения не имеют, как не имеют они ничего общего и с христианским миропониманием. Здесь нечего обсуждать или опровергать по существу, так как это экстракт абсолютного духовного невежества автора.
Совершенно абсурдным выглядит и другой пошлый антиисторический тезис, гласящий, что Грозный стал родоначальником «тоталитарного террора»[24]. Невольно хочется посоветовать подобным «знатокам», прежде чем браться за перо, хотя бы азы политико-исторического словаря освоить…
Органическая слабость многих сочинений не в незнании фактов как таковых, а в том, что факты эти приводятся в отрыве от общих условий и обстоятельств времени. Иными словами, игнорируется исходный принцип познания прошлого – чувство историзма, делая из живых людей определенного времени со всеми их слабостями, достижениями, успехами и неудачами неких надисторических мрачных истуканов.
Иоанн Грозный, несомненно, один из самых оклеветанных героев Русской истории. Ложь это имела различные причины происхождения, но главная, органическая коренилась в неспособности принять ценности метафизического мира, и главное – признать бытие Божие как объективную реальность. Почти вся отечественная историография после Н.М. Карамзина – это парад человеческого самомнения и диктатура позитивистской методологии. Уже сам Карамзин был «весьма нетверд в вере»; его многолетнее увлечение масонством – наглядное тому подтверждение[25]. Православие же и масонство – вещи не просто «несовместные», но и взаимоисключающие.
И самый сильный контраргумент против всех антицарских инсинуаций – пиететное отношение народной памяти к Царю Иоанну. Народное почитание Иоанна Грозного потрясало уже Н.М. Карамзина. «Добрая слава Иоаннова пережила его худую славу в народной памяти; стенания умолкли, жертвы истлели, и старые предания затмились новейшими»[26], – констатировал Карамзин. Знатоки фольклора почти в один голос утверждают: в народном эпосе Иоанн Грозный – любимый и высокочтимый герой. Даже «буревестник революции» А.М. Горький признавал, что «в народных песнях и сказках Грозный Царь является Царем мудрым, а главное – справедливым»[27].
Народ оказался прозорливее и добросердечней, чем многие историки, с каким-то патологическим мазохизмом вытаскивавшие на поверхность только мрак и жестокость, акцентирующие внимание почти исключительно на «злодействах», нередко просто придуманных.
Иоанн Грозный являлся человеком XVI века, он был не просто правителем, а правителем в Государстве-Церкви, каковой в ту эпоху являлась Русь-Московия. Неприятие духовной первоосновы русского бытия приводит к тому, что даже сведущие историки позволяют писать невообразимое. Вот только один характерный пассаж. Говоря об отношениях Грозного и священника московского Благовещенского собора Сильвестра, историк резюмирует: «Иван увлекся религией и вскоре преуспел в своем увлечении»[28]. Увлекаться можно чем угодно, в том числе и какой-то «религией»: поклонение дереву, камню или «коммунизму» тоже может стать «религией».
Иоанн же Васильевич был с рождения и до смерти православным; никогда не отклонялся от веры в Иисуса Христа. Как заключал митрополит Петербургский Иоанн: «В 1584 году Царь мирно почил, пророчески предсказав свою смерть. В последние часы земной жизни сбылось его давнее желание – митрополит Дионисий постриг Государя, и уже не грозный Царь Иоанн, а смиренный инок Иона предстал перед Всевышним Судией, служению Которому посвятил он свою бурную и нелегкую жизнь»[29].
Однако подобных случаев исторической духовной реконструкции личности Иоанна IV – единицы. Примеров же аберрации исторического зрения – тьма. Сошлемся на один типичный случай.
Американский историк Джеймс Д. Биллингтон, много лет посвятивший изучению России и ее культуры, написал: «В страсти Ивана к абсолютному господству как в церковной, так и в гражданской жизни воплотился цезарепапизм, превосходящий что-либо бывшее в Византии…»
Что это: элементарное незнание или идеологический ангажемент? Думается, что второе предположение более обоснованно. Историк, занимающийся русской историей многие годы, не может не знать, он обязан это знать, что никогда, ни до, ни при Грозном, ни после него, русские Великие князья, Цари и Императоры при жизни не обожествлялись; на них и им никогда не молились. Потому на Руси никакого «цезарепапизма» не существовало и в помине.
Прекрасно зная, что многие другие правители творили несоизмеримо более масштабные насилия, американский автор прибегает к исторической фальсификации, заключая: «Слишком велико, однако, отличие Ивана от современных ему Тюдоров или Бурбонов, чтобы просто внести его в некий безличный список как одного из многих государственных устроителей. Его жестокость и коварство расценивалось почти всеми современниками – западными наблюдателями – как крайность, превосходящая что-либо ими виденное»[30].
Приведенная цитация – расхожее тенденциозное измышление. Почему же «слишком велико»? Ответа конечно же нет. Однако существует же «сухая статистика» цифр и фактов насилий и казней, но американскому автору она не требуется. Главное – в очередной раз заклеймить Россию старым идеологическим ярлыком «темное царство», а доказательства приводить нет надобности. Это что: «объективный исторический анализ», чем любят козырять представители западных исторических школ? Нет, это – откровенная идеологическая подтасовка.
Конечно, как справедливо написал историк С.Ф. Платонов, от времени Иоанна Грозного сохранилось мало надежных документов. Все это так. Те же, которые дошли до нас из того далекого времени, интерпретируют события по-разному. Но почему же многие историки и двести лет после Н.М. Карамзина трактуют фактические эпизоды однозначно, исключительно негативно относительно Первого Царя? Почему очевидные сплетни и инсинуации князя А.М. Курского, домысли русофобов из числа иностранных авантюристов и «ловцов удачи», и ненавистников Руси-Московии, таких как Дж. Горсей, Джильс Флетчер, Жак Маржерет и иже с ними, стали чуть ли не «бесспорными документами»? Причем по сию пору тиражируют грязь и домыслы не только профессора из Гарварда, Принстона и прочих «очагов знания» – им за такие занятия деньги платят, а наши доморощенные знатоки, представители так называемой «попугайской историографии»! Какой-то патологический антирусский мазохизм!
Естественно, каждый исследователь и автор имеет полное право высказать собственную позицию на историческое событие и героев его. Но историческая добросовестность, уважение к своей стране и своим предкам требует не только «клеймить и разоблачать», но хотя бы как минимум упомянуть о том, что существуют и другие, порой противоположные точки зрения. Это называется историографической культурой. Но ведь подобный подход редко встречается.
Обличительные же вердикты звучат и звучат, хотя ведь всякому, кто хоть только прикоснется к данной проблематике, становится ясным, что однозначных ответов во многих случаях не существует. Это касается всех базовых пунктов Грозненианы: смерти святителя Филиппа, смерти Псково-Печерского игумена Корнилия, Опричнины, «Новгородского погрома» и т. д. и т. п. Даже с числом жен Грозного в источниках полная неразбериха: то ли пять, то ли шесть, то ли семь, то ли восемь. Но пафос обличителей и здесь достигает высокого накала. Даже те авторы, которые и не знают, что такое Церковь Христова, немедленно встают в позу радетелей Православия и начинают поносить Первого Царя за нарушение «церковных уставов».
Тезис о Царе Иоанне Васильевиче как о каком-то исключительном в мировой истории «кровожадном тиране» всегда вызывал возражения в силу своей бездоказательности и явной пристрастности. Ниже к этой теме придется еще не раз возвращаться. В данном же случае сошлемся лишь на мнение человека, слишком хорошо известного не только в качестве политического деятеля, но и в качестве одного из самых непримиримых критиков исторической России. Речь идет о главе Временного правительства в 1917 году А.Ф. Керенском (1881–1970).
Коротая свои эмигрантские будни в США, некогда бывший герой 1917 года занялся написанием курса Русской истории. Он настолько был потрясен невежеством западной публики в вопросах истории России, что постарался дать адекватные ответы на узловые проблемы прошлого[31]. Одна из этих проблем – Иоанн Грозный и время его правления.
Керенский, будучи «убежденным европейцем», слишком хорошо знал историю Западной Европы, чтобы переступить через очевидное. «Иван IV, – писал он, – во второй половине своего царствования был жестоким и своенравным правителем вроде Людовика XI, Филиппа II Испанского или Генриха VIII в Англии[32]. Но его намерения, его государственная программа были вовсе не реакционны… Нынешний тоталитарный террор гораздо правильнее сравнивать не с эмоциональными взрывами Грозного, а с системой интеллектуальной жестокости Западной Европы XV и XVI веков. Мое утверждение звучит парадоксом, а между тем это так»[33].
Думается, что дело здесь не просто в «парадоксе», а в реальном ходе событий, которые многие упорно не хотят замечать, хотя и претендуют на звание «объективных исследователей». Европейская история XVI века подарила миру целую галерею кровожадных правителей, современников Иоанна Грозного. Король (1509–1547) Генрих VIII, Королевы Мария Тюдор (1553–1558) и Елизавета I Тюдор (1558–1603) в Англии, Король (1556–1598) Филипп II в Испании, Король Дании и Норвегии и Король Швеции Христиан II (1481–1559), Эрик XIV в Швеции (1560–1568), Император «Священной Римской империи германской нации» Карл V Габсбург (1520–1558).
«Деспот», «тиран» и «мучитель», как аттестуют многие Царя Иоанна, образно говоря, «жалкий приготовишка» на фоне вышеперечисленных правителей. Об этом надо открыто и прямо заявлять. Скажем, на фоне английских людоедских нравов эпохи Генриха VIII Русь выглядит почти «садом благоденствия». Некоторые читатели могут искренне удивиться, если узнают, что во время «Варфоломеевской ночи» (с 23 на 24 августа) 1572 года во Франции было уничтожено в несколько раз больше людей, чем за сорок лет безраздельного правления Иоанна Васильевича![34]
В указанном контексте существует и еще один, так сказать, современный общественный аспект. В наше время в Великобритании Король Генрих преподносится как «Великолепный», а Королева Елизавета как «Добрая Королева Бесс», «мать Англии», а у нас для Иоанна Васильевича применяются по большей части только уничижительные эпитеты. Тут так и хочется воскликнуть: учитесь у англичан, как надо уважать свое прошлое и творцов его.
Известный в эмиграции XX века русский писатель, историк и публицист И.Л. Солоневич (1891–1953), возмущенный русофобством западноевропейцев, много десятилетий тому назад с возмущением писал: «На основании постановления от 16 февраля 1568 года инквизиция казнила в Нидерландах свыше 215 000 человек, а Карл V – еще около ста тысяч… В Англии при Генрихе VIII было казнено 72 000 и при Елизавете – около 90 000. Давайте сравнивать»[35].
Подобные сравнения оставим для другого времени. Пока лишь приведем краткие данные, не оставляющие камня на камне от всех антиисторических позиционирований Первого Царя в качестве какой-то исключительной чудовищной личности. Численность населения в Англии в ту эпоху не превышала трех миллионов, в Нидерландах – около двух миллионов, а в России – примерно 8–9 миллионов человек.
Оставим любителям математики подсчитывать проценты убиенных, но ясно одно: по своей «кровожадности» Иоанн Грозный далеко уступал жестокостям других европейских правителей. Так, по самым придирчивым подсчетам, мартиролог убитых по его приказу жертв в десять раз был меньше, чем у Генриха VIII.
И в наши дни появляются произведения «для широкой публики», где Иоанн Грозный изображается каким-то садистомпараноиком. Самый катастрофический случай – фильм П.С. Лунгина «Царь», вышедший на экран в 2009 году. Более омерзительного случая извращения Русской истории припомнить невозможно. Все – ложь, грязь и патология без конца. Этот поток «художественного прочтения» «народного артиста России» предметно к истории нашего Отечества не имеет никакого отношения.
В последние годы в общем русле традиционных суждений и оценок Первого Царя появляются работы, стремящиеся освободиться от замшелых клише, рассматривать эту фигуру не в системе отвлеченных гуманистических политико-социальных силлогизмов европейской истории XIX–XX веков, а в подлинных обстоятельствах времени и места. Потому и психологический портрет Иоанна Васильевича предстает совершенно в ином свете; открываются новые грани личности, иные масштаб и глубина ее.
«Царь, – заключает свои размышления об Опричнине современный автор, – добивался полновластия как исполнитель Воли Божьей по наказанию человеческого греха и утверждению истинного “благочестия” не только во спасение собственной жизни, но и тех грешников, которых он обрекал на смерть»[36].
Личность Иоанна Грозного до сих пор вызывает живейший интерес; количество книг, статей, телепрограмм о нем не поддается учету. Интерес этот трудно назвать праздным. Так было всегда. В периоды кризисов и тотальных переоценок ценностей, т. е. в «переходные периоды» истории, когда возникала проблема национально-государственной самоидентификации России, наблюдался и всплеск внимания к фигуре Первого Царя. Так происходит и в наши дни. Какофония суждений и оценок отражает хаос духовно-нравственного состояния нашей страны.
Фигура Иоанна Васильевича давно нуждается в новом историческом «прочтении». Речь конечно же не идет о какой-то нарочитой «реабилитации» или умышленном «обеливании». Да и вообще выносить «вердикты» или, наоборот, возвеличивать исторических героев не может являться задачей историка, если только тот не выступает в качестве безропотного слуги какой-либо идеологической концепции.
Воссоздание исторически достоверного образа Первого Царя это – начертание подлинной великой и красочной картины былого страны и народа, без чего невозможно никакое национально-государственное самопознание и самосознание. Вот почему «борьба за Царя» – есть борьба за Русскую историю, за ее удивительный героический облик, оболганный и замаранный тенденциозными измышлениями западных авторов и инсинуациями наших, доморощенных западолюбителей, которые доминировали в историографии последние два с лишним века.
Трудно надеяться на то, что какие-то «будущие поколения» расставят все точки над «и», создав беспристрастную и «подлинную» картину минувшего времени. Подобные упования из области мифических ожиданий. Вожделенной «объективной истории» по определению никогда не было, да и быть не может. Признавая неизбежность субъективизма, автор намерен следовать одному непременному правилу: уважительно относиться к ушедшему, чтить имена предков, отдавших свои силы и жизни делу служения Руси-России. Первый Царь и был из числа таковых.
Герб Царства Русского. Печать Иоанна IV, 1562 г.
Царь Иоанн IV Грозный[37]
Портрет Царя Иоанна Грозного
Гравюра из кн.: Oderborn P. Iohannis Basilidis… vita. Witebergae, 1585 г.
Глава 1. «По Божьему соизволению с рождения я был предназначен к Царству…»
16 января 1547 года в Успенском соборе Московского Кремля Великий князь Московский Иоанн IV Васильевич по «древнему цареградскому чиноположению» был венчан на Царство[38]. Священный обряд совершал Митрополит (1542–1563) Московский и всея Руси Макарий. На венчаемого были возложены Животворящий Крест, венец и бармы[39]. Затем Митрополит возвел Иоанна на Царское место и говорил ему «поучение», а во время литургии возложил на него золотую цепь Мономаха. После приобщения Святых Тайн Иоанн был помазан миром.
На исходе того дня для Митрополита, епископов и знатных людей у Царя была устроена трапеза, розданы дары разным лицам, а нищим обильно подавалась милостыня. Русь стала «Царством», а Московский Великий князь – миропомазанным правителем. В том же, 1547 году в память о венчании Иоанн повелел построить в районе села Коломенское под Москвой большой храм во имя своего небесного покровителя – храм Усекновения главы Иоанна Предтечи, сохранившийся доныне[40].
Как заявил Царь после коронации, «землею Русскою владеет он один». И до этого момента Великий князь Московский фактически был единоличным правителем; наличие Боярской Думы принципиально самодержавную властную прерогативу не ограничивало. Теперь же в прерогативе Московского властителя появилось новое мистическое качество. Верующему при миропомазании святым миро передаются дары Святого Духа, укрепляющие в жизни духовной, – это особая благодать, которой прочие смертные лишены.
По словам Митрополита Петербургского Иоанна (Снычева), «над каждым верующим это таинство совершается лишь единожды – при крещении. Начиная с Грозного, Русский Царь был единственным человеком на земле, над кем Святая Церковь совершала это таинство дважды – свидетельствуя о благодатном даровании ему способностей, необходимых для нелегкого царского служения»[41].
Еще раньше, известный богослов и деятель Русской Православной Церкви за границей, архиепископ Серафим (Соболев, 1881–1950)[42] написал: «Таинство святого миропомазания делает личность Царя священной, сообщает благодать Святого Духа для несения подвига царствования, возвышает его авторитет в глазах всего народа как нации, возводит Царя на степень верховного покровителя Православной Церкви в защите от еретиков и всех ее врагов, почему святой Иоанн Златоуст и учил, что Царская Власть, разумеется христианская, есть начало, которое удерживает пришествие антихриста»[43].
Последнее обстоятельство необходимо особо подчеркнуть, так как трактовка Отца Церкви Иоанна Златоуста (347–407) полностью соответствовала воззрению на спасительную миссию Царской Власти и Иоанна Грозного, который воспринимал противников Царя не только как своих личных врагов, но в первую очередь как врагов Христа. А с ними не могло быть соглашения, к ним не могло быть снисхождения, ибо они – приспешники дьявола.
Первые русские владетельные князья вступали во власть по праву родового приоритета, а сама интронизация (поставление на Великое княжение) не сопровождалась особой церковной процедурой. Согласно преданию, первым венчанным князем стал Владимир Всеволодович («Мономах», 1053–1125), которому Император Алексей I (1081–1118) прислал из Константинополя с Митрополитом Неофитом венец, золотую цепь и бармы – знаки высшего властного достоинства. Они принадлежали деду Владимира Мономаха по матери Императору (1052–1055) Константину Мономаху.
Пересылка императорских (царских) инсигний на Русь подчеркивала не только родственные связи между Империей ромеев и Русью[44]. Она свидетельствовала и о повышении властного достоинства русских правителей.
Иоанн Васильевич был «поставлен на Великое княжение» в Успенском соборе еще в декабре 1533 года, в возрасте чуть более трех лет. Он был правителем законным, природным и мало кто готов был оспаривать эти родовые преимущества. Коронация же Иоанна Васильевича стала началом нового исторического бытия Русского Государства. По словам исследователя, венчание на Царство знаменовало «заключительный этап складывания самодержавия на Руси и вместе с тем – юридическое оформление самодержавной государственности, знаменующее рождение “Святорусского Царства”, прошедшего этап утробного развития»[45].
В своем коронационном «поучении» в Успенском соборе Митрополит Макарий провозгласил: «Вас бо Господь Бог в Себе место избра на земли и на Свой престол вознес». Царское место – Богоустановленное; выше него на земле ничего быть не может. Еще на заре христианской истории Евсевий Памфил епископ Кесарийский (260–340), духовный наставник Императора Константина Великого (285–337) и участник Первого Вселенского Собора в Никее (325 год), сформулировал взгляд, который потом стал фактически церковным каноном: Царь есть образ Единого Царя всяческих[46].
Преподобный Максим Грек (1480–1556), один из блестящих русских мыслителей XVI века, называл христианского Государя «одушевленным образом Царя Небесного».
Другой выдающийся богослов первой половины XVI века, имя которого неразрывно связано с провиденциальной концепцией о «Москве – Третьем Риме», старец Филофей из Псковского Елеазарова монастыря, в послании Царю Иоанну патетически восклицал: «И едина ныне Святая Соборная Апостольская Церковь Восточная ярче солнца во всей поднебесной светится, и один Православный Великий Русский Царь во всей поднебесной, как Ной в ковчеге спасенный от потопа, правя и окормляя Христову Церковь и утверждая Православную веру»[47].
Венчание на Царство завершало протяженного периода складывания нового мировоззрения на Руси. Идея «Царства» вызревала в русском православном сознании почти целый век. Этот длительный процесс национально-государственного самосознания развивался на фоне новой геополитической ситуации, изменявшей место Московии среди прочих стран и народов.
В середине XV века, после падения в 1453 году Константинополя, Русь осталась единственным в мире православным государством. На ее долю выпало предназначение сохранить свет Православия, что можно было осуществить только при восприятии Ромейской (Римской) духовной всемирной трансляционной функции: стать Империей[48].
Несколько веков разоряемая и уничтожаемая как внешними нашествиями, так и внутренними раздорами, княжеско-клановой враждой страна должна была принять на себя новую историческую миссию, требовавшую огромных духовных усилий и колоссальных этноэнергетических затрат. Как показало дальнейшее развитие, Русь обладала необходимым ресурсом «витальности».
Московская Русь специально не искала и не домогалась для себя неких исключительных прав и лидирующих позиций в мировой истории. Никакой «империалистический соблазн», о чем сказано невероятно много тенденциозными авторами, русское национальное сознание не определял и государственные стремления не формировал. Его в христианско-эсхатологической природе православного мировосприятия вообще не существовало. «Соблазн» проявится значительно позже, уже при Петре I, переориентировавшим духовный строй Империи с Рима Второго, христианского, на Рим Первый, языческий. Русь же не «перехватила» эстафету Православной Империи, а наследовала ее от погибшей Ромейской державы.
Москва стала «Третьим Римом» потому, что не могла им не стать. Как заявлял старец Филофей, «Ромейское царство нерушимо, яко Господь в римскую власть записался»[49]. «Ромейское царство» неразрывно связано с величайшим мировым событием – рождением Христа, а потому это царство исчезнуть не может, ибо оно освещено фактом земного явления Спасителя.
Подобные космологические представления полностью разделял и Иоанн Грозный, когда говорил о своем родстве с Императором Августом[50]. В письме шведскому Королю Юхану (Иоганну) III в 1573 году он заявлял: «Мы ведем род от Августа-кесаря, а ты судишь о нас вопреки воле Бога, – что нам Бог дал, то ты отнимаешь у нас; мало тебе нас укорять, ты и на Бога раскрыл уста»[51]. Думается, что тут не имелась в виду прямая кровнородственная связь. Подобных произвольных исторических аллюзий Иоанн Грозный допустить не мог, так как являлся слишком исторически сведущим человеком. Подразумевалась в первую очередь преемственность властной прерогативы, которую Царь Московский получил по Божией милости из Ромейского царства.
Чуть позже, в 1577 году, в письме к польскому военноначальнику князю Александру Полубенскому, Иоанн Грозный объяснил причину избранности римского Императора Августа. Христос «божественным Своим рождением прославил Августа-кесаря, соизволил родиться в его царствование; и этим прославил его и расширил его царство…»[52].
Говоря о предпосылках возникновения концепции «Третьего Рима», современный ученый-богослов заключает: «Идее о странствующем Риме нет места ни в чистом богословии, в догматике, ни в чистой политике, но она существенно необходима в той области, где эти сферы соприкасаются. Она имеет ключевое значение при изучении христианской, православной государственности. А еще более, когда внимание наше направляется на то, как христианская государственность самоосознает себя»[53].
Воссоздание единого русского государства происходило одновременно с осмыслением новой вселенской промыслительной исторической судьбы. Эти процессы фактически синхронизировались и, став титульно Московским Царством, Русь уже имела свою стройную идеократическую историософскую концепцию. Рим Третий – это христолюбивая земля, это обитель истинного благочестия, в которой только и есть надежда и спасение. А потому, только то Царство благословенно, которое имеет благочестие полной мерой.
Осознание взаимосвязи истории текущей, зримой, и истории мистической, духоносной, стало камертоном русской богословской мысли в первые десятилетия после гибели Царьграда. Русские долго как будто боялись заявить Москву новым Римом. От падения Константинополя (Царьграда) в 1453 году до провозглашения Московского правителя Царем в 1547 году прошел целый век. Это можно воспринимать как свидетельство русского христианского смиренномудрия.
Конечно, явления внутригосударственного порядка играли в этом долгом «ожидании царства» огромную роль. Борьба за укрепление великокняжеской власти Москвы, защита от различного рода попыток ослабить, расшатать ее являлись содержанием русского консолидирующего процесса. Когда сын Великого князя Московского (1425–1462) Василия II Васильевича («Темного») Иоанн III Васильевич наследовал Великокняжескую власть в 1462 году, будущее Русского государства отнюдь еще не было надежно обеспечено. Когда же он умер в 1505 году, то судьба Руси уже представлялась иначе.
Ордынское иго осталось в прошлом, старые главные конкуренты центростремительной политики Москвы – Новгород и Тверь – были повержены. Казанское ханство, став вассальным, было нейтрализовано. После многочисленных военных столкновений Москве удалось добиться мира с Литвой и Швецией и установить относительно добрососедские отношения с могучей Османской империей.
Дед Грозного, Иоанн Васильевич, вступил на Московское княжение, имея от роду двадцать два года. Он стал Великим князем Московским Иоанном III, которого современники называли «Великим» и «Грозным». Существовало и ее одно народное величание – «Правосуд». За Ионном III закрепился титул «Великого князя всея Руси», а гербом стал двуглавый орел – эмблема последней Ромейской династии Палеологов; первое сохранившееся изображение его как государственной эмблемы на Великокняжеской печати относится к 1497 году. Герб Греческой Империи был присоединен к старому московскому гербу – Святому Георгию Победоносцу.
Русское государство, сцементированное единством власти и веры, включало обширные территории: от Новгорода на западе до реки Оби на востоке. Московский Великий князь стал титуловаться Самодержцем, т. е. полностью независимым как в делах внутрирусских, так в делах внешних. Однако смысловое содержание этого предиката власти только двумя признаками суверенитета не исчерпывалось. Существовала и еще одна важнейшая ипостась, раскрывающая вассалитет правителя земного по отношению к Царю Небесному[54]. Для христианина подобное подчинение есть не только высший нравственный выбор, но и – абсолютная форма зависимости.
Титул «самодержец» нередко заменяют греческим «автократор», который применительно к русскому определению не является аутентичным, по смыслу он ближе к ромейскому «василевсу». В литературе по этому поводу давно ведутся дискуссии.
Московский Великий князь как христианин навсегда оставался «подданным» Небесного Вседержителя. Именно эта сфера отношений – человека и Бога – формировала и определяла всю совокупность русских космологических воззрений периода Московского Царства. Новое самосознание выразительно отразила позиция Великого князя Московского Иоанна III, отвергшего в 1489 году предложение Императора «Священной Римской Империи германской нации» Фридриха III о «даровании» короны. «Мы подлинные властители в нашей земле, и мы промазаны Богом – наши предки и мы… И мы никогда не искали подтверждения тому у кого-либо, и теперь не желаем такового»[55].
В начале пришло осмысление верховной власти как Богопоставленной, «царской», а затем – «земли-царства», имеющего сакральное предназначение. Это уже был совершенно самостоятельный русский опыт интерпретации универсальной вселенско-библейской мироконструкции. Здесь нет разрыва с классическим богословием; оно выступает как благодатная и надежная опора, позволяющая промыслительно оценить события-знамения, которых во времена Апостольские и Святоотеческие не существовало.
Учение о царской власти как форме церковного служения, которое стало господствующим в русском церковно-богословском сознании к началу XVI века, нередко служит поводом для огульных обвинений в «цезарепапизме». Подобная нарочитая модернизационная оценка, как констатировал знаток русского философского наследия протоиерей В.В. Зеньковский (1881–1962), «не улавливает самой сердцевины» церковно-политической идеологии. «Царская власть, хотя и имеет отношение к земной жизни людей, является в этой идеологии фактом внутрицерковного порядка… Если смысл истории – запредельный (подготовка к Царству Божию), то самый процесс истории хотя и связан с ним, но связан непостижимо для человеческого ума. Царская власть и есть та точка, в которой происходит встреча исторического бытия с волей Божией»[56].
Подобный взгляд позволил русскому богословию гармонизировать существо двух внешне противоположных начал: Царства Божия и царства от мира сего. Идея о церковной функции Царя, о превращении его в особый церковный чин родилась и оформилась в первые века от Рождества Христова в Империи Константина. Богословская мысль там выражала уже существующую реальность. На Руси же она стала идеологическим явлением через сотни лет, но еще до того, как «Русское Царство» обрело свои зримые институциональные и титульные черты.
Предметом давней дискуссии является происхождение на Руси титула «Царь» и его предикативное использование применительно к носителям верховной власти. Отдельные авторы считают этот термин эндемичным, другие – обнаруживают его корни в древнем, санскритском языке[57]. Некоторые исследователи убеждены, что «кесарь» – грецизм, происходящий от греческого «кайсар»[58].
Широко циркулирует гипотеза о его латинском происхождении: «царь» фонетическая модификация латинского «caesar» («цезарь»). При этом некоторые интерпретаторы идут в своих предположениях еще дальше и заключают, что «царь-цесарь является синонимом титула император»[59].
Никаких исторических оснований для подобных категорических выводов не существует. Как констатировал еще в XIX веке известный русский юрист и гербовед А.Б. Лакиер (1824–1870), «названия Царь и Кесарь стоят рядом, как далеко не значащие одно и то же… Царь не есть сокращенное слово Цесарь… и мы убеждены в том, что оно чисто русское»[60]. Они действительно «стояли рядом», существуя семантически неслиянно.
На Руси не прижились ни римский титул «император», ни греческо-ромейский «василевс». Только «Царь» с самого начала являлся единственной и универсальной категорией, фокусирующей все высшие прерогативы власти. Как обоснованно заключил знаток семиотического материала, в отличие от Империи Константина, «в России наименование монарха «царем» отсылало прежде всего к религиозной традиции, где Царем назван Бог; имперская традиция для России была не столь актуальна»[61].
Русская лексическая практика уже на ранней стадии своего развития разграничивала понятия «царь» и «кесарь» (цезарь). Это разномыслие показательным образом отражено в восклицании первосвященников из известного евангельского сюжета о суде Пилата: «нет у нас царя, кроме кесаря» (Иоанн 19. 15).
Уже ранние русско-славянские транскрипции Писания отражали эту дихотомию. Правда, в самых первых славяно-русских вариантах бинарная формула звучала несколько иначе, фонетически созвучно с римским образцом: «не имамы цесаре, разве кесаря», «не имам цесаре, токмо кесара», «не имамы цесаря, но кесаря», «не имам цесаря, токмо кесаря». Но уже с XIII века водворяется ясная смысловая двухмерность. Сам же факт ее предыдущего отсутствия нельзя не признать удивительным, если учесть, что понятие «царь» известно по самым первым русским письменным свидетельствам.
Установить же точно время русскофонного рождения термина и начало его бытования на Руси не представляется возможным. Известно, что древнейшие сохранившиеся письменные источники нередко используют это определение. В Лаврентьевской летописи первый раз «царь» встречается еще в «дохронологической» эпохе, в рассказе о легендарном основателе Киева Кии. Опровергая слухи о нем как о простом лодочнике, «перевознике», Летописец заявляет, что если бы таковое было, то Кий «не ходил в Царьград к Царю», от которого «принял великую честь»[62].
В Ипатьевской летописи впервые «Царь» встречается под 1110 годом, в рассказе о жизни и делах Александра Македонского, который и обозначен этим титулом[63]. Наряду с «царем» в древнейшем летописном своде – «Повести временных лет» встречается и определение «цесарь», которое в некоторых случаях используется синонимически, а иногда имеет самостоятельное значение, как титул владетельного лица.
«Царь» не раз употребляется в ранних летописях при упоминании различных властителей: от персидского Хозроя до монгольского Батыя. Ни о какой сакральной инсигнии тут речи не идет: это всего только обозначение власти и силы. Совсем иное дело Царь «Грецкой земли», правитель, пребывающий в мировой христианской столице «Царьграде» и наделенный благочестием, которого иные правители-цари не имели.
Московский Великий князь Василий II (1425–1462), обращаясь к последнему Императору (1448–1453) Константину XI Палеологу, называл его «благочестивым и Святым Самодержцем всея вселенныя», титулуя «Державным и Благовенчанным, и благочестия ревнитель, и непорочные Православныя христианския веры теплый и непреклонный истинный поборник и правитель, и Высочайший Царь и Самодержец Греческого скипетра»[64].
Применительно к русским носителям верховной власти в лице Великих князей царское титулование не применялось вплоть до конца XV века, хотя отдельные примеры подобного наречения обнаруживаются в свидетельствах и более ранней поры. Однако все это – лишь единичные случаи излияния восторженных чувств по адресу тех или иных княжеских фигур, но отнюдь не отражение русской царекратической идеологии, которой тогда еще не существовало.
Понятия же «самовластец» и «самодержец» утвердились в ритуально-титульном обиходе еще во время Древней Руси, как обозначение суверенных прав властителя[65]. «Царь» же появился лишь тогда, когда в сознании укрепилась не просто идея «Богопоставленности» верховной власти, но и сопряженная теперь уже с ее мировым и особым предназначением.
В этой теологической конструкции «Царь» осмысливался главой христианского православного рода человеческого не по земному владетельному титулу, а по сакральному замыслу. Это не просто властитель страны, но, если использовать лексику послания Василия II, «Самодержец всей вселенной».
В ранней греко-римской традиции использовались определения «империя» и «император», а в VII веке, при Императоре Ираклии (610–641), у ромеев появляется титул «василевс».
На Руси же изначально оперировали понятиями «царство» и «царь», являвшимися русскими эквивалентами лишь по форме. Царь – особая, исключительная категория в системе православного, Христоцентричного сознания. По заключению исследователя, «само слово «царь» выступает в Древней Руси как сакральное слово и соответственно характеризуется той неконвенциональностью в отношении к языковому знаку, которая характерна вообще для сакральной лексики: тем самым называние себя царем никак не может рассматриваться как произвольный, волюнтаристский акт»[66].
Чрезвычайно точно русские представления о царском титуле передает французский капитан Жак Маржерет, прибывший на Русь в 1600 году по рекомендации Французского короля Генриха IV (1553–1610) для службы Царю (1598–1605) Борису Годунову. Прожив несколько лет в России, где ему пришлось иметь дело с людьми различного звания и состояния, Маржерет позже написал книгу о Московии, которая до сих пор остается одним из важнейших документальных свидетельств о жизни и нравах Руси конца XVI – начала XVII века.
«Что касается титула, – сообщал французский наемник, – то наименование «царь», здесь употребляемое, считают самым высоким. Императора римского они именуют цесарем, производя это слово от Цезаря; прочих же государей – королями, следуя полякам; владетеля персидского называют кизель-баша, а турецкого – великий господарь турецкий, т. е. великий государь. Слово «царь, по их мнению, находится в Священном Писании, где Давид, Соломон и иные государи названы «Царь Давид», «Царь Соломон». Поэтому они говорят, что наименование, коим Богу было угодно некогда почтить Давида, Соломона и других властителей Иудейских и Израильских, гораздо более приличествует Государю, нежели слова цесарь и король, выдуманные человеком и присвоенные, как они полагают, каким-нибудь завоевателем»[67].
О сакральном смысле понятия «Царь», укрепившемся в народном сознании, удачно написал русский мыслитель Г.П. Федотов (1886–1951). «Народ относился к царю религиозно. Царь не был для него живой личностью или политической идеей. Он был помазанником Божиим, земным Богом, носителем божественной силы и правды. По отношению к нему не могло быть и речи о каком-либо своем праве или своей чести. Перед царем, как и перед Богом, нет унижения». Это глубоко духовное русское восприятие и объясняло тот факт, что слово «Царь» непереводимо на иностранные языки, «ибо мистически связано с русской религиозной идеей»[68].
Современный исследователь, изучавший народные представления о государственной власти, обоснованно заключил, что «в народном сознании царь представлял собою сакральную ценность высочайшего значения, уступающую лишь Богу. При этом сакрализация царя не означала его обожествления, обожествлялась его функция»[69].
В русском историческом самосознании должен был совершиться целый переворот, чтобы оно начало воспринимать Русь вселенским «Благословенным Царством». Знаки этого пути ясно различимы уже в умонастроениях второй половины XV века, еще при Великом князе Василии II («Темном»). Святой Митрополит Иона (†1461), обращаясь к Новгородскому архиепископу в 1459 году, отмечал высочайшее благочестие Московского правителя, которого «Всемилостивейший Бог вразумлял», который принял свое «благородство» от «святого и Великого князя Владимира», великое попечение о вере Христианской имеет и, даст Бог, будет иметь его «в отчизне, в Рустей земле, непорушно до скончания века»[70].
Другой святитель, архиепископ Новгородский Иона (†1470), наставлял Василия II незадолго до его кончины в 1462 году, что сыну-преемнику Иоанну (Иоанну III) предстоит «хоругвь русскую содержать». Святой обязался молиться перед Всевышним о том, чтобы княжение Иоанна «укрепилось над всеми», и чтобы покорились ему «все супостаты», и чтобы он «прославился властью» больше прародителей и простерлись «силы его на многие страны великие»[71]. Вселенское задание уже явно предощущалось и заповедовалось православными святителями.
Василия II в различных случаях нарекали и «Великим Господарем», и «Царем Русским», и «Царем всея Руси». Последний Константинопольский Император Константин, обращаясь к нему, именовал его «братом», а сам Великий князь в послании в Царьград называл себя то «братом Святого твоего Царства», то «сватом Святого твоего Царства»[72].
Несмотря на это, Московский Великий князь Василий II Васильевич Царем не стал. Как не стал им ни его сын-правитель Иоанн III (1462–1505), ни его внук-правитель Василий III (1505–1533). Будущий Митрополит Макарий, тогда архиепископ Новгородский, обращался уже к отцу Иоанна Грозного, Василию III, именно как к Царю, величал его «от Бога ныне возвышенному и почтенному, единовластному Царю во всем Великом Российском Царствии Самодержцу»[73].
Официально же царский титул ни за властью, ни за государством вплоть до Иоанна Васильевича не утвердился, но базовые смысловые признаки Царства-Империи обозначились значительно раньше. Русь как бы де-факто приняла существо Царства еще до венчания на Царство Иоанна Грозного в 1547 году, когда она стала таковым и де-юре.
Сама процедура венчания или коронации в общих чертах известна; она довольно подробно описана в Никоновской летописи[74]. Куда меньше сведений о смысловых предшествующих и сопутствующих обстоятельствах. Начнем, казалось бы, с частности, но весьма существенной: с происхождения коронационного венца. Известно, что на главу Помазанника была возложена не корона западноевропейского образца, а так называемая «Шапка Мономаха». Образец этой царской инсигнии до сих пор можно лицезреть в собрании Оружейной палаты Московского Кремля.
Великий князь Василий III Иоаннович
Н.С. Самокиш. Из кн. «Великокняжеская и царская охота на Руси». Т. 1, 1896 г.
Говоря о стиле данного предмета, современный исследователь без тени сомнения заявляет: «Как видно, шапка была скроена по татарскому образцу. Но после падения Орды восточный покрой вышел из моды»[75]. Это очень давний и очень распространенный историографический трюизм.
Подобные банальности постоянно рождает западоцентричное мировоззрение, транслирующее как постулат, что центр «мировой цивилизации» – Западная Европа. Все остальное и все остальные – периферия «мировой истории». Историческая же реальность опровергает базовый элемент спекулятивных теоретических построений о русском государственно-историческом опыте как явлении «азиатчины». Потому константинопольский фактор стараются или не замечать, или придают ему несущественное, а часто и негативное звучание.
Действительно, если признать, что Русь заимствовала культурно-духовные представления и идеократические принципы из Второго Рима – самого просвещенного, самого цивилизованного и самого богатого мирового центра в конце первого – начале второго тысячелетия от Рождества Христова, то все теории об отсталости России от «мировой цивилизации» превратятся в ничто.
Ведь Константинополь той поры это – не «Запад» или «Восток», это – земной, вселенский мир и по наследию, и по факту, выступавший собственником огромного интеллектуального богатства и выразителем высочайших духовных устремлений. По сравнению с ним, даже «Рим Ветхий» выглядел дальней провинцией, не говоря уже о прочих «очагах цивилизации».
Через Царьград на Русь пришло Православие, именно там, а не где-то еще, находился важнейший источник Святодуховного знания, формировавший русские представления о жизни, смерти, предназначении людей и стран. Оттуда же пришла и идея Царя, и представление о промыслительной функции царства. Ничего подобного никакая «орда» не давала, и дать не могла. Самый яркий и известный борец за «веру и царство» периода становления Московской Руси святитель Иосиф Волоцкий (Санин, 1438–1515) в трудах греческих Отцов Церкви и богословов нашел аргументы, помогавшие ему формулировать свои исторические обетования.
Нетрудно понять, почему вопрос о происхождении «царского венца», казалось бы, всего лишь элемент исторического интронизационного ритуала, имеет до сего дня острое идеологическое звучание. Эту остроту ему как раз и придают тенденциозные сюжетно-тематические манипуляции западоцентричной мысли, для которой неприемлема вся «Мономахова история» в том виде, как она запечатлелась в произведениях XVI века.
В качестве символа властного достоинства «Шапка Мономаха» появляется при Иоанне III. Более двухсот лет, вплоть до первой четверти XVIII века, до провозглашения императорства – она важнейший святой знак интронизации. Впервые документально ее присутствие на Руси зафиксировано в первой половине XIV века – «шапка золотая» упомянута в завещании Великого князя Владимирского с 1328 года Иоанна Даниловича Калиты (1283–1340).
Исходя из этого делаются заключения, что регалия была получена Великим князем Иоанном Калитой от хана Узбека[76], которая, украшенная крестом, начала выступать в качестве царственного венца, как корона «Византийского Императора». Руководствуясь «ханским происхождением», некоторые уверенно считают ее и по бытовому стилю, и по художественному исполнению произведением исламского искусства.
Между тем ученые еще в XIX веке, проведя тщательный историко-искусствоведческий анализ царского венчального атрибута, пришли к совершенно иным выводам. По своей форме «Шапка Мономаха не Императорская стемма, не королевская корона», она «могла быть кесарским шлемом или почетным золотым шишаком кесаря». Очень важный аргумент в пользу неисламского происхождения – качество художественного исполнения золотых платин. По заключению исследователей, скань или филигрань Мономаховой шапки относится к редкому типу «ленточной филиграни» и представляет «образец высшего технического искусства». При этом «в скани оставлено место только для больших саженых жемчужин», что было характерно для искусства Византии XI–XII веков.
«Орнаментация шапки и отдельные ее рисунки принадлежат византийскому искусству XI–XII веков и не имеют ничего общего с позднетатарскими обыкновенно весьма грубыми филигранными изделиями». Знаток русской старины профессор Н.П. Кондаков (1844–1925) в этой связи заключал, «мы не можем не объяснить прямою ошибкою предположение, что Мономахова шапка должна относиться к XIV–XV векам» и «быть татарского происхождения». Искусство же исполнения и сам стиль работы свидетельствуют о том, что это византийский памятник XI–XII веков и по времени своего происхождения «ближе всего совпадают с эпохою Владимира Мономаха»[77].
Что же касается самого стиля «головного убора», который некоторым авторам напоминает то «чалму», то «тюрбан», то чуть ли не «тюбетейку», то это – область субъектных эстетических ассоциаций. Шлемовидные головные уборы были распространены в повседневном обиходе и в Империи ромеев, и в Домонгольской Руси. Самое первое из известных иконографических изображений русской Великокняжеской семьи, сохранившееся на ктиторской фреске Киевской Софии, свидетельствует, что в начале XI века атрибутами княжеской власти являлась шлемовидная «шапка (с опушкой), плащ (древнерусское – корзно) и сапоги красного цвета»[78].
При Иоанне III в русской исторической практике впервые зафиксирован коронационный ритуал, который являлся ранее типичным для Восточной Римской Империи, а позже получил распространение и в странах Западной Европы. В Константинополе чин венчания на царство появился в самом начале VII века, когда Император Фока (602–610) был коронован в церкви Иоанна Предтечи. В 610 году Патриарх Сергий короновал Императора Ираклия (610–641) в храме Святой Софии, и с тех пор этот храм становится единственным местом венчания на Царство.
В пантеоне русских правителей Первым Царем заслуженно именуют Иоанна Васильевича. Первым же «венчанным на княжение» в феврале 1498 года стал внук «Великого князя всея Руси» Иоанна III – Дмитрий (1483–1509)[79]. Церемония венчания князя Дмитрия в феврале 1498 года происходила в кафедральном Успенском соборе в присутствии Великокняжеской семьи и православных иерархов. После молебна и речи Великого князя, Иоанн III возложил на внука Царские регалии – Шапку Мономаха и бармы (оплечье). Дмитрий стал «первою личностью в русской истории, носившею царский венец»[80].
Это «венчание» не на Царство, а на великое княжение, оказалось лишь краткосрочным эпизодом из жизни Великокняжеской семьи и на преемственности власти не сказалось. Всесильный дед в 1502 году, получив сведения, что внук и его мать – дочь Молдавского господаря Стефана III Елена (†1505) симпатизируют антихристианской секте «жидовствующих», разгневался на Дмитрия, лишил звания «великого князя» и запретил поминать «венчанного» в церковных молитвах. Наследником стал сын от второго брата Великого князя Иоанна III с Софией Палеолог Василий Иоаннович.
Акт священного коронования, процедура мистического таинства ниспослания Божьей благодати особе монарха завершали длительный процесс выпестовывания формы верховного государственного правления. И когда Первый Царь уже в свои зрелые лета говорил, что он «на царстве родился», то это являлось не выражением династического тщеславия, а отражало государственно-историческое мировоззрение, прочно утвердившееся на Руси в ту эпоху.
В этот период возникают русские богословские транскрипции идеи царя и идеи царства, взросшие на богатейшей ниве церковно-канонического опыта православного богословия. Представление о Московском государе как об особом избраннике, о сакральной делегации его полномочий, о мировом духовном задании Царя – первым на Руси обосновал и сформулировал Иосиф Волоцкий, умерший в 1515 году, а уже в 1579 году канонизированной Церковью в лике Преподобного. Ученик и последователь Преподобного Пафнутия Боровского (1394–1477), он основал в 1479 году под городом Волоколамском Иосифо-Волоколамский монастырь, ставший уже в XVI веке одной из крупнейших обителей России. Страстный полемист и непримиримый борец за благочестие, он оставил большое духовное наследие, особое место в котором занимает его «Просветитель, или обличение ереси жидовствующих».
Исследователь традиции русской святости философ Г.П. Федотов (1886–1951) написал: «Горячий патриот Русской земли и ее национальных святынь, Иосиф содействовал развитию политического сознания московского князя в царя православного»[81]. Такая трактовка представляется слишком упрощенной. Монах и аскет, сникавший славу благочестивого подвижника с юных лет, не личность конкретного правителя возносил, присваивая ему царскую функцию. Прекрасно богословски образованный, Иосиф «узрел» Царя в Москве не по субъективному намерению, а в силу тех мировых причин и обстоятельств, которые отрывались православной душе и постигались пытливым умом.
По мысли Иосифа, как в древности Русская земля, «нечестием всех превзыде», так ныне – «благочестием всех одоле». Если в иных христианских странах много всякого «нечестия и неверия», а к ересям там относятся снисходительно, то на Руси все «Единого Пастыря Христа едина овчата суть и вси единомудръствующие и вси славящее Святую Троицу»[82].
Правитель должен показывать пример благочестия, ибо он избранник Всевышнего, которого Тот вместо Себя посадил на престоле. Суд Божий грозит всем людям, но с «Царей и Князей» спрос будет особый. Ибо Царь «естеством подобен есть всем человеком, властию же подобен есть Всевышнему Богу», вручившему земному Своему Наместнику и суд и попечение и о Церкви, и о всей Русской земле. Государь, по подобию власти небесной, получает «скипетр земного царствия», а Господь посылает ему силы духовные, «правду хранить». Божественные правила повелевают повиноваться Царю и Архиерею, но царю принадлежат люди своим телом и делами, а Архиерею, как преемнику Апостолов, своею душой.
Иосиф утверждал в качестве важнейшей христианской добродетели правила иерархического послушания, являющиеся непререкаемым нравственным законом. «Если ты поклоняешься или служишь Царю, или Князю, или начальствующему, то следует поклоняться и служить потому, что это угодно Богу – оказывать властям покорность и послушание: ведь они пекутся и думают о нас. Ибо написано: «Начальника в народе твоем не поноси» (Исход. 22. 28). И апостол говорит: «Бога бойтесь, царя чтите» (1 Петр. 2. 17)». Но служить и поклоняться начальствующим надо «телом, а не душой, и воздавать им честь как Царю, а не как Богу, ибо Господь говорит: «Отдайте кесарю кесарево, а Божие Богу» (Матфей. 22. 21)[83].
Однако Иосиф не считал само по себе безропотное подчинение актом благочестия. Он постулировал тезис о свободе выбора христианина, который должен безоговорочно нести свою ношу земного смирения лишь тогда, когда повелитель не обуреваем «скверными страстями и грехами», не одержим «сребролюбием и гневом, лукавством и неправдой, гордостью и яростью, злее же всего – неверием и хулой». В этом случае царь не Божий слуга, «но дьявол». И обращаясь к православным, Преподобный восклицал: «Не слушайте царя или князя, склоняющего тебя к нечестию или лукавству, даже если он будет мучить тебя или угрожать смертью. Этому учат нас пророки, апостолы и все мученики, убиенные нечестивыми царями, но не покорившиеся их повелению. Вот как подобает служить царям и князьям»[84].
Истолкователь промыслительного задания для Руси Иосиф увидел в образах и Иоанна III, и сменившего его в 1505 году Василия III явные знаки небесного благорасположения. Последнему он посвятил отдельное «Похвальное слово», наполненное панегирическим восторгом. Он именовал его «Царем истинным», «русским Белым Царем, Самодержцем всея Руси», продолжателем дел «славного Ивана». Помимо личного благочестия нового правителя, о котором Иосиф знал из непосредственного общения, Василий III по своему царскородному происхождению достоин царской участи. Он дважды «корня царского»: по отцу и по матери, «богомудрой Софии», имевшей «римское происхождение». Благодаря Василию Иоанновичу будущее Русской земли надежно обеспечено, а никто чужой «уже не вскочит» «на стадо Христово», никто от «иного племени» не взойдет на престол «Русского Царствия»[85].
Невзирая на подобные славословия, Иосифа Волоцкого нельзя считать узким «апологетом» власти, намеревавшимся, как нередко утверждают, «окружить небесным ореолом» фигуру московского правителя. Он не являлся «певцом царя». Вся его многолетняя безропотная строгая монастырская аскеза и непримиримость к земным слабостям исключает в принципе возможность какого-либо пресмыкательства. Неизбежность нелицеприятного «Суда Божия» он ощущал всю жизнь, о том писал и говорил постоянно, и только страх Судного дня был для него абсолютно значим. Все же земные суждения, симпатии, антипатии и расположения для него не имели большой ценности. Во всяком случае, не они определяли его мировоззрение.
Иосиф стал носителем и выразителем царекратической идеи не потому, что хотел кому-то «понравиться», а потому, что увидел в ней надежду и опору не только Русской земли, но и всего Православного мира. Для него «Царь» это в первую очередь христианин, властью наделенный и достоинством обличенный для вершения на земле Дела Божия. «Первый начаток христианом православный, иже во Царех, апостол Великий Константин праведный, темного оного и богопротивного второго Иуду Ария, гневу тезоименитого, с проклятиями его учениками до конца низложи»[86].
Преподобный озвучивал старый православный тезис о благотворности духоосенной верховной власти, способной творить «светским мечом» дело Церкви. Константин Великий смог когда-то, еще на заре воцерковления Империи, собрав в 325 году Первый Вселенский собор в Никее, нанести удар «богопротивному» ересиарху Арию[87] и его последователям. Задание же блюсти единство Православия остается живым и востребованным всегда, оно вменено в обязанность любому христолюбивому правителю, но в первую очередь – Царю, который есть дело и опора Церкви.
Сознание Иосифа космологично, оно охватывает всю историю рода человеческого, а характер положительной или отрицательной оценки зависит напрямую от степени благочестивого служения стран, народов и правителей. Вся совокупность его теоретических положений находилась в русле классического римского-греческого христианского богословия и ни в чем не перечила канонам Вселенских соборов. Но сила его пастырского наставления не в собственно философии – здесь Иосиф мало оригинален, а в сотериологии. Он первый создал стройную русскую вариацию «учения о спасении», соединив воедино судьбу всех и каждого на Руси с исполнением промыслительного предназначения человечества.
Схожим образом воспринимал миссию Царя и Царства и Иоанн Грозный, который внес в теорию Иосифа некоторые важные дополнения и уточнения. Точно не известно, когда и в какой степени на мировоззрении Первого Царя отразились идеи Преподобного. Однако трудно усомниться в том, что Царь не был знаком с его наследием; ведь «Просветитель» был одним из самых распространенных русских сочинений того времени.
Глава 2. Венчание на Царство и потерянная грамота
Выше уже упоминалось, что многие стороны личности Иоанна Грозного и факты его биографии или вообще не документированы, или излагаются врагами и недоброжелателями. Сведений «от первого лица» очень немного, почему далеко не всегда можно понять мир этого человека, мотивацию его поступков, его восприятие тех или иных событий и конкретных людей. С подобной неясностью приходится сталкиваться буквально на каждом шагу. Это касается и вопроса о венчании на Царство, но особенно сюжетно-смысловой предыстории.
В историографии господствует точка зрения, которая в лапидарной форме зафиксирована у Митрополита Макария (Булгакова, 1816–1882) в его фундаментальной «Истории Русской Церкви».
«Достигнув семнадцати лет жизни[88], Иоанн пригласил к себе Митрополита, долго совещался с ним наедине, и следствием этих совещаний было то, что чрез три дня юный Государь объявил пред боярами и другими сановниками два своих желания: венчаться на Царство и вступить в брак. И 16 января 1547 г. в Успенском соборе Митрополит торжественно совершил священный обряд Царского венчания над Иоанном, возложив на него животворящий Крест, венец и бармы, а 13 февраля сам сочетал Боговенчанного Царя законным браком и с избранною им девицею из дома Романовых-Захарьиных Анастасиею и преподал новобрачным обширное и приличное наставление»[89].
За исключением некоторых второстепенных деталей, в литературе трудно отыскать иную картину. А как же сам Иоанн отнесся к своему Царскому избранничеству? Почему шестнадцатилетний юноша, если поверить историкам-моралистам, будучи «взбалмошным и строптивым», безропотно и смиренно принял ношу Царского служения? Осознавал ли он всю тяжесть новой судьбы? Документов, сколько-нибудь адекватно отвечающих на эти важнейшие вопросы, практически не существует. Историки предлагали свои ответы, но это всегда внешний взгляд и часто заведомо недоброжелательный.
Вообще, детство и юность – самые туманные годы в жизни Иоанна Грозного. Да и о многих других периодах сохранилось ограниченное число свидетельств. Однако самый документально необеспеченный – первые полтора десятка лет жизни: от времени рождения до совершеннолетия, которое в то время наступало в пятнадцатилетнем возрасте.
Перечень подлинных фактов невелик, но кое-какие жизненные вехи они очерчивают. Иоанн появился на свет в 1530 году, когда отцу был уже 51 год, и он находился на Великом княжении Московском почти четверть века. Мать, Елена Глинская, была значительно моложе отца: ей к моменту первых родов исполнилось 22 года. Ранее Василий Иоаннович двадцать лет состоял в браке с Соломонией Юрьевной Сабуровой (†1542). Этот брак оказался бездетным. С согласия Митрополита Московского и всея Руси (1522–1539) Даниила, Великий князь в 1525 году развелся с женой, которая удалилась в Суздальский Покровский монастырь, приняв постриг с именем Софии.
Долгожданный сын-первенец Иоанн у Василия и Елены появился на пятом году супружества. Через два года, в октябре 1532 года, в Великокняжеской семье появился и второй сын Георгий (Юрий, 1532–1564), носивший титул князя Углического. Теперь будущее рода было надежно обеспечено и Василий III наконец-то мог избавиться от горестных мыслей, одолевавших его многие годы.
Великий князь Московский и на шестом десятке лет выглядел крепким и здоровым мужчиной, которому, казалось бы, суждено прожить еще немало лет. Но Господь рассудил иначе. В конце сентября 1533 года Василий III вместе с женой и двумя детьми отправился на богомолье в Троице-Сергиев монастырь, а оттуда поехал на охоту в тверские леса. Вскоре он заболел; нарыв на ноге привел к заражению крови. Агония продолжалась несколько недель, и 3 (4) декабря 1533 года Великий князь преставился в великокняжеских палатах Московского Кремля.
Перед смертью он передал попечению Митрополита Даниила своих детей, а «Великой княгине Елене приказал под сыном своим государство держать до возмужания сына своего»[90]. Накануне ухода Василий Иоаннович выразил желание стать монахом, и Митрополит Даниил, вопреки некоторым протестующим голосам, разрешил совершить обряд пострижения[91]. Новопреставившегося «раба Божьего» Варлаама в монашеском одеянии Митрополит Даниил похоронил в Архангельском соборе Московского Кремля. Русь горевала по смерти Государя Василия. Как удачно выразился историк Н.А. Полевой (1796–1846), «народ мог скорбеть о Василии, ибо, предоставляя тайные дела государей своих суду Божию, он помнил только добро их»[92].
Потеряв отца в три года, а мать в неполные восемь лет, юноша Иоанн оказался фактически сиротой. Окруженный дальними родственниками и боярами, он не получал сколько-нибудь систематического воспитания и образования. Вокруг же царили алчность, интриги и жестокость, которые приводили ребенка порой в состояние не просто испуга, но и потрясения.
Итальянский архитектор Петр Фрязин (Петр Малой Фрязин), приглашенный в Москву в 1528 году, работал здесь более десяти лет. По заданию Великого князя возводил в Первопрестольном граде различные постройки, но вынужден был в 1539 году бежать из Руси. Он оставил яркий портрет условий жизни того периода в Московии: «Великого князя и Великой княгини не стало, Государь нынешний мал остался, а бояре живут по своей воле, и от них великое насилие, управы на земле никому нет, между боярами самими вражда, и уехал я от великого мятежа и безгосударства»[93].
Митрополит Макарий
Неизвестный художник, между 1851 и 1857 гг.
Свои ранние годы Иоанн провел в атмосфере хаоса и фактического распада центральной власти, а следовательно – и государства. И он навсегда возненавидел боярско-олигархическое своеволие, и когда вошел в полновластие, то всегда беспощадно карал за все явные (и мнимые) проступки и деяния, особенно «первых слуг Государя» – самых родовитых и именитых. Трудно усомниться в том, что здесь коренилась одна из причин той «нелюбви», а часто ненависти, которую вызывал Первый Царь у потомков тех, предки которых относились к высшему кругу, многих из которых и настигла кара Царя Иоанна.
Здесь можно припомнить и еще один случай из истории России, уже из других времен, но столько же характерный по своим последствиям. В марте 1801 года группа негодяев свергла и умертвила Миропомазанника – Императора Павла I. Но дело только этим не ограничилось. Почти вся дворянская корпорация, особенно ее высший слой – аристократия, потом многие десятилетия лгала и инсинуировала по адресу убиенного, изображая его «злодеем», «тираном» и даже «душевнобольным». Откуда и почему же такая не остывающая ненависть? Ответ прост и ясен, но он редко встречается на страницах научных студий: «высшие» ненавидели Павла Петровича за то, что он хотел обуздать своеволие чиновников и аристократии, этих новых бояр, уверенных, что Россия – для них, а не они – для России[94].
Случай схожий и с посмертной историей Иоанна Грозного…
Обычно ранний период жизни Иоанна большинство биографов освещают крайне скупо. Как уже упоминалось, к тому существуют реальные документальные причины. Но наличествует один документ, невероятно важный в данном случае: собственные признания Царя Иоанна, его характеристики тем годам. Эти реминисценции давно известны, так как содержатся в первом послании князю А.М. Курбскому, датируемому 1564 годом, на которое ссылаются в той или иной связи практически все историки (и неисторики тоже). В этой связи необходимы пояснения общего порядка.
Собственноручные тексты Иоанна Грозного до нас не дошли. Это часто служило поводом для различных спекуляций, самая растиражированная из которых следующая: раз нет подлинных автографов, то можно ставить под сомнение все тексты, которые идентифицируются как «послания Грозного».
Сам по себе факт отсутствия автографов ровным счетам ничего не доказывает. История не сохранила таких документов о многих выдающихся деятелях. К тому же надо учитывать, что в старой властной традиции монархи часто сами никому не писали; они диктовали «мастерам каллиграфии», или проще говоря, писцам, которые мыслям властелинов и придавали соответствующий, «живописный» вид.
Почему документы Грозного так нежеланны, нетрудно понять. В них такая глубина мысли, такая сияющая высота христианского чувства, такой мощный интеллектуальный потенциал, что любой, кто ознакомится хоть с одним из посланий, не сможет не понять, что они принадлежат если и не гениальному, то уж выдающемуся человеку наверняка. А такой вывод не укладывается в русло того обличительного направления, которое давно господствует в историографии.
Что же до утверждений, что данные тексты написаны кем-то другим из «окружения» Царя, то они совершенно абсурдны. Достаточно просто внимательно прочесть послания, чтобы не осталось никакого сомнения в том, что у них только один автор, равного которому по масштабу личности в те годы в России просто не существовало. Как заключал академик Д.С. Лихачев (1906–1999), «это был поразительно талантливый человек»[95].
Об этих документах более подробный разговор будет впереди. Пока же нелишне оттенить одно существенное обстоятельство. Теперь редко кто отваживается трактовать послания Иоанна как «апокрифы». «Разоблачителями» используется другой прием. Они описывают биографию Иоанна со ссылкой на сведения… князя А.М. Курбского (1528–1583)!
Конечно, князь многое знал, многое видел, был близок одно время к Иоанну. Но ведь в 1564 году, когда он начал строчить обличительные «эпистолы» к Московскому Царю, он уже предал все и всех, бросил жену и малолетнего сына и переметнулся на службу в Литву к ненавистнику Руси и Православия польскому Королю Сигизмунду II (1520–1572). Он бежал с мешком наворованного золота, давно готовил побег, что позже удалось установить в ходе следственного дела. В Литве беглый боярин выдал литовцам всех сторонников Москвы, с которыми вел переговоры, и выдал имена московских осведомителей при дворе Короля. В том же 1564 году, в сентябре, во главе польско-литовского воинства этот «Рюрикович» вторгся на Русь, творя зверства не хуже Батыевых[96]. В этой связи утверждение, что Курбского «можно назвать предателем и изменником номер один за всю историю России», не кажется гиперболой[97].
Предатель князь-воевода обратился к Королю с призывом дать ему тридцать тысяч войска, с которым он завоюет для Сигизмунда Москву! Он уверял, что если ему не верят, то пусть «прикуют цепями к телеге», пусть охраняют всадники с заряженными ружьями, но главное – он должен быть впереди, чтобы «руководить». Этот «проект» тогда не нашел поддержки, но со временем появился другой, схожий.
Минуло сорок лет после бегства Курбского, и в октябре 1604 года почти такое по численности войско, как и просил когда-то князь-изменник, вторглось на Русь и двинулось к Москве. Во главе его, правда, был не беглый князь, а беглый бывший инок Григорий Отрепьев, присвоивший себе имя младшего сына Иоанна Грозного – Царевича Дмитрия, которого его хозяева – польско-литовская аристократия – видели в роли правителя Московии. Коварный замысел на первых порах удался: Гришка в 1605 году воцарился в Москве, а польская шляхта почувствовала себя хозяином в стране. Рим же, стоявший за всей этой кровавой авантюрой, мог торжествовать. Тайный католик Лжедмитрий получил благословение Папы Климента VIII (1592–1605) и обещал обратить Русь в «римскую веру». Триумф оказался недолгим, «проект» провалился: в мае 1606 года русичи свергли и убили разоблаченного самозванца; его труп сожгли, а прахом выстрелили из пушки в сторону Запада, откуда эта нечисть и прибыла…
Курбский удостоился у Короля Сигизмунда II Августа самого теплого приема. Он прибыл в Литву с приспешниками и слугами; ему было пожаловано несколько имений, в том числе и город Ковель! За эти «благодеяния» надо было отблагодарить, и князь очень старался. Он не только пошел воевать с Русью, но и занялся, как бы теперь сказали, «идеологической пропагандой» по дискредитации морального облика Московского правителя.
Замечательно по этому поводу выразился Владыка Иоанн (Снычев). «Подлость всегда ищет оправдания, стараясь изобразить себя стороной пострадавшей, князь Курбский не постеснялся написать Царю письмо, оправдывая свою измену «смятением горести сердечной» и обвиняя Иоанна в «мучительстве»[98].
Курбский написал четыре «обличительных» письма Царю Иоанну; сочинил в 1573 году и особый исторический трактат: «История Великого князя Московского», где оболгал не только Царя Иоанна, но и весь уклад жизни православной Руси[99]. По словам князя, «дьявол обольстил царя», который был рожден от «бесовской сожительницы»!
Завершал свой пасквиль Курбский пафосным стенанием: «Здешние жители, давно живущие под свободами христианских королей, удивляются нашим бедам, поскольку думают, что такое не может случиться у христиан»[100]. И это написал человек, при жизни которого «христианские короли» в Западной Европе творили немыслимые злодеяния. Да и сам князь не имел морального права кого-то обличать, так как лично участвовал в убийствах женщин и детей!
Шкурный клятвопреступник и беззастенчивый убийца князь Курбский до сего дня для некоторых авторов все еще «надежный свидетель»! Как обоснованно заключил один из исследователей, «до сих пор история правления Первого Русского Царя излагается по заложенной еще Н.М. Карамзиным на основе сочинений Курбского схеме «двух Иванов»: хорошего в 1550-е гг., времени реформ, времени правления «Избранной рады», и необузданного тирана после 1560 г… Существование данной схемы – самый главный след в истории, который сумел оставить Курбский. Его глазами историки и литераторы смотрят на Россию XVI века вот уже более 300 лет»[101]. Подобное явление иначе как параличом исторического мировосприятия и назвать нельзя…
Фактурно лживость многих княжеских «обвинений» давно доказана[102]. Кстати сказать, сам Курбский, в отличие от Царя, никаких своих «вин» и «грехов» не признавал и в них публично не каялся. Вершиной его нравственной деградации стало предательство Православия, в отходе от которого он так страстно обличал Иоанна.
Однако суть дела даже не в документальной ценности писаний изолгавшегося князя, а в том, что, принимая утверждения Курбского на веру, о «показаниях» самого Иоанна многие упоминают лишь вскользь, третируя их как «недостоверные». Почему? А потому, видите ли, что Царь стремился «оправдаться», хотел «изобразить себя» лучше, чем был на самом деле. Наверное, такой мотив и мог наличествовать, точно тут уже ничего установить нельзя. Однако главное было совсем не в этом. Хорошо известно другое. Первый Царь никогда ни перед кем из смертных не «оправдывался». Он объяснял, разъяснял, разоблачал, а если кому и доносил боль своего сердца, то только Всевышнему. Если же утверждать, что он стремился своими посланиями запечатлеть собственный «светлый образ» в истории, то значит совсем не понимать строй личности, психологию Первого Царя. В таком виде он предстает каким-то «политическим пиарщиком» из XX–XXI веков, но отнюдь не человеком XVI века, наделенным уникальной общественной функцией.
В своих посланиях Иоанн говорил о многом, говорил разное, порой утверждал то, что не соответствовало подлинным обстоятельствам. Он совершал ошибки, иногда крупные, но всегда при этом был искренним и никогда не считал собственную человеческую природу совершенной и безгрешной. Потому, вспоминая ранние годы, ту затхлую атмосферу, в которой он рос и мужал, он не стремился «оправдаться». Для таких утверждений не существует никаких оснований.
В послании Курбскому, опровергая измышления изменника, Иоанн кратко излагает историю своей жизни со дня смерти отца. Василий III, «по Божьей воле сменив порфиру на монашескую рясу… оставил это бренное земное царство и вступил на вечные времена в Царство Небесное предстоять перед Царем Царей и Господином государей». Мать же маленьких детей, «благочестивая Царица Елена», стала «несчастнейшей вдовой». Страну со всех сторон стали осаждать враги, внутри начались измены, некоторые бояре переметнулись на вражескую сторону и «шли войной на православных». Но, слава богу, ничего у них не вышло, и все козни неприятелей «распались в прах».
Злокозненные же души не смирились. Брат отца, князь Андрей Иванович (1490–1537), вознамерился захватить власть, а ему пособничали многие бояре, в том числе и родственники князя Курбского. Провал заговора не умерил изменнического пыла; воеводы-военноначальники «стали уступать нашему врагу, государю литовскому, наши вотчины, города Радогощь, Стародуб, Гомель».
Когда, «по Божьему предначертанию», отошла в мир иной матушка, «остались мы с почившим в бозе братом Георгием круглыми сиротами – никто нам не помогал; осталась нам надежда только на Бога, и на Пречистую Богородицу, и на всех святых молитвы, и на благословение родителей наших». В конце концов, случилось то, что и должно было случиться: воцарилось боярское беззаконие.
Через неделю после смерти Елены, последовавшей 3 апреля 1538 года, произошел боярский переворот. Правительство Великой княгини было свергнуто, а близкие покойной и юному Иоанну лица подверглись гонениям. Первыми пали: любимец Василия III князь Иван Федорович Оболенский-Телепнев-Овчина, его брат Федор, князья Борис и Михаил Горбатые и некоторые другие.
Падение это носило вызывающий характер и происходило на глазах Иоанна Васильевича. По приказу Боярской Думы в палаты ворвались вооруженные люди, семилетний «Государь и Великий князь всея Руси» разрыдался. Невзирая на это, князь Оболенский был схвачен; а его любимую няню, «мамушку» Агриппину Челяднину – сестру Оболенского, оторвали от Иоанна Васильевича и выволокли из палат, а затем сослали в монастырь в далекий Каргополь. Самого же князя Оболенского заточили и затем уморили голодом…
Власть же и попечительство над Иоанном поручались отныне князю Василию Васильевичу Шуйскому; после его скорой смерти попечителем стал его брат Иван Шуйский. Первый Царь хорошо запомнил все ужасы времен детства. «Было мне в это время восемь лет; и так подданные наши достигли осуществления своих желаний – получили Царство без правителя, об нас же, государях своих, никакой заботы сердечной не проявляли, сами же ринулись к богатству и славе и перессорились при этом друг с другом. И чего только они не натворили!» Далее Иоанн перечисляет некоторые злые дела и называет одиозные имена.
«Нас же, – продолжал воспоминания Царь, – с единородным братом моим… начали воспитывать как чужеземцев или последних бедняков. Тогда натерпелись мы лишений и в одежде, и в пище. Ни в чем нам не было воли, все делали не по своей воле, и не так, как обычно поступают дети».
И через четверть века Иоанн с отвращением и возмущением воспроизводил показательную сцену. «Бывало, мы играем в детские игры, а князь Иван Васильевич Шуйский[103] сидит на лавке, опершись о постель нашего отца и положив ногу на стул, а на нас и не взглянет – ни как родитель, ни как опекун и уж совсем ни как раб господ». Далее Иоанн напомнил и о других преступлениях Ивана Шуйского, в первую очередь о казнокрадстве. В том преступлении не один князь Иван был замешан. Но и это еще не все.
«Потом (временщики. – А.Б.) напали на города и села, мучили различными жестокими способами жителей, без милости грабили их имущество. А как перечесть обиды, которые они причинили своим соседям? Всех подданных считали своими рабами, своих же рабов сделали вельможами, делали вид, что правят и распоряжаются, а сами нарушали законы и чинили беспорядки, от всех брали безмерную мзду…»
Всех, кто был верен детям покойного Великого князя Василия Иоанновича, притесняли, унижали и оскорбляли. Иоанн привел и некоторые известные факты. Убили боярина Ивана Федоровича Бельского. То же хотели сотворить с боярином Федором Семеновичем Воронцовым, которого схватили на глазах молодого Иоанна прямо в великокняжеских палатах. Спас юный Иоанн, умолив Митрополита Макария вступиться за него. Воронцова не лишили жизни, сослали в Кострому, а самого Митрополита «толкали и разодрали на нем мантию с украшениями, а бояр толкали в спину».
Еще раньше клика Шуйских свергла Митрополита Иоасафа, бывшего игумена Троице-Сергиева монастыря, который был восприемником от купели будущего Первого Царя. Он только три года носил сан Первосвятителя – избрание его состоялось в феврале 1539 года. Митрополит не угодил влиятельной боярской партии и произошел переворот.
Митрополит Макарий (Булгаков) в «Истории Русской Церкви» написал: «Шуйский, находившийся тогда с войсками в Новгороде, в ночь на 3 января 1542 г. прибыл в Москву без ведома Государя, прислал туда наперед сына своего с тремястами всадников. В ту ночь в Кремле произошла сильная тревога: схватили Бельского в его доме и утром отправили на Белоозеро, где впоследствии его умертвили; схватили и двух главных его советников и разослали по городам, окружили кельи Митрополита, бросая в них камнями и разбудили его. Испуганный, он думал найти убежище во дворце, но заговорщики бросились за ним и туда и своим шумом разбудили Государя и привели его в трепет. Митрополит бежал на Троицкое подворье, но дети боярские и новгородцы преследовали его с бранными словами и едва не убили его на подворье… Митрополит был взят и сослан на Белоозеро в Кириллов монастырь»[104].
Юный «Государь и Великий князь всея Руси» мирно почивал в постели, когда глубокой ночью раздался страшный шум и в комнату вломилась беснующаяся толпа заговорщиков, избивая всех находящихся в соседних помещениях нянек и слуг. А в великокняжеских палатах метался несчастный, избитый Первоиерарх Русской Церкви, прося защиты и заступничества у Государя, который не только не мог спасти Иоасафа, но жизнь его самого находилась под угрозой. Владыку все-таки схватили; он чудом остался в живых, и, как написал Иоанн, «Иоасафа с великим бесчестием прогнали с Митрополии». Эта сцена навсегда врезалась в память Первого Царя.
Еще раньше, в 1539 году, с Митрополии был изгнан Даниил, попечению которого Василий III перед кончиной передал своих детей. Митрополит не угодил клану Шуйских, так как заступался за неугодных им людей. Он стал главой Митрополии в самом начале 1522 года, а ранее являлся игуменом Волоколамского (Иосифо-Волоколамского) монастыря и был утвержден в сане самим Преподобным Иосифом Волоцким (Саниным). Митрополит Даниил был сослан в Волоколамский монастырь. Мало того. Даниила там принудили написать покаянную «отреченную грамоту». Иоанн Грозный эту историю не упомянул, но то, что боярские произвол и насилие были повседневность в годы его детства и юности, о том говорил не раз.
В связи с переворотом января 1542 года важно оттенить один момент, который потом определит мотивацию поступков Иоанна Васильевича. Имеется в виду участие в бунте «новгородцев» – силы, которую нередко использовали для своих бесчинств различные боярские кланы. Новгород был присоединен к Москве еще при Иоанне III, и хотя с тех пор прошло более полувека, но дух «вольного города» все еще не выветрился; в Новгороде всегда существовало немало влиятельных лиц, помышлявших о разрыве. Для этих сепаратистов само понятие «Москва» было непереносимо, а потому они готовы были на любые антимосковские козни. К тому же Новгород, как западные ворота Руси, издавна подвергался воздействию различных антиправославных течений и настроений, проникавших из Центральной и Западной Европы. Именно здесь в конце XV века угнездилась ересь «жидовствующих», последователи которой отвергали Божественную природу Иисуса Христа. Именно отсюда, из Новгорода, эта «прелесть» стала распространяться по Руси, достигнув в Москве даже палат митрополичьих и великокняжеских теремов.
Опасность новгородскую Грозный прекрасно всегда осознавал, а потому предпринимал не раз жесткие и жестокие меры против строптивого Новгорода и его жителей. Первый урок «нелюбви» к себе новгородцы преподнесли Первому Царю, когда ему не исполнилось и двенадцати лет.
Грозный точно обозначил время «боярского самодержавия». «Со дня кончины нашей матери и до того времени шесть с половиной лет не переставали они (бояре. – А.Б.) творить зло»[105]. Если иметь в виду, что Елена Глинская скончалась 3 апреля 1538 года, то указанные «шесть с половиной лет» означают конец 1544 – начало 1545 года.
Среди важных политических событий 1545 года следует назвать прежде всего одно. Последовала опала бояр: И. Кубенского, П. Шуйского, А Горбатого, Д. Палецкого и Ф. Воронцова. Эпоха боярского своеволия клонилась к закату. Именно в конце того года Иоанн вознамерился стать Царем. Вот это самое решение – судьбоносное и в биографии Иоанна, и в судьбе России – ключевое в понимании мировосприятия Первого Царя.
В так называемой «Царственной книге» – части обширного Лицевого летописного свода, составленной в царствование Иоанна Грозного, есть описание предыстории венчания на Царство. В ней говорится, что Великий князь Иоанн велел Митрополиту Макарию собрать всех бояр и явиться к нему. 14 декабря 1546 года все собрались у Великого князя, который выступил перед собранием с речью. В ней он заявил, что намерен жениться; все горячо одобрили намерение, а некоторые «от радости заплакали». Но это было не все. Иоанн сказал еще, что прежде «хочу на царство и великое княжение сесть». И просил «отца моего Макария» на то дело «благословить меня»[106]. Благословение было получено.
Существуют летописные упоминания о том, что Иоанн венчался на Царство, исполняя волю отца, который велел ему помазаться и «венчаться Царским венцом». В Никоновской летописи говорится, что Василий III перед кончиной благословил своего старшего сына «венцом Царским и диадемами» и повелел ему венчаться на Царство[107]. В Казанском летописце, составленном ориентировочно в 60-е годы XVI столетия, описывается праведная кончина Великого князя Василия Иоанновича. Перед смертью, «взяв на руки своего старшего сына, целовал его с плачем, сказав, он будет после меня царь и самодержец; он омоет слезы христианские, всех врагов своих переживет и победит»[108].
В Постниковском летописце, составленном примерно через три десятилетия после смерти Василия Иоанновича, приводится несколько иная версия предсмертного общения отца (Василия) и сына (Иоанна).
«И принесоша к Великому князю сына его на руках князя Ивана шурин его князь Иван Глинской… Князь же Великий снем с собя крест Петра чудотворца и приложил к кресту сына своего и благословил его крестом, и рече ему: «Буди на тобе милость Божия и Пречистые Богородицы и благословление Петра чудотворца, как благословил Петр чудотворец прародителя нашего Великого князя Ивана Даниловича. И доныне буди на тобе благословление Петра чудотворца и на твоих детях, и на внучатах от рода в род. И буди на тобе мое грешного благословление и на твоих детях и внучатах от рода в род»[109]. О венчании на Царство данная летопись ничего не говорит.
В чине венчания Иоанна Васильевича приводится «слово» Царя, обращенное к Митрополиту, где говорится, что отец повелел сыну-наследнику «помазаться и венчаться царским венцом»[110]. Имеется упоминание и о «духовной» Великого князя Василия, т. е. о завещании, где письменно была выражена воля отца. Но завещание Василия Иоанновича найдено не было. Эту, как выразился один историк, «потерянную грамоту» искали долго, но безуспешно[111]. Учитывая, что такие летописи, как Царственная книга, составлялись при ближайшем участии Царя – сохранились на листах даже пометы, признаваемые многими «царскими», то версия о «воле отца» кажется достоверной. Во всяком случае, именно так хотел сохранить эту историю для потомков сам Иоанн Васильевич. В то же время нельзя не отметить, что это был осознанный и добровольный выбор самого Иоанна Васильевича.
Если принять же расхожую историографическую точку зрения, то получается невообразимая картина. «Распутный» и жестокий «шалопай», с «явно садистическими» наклонностями в семнадцать лет вдруг становится серьезным и ответственным, безропотно принимает сан Русского Царя. Эта абсурдистская ситуация давно озадачивала тех, кто стремился не только «клеймить», но и создавать логически обусловленное историческое повествование.
Все историки признавали, что еще с юных лет Иоанн совершал постоянные паломничества по святым местам России, бывал в самых древних и досточтимых обителях Православия. Некоторые и до настоящего времени убеждены, что это не было зовом души (понятия «душа» в арсенале секулярной науки не существует), а являлось всегда неким тонко рассчитанным политическим актом. И никто почти не пишет о том, что в храмах и монастырях Иоанн часами молился и, уже начиная с юных лет, вставал на молитву в 2 или 3 часа ночи. И так практически каждый день до самой смерти!
Автор, прекрасно знающий фактурную биографию Первого Царя, написал: «В четырнадцать лет Монарх отправился в Троице-Сергиев монастырь, а оттуда через Ростов и Ярославль в Кирилло-Белозерский монастырь, и окружавшие его обители: Ферапонтов, Корнильев-Комельский, Павлов-Обнорский монастыри. Путешествие было далеким и продолжалось несколько месяцев».
Казалось бы, что паломничество по святым обителям – признак явленного благочестия, свидетельство высоких духовных устремлений Иоанна. Ничего подобного. Читателю предлагается «более простое толкование». Из этого «толкования» следует, что Великому князю просто «надоели дворцовые церемонии» и ему захотелось удовлетворить свою «тягу к странствиям»[112]. Откуда же сие известно? Естественно, что никаких свидетельств не приводится; это просто попутная, но весьма тенденциозная ремарка.
Вообще, столь моментальное перерождение якобы «морально непотребного» отрока в умного и ответственного правителя всегда озадачивало и до сих пор озадачивает тех историков, которые идут не от самого героя, его духовного мира, а от «вполне устоявшихся» морально нетерпимых представлений о нем.
Историк С.М. Соловьев (1820–1879), размышляя о личности Грозного, призывал не заниматься модернизацией нравственных представлений ушедших эпох. «Мы не должны забывать разности понятий, в каких воспитываемся мы и в каких воспитывались предки наши XVI века»[113]. Признав это как своего рода аксиому, историк тем не менее в своих размышлениях не поскупился на беспощадные инвективы по адресу Первого Царя, обвинив его в самых невозможных деяниях, невозможных с точки зрения нравственных представлений именно XIX века.
Прекрасный знаток истории XVI–XVII веков историк С.Ф. Платонов (1860–1933), пытаясь разгадать «историческую шараду», связанную с возникновением Царства, предложил ответы, которые мало чем отличались от сентиментальных умозаключений Н.М. Карамзина, озвученных полувеком ранее. По Платонову, «испорченный и распущенный юноша» после венчания на Царство «выступает перед нами с чертами некоторой начитанности и политической сознательности», и для своего времени – «это образованный человек». Историк назвал имя и до него известного человека, оказавшего «благотворительное влияние» на Иоанна – это Митрополит Макарий. Но при всем том оказывается, что «моральное воспитание Грозного не соответствовало умственному образованию; душа Грозного всегда была ниже его ума»[114].
Старший современник С.Ф. Платонова, В.О. Ключевский (1841–1911), стараясь проследить духовный и интеллектуальный рост Иоанна Грозного, привлек все известные свидетельства. На основании их заключал, что он «был первым из московских государей, который узрел и живо почувствовал в себе царя в настоящем библейском смысле, помазанника Божия»[115]
