Читать онлайн Большие люди (Big Men): Как диктаторы грабили, убивали и меняли Африку бесплатно
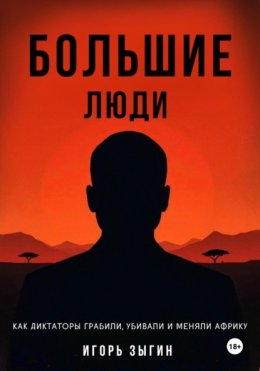
Глава 1. Уганда. Иди Амин – «Последний король Шотландии»
Пролог. Утро обычного диктатора
Кампала, январь 1972 года. Утреннее солнце окрашивает воды озера Виктория в золотистые тона, когда сорокасемилетний генерал Иди Амин неторопливо поднимается по мраморным ступеням своей резиденции на холме Накасеро. За массивной фигурой в безукоризненном белоснежном кителе, усыпанном медалями Британской империи, следует секретарь с блокнотом – обычная сцена обычного утра в обычной африканской столице.
– Записывайте, – говорит Амин, поправляя китель и любуясь видом на озеро. Голос звучит на удивление мягко. – «Её Величеству королеве Елизавете Второй…»
Секретарь послушно поднимает ручку.
– «От Его Превосходительства Президента пожизненно, Фельдмаршала Аль-Хаджи Доктора Иди Амин Дада…» – диктатор делает театральную паузу. – «…кавалера ордена "Крест Виктории", Военного креста, ордена за выдающиеся заслуги, Командора Британской империи…»
Рука секретаря уже устает – титулы сыплются бесконечной лавиной.
– «…Повелителя всех зверей земли и рыб морских…» – продолжает Амин. – «…и Завоевателя Британской империи в Африке вообще и в Уганде в частности…»
Пауза. Секретарь поднимает глаза.
– Это ещё не всё, – улыбается Амин. – «…и Последнего короля Шотландии».
В кабинете повисает тишина. За окном кричат птицы-носороги.
В этот самый момент, в нескольких километрах отсюда, в подвалах розового здания на том же холме, агенты Государственного бюро расследований пытают электричеством студента университета Макерере. Его преступление – неосторожная шутка о том, что президент «слишком любит говорить по радио». Студент умрет через три дня. О его существовании королева не узнает никогда.
Часть I. Корни катастрофы (1894-1962)
Чтобы понять, как человечество смогло породить Иди Амина, необходимо начать с британского протектората Уганда – уникального колониального эксперимента, который стал идеальной фабрикой для выращивания будущих диктаторов. Британцы прибыли сюда в 1894 году не как завоеватели варварских племен, а как «защитники» древнего королевства Буганда от арабских работорговцев. Эта роль благородных «освободителей» позволила им создать систему управления, которая оказалась более разрушительной, чем прямая военная оккупация.
Логика была циничной в своей простоте. Южные области протектората, особенно королевство Буганда с центром в Кампале, стали витриной успешной цивилизаторской миссии. Здесь процветала древняя монархия – централизованное государство, существовавшее с XIV века, со своим парламентом лукико, развитой административной системой и зачатками письменности. Правитель кабака считался полубожественным властелином миллиона подданных – африканским эквивалентом японского императора.
Британцы не разрушили эту систему, а поставили себе на службу. Сюда пришли дороги и школы, плантации хлопка и кофе, а местная аристократия превратилась в младших партнеров колониального проекта. Народ баганда, составлявший четверть населения протектората, получил привилегированный статус «цивилизованных африканцев» – их дети учились в миссионерских школах, взрослые служили переводчиками и клерками, а традиционный монарх кабака сохранил церемониальную власть и получал от британской короны жалованье в 1500 фунтов стерлингов в год – больше, чем получал губернатор колонии.
Северные районы – Ачоли, Западный Нил, Карамоджа – остались на обочине этого праздника жизни. Если на юге строили школы и больницы, то здесь возводили только казармы. Британцы видели в северных территориях единственную ценность – неисчерпаемый источник военной силы для главного инструмента имперского господства: Королевских африканских стрелков.
КАС была уникальным военным образованием – армией без отечества, которая служила интересам империи от Сомали до Малави. Представьте себе Иностранный легион, укомплектованный исключительно африканцами под командованием белых офицеров, который мог быть переброшен в любую точку континента для подавления восстаний или захвата новых территорий. В разное время подразделения КАС воевали в Судане, Кении, Танганьике, Эфиопии – везде, где интересы империи требовали применения силы.
Социолог Махмуд Мамдани точно назвал эту систему «децентрализованным деспотизмом» – каждое племя управлялось через своих «традиционных» вождей (часто назначаемых колониальной администрацией), но реальная власть принадлежала Лондону через армию наемников. Межэтнические конфликты не подавлялись, а культивировались: британцы всегда могли найти одно племя, готовое воевать против другого за жалованье и оружие.
К моменту обретения независимости в 1962 году эта система отравила межэтнические отношения на поколения вперед. Народ баганда привык считать себя естественными правителями страны. Северяне видели в них «британских лакеев» и жаждали реванша. А армия состояла из профессиональных солдат, которые были лояльны не конституции, народу или хотя бы королю, а тому, кто обеспечивал им регулярное жалованье и возможность грабить.
Рождение будущего людоеда
В этом мире разделенных лояльностей и милитаризованных племен около 1925 года родился Иди Амин Дада Ньябира. Точной даты никто не знал – на Западном Ниле не велось записей актов гражданского состояния, да и грамотность была редкостью среди скотоводов племени каква. Его отец Амин Дада совмещал традиционное занятие – разведение коз – с современной профессией солдата КАС.
Каква были одним из самых малочисленных племен протектората – не более пятидесяти тысяч человек, кочевавших в засушливых районах на границе с Суданом. У них не было централизованного государства, городов, письменности, развитой торговли. Для британских вербовщиков это делало их идеальными рекрутами: люди без сильных племенных связей, готовые служить за регулярное жалованье и статус.
Детство Амина прошло между двумя мирами. Мать, Аиша Чумару, была традиционной целительницей из племени лугбара – хранительницей древних знаний и верований, женщиной, которая могла говорить с духами предков и врачевать болезни травами. Отец представлял современность – военную дисциплину, британские порядки, жизнь по расписанию и уставу. В этом взрывоопасном сочетании магического мышления и армейской структуры уже угадывались черты будущего диктатора, который будет принимать политические решения на основе «божественных откровений».
Школа империи: от повара до чемпиона
В 1946 году двадцатиодинолетний Амин пришел в казармы 4-го угандийского батальона КАС в портовом городе Джинья на берегу озера Виктория. Сослуживцы запомнили его сразу – к двадцати годам он вымахал до 193 сантиметров и весил 110 килограммов, что для африканца того времени было исключительной редкостью. Более важной была другая особенность: он обладал редким сочетанием физической мощи и абсолютного послушания – именно те качества, которые британские офицеры ценили в колониальных солдатах превыше всего.
Начинал Амин с самого низа – помощником батальонного повара, но карьера развивалась головокружительно. В военных характеристиках того времени регулярно появлялись записи вроде: «Отличная физическая форма», «Исключительно предан Её Величеству», «Способен решить любую деликатную задачу». Последняя формулировка была армейским эвфемизмом для описания готовности убивать без лишних вопросов.
С 1951 по 1960 год Амин девять раз подряд становился чемпионом Уганды по боксу в полутяжелом весе – рекорд, который не побит до сих пор. Британские офицеры обожали ставить на боксерские поединки, и Амин редко их подводил. По легенде, он никогда не проигрывал и мог одним ударом сломать противнику челюсть. Документальных подтверждений нет, но репутация непобедимого бойца работала на него всю жизнь – даже враги предпочитали вести себя вежливо в его присутствии.
Кенийские джунгли: университет террора
Подлинную славу Амин снискал однако не на боксерском ринге, а в джунглях Кении, где с 1952 по 1956 год участвовал в подавлении восстания Мау-Мау – самой кровавой антиколониальной войны в истории Британской Восточной Африки. Здесь, среди зеленого ада кенийского высокогорья, бывший повар получил степень доктора наук по прикладному садизму.
Восстание началось как протест кикуйю против захвата земель белыми поселенцами, но быстро переросло в тотальную войну. Повстанцы практиковали тактику выжженной земли – убивали лояльных вождей, нападали на изолированные фермы, терроризировали «коллаборационистов». Британская администрация ответила методами, которые удивили бы даже надсмотрщиков нацистских концлагерей.
Операция называлась «восстановлением порядка», но по сути была геноцидом. Полтора миллиона кикуйю согнали в концентрационные лагеря, которые эвфемистически именовались «защищенными деревнями». Там их подвергали принудительному труду, пыткам, перевоспитанию и систематическому уничтожению. По разным оценкам, в лагерях умерло от двадцати до ста тысяч человек – точные цифры засекречены до сих пор.
Солдаты КАС, включая Амина, были главными исполнителями этого террора. Они прочесывали джунгли в поисках повстанцев, сжигали деревни целиком, расстреливали подозреваемых без суда и следствия. Британские офицеры давали простые инструкции, чтобы не перегружать своих подопечных лишней информацией: «Убивайте всех, кто убегает», «Не берите в плен старше шестнадцати лет», «Приносите головы для подсчета трофеев».
Именно в кенийских джунглях Амин усвоил основные принципы государственного террора, которые позже применит в Уганде: коллективную ответственность (наказание целых сообществ за действия отдельных лиц), превентивные репрессии (устранение потенциальных противников до их активизации) и публичность насилия (демонстрация последствий неповиновения как средство устрашения).
Годы спустя, когда журналисты спрашивали Амина о его методах правления, он часто ссылался на кенийский опыт: «Я учился у лучших – у британцев. Они научили меня, что порядок важнее жизни». Это не было оправданием – это была констатация факта.
Легенда утверждает, что именно в Кении Амин впервые попробовал человеческое мясо, отрезав и съев кусок от убитого повстанца перед изумленными сослуживцами. Документальных подтверждений нет, но слухи о каннибализме преследовали его до конца жизни. Возможно, он сам их подогревал – ничто так не деморализует врагов, как репутация людоеда.
К 1956 году восстание было подавлено с тевтонской основательностью. Официально погибло двенадцать тысяч повстанцев, но реальные цифры, вероятно, в несколько раз выше. Амин вернулся в Уганду с репутацией «решателя проблем», медалями «За отличную службу» и «За долгую службу» и бесценным опытом массовых убийств. В характеристиках британские офицеры отмечали: «Образцовый солдат. Никогда не задает лишних вопросов. Рекомендуется для выполнения особых заданий».
Новые времена, старые методы
В 1961 году, за год до независимости Уганды, произошло знаковое событие: Амин и еще один угандиец, Шабан Опломба, стали первыми африканцами, получившими офицерские звания в КАС. Это была символическая уступка наступающей эре деколонизации – африканцы должны были командовать африканской армией. На практике система мало изменилась: британские советники остались, западное оружие продолжало поступать, методы обучения сохранились прежними. Амин просто занял место белого офицера в той же колониальной машине.
После провозглашения независимости в октябре 1962 года новый премьер-министр Милтон Оботе назначил Амина заместителем командующего угандийской армией. К 1966 году бывший помощник повара стал полноправным командующим сухопутными войсками. Карьера от рядового до генерала за двадцать лет – головокружительный взлет даже по африканским меркам тех бурных времен.
Часть II. Опасное партнерство (1962-1970)
Кровавая команда: Оботе и Амин
Премьер-министр Милтон Оботе был типичным лидером эпохи деколонизации – харизматичный интеллектуал с западным образованием, который привел страну к независимости под знаменем демократии и прогресса. Но, как и большинство его африканских коллег, он быстро понял, что демократические идеалы плохо совместимы с реалиями управления постколониальным государством.
К середине 1960-х Оботе правил фактически единолично. Для такого режима ему нужен был надежный силовик – человек сильный, но не слишком умный, способный на любые действия, но лишенный политических амбиций. Амин подходил идеально.
Образованный в престижном университете Макерере Оботе и полуграмотный солдат Амин дополняли друг друга как зубило и молоток: один думал, другой исполнял. Их сотрудничество скрепилось кровью 24 мая 1966 года, когда разгорелся конституционный кризис между центральным правительством и древним королевством Буганда.
Штурм дворца: уничтожение тысячелетней традиции
Король, или, по-местному, Кабака, Мутеса II, потомок 35 поколений правителей и формальный президент федеративной Уганды, попытался отстоять автономию своего королевства. Он потребовал вывода правительственных войск с территории Буганды и пригрозил выходом из состава страны – неприемлемый вызов для Оботе, который видел в федеративной системе угрозу собственной власти.
Премьер-министр дал Амину лаконичный приказ: «Решите проблему с Менго». И тот решил ее по-военному, с присущей ему основательностью.
Утром 24 мая 1966 года танки и бронетранспортеры окружили холм Менго, где высился дворец кабаки – символ пятисотлетней истории самого могущественного королевства Восточной Африки. Это был не просто штурм здания, а уничтожение живой традиции. Во дворце хранились королевские регалии: священные барабаны, связывавшие правителей с предками, и мумии древних кабак. Для народа баганда атака на Менго была равносильна варварскому разрушению собора Святого Петра или сжиганию Лувра.
Королевские гвардейцы, вооруженные допотопными винтовками «Ли-Энфилд» времен Первой мировой войны, встретили нападавших ружейным огнем. Для них это была война за само существование Буганды как государства. Амин ответил артиллерийским обстрелом – канонада слышалась по всей Кампале, тысячи жителей высыпали на улицы, не понимая, что происходит.
Сражение продолжалось четыре часа. Когда дым рассеялся, дворец лежал в руинах, а 71-летний кабака исчез. Позже выяснилось, что монарх сбежал через брешь в стене, переодевшись в штатское. Через британское консульство он добрался до Лондона, где и умер в 1969 году, никогда больше не увидев родины.
Для Амина штурм Менго стал моментом откровения. Он увидел, как быстро можно сломить любое сопротивление при наличии подавляющего превосходства в силе. Он понял, что политические проблемы в конечном счете решаются не переговорами, а танками. Этот урок он усвоил на всю жизнь.
Для Оботе операция стала подтверждением правильности выбора исполнителя. Амин показал себя как человек дела, который не станет мучиться сомнениями перед лицом «высших интересов государства». Традиционные королевства были упразднены одним указом, их правители лишены всех полномочий, их казна конфискована. Древняя федеративная система, просуществовавшая столетия, исчезла за одну ночь.
Но в этом триумфе уже таились семена будущей трагедии. Уничтожив традиционные структуры власти, Оботе сделал армию единственным политическим институтом в стране. А армией командовал человек, который усвоил простую истину: власть принадлежит тому, у кого больше танков.
Конголезское золото: партнерство в коррупции
К концу 1960-х Уганда была втянута в хаос соседней Демократической Республики Конго, где после убийства Патриса Лумумбы бушевала многосторонняя гражданская война. Официально Кампала сохраняла нейтралитет, но на практике и Оботе, и Амин активно участвовали в конголезских делах – разумеется, небескорыстно.
Схема была элегантной в своей простоте: угандийские военные поставляли оружие различным конголезским группировкам в обмен на золото, алмазы и слоновую кость. Деньги от этих операций оседали в карманах организаторов – Оботе использовал свою долю для укрепления партии и покупки лояльности политиков, Амин тратил на усиление влияния в армии и обогащение своего клана.
К 1970 году из военного бюджета исчезло около 4 миллионов долларов – эквивалент 25 миллионов в ценах 2025 года. Большая часть денег прошла через руки Амина, который не мог внятно объяснить их судьбу. Когда президентская комиссия потребовала отчета, генерал заявил, что средства потрачены на «секретные операции по защите национальной безопасности».
Оботе понял: его подчиненный вышел из-под контроля. Амин перестал быть послушным исполнителем и превратился в самостоятельного игрока, который мог конкурировать с президентом за влияние в армии. Более того, компрометирующие материалы по конголезским операциям делали генерала опасным свидетелем.
«Движение влево»: как потерять друзей и восстановить против себя спецслужбы
Коррупционный скандал не остался незамеченным западными союзниками, но гораздо большую тревогу у них вызывали идеологические эксперименты Оботе. Параллельно с обогащением на конголезском золоте угандийский президент совершал еще более опасный для западных интересов маневр – дрейф в сторону Советского Союза. К концу 1960-х он объявил о «Движении влево» и программе построения «африканского социализма».
Для британского бизнеса это была катастрофа. В 1969 году Оботе национализировал 80 британских компаний, включая крупнейшие банки Imperial Bank и Standard Bank, а также основные промышленные предприятия. Общий объем британских инвестиций в Уганде составлял около 150 миллионов фунтов стерлингов – эквивалент 2 миллиардов долларов в современных ценах.
Еще тревожнее был геополитический дрейф. Угандийские студенты получали стипендии в Московском университете имени Лумумбы. Советские военные советники появились в Кампале. Сам президент все чаще произносил речи о «борьбе с неоколониализмом» и «солидарности с прогрессивными силами мира». В условиях холодной войны это автоматически делало его врагом.
Представьте американскую реакцию, если бы союзная страна внезапно национализировала все американские компании и пригласила китайских военных советников. Примерно такие чувства испытывала британская элита, наблюдая за превращением бывшей образцовой колонии в потенциальный форпост СССР в Восточной Африке.
На этом фоне репутация Амина как «прямолинейного исполнителя» без идеологических заморочек начала работать ему на руку. В частных разговорах западные дипломаты все чаще поминали генерала как человека «старой школы» – солдата, который не увлекается политическими экспериментами и понимает ценность проверенных союзов. В отличие от своего президента, витавшего в облаках социалистических теорий, Амин оставался человеком конкретного действия.
Оботе, некогда полезный союзник, превратился в головную боль. А его армейский командир все чаще рассматривался как потенциальное решение проблемы.
Часть III. Развод с кровью (1970-1971)
Превентивный удар: логика переворота
В октябре 1970 года Оботе попытался поставить строптивого генерала на место. Он объявил о создании Совета обороны под собственным председательством и фактически лишил Амина права самостоятельно командовать войсками. Это было равносильно объявлению недоверия и прелюдией к аресту.
К январю 1971 года ситуация достигла критической точки. Оботе принял окончательное решение – физически устранить Амина. Но сначала ему предстояла поездка в Сингапур на саммит Содружества (14-22 января), где он планировал выступить против продажи британского оружия правительству ЮАР времен апартеида. Это была принципиальная позиция в рамках поддержки африканских освободительных движений – именно такие заявления и делали Оботе неприемлемым для западных столиц.
Перед отъездом президент дал письменный приказ об аресте Амина. Операцию должен был возглавить подполковник Августино Аквангу – командир элитного механизированного разведывательного полка в Малире, представитель племени ачоли и личный враг генерала из Западного Нила. В операции также участвовали генеральный инспектор полиции Эринайо Орьема и министр внутренних дел Базиль Батарингая.
План был детально проработан и носил кодовое название «Лимонад». Сначала предполагалось разоружить всех солдат из племен Западного Нила в ключевых подразделениях, изъять ключи от танков и бронетранспортеров, заблокировать арсеналы. Затем – заманить и арестовать всех офицеров, лояльных Амину. И только после этого атаковать самого генерала в его командном пункте в районе Кололо. Если он окажет сопротивление – убить «в перестрелке».
Оботе рассчитывал, что операция пройдет как обычная «техническая чистка» армии – к его возвращению из Сингапура проблемы уже не будет. Амин исчезнет, как исчезали сотни других «неблагонадежных» офицеров в предыдущие годы.
24 января: операция «Лимонад» и стакан пива, который изменил историю
Вечером 24 января 1971 года подполковник Аквангу приступил к выполнению президентского приказа. В 19:00 он приказал изъять у водителей все ключи от танков и БТР механизированного полка и заблокировать их в ординарской. Затем потребовал от часовых сдать оружие «доверенному» старшине. Под предлогом «экстренного совещания» он заманил всех старших офицеров в офицерский клуб в Менго – и запер их там.
Следующим шагом стал инструктаж солдат из племен ачоли и ланго в солдатском клубе о том, как арестовать Амина в его штабе. Все шло по плану – через несколько часов генерал был бы мертв.
А дальше, по словам участников событий, произошла случайность, которая больше напоминает сценарий боевика или военной комедии.
В 21:00 капрал Филип Айико из Западного Нила зашел в солдатский клуб купить пива. Он обнаружил закрытое совещание, на котором присутствовали только солдаты из ачоли и ланго – его туда не пустили. Заподозрив неладное, он бросился предупреждать соплеменников.
Одновременно из офицерского клуба сумел передать радиосигнал лейтенант Элли Асеани, родственник Амина. Он связался с капралом Майклом Аконью в казармах Малире и велел солдатам из Западного Нила «защищаться любыми средствами – мачете, ножами, топорами».
Когда солдаты-северяне поняли, что их планомерно разоружают, они попытались дать отпор. Но все стрелковое оружие было заперто в арсенале за крепкими стенами и замками. В этот критический момент на базу вернулся капрал Мозес Галла – водитель БТР, прошедший подготовку в Чехословакии и Греции. От зарубежных инструкторов он усвоил полезный навык: как завести двигатель бронемашины с помощью пивной открывашки.
Галла взял открывашку, завел свой БТР и на полном ходу протаранил дверь арсенала. Получив доступ к оружию, мятежные солдаты арестовали подполковника Аквангу и отправили танки спасать Амина, который сначала испугался, думая, что за ним пришли.
Но правда ли это?
Эта история, записанная со слов участников спустя полвека после событий, выглядит подозрительно кинематографично для такого серьезного исторического поворота. Стакан пива, который изменил судьбу континента? Солдат с открывашкой, спасший будущего диктатора? Сценарий достоин голливудского фильма.
Более прозаическая версия указывает на заранее спланированную операцию с международным участием. Рассекреченные документы показывают: израильский военный атташе полковник Барух Бар-Лев находился при Амине именно в те критические дни. Британский высокий комиссар Слейтер, проснувшись от звуков перестрелки, первым делом обратился к израильскому дипломату – и нашел его в штабе переворота, где тот «консультировал по вопросам безопасности».
Западные спецслужбы имели все мотивы для смещения просоветского Оботе и могли предупредить Амина о планах его ареста через израильские каналы. Отъезд президента в Сингапур стал идеальным моментом для нанесения ответного удара. Переворот мог быть не импровизацией отчаявшихся солдат, а тщательно подготовленной операцией.
Какая версия ближе к истине? Возможно, обе содержат зерно правды. Амин мог знать о планах Оботе заранее, но конкретные события в казармах развивались именно так, как рассказывают ветераны. Солдаты из Западного Нила искренне верили, что спасают своего командира от внезапной угрозы, не подозревая о большой геополитической игре.
В любом случае, к ночи 25 января у Амина были танки, оружие, мотивированные солдаты и молчаливая поддержка западных спецслужб. Все необходимое для захвата власти в постколониальной Африке.
25 января 1971: ночь длинных штыков
Как бы то ни было – была ли это цепь случайностей или заранее спланированная операция – к полуночи Амин оказался в уникальном положении. У него были танки, вооруженные и мотивированные солдаты, 15 часов до возвращения президента и молчаливая поддержка западных спецслужб. Все необходимое для захвата власти в постколониальной Африке.
Переворот начался в 1:30 ночи 25 января – именно в тот момент, когда президентский «Фоккер-27» взлетал из аэропорта Энтеббе, направляясь в Сингапур на встречу лидеров Британского Содружества. Совпадение это или расчет, но время было выбрано идеально.
Операция развивалась с военной точностью. Верные Амину войска одновременно заняли ключевые объекты столицы: радиостанцию «Голос Уганды», центральную почту, банк Уганды, главную тюрьму Лузира и аэропорт Энтеббе. К рассвету советские танки Т-34 (ирония истории: Амин использовал оружие будущих идеологических врагов для захвата власти) контролировали все правительственные здания Кампалы.
Сопротивление было символическим. Верные Оботе подразделения оказались деморализованы и дезорганизованы. Многие офицеры, узнав о происходящем, просто разошлись по домам, не желая умирать за отсутствующего президента. Некоторые бои произошли в Джинье, где гарнизон пытался удержать стратегически важный город, но и там сопротивление было подавлено к утру.
В 6:00 утра радио «Голос Уганды» передало первое обращение «Вооруженных сил Уганды к народу»: «Мы взяли власть в свои руки, чтобы спасти ситуацию… Диктатура, репрессии и несправедливость подошли к концу». Голос диктора дрожал от волнения – он зачитывал смертный приговор угандийской демократии, сам того не подозревая.
Медовый месяц с народом
Реакция жителей Кампалы поразила даже организаторов переворота: улицы заполнили ликующие толпы. Особенно радовались баганда, которые видели в падении Оботе возможность восстановления уничтоженного королевства. Для них северянин Оботе был узурпатором, разрушившим пятисотлетнюю монархию и отправившим в изгнание законного кабаку. Амин, обещавший «вернуть достоинство традиционным институтам», казался восстановителем исторической справедливости.
Студенты университета Макерере танцевали на площадях. Даже британские дипломаты писали в депешах о «народном празднике освобождения от тирании». В первые дни Амин блестяще играл роль освободителя: освободил всех политических заключенных, пообещал провести свободные выборы в течение двух лет, заговорил о возвращении конфискованного имущества.
Западная пресса называла его «африканским Пиночетом» – сильным лидером, который наведет порядок и проведет рыночные реформы. В лондонской Times появилась статья с заголовком «Уганда обретает надежду», а в парижском Monde – «Новый лидер для новой Африки».
Оботе, проснувшийся в сингапурском отеле «Рафлз», попытался организовать сопротивление. Он обратился за помощью к СССР, КНР, Танзании. Но было поздно – армия, главный инструмент власти в постколониальной Африке, находилась в руках Амина.
Часть IV. Строительство тирании (1971-1972)
Розовое здание на холме Накасеро
В августе 1971 года, через полгода после переворота, Амин подписал указ о роспуске существующих спецслужб и создании нового органа государственной безопасности – Государственного бюро расследований. Формально это было техническое переименование, но на практике – рождение одной из самых эффективных машин убийства в истории Африки.
ГБР разместилось в розовом L-образном здании на холме Накасеро в центре Кампалы – в нескольких минутах ходьбы от парламента, верховного суда и англиканского собора. Невинная на вид постройка колониальных времен превратилась в адрес, которого боялся каждый угандиец. Произнести вслух «Накасеро» стало равносильно упоминанию проклятия.
Новую структуру создавали при непосредственном участии израильских инструкторов из Моссада. Полковник Барух Бар-Лев лично курировал подбор кадров и разработку оперативных методов. «Мы обучаем их современным технологиям обеспечения государственной безопасности», – докладывал он в Тель-Авив. Под «современными технологиями» подразумевались наработки израильской разведки: агентурные сети, техническое наблюдение, превентивные операции против потенциальных врагов.
В штате ГБР числилось три тысячи сотрудников, но реальная численность была выше – многие работали под прикрытием в министерствах, университетах, даже церквах. Костяк составляли нубийцы – потомки суданских солдат, осевших в Уганде еще в XIX веке – и недавние иммигранты из Руанды: люди без глубоких корней в угандийском обществе, целиком зависевшие от щедрости режима.
Агентов ГБР можно было узнать издалека: темные очки Ray-Ban (точная копия тех, что носили агенты ЦРУ в голливудских фильмах), яркие гавайские рубашки, новенькие «Тойоты» и «Мерседесы» без номерных знаков. Они ездили вооруженными автоматами Калашникова и пистолетами «Браунинг», не подчинялись обычной полиции и могли арестовать любого без ордера.
Подземелья ада
Главным «новшеством» стал подземный комплекс под зданием ГБР – лабиринт камер и коридоров, соединенный туннелем с президентской резиденцией. По слухам, Амин мог спуститься к особо важным узникам, не показываясь на поверхности. Архитектор проекта, майор Фарук Минава – выпускник британской военной академии Сандхерст, – позже рассказывал, что идею подземных тюрем подсказали израильские консультанты, изучавшие опыт нацистского гестапо.
Аполло Водокелло Лавоко, бывший министр внутренних дел при Оботе, провел в этих подвалах 169 дней. Его воспоминания о «месте, откуда не возвращаются», читаются как «Ад Данте»:
«Камера номер семь называлась «холодильником». Промышленные кондиционеры поддерживали температуру около нуля градусов Цельсия. Заключенных держали голыми. Через два дня у большинства начиналась пневмония.
Камера номер двенадцать – «бассейн». Помещение размером 3 на 4 метра постепенно заполняли водой, нагретой электрическими спиралями до температуры кипятка. Воду добавляли по несколько сантиметров в день. Заключенный мог выбирать – стоять в кипятке или утонуть.
В камере номер пятнадцать пытали молотками. Не для получения информации – просто для удовольствия. Агенты приходили туда после приема марихуаны или местного самогона «варажи». Они говорили, что это «помогает сосредоточиться на работе»».
Легенды рассказывают о специальных «крокодильих ямах», куда сбрасывали живых заключенных, и о холодильниках, набитых отрезанными головами. Лавоко утверждает, что видел головы в морозильных камерах, но «крокодильи ямы» считает выдумкой: «Зачем тратить деньги на экзотику, когда молоток стоит два шиллинга?»
Современные исследователи склонны считать наиболее зловещие детали мифологизацией реальных ужасов. Профессор истории университета Макерере Семакула Кисиро отмечает: «Реальные методы пыток были более прозаичными – избиения, удушения, расстрелы. Легенды о каннибализме и крокодилах появились позже, когда люди пытались объяснить необъяснимое масштабом зла». Но даже скептики соглашаются: масштаб террора был чудовищным.
Субботние казни: ритуал государственного садизма
По субботам в ГБР устраивались массовые казни – кровавый ритуал, который стал визитной карточкой режима. Амин лично отбирал жертв из еженедельных списков, составлявшихся начальниками отделов. Процедура напоминала абсурдную бюрократию: подозреваемых группировали по категориям («интеллектуалы», «племенные враги», «экономические саботажники»), а диктатор ставил галочки напротив имен, как менеджер, утверждающий список сотрудников к сокращению.
Казни происходили во внутреннем дворе здания. Амин наблюдал с балкона своего кабинета на втором этаже, попивая чай «Эрл Грей» и иногда делая замечания палачам: «Этого бить дольше – он еще не раскаялся в предательстве», «Того можно прикончить быстро – он уже понял свои ошибки».
Свидетель тех лет, работавший садовником в соседнем здании, вспоминал: «По субботам оттуда доносились крики до самого вечера. А в воскресенье утром грузовики увозили мешки. Мы знали, что в мешках, но никто не говорил об этом вслух. Даже дома, даже жене».
Тела убитых грузили в военные машины и вывозили за город. Чаще всего их сбрасывали в озеро Виктория или реку Нил. Крокодилы действительно пожирали трупы – это была не садистской выдумкой, а практическим решением проблемы утилизации. К 1975 году рыбаки на озере регулярно находили в сетях человеческие останки.
Расширяющиеся круги террора
Террор начался с армии, но быстро распространился на все общество. Первыми жертвами стали офицеры и солдаты из племен ачоли и ланго – политической базы свергнутого Оботе. За первый год правления из армии исчезло около 5000 военнослужащих. Их семьи получали официальные уведомления о «демобилизации по состоянию здоровья», но тела никому не выдавали.
Чистки проходили в казармах Джинджи, Мбарары, Морото. Солдат из «неблагонадежных» племен вызывали на ночные построения и расстреливали прямо на плацу из автоматов Калашникова. Тела закапывали в братских могилах или сжигали в ямах. К концу 1971 года в угандийской армии не осталось ни одного офицера из племен ачоли или ланго выше звания лейтенанта.
Следующей целью стали интеллектуалы. Университет Макерере, основанный в 1922 году и считавшийся «Гарвардом Африки», превратился в зону особого риска. Профессоров хватали прямо с лекций по доносам студентов или коллег. Их обвиняли в «подрывной деятельности», «пропаганде империализма» или просто в «неуважении к президенту».
Доктор Фрэнк Кядондо, профессор политологии, исчез в ноябре 1972 года после лекции о «проблемах демократии в Африке». Его жена получила анонимный звонок: «Ваш муж наговорил лишнего. Он больше не вернется». Семья так и не узнала, где он похоронен.
К 1975 году из 2000 преподавателей и студентов университета около 400 были убиты, 600 бежали за границу, еще 300 сидели в тюрьмах. Учебный процесс фактически остановился. «Гарвард Африки» превратился в руины.
Часть V. Популистский разгром (1972)
4 августа 1972: божественное откровение
Утром 4 августа 1972 года Амин прибыл на военную базу в западноугандийском городе Торо для обычного инструктажа офицеров. Но вместо стандартного разбора учений он произнес заявление, которое навсегда изменило лицо страны и вошло в историю как один из самых разрушительных популистских жестов XX века.
– Прошлой ночью мне явился Всевышний Аллах, – торжественно объявил президент, стоя перед строем в полной парадной форме. – Всевышний дал мне указание изгнать из нашей страны всех азиатов. Они приехали в Уганду строить железную дорогу из Момбасы в Кампалу. Железная дорога построена. Теперь их миссия завершена, и они должны вернуться туда, откуда пришли.
Офицеры слушали в оцепенении. Азиатское сообщество – 80 тысяч индийцев, пакистанцев и бангладешцев – составляло всего 1% населения Уганды, но контролировало 90% торговли и промышленности. Они владели 5655 зарегистрированными предприятиями, от крупных текстильных фабрик до мелких лавочек. Их изгнание означало экономическое самоубийство страны.
Но Амин рассуждал не экономическими, а политическими категориями. К середине 1972 года его популярность падала. Обещанные демократические выборы откладывались, экономика буксовала, даже в армии росло недовольство. Президенту нужен был эффектный жест, который вернул бы ему поддержку народа и отвлек от реальных проблем.
Азиатское меньшинство стало идеальной мишенью. Они были чужаками – потомками тех, кого британцы привезли в начале XX века для строительства железной дороги «Лунатик-экспресс» от порта Момбаса до озера Виктория. После завершения стройки в 1903 году около 32 тысяч индийских рабочих получили право остаться в Уганде. К 1970-м их потомки контролировали почти всю современную экономику.
Для простых угандийцев азиаты были живым напоминанием о колониальной расовой иерархии: белые управляли, азиаты торговали, африканцы работали на плантациях. После независимости политическая система изменилась, но экономическое неравенство сохранилось.
Угандийский писатель Дэвид Руберангира, живший в те годы в Кампале, вспоминал: «Мой отец тридцать лет работал кассиром в магазине индийца Рамеша Патела. Каждое утро он приходил к восьми, работал до семи вечера, получал 180 шиллингов в месяц. Патель жил в двухэтажном особняке с садом в престижном районе Кололо, отправил троих детей учиться в Лондон, ездил на новом «Мерседесе». Когда Амин объявил, что магазин теперь принадлежит африканцам, отец впервые за много лет улыбнулся».
Девяносто дней до катастрофы
Амин дал азиатам 90 дней на эвакуацию – достаточно для сбора вещей, но недостаточно для продажи имущества или перевода капиталов. Это было сознательное решение: диктатор хотел захватить азиатскую собственность целиком, а не получить с нее налоги.
Ограничения были драконовскими: каждая семья могла взять с собой не более 120 долларов наличными (около 750 долларов в современных ценах) и 220 килограммов багажа. Банковские счета блокировались, недвижимость конфисковывалась, предприятия переходили под государственный контроль. Фактически 80 тысяч человек лишались всего, что накапливали поколениями.
Процедура эвакуации напоминала организованное унижение. В аэропорту Энтеббе азиатов заставляли раздеваться догола под предлогом таможенного досмотра. У них отнимали обручальные кольца, наручные часы, семейные фотографии – все, что представляло хотя бы минимальную ценность. Женщин принуждали к «гинекологическим осмотрам» в поисках спрятанных драгоценностей.
Хариш Патель, владелец небольшой типографии в Кампале, вспоминал: «Нам сказали, что мы можем взять только самое необходимое. Я упаковал семейный альбом – сорок лет фотографий, свадьба родителей, рождение детей. На таможне солдат вытряхнул все фотографии и сказал: «Это не необходимое». Растоптал их сапогами. Моя дочь плакала три дня».
Международное сообщество отреагировало вяло и противоречиво. Великобритания была обязана принять около 30 тысяч азиатов с британскими паспортами, но делала это без энтузиазма. Премьер-министр Эдвард Хит заявил парламенту, что «правительство выполнит свои обязательства, но рассчитывает на понимание со стороны других стран Содружества».
Канада согласилась принять 7 тысяч беженцев, но ввела жесткие квоты и требования к образованию. США фактически закрыли границы, заявив о «неготовности инфраструктуры к приему большого числа иммигрантов». Только Индия приняла беженцев без ограничений, хотя многие из них никогда там не жили и не говорили на хинди.
За 90 дней из Уганды выехало 58 741 человек – почти три четверти всего азиатского населения. Оставшиеся 20 тысяч, в основном граждане Уганды, подвергались постоянным притеснениям и в большинстве своем покинули страну к концу 1973 года.
Раздача добычи
Конфискованное имущество азиатов стало крупнейшей в истории Уганды операцией по перераспределению собственности. 5655 предприятий, 4315 ферм и ранчо, тысячи домов, магазинов и мастерских были переданы «достойным африканцам» – понятие, которое Амин интерпретировал очень своеобразно.
Главными бенефициарами стали армейские офицеры и высокопоставленные чиновники. Смутс Гуведдеко, еще недавно работавший оператором на телефонной станции, получил звание полковника ВВС и стал владельцем трех текстильных фабрик в Джинье. Исаак Малияманугу превратился из ночного сторожа в контроллера кофейного экспорта – одной из самых доходных должностей в стране. Фрэнсис Ньянгома, водитель грузовика, стал министром торговли и владельцем сети из 47 магазинов в Кампале.
Критерием распределения была не экономическая компетентность, а политическая лояльность. Амин создавал новый правящий класс, полностью зависимый от его милости. Эти люди понимали: их благополучие держится на одной нитке – благосклонности диктатора. Поэтому они были готовы на все ради защиты режима.
Проблема заключалась в том, что управлять современным предприятием оказалось сложнее, чем его захватить. Новые владельцы не понимали технологических процессов, не знали поставщиков, не умели вести бухгалтерский учет. Бывший телефонист плохо разбирался в логистике текстильного производства. Ночной сторож не понимал тонкостей международной торговли кофе.
Результаты были предсказуемы. Текстильная фабрика «Ньянзе» в Джинье, одна из крупнейших в Восточной Африке, остановилась через три месяца после смены владельца – закончилось сырье, а новый директор не знал, где его покупать. Кофеперерабатывающий завод в Букобе проработал полгода на старых запасах, а потом был закрыт из-за поломки оборудования, которое никто не умел чинить.
К концу 1973 года работала только четверть конфискованных предприятий. К 1975 году – менее 10%. Промышленное производство упало в три раза по сравнению с 1970 годом.
«Магендо»: экономика теней
С исчезновением легальной экономики в Уганде расцвел черный рынок. Появилось новое слово – «магендо» (искаженное английское «magazine» – магазин), которым обозначали всю теневую торговлю. В стране, где официальные магазины стояли пустыми, «магендо» был единственным способом что-то купить.
Простейшие товары превратились в дефицит. Мыло, которое раньше стоило 2 шиллинга, на черном рынке продавали за 50. Сахар подорожал в 25 раз. Бензин, если его можно было найти, стоил дороже виски. Лекарства исчезли из больниц – их скупали спекулянты и перепродавали в десять раз дороже.
К 1976 году буханка хлеба стоила 30 шиллингов – полтора дня зарплаты учителя. Килограмм мяса – 80 шиллингов, почти недельный заработок клерка. Семьи среднего класса, которые при азиатах жили скромно, но достойно, превратились в нищих.
Мэри Акол, медсестра больницы Мулаго, вспоминала: «Мы оперировали при свечах, потому что не было топлива для генераторов. Шили кетгутом, который стирали и использовали повторно. Анестезии не было – делали операции под местным наркозом из травы. Дети умирали от болезней, которые легко лечатся аспирином, но аспирина не было».
Образовательная система рухнула вместе с экономикой. В школах не было учебников, тетрадей, мела. Учителя месяцами не получали зарплату и были вынуждены торговать на рынках, чтобы прокормить семьи. К 1978 году половина школ в стране закрылась. Целое поколение угандийских детей выросло неграмотными.
Цена популизма
Парадокс заключался в том, что «экономическая война» оставалась самой популярной мерой за все время правления Амина. Несмотря на коллапс экономики, многие угандийцы поддерживали изгнание азиатов как акт исторической справедливости.
Популярность объяснялась просто: впервые за десятилетия простые африканцы получили шанс стать собственниками. Солдат, клерк, мелкий торговец внезапно становился владельцем магазина, мастерской или фермы. Социальные лифты, заблокированные колониальной системой, заработали на полную мощность.
Питер Секанди, бывший водитель автобуса, получил сеть из 12 магазинов в пригороде Кампалы. Через год 10 из них закрылись, но два продолжали работать, принося доход в 800 шиллингов в месяц – в четыре раза больше его прежней зарплаты. «Конечно, я поддерживал президента, – говорил он годы спустя. – Впервые в жизни я был хозяином, а не прислугой».
Эта поддержка объясняет, почему Амин продержался у власти восемь лет, несмотря на экономическую катастрофу. Его база состояла не из идеологических сторонников, а из прагматичных бенефициаров – людей, которые получили от режима больше, чем потеряли.
Часть VI. Геополитические качели (1972-1976)
Разрыв с «традиционными друзьями»
Медовый месяц Амина с Западом закончился из-за банального торга. В марте 1972 года угандийский диктатор обратился к израильскому правительству с просьбой о поставке современных реактивных истребителей «Мираж» или «Фантом». Формально оружие требовалось для «защиты от возможной агрессии Танзании», но Амин не скрывал своих планов по аннексии танзанийского острова Укереве на озере Виктория.
Израильское руководство оказалось в сложном положении. С одной стороны, Амин был ценным союзником против арабского влияния в регионе. С другой – поставка наступательного оружия неуравновешенному диктатору грозила втянуть Израиль в региональный конфликт. После недель размышлений Тель-Авив дал вежливый отказ, сославшись на «технические сложности с обучением пилотов».
Для Амина, привыкшего к тому, что союзники выполняют все его просьбы, это было неприемлемым унижением. Он воспринял отказ как предательство и начал искать альтернативные источники оружия.
Ливийские нефтедоллары и советское оружие
Такая альтернатива нашлась быстро. Муаммар Каддафи, пришедший к власти в Ливии в результате военного переворота 1969 года, активно искал союзников для реализации своих грандиозных планов. 30-летний полковник мечтал стать лидером панарабского и панафриканского движения, объединить весь континент под знаменем борьбы против «западного империализма». Огромные нефтяные доходы – после национализации британских и американских компаний Ливия получала миллиарды долларов в год – давали ему ресурсы для воплощения амбиций.
17 марта 1972 года Амин объявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем. Все израильские советники получили 24 часа на сборы и отбытие из страны. В аэропорту Энтеббе их лично провожал полковник Бар-Лев – тот самый человек, который полтора года назад помогал планировать переворот.
В телеграмме генеральному секретарю ООН Амин объяснил свое решение «поддержкой справедливой борьбы палестинского народа против сионистской агрессии». На самом деле причина была банальнее: новый покровитель предлагал лучшие условия сотрудничества.
Каддафи оказался гораздо более щедрым спонсором, чем Израиль и Британия вместе взятые. За первый год сотрудничества Амин получил от Ливии 25 миллионов долларов наличными – сумму, превышавшую весь годовой бюджет Уганды. Кроме того, ливийцы поставили партию танков Т-55, несколько тысяч автоматов АК-47 и 10 транспортных самолетов Ан-12.
Советский Союз увидел в Уганде удобную возможность для расширения влияния в Восточной Африке. После разрыва Амина с Израилем советские инструкторы заменили израильских, обучая агентов ГБР «передовым методам обеспечения государственной безопасности». На практике это означало освоение техник КГБ: оперативную психологию, методы вербовки агентуры, организацию системы доносов.
СССР поставил Уганде 12 истребителей МиГ-21, батарею зенитно-ракетных комплексов С-75 «Двина» и 50 танков Т-54. Советские летчики-инструкторы обучали угандийских пилотов, а офицеры ГРУ консультировали ГБР по вопросам контрразведки.
Для Москвы Амин был не идеологическим союзником, а удобным инструментом давления на прозападные режимы в регионе. Советское руководство не питало иллюзий относительно характера угандийского диктатора, но рассматривало его как полезную фигуру в большой геополитической игре.
Театр абсурда: психологическая война против Запада
Разорвав с прежними союзниками, Амин с удвоенной энергией взялся за психологическую войну против них. Его методы были одновременно примитивными и эффективными – он использовал абсурд как оружие.
В 1975 году он присвоил себе титул CBE, который теперь расшифровывался не как «Commander of the British Empire» (Командор ордена Британской империи), а как «Conqueror of the British Empire» (Завоеватель Британской империи). В том же году он направил в Лондон официальную ноту с предложением «освободить угнетенный шотландский народ от английского ига» и стать посредником в переговорах между Эдинбургом и Лондоном.
Премьер-министр Джеймс Каллаган ответил вежливым отказом, но Амин не сдавался. Он регулярно отправлял «братские приветы шотландским борцам за независимость» и предлагал военную помощь «в борьбе против английских угнетателей». В 1977 году он даже назначил себя «почетным президентом Шотландской республики» и заказал для этого случая специальную медаль.
Кульминацией стала телеграмма королеве Елизавете II по случаю ее серебряного юбилея в 1977 году: «Ваше Величество правила долго и мудро, но пришло время передать корону более достойному. Предлагаю свои услуги в качестве регента до совершеннолетия принца Чарльза. В знак доброй воли готов жениться на принцессе Анне и обеспечить ей достойную жизнь в Африке».
Эти выходки могли показаться безобидными чудачествами, но имели серьезную цель: они отвлекали внимание мировой прессы от реальных преступлений режима. Журналисты писали о забавных телеграммах «Последнего короля Шотландии», а не о массовых убийствах в подвалах Накасеро.
27 июня 1976: неожиданные гости в Энтеббе
Утром 27 июня 1976 года диспетчеры аэропорта Энтеббе получили экстренное сообщение от экипажа рейса 139 Air France, следовавшего из Тель-Авива в Париж через Афины: на борту захватчики, самолет требует разрешения на посадку для дозаправки. Через час Airbus А-300 с 248 пассажирами и членами экипажа приземлился на главной взлетно-посадочной полосе.
Угонщики оказались международной группой: два палестинца из Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) и двое немцев из левацкой организации «Революционные ячейки». Их лидер, Вилфрид Бозе, бывший студент франкфуртского университета, требовал встречи с президентом Уганды.
Амин прибыл в аэропорт через два часа в сопровождении охраны и телевизионной съемочной группы. Он приветствовал террористов как «борцов за освобождение Палестины» и заявил журналистам, что Уганда «предоставляет убежище всем, кто сражается против империализма и сионизма».
На самом деле решение поддержать угонщиков было продиктовано не идеологией, а расчетом. Амин видел в кризисе шанс показать себя как влиятельного посредника на международной арене. Он рассчитывал на благодарность арабского мира и дополнительную финансовую помощь от Ливии и Саудовской Аравии.
248 пассажиров и членов экипажа провели неделю в аду. Их держали в старом терминале аэропорта – полуразрушенном здании без кондиционеров, с заколоченными окнами и протекающей крышей. Температура воздуха достигала 45 градусов Цельсия. Воду давали дважды в день по стакану на человека. Кормили рисом с мухами.
3 июля террористы освободили 147 пассажиров неиудейского происхождения, отправив их во Францию. Оставшиеся 101 человек – все израильтяне или евреи других национальностей – понимали, что их ждет смерть. Среди заложников была 75-летняя Дора Блох, британская подданная, которая за день до рейда прилетела в Израиль навестить сына.
3 июля: 53 минуты в Энтеббе
Вечером 3 июля четыре транспортных самолета С-130 «Геркулес» взлетели с израильской авиабазы Офир на Синайском полуострове. На борту находилось около 200 бойцов элитных подразделений «Сайерет Маткаль» и «Шальдаг» под командованием подполковника Йонатана Нетаньяху – старшего брата будущего премьер-министра Израиля.
Операция была спланирована как хирургическая. Разведка установила точное расположение заложников, террористов и угандийской охраны. Специально для рейда построили макет терминала Энтеббе, где отрабатывали каждое движение.
В 23:00 первый С-130 приземлился на взлетно-посадочной полосе. Из грузового отсека выехал черный «Мерседес» – точная копия президентского автомобиля Амина. Угандийские часовые приняли его за кортеж диктатора и не открыли огонь.
Штурм терминала начался в 23:07 и продолжался 53 минуты. Израильские коммандос уничтожили всех семерых террористов и около 40 угандийских солдат, освободили 102 заложника. Одновременно саперы взорвали на стоянке 11 угандийских истребителей МиГ-17 и МиГ-21 – весь боеспособный парк ВВС страны. Чтобы никто не сбил улетающий самолёт.
Цена операции: три погибших заложника, один раненый коммандос и смерть командира подполковника Нетаньяху, который получил пулю снайпера при штурме диспетчерской вышки.
В 00:15 4 июля последний израильский самолет покинул угандийское воздушное пространство. Через 8 часов освобожденные заложники приземлились в Тель-Авиве под овации толпы и вспышки фотокамер.
Унижение и месть
Для Амина операция «Энтеббе» стала ошеломляющим унижением. Израильтяне не только провели военную операцию на его территории, но и показали всему миру полную беспомощность угандийских вооруженных сил. Элитная президентская гвардия, охранявшая аэропорт, была уничтожена за час горсткой коммандос.
Международная реакция добила престиж диктатора. Операцию «Энтеббе» восхваляли как триумф над терроризмом. Израильских пилотов принимали как героев в столицах всего мира. Угандийского диктатора изображали как жалкого пособника террористов, неспособного защитить собственную территорию.
Амин ответил единственным доступным ему способом – террором против беззащитных. 5 июля он приказал убить Дору Блох, которая накануне операции была госпитализирована в больницу Кампалы с приступом. 75-летнюю британку вывезли из больницы агенты ГБР и застрелили на дороге в аэропорт. Ее тело сожгли, а пепел развеяли над озером Виктория.
В тот же день началась резня кенийцев в Уганде. Амин обвинил кенийское правительство в пособничестве израильской операции (что было правдой – Кения предоставила свое воздушное пространство и аэродром для дозаправки) и приказал «очистить страну от кенийских шпионов». За неделю было убито около 3000 кенийских граждан, работавших в Уганде.
Операция «Энтеббе» окончательно превратила Амина из экзотического союзника в международного изгоя. Даже те западные политики, которые до сих пор находили оправдания его «эксцессам», больше не могли игнорировать очевидное: угандийский диктатор стал пособником международного терроризма и угрозой региональной стабильности.
Часть VII. Крах (1976-1979)
Признаки разложения
К концу 1970-х режим Амина разлагался изнутри. Экономика лежала в руинах, и даже щедрая ливийская помощь не могла компенсировать полное отсутствие производства. Страна жила за счет внешних субсидий и разграбления остатков колониального наследства.
В армии участились фракционные столкновения. Солдаты из разных племен воевали друг с другом за контроль над прибыльными постами. Офицеры открыто торговали оружием и боеприпасами на черном рынке. Дисциплина рухнула – приказы исполнялись только под дулом автомата.
К 1978 году армия, которая когда-то считалась одной из лучших в Черной Африке, превратилась в карикатуру на военную силу. Амин не только свел к нулю военные возможности своей страны, но и «исламизировал» ее на 40 процентов, заменив профессиональных солдат фанатиками и наемниками. То, что раньше было угандийской национальной армией, стало армией, где доминировали иностранцы – нубийцы, суданцы, палестинцы, ливийцы.
В 1977 году произошло две серьезные попытки военного переворота. В марте группа офицеров из племени ланго попыталась захватить радиостанцию и объявить о свержении диктатора. Заговор был раскрыт агентами ГБР в последний момент – 23 офицера расстреляли без суда. В октябре подобную попытку предприняли нубийские полковники, недовольные засильем соплеменников Амина в высшем командовании. Их постигла та же участь.
Амин понимал: чтобы удержать власть, нужно отвлечь армию от внутренних проблем и дать ей возможность заработать в бою. Он давно присматривался к соседней Танзании, где правил его личный враг Джулиус Ньерере – интеллектуал и моралист, который осуждал угандийский режим и предоставил убежище политическим беженцам.
Последняя авантюра: война за Кагеру
1 октября 1978 года угандийские войска внезапно пересекли границу в районе Кагеры и оккупировали значительную часть танзанийской территории к западу от озера Виктория. Амин объявил эту землю «исторически угандийской» и пообещал «восстановить справедливые границы, нарушенные колонизаторами».
Реальные мотивы были прозаичнее. Кагера была богатым сельскохозяйственным районом, где выращивали кофе и бананы. Ее захват мог частично компенсировать продовольственный кризис в Уганде. Кроме того, Амин рассчитывал на быструю победу, которая подняла бы его престиж в армии и отвлекла от экономических проблем.
Вторжение началось с артиллерийского обстрела городка Букоба. 2000 угандийских солдат при поддержке танков Т-55 заняли аэропорт и правительственные здания. Местное ополчение не оказало серьезного сопротивления – к вечеру весь выступ был под контролем захватчиков.
Амин лично прибыл в Букобу и провозгласил «воссоединение Кагеры с материнской Угандой». На митинге он заявил: «Эта земля принадлежала нашим предкам тысячи лет. Колонизаторы отняли ее, но справедливость восторжествовала». Танзанийское население встретило «освободителей» молчанием.
Но триумф был обманчивым. Угандийские войска, привыкшие к террору против безоружных, вели себя как обычно. Они грабили дома, угоняли скот, убивали мирных жителей. Около 1500 танзанийцев были расстреляны без всякого повода. Еще 40 тысяч бежали на юг, в леса и болота. То, что задумывалось как освободительная операция, превратилось в бессмысленную резню.
Ньерере наносит ответный удар
Джулиус Ньерере оказался не из тех, кто прощает территориальные захваты. 71-летний президент Танзании, несмотря на пацифистские убеждения, объявил о мобилизации и поклялся «выбить захватчиков с нашей земли».
У Ньерере были серьезные преимущества, которых не понимал Амин. В отличие от Уганды, где Амин разрушил все институты государства, Танзания сохранила функционирующую систему управления. Правда, эта система тоже была авторитарной – Ньерере правил однопартийным государством с 1965 года, запретив всю политическую оппозицию. Но его диктатура была патерналистской, а не садистской.
После мятежа танзанийских войск в 1964 году Ньерере сделал то, что не решился сделать ни один другой африканский лидер: полностью демонтировал колониальную армию и создал совершенно новые вооруженные силы.
Танзанийские народные силы обороны (TPDF) строились по принципу «народной армии под гражданским контролем». С самого основания в войска внедрялась идея служения не диктатору, а народу. Офицеры получали политическое образование наряду с военным. Солдат учили, что они защищают не режим, а родину. В результате Танзания стала единственной страной в Восточной Африке, которая ни разу не пережила военного переворота.
Ньерере приказал провести полную мобилизацию – и за несколько недель танзанийская армия выросла с 40 тысяч до 150 тысяч человек. В ряды встали не только регулярные войска, но и полицейские, тюремные надзиратели, студенты национальной службы, добровольцы из числа гражданских.
В то время как общая численность угандийских вооруженных сил составляла всего 20-21 тысячу человек, причем на передовой в любой момент находилось менее 3000 солдат. Более того, угандийская армия страдала от постоянных дезертирств – солдаты бежали целыми подразделениями, не желая воевать за режим, который не платил им жалованье месяцами.
Кроме того, Ньерере смог объединить различные группы угандийских эмигрантов в единый Фронт национального освобождения Уганды (ФНОУ). В него вошли сторонники свергнутого Оботе, монархисты, требовавшие восстановления королевства Буганда, и даже бывшие офицеры армии Амина, бежавшие после неудачных переворотов.
Каддафи попытался спасти своего протеже, направив в Уганду экспедиционный корпус из 3000 ливийских солдат с танками и артиллерией. Но даже это подкрепление не могло исправить фундаментальные пороки угандийской армии.
Развал «непобедимой» армии
Танзанийское контрнаступление началось в ноябре 1978 года массированным артиллерийским обстрелом с применением систем залпового огня БМ-21 «Град». Удар оказался полной неожиданностью для угандийского командования. Несмотря на предупреждения разведки о танзанийских приготовлениях, высшие офицеры проигнорировали донесения и не создали никаких укреплений. Вместо подготовки к обороне они занимались грабежом захваченных территорий.
TPDF при поддержке угандийских эмигрантов быстро выбили захватчиков из Кагеры и в январе 1979 года перешли в наступление вглубь Уганды. Сопротивление угандийских войск было символическим.
Армия, которая восемь лет терроризировала мирное население, оказалась совершенно неспособной к настоящей войне. Солдаты, привыкшие к безнаказанности при расправах с безоружными, растерялись перед лицом организованного противника. Целые батальоны сдавались без боя или просто разбегались по домам.
Полковник Джума Башир, командир 3-го пехотного батальона, позже рассказывал: «Мои солдаты умели только грабить и убивать мирных. Когда на них пошли настоящие танки с профессиональными экипажами, они бросили оружие и побежали. Я остался один в штабе с радистом и поваром».
Офицеры первыми бежали с поля боя, прихватив армейскую казну и все, что можно было унести. Генерал Мустафа Адриси, командующий южным фронтом, исчез вместе с полковым золотым запасом – 300 килограммами слитков, предназначенных для выплаты жалованья. Его нашли через неделю в Найроби, где он пытался продать золото индийским ювелирам.
К марту 1979 года танзанийские войска заняли половину территории Уганды. Амин метался по стране, пытаясь мобилизовать последние резервы. Он призывал «всех патриотов встать на защиту родины от империалистической агрессии», но его призывы оставались без ответа. Народ, который восемь лет держали в страхе, не видел смысла умирать за режим, принесший только страдания.
11 апреля 1979: конец империи
Кампала пала без боя. Утром 11 апреля танзанийские танки Т-54 (ирония истории: то же оружие, которое СССР поставлял Амину) вошли в угандийскую столицу под приветственные крики жителей. Солдаты освободительной армии раздавали детям конфеты и сигареты, взрослым – первые газеты без портрета диктатора на первой полосе.
Амин покинул Кампалу накануне на вертолете Ми-8, прихватив самое ценное: четырех официальных жен, двадцать признанных детей (от разных женщин у него было около 40 отпрысков), нескольких любовниц и два чемодана с золотыми слитками. По легенде, он также захватил мумифицированную голову одного из своих врагов, но документальных подтверждений этому нет.
Последней базой диктатора стал город Араа в Западном Ниле – сердце его родной территории. Здесь он еще надеялся организовать сопротивление, опираясь на племенную солидарность. Но даже соплеменники отвернулись от него. Местные вожди племени каква тайно вели переговоры с наступающими танзанийцами, предлагая выдать Амина в обмен на гарантии безопасности.
18 апреля последние сторонники диктатора сложили оружие. Амин с остатками семьи пешком перешел границу с Суданом, а оттуда на ливийском самолете улетел в Триполи. Восьмилетняя диктатура закончилась бесславным бегством.
В Кампале начались стихийные празднества. Люди танцевали на улицах, жгли портреты диктатора, громили здания ГБР. В подвалах Накасеро обнаружили камеры пыток и груды человеческих костей. Многие угандийцы впервые за восемь лет произнесли вслух имя Амина – и выругались.
Убежище в изгнании
Каддафи принял своего протеже без особого энтузиазма. Амин был полезен как союзник, но как беженец представлял сплошные проблемы. Он продолжал считать себя «законным президентом Уганды в изгнании», требовал военной поддержки для возвращения к власти и вел себя как глава государства.
В 1980 году Амин нашел последнее пристанище в Саудовской Аравии. Саудиты руководствовались религиозными соображениями: как мусульманин, Амин имел право на защиту исламского государства. Его поселили в скромной вилле в Джидде и назначили ежемесячную стипендию в 1400 долларов.
23 года изгнания прошли тихо и бесславно. Амин изучал Коран, играл в теннис, рыбачил в Красном море. Соседи знали его как «угандийского пенсионера», который живет на содержании правительства.
16 августа 2003 года в 8:20 утра Иди Амин умер от полиорганной недостаточности в военном госпитале Джидды. Ему было 78 лет. Похоронили его в тот же день скромно, без помпы. Надгробие гласило: «Иди Амин Дада. 1925-2003. Да упокоит Аллах его душу».
Часть VIII. Что осталось
Руины страны и человеческие потери
В апреле 1979 года международные журналисты впервые за восемь лет получили свободный доступ в Уганду. То, что они увидели, потрясло даже видавших виды репортеров.
Промышленность была мертва. Из 400 крупных предприятий, существовавших в 1970 году, работали только 37. Текстильные фабрики Джинджи стояли с разбитыми окнами и ржавым оборудованием. В главной больнице Мулаго из 800 коек работали 120. Половина школ закрылась. Целое поколение угандийцев выросло неграмотными.
Точное число жертв режима до сих пор остается предметом споров. Международная комиссия юристов в 1974 году оценивала потери в 80 тысяч человек за три года. Более поздние исследования увеличили эту цифру до 300-500 тысяч за весь период диктатуры.
Профессор демографии университета Макерере Джон Блэкер, анализировавший данные переписей 1969 и 1980 годов, пришел к выводу о «демографической дыре» – дефиците около 400 тысяч человек в возрастных группах от 15 до 50 лет. Для 12-миллионной страны это означало, что каждый двадцать четвертый угандиец был убит по политическим мотивам.
Особенно пострадали образованные слои населения. Из 2000 преподавателей и студентов университета Макерере к 1979 году в живых оставались менее 800. Из 400 врачей, практиковавших в Уганде в 1971 году, в стране остались 67. Из 800 судей и адвокатов – 23. Интеллектуальная элита нации была практически уничтожена.
Этнические потери были еще более драматичными. Племена ачоли и ланго потеряли около трети взрослого мужского населения. В некоторых районах целые деревни исчезли с лица земли – жители были убиты, а дома сожжены. Эти территории до сих пор называют «мертвыми зонами».
Мария Адонг из деревни Лирагиру в области Ачоли вспоминала: «В 1971 году у нас было 340 домов. Вернулись в 1980 – стояло 12. Остальные сгорели или развалились. Из 1600 жителей нашлись 89. Мы до сих пор не знаем, где похоронены наши мужья, братья, сыновья. Земля там сплошь белая от костей».
Долгие последствия: социальная травма и новые циклы насилия
Падение Амина не принесло мира. Наоборот, оно открыло новый период нестабильности и мести. В декабре 1980 года к власти вернулся Милтон Оботе, который начал собственную кампанию террора против бывших сторонников диктатора.
Возвращение Оботе поддержали племена ачоли и ланго, жаждавшие мести за восемь лет геноцида. Северные районы, откуда происходил Амин, подверглись коллективному наказанию. Солдаты новой армии убивали всех, кто мог сотрудничать с прежним режимом, – или просто принадлежал к «неправильным» племенам.
«Война в буше» 1981-1985 годов унесла еще 100 тысяч жизней. Йовери Мусевени, будущий президент Уганды, поднял партизанскую войну против Оботе. Страна окончательно погрузилась в хаос: центральная власть контролировала только столицу, в провинции хозяйничали вооруженные банды, экономика существовала только на черном рынке.
Лишь в 1986 году, когда Мусевени окончательно победил, Уганда начала медленно выходить из кровавого хаоса. Но процесс восстановления растянулся на десятилетия.
К 1985 году, через шесть лет после падения диктатуры, Уганда оставалась одной из самых бедных стран мира. ВВП на душу населения составлял 120 долларов в год – в три раза меньше, чем в 1970 году. Детская смертность достигла 180 на тысячу новорожденных. Продолжительность жизни упала до 43 лет.
Только к 2010 году экономика Уганды превысила уровень 1970 года. Потребовалось 40 лет, чтобы залечить раны, нанесенные восемью годами диктатуры. И это при условии грамотного управления, международной помощи и отсутствия новых конфликтов.
Что говорят могилы
В 1990-х годах, когда в Уганде наконец установился мир, начались археологические раскопки в местах массовых захоронений. Находки ужасали даже профессиональных криминалистов.
Под бывшими казармами в Мбараре обнаружили братскую могилу с останками 847 человек. Черепа имели характерные повреждения от ударов молотками. В лесу возле Лузиры нашли яму с костями 312 детей в возрасте от 5 до 15 лет – их убили в 1973 году за то, что их родители принадлежали к племени ачоли.
Самая крупная находка была сделана в 1997 году возле дамбы Оуэн-Фоллс на Ниле. Строители, ремонтировавшие плотину, наткнулись на массовое захоронение почти 4000 человек. Судебно-медицинская экспертиза показала: людей убивали в период с 1972 по 1978 год. Многие были связаны проволокой и имели следы пыток.
Доктор Силвия Тамале, руководившая эксгумацией, рассказывала: «Мы работали в масках – запах разложения не выветрился и через 20 лет. Находили клочки одежды, обручальные кольца, очки. В одной яме лежали 47 черепов с дырками от гвоздей – их забивали в голову еще живым людям. Я занимаюсь судмедэкспертизой 30 лет, но такого не видела».
Культура молчания
Психологические последствия террора оказались не менее разрушительными, чем экономические. В угандийском обществе сформировался синдром, который психологи называют «культурой молчания» – люди до сих пор боятся открыто говорить о годах диктатуры.
Доктор Стелла Нейма, изучающая постконфликтную травму, отмечает: «Многие семьи до сих пор не рассказывают детям, что произошло с их дедушками и бабушками. Говорят просто: «Они уехали» или «Заболели и умерли». Правда слишком страшна для передачи следующим поколениям».
Исследование 2010 года показало: 78% угандийцев старше 50 лет имеют симптомы посттравматического стрессового расстройства. Многие до сих пор просыпаются от ночных кошмаров, в которых за ними гонятся агенты ГБР. Некоторые не могут видеть темные очки или слышать звук мотоциклов – именно на мотоциклах ездили убийцы из тайной полиции.
В центре Кампалы, недалеко от того места, где стояло здание ГБР (снесено в 1986 году), установлен скромный памятник жертвам диктатуры. Это простая гранитная плита с именами 1200 человек – тех, чьи имена удалось установить из сотен тысяч погибших.
Каждый год 25 января – в годовщину переворота – сюда приходят старики с фотографиями пропавших родственников. Они ставят цветы, зажигают свечи, молятся. Молодежь проходит мимо, не останавливаясь – для тех, кто родился после 1980 года, история Амина кажется далекой легендой.
Последние свидетели
Джозеф Кони, последний выживший агент ГБР (не путать с лидером «Армии сопротивления Господа»), живет в трущобах Кампалы под чужим именем. В 1970-х он отвечал за «обработку» политических заключенных в подвалах Накасеро. После падения режима бежал в Судан, но в 1995 году вернулся по программе амнистии.
В интервью 2015 года 73-летний старик согласился говорить при условии анонимности: «Я делал свою работу. Получал приказы и выполнял их. Если бы отказался – убили бы меня самого. Вы думаете, у нас был выбор? Убить или быть убитым – других вариантов не было».
Он подтвердил слухи о личном участии Амина в пытках: «Большой человек приходил по субботам. Выбирал самых важных врагов и смотрел, как их убивают. Иногда давал советы: «Этого дольше», «Того быстрее». Он говорил, что это часть президентских обязанностей – лично контролировать устранение угроз государству».
О каннибализме Кони отозвался осторожно: «Ходили слухи, что он ел печень особо опасных врагов. Я сам не видел, но один раз приносили из кухни резиденции странное мясо. Сказали – для особого ритуала. Может быть, правда, может быть, легенда. Кто теперь разберет?»
Амин в массовой культуре
Парадоксально, но в мировой массовой культуре Амин превратился в комический персонж – экзотического диктатора с чувством юмора. В 2006 году вышел фильм «Последний король Шотландии» с Форестом Уитакером в главной роли. Актер получил «Оскар» за «мастерское изображение харизматичного тирана», а сам фильм собрал 48 миллионов долларов.
Угандийская общественность восприняла фильм как оскорбление памяти жертв. «Они превратили нашу трагедию в развлечение, – говорила Сара Кьолами, потерявшая в годы диктатуры мужа и двух сыновей. – Показали Амина как обаятельного злодея, а не как мясника. Для них это кино, для нас – незаживающая рана».
Рассекреченные в 2000-х годах архивы окончательно развеяли миф о неведении западных правительств. В депеше британского высокого комиссара от сентября 1971 года говорилось: «Несомненно, генерал прибегает к методам, которые в Европе сочли бы неприемлемыми. Однако в африканском контексте его жесткость может быть оправдана необходимостью поддержания порядка. Рекомендую продолжить сотрудничество».
Предупреждение будущему
История Иди Амина – это не просто африканская трагедия, а универсальный урок о хрупкости цивилизации. Она показывает, как быстро может рухнуть нормальное общество, если власть попадает в руки к человеку без моральных ограничений.
Уганда 1971 года была не самой отсталой африканской страной. У нее были университет, современная экономика, относительно образованное население. Казалось, что институты достаточно прочны, чтобы выдержать смену власти. Но восемь лет показали: никто не застрахован от тирании, если общество не готово ее остановить.
Амин не был инопланетянином или мутантом. Он был обычным человеком, которого особые обстоятельства превратили в монстра. Колониальная система научила его насилию. Политические расчеты дали ему власть. Международная поддержка обеспечила безнаказанность. Народная пассивность позволила ему действовать.
В каждой стране есть потенциальные Амины – люди, готовые на все ради власти. Единственная защита от них – бдительность общества и готовность сказать «нет» на самых ранних стадиях, пока еще не поздно.
Угандийцы выучили этот урок ценой сотен тысяч жизней. Остается надеяться, что остальной мир не забудет их жертву.
Глава 2. Центрально-Африканская Республика. Жан-Бедель Бокасса – «Император на нищей земле»
Корона за четверть бюджета
Палящее африканское солнце нещадно жгло красные ковры, расстеленные по футбольному полю стадиона имени Жан-Беделя Бокассы в Банги. 4 декабря 1977 года. Четыре тысячи гостей в парадных европейских костюмах и традиционных африканских одеждах томились на трибунах, обмахиваясь программками церемонии. Дипломаты в темных очках переглядывались с плохо скрываемым изумлением. Журналисты лихорадочно делали заметки. Местная знать в ярких бубу старалась сохранить торжественные лица, хотя многие втайне недоумевали: зачем их президенту понадобилась эта дорогостоящая театральная постановка?
В центре поля возвышался двухтонный золотой трон в виде гигантского орла – творение нормандского скульптора Оливье Бриса, над которым тридцать французских ремесленников трудились целый год в специальной мастерской в Жизоре. Рядом стояла карета, запряженная восемью белыми лошадьми, доставленными авиарейсом из Бельгии. Стоимость одной только авиаперевозки лошадей обошлась в сумму, на которую можно было содержать сельскую школу целый год.
Под звуки 120-местного французского военного оркестра на поле медленно вышел 56-летний мужчина среднего роста. На нем был золотой мундир, расшитый жемчугом, – точная копия коронационных одежд Наполеона I, изготовленная парижским домом «Гизелин» в сотрудничестве с Пьером Карденом. Горностаевая мантия весом тридцать килограммов волочилась за ним по красному ковру. В правой руке он сжимал алмазный скипетр, в левой – державу. На голове сверкала корона работы парижских ювелиров дома «Артюс Бертран» – восемь тысяч бриллиантов, включая центральный камень в восемьдесят карат, общей стоимостью два с половиной миллиона долларов.
– Именем Всемогущего Бога и воли центральноафриканского народа провозглашаю себя Императором Бокассой Первым! – звучным баритоном произнес он, самостоятельно водружая корону на голову.
Аплодисменты прокатились по трибунам. Двести четыре килограмма лепестков роз, импортированных спецрейсом из Франции, посыпались с неба. Слуги в белых перчатках разносили гостям икру белуги, фуа-гра, устрицы из Бретани и трюфели – 240 тонн деликатесов, доставленных из лучших парижских ресторанов. В охлажденных павильонах дожидались своей очереди 60 000 бутылок французского шампанского и бургундского. В центре банкетного стола красовался торт весом полтонны.
Это была одна из самых дорогих коронаций в истории человечества. 22 миллиона долларов – ровно четверть годового бюджета Центрально-Африканской Республики. Чтобы понять масштаб этой суммы, представьте, что президент современной России потратил бы на свою инаугурацию 75 миллиардов долларов, или что глава африканского государства размером с Чад израсходовал на одну церемонию столько же, сколько его страна получает международной помощи за четыре года.
Но самое поразительное происходило не на стадионе, а за его воротами. В эти же часы, пока 120 музыкантов играли торжественные марши, а гости поднимали бокалы с «Дом Периньон», в детской больнице Банги умирали дети от малярии – не было лекарств. В школах столицы учителя писали на досках мелом по дереву – не было денег на школьные принадлежности. В городских кварталах матери кипятили траву, чтобы накормить голодных детей.
66% населения страны жили менее чем на доллар в день – это означало, что стоимость коронации Бокассы превышала годовые доходы 800 000 его подданных. Средний доход на душу населения составлял 177 долларов в год, то есть император потратил на одну церемонию эквивалент 340 лет жизни обычного центральноафриканца.
В тот самый момент, когда Бокасса I под ликующие возгласы садился на свой двухтонный орлиный трон, в пригороде Банги 57-летний рабочий Нгуида хоронил своего 12-летнего сына Белге. Мальчик был застрелен солдатами Императорской гвардии за то, что бросал камни в проезжавшую мимо правительственную машину. Пуля попала в спину, ребенок умер на улице с выпавшими из разорванного живота кишками. Отец нашел тело и всю ночь рыл могилу голыми руками – не было денег на гроб.
Эту империю называли «театром одного актера». Из 2500 приглашенных на коронацию иностранных гостей приехали только 600, включая сто журналистов. Император Хирохито вежливо отклонил приглашение. Европейские монархи нашли срочные дела. Даже африканские лидеры предпочли отправить вместо себя младших министров. Присутствовавшие дипломаты позже записывали в мемуарах: «Удивительное зрелище. Один из беднейших уголков планеты превратился в театр, где единственный актер играл роль французского императора».
– Они завидовали мне, потому что у меня была империя, а у них – нет, – объяснял Бокасса низкую явку высоких гостей.
Но за этим театральным представлением скрывалась куда более сложная и зловещая реальность. Коронация стала возможной благодаря французским деньгам – номинально выделенным как «помощь развитию», фактически профинансировавшим личные амбиции диктатора. Франция оплатила изготовление короны и трона, доставку лошадей и деликатесов, услуги оркестра и мастеров. Французские военные самолеты перевезли из Камеруна 60 новеньких Mercedes – по пять тысяч долларов за машину только за авиаперевозку.
Эта щедрость объяснялась не альтруизмом, а холодным расчетом. В недрах Центрально-Африканской Республики лежали огромные запасы урана – топлива для французских атомных электростанций. Алмазные россыпи обеспечивали 54% экспортных доходов страны. Французские компании вывозили эти богатства практически бесплатно, а взамен гарантировали политическую защиту «императора» и финансирование его прихотей.
История Бокассы – это не просто рассказ о сумасшедшем диктаторе, устроившем за народные деньги костюмированный бал. Это урок о том, как работает система, превращающая нищие страны в сырьевые придатки, сирот в тиранов, а цивилизованные государства – в молчаливых спонсоров геноцида. Чтобы понять, как стала возможной эта карикатура на власть, нужно вернуться к началу – к истории мальчика, который в шесть лет потерял семью и в 56 лет решил стать императором.
## Сирота колониальной системы
Деревня Бобанги в 1927 году больше напоминала военный лагерь, чем мирное поселение. Французские колониальные чиновники требовали от вождя племени мбака Миндогона Муфасы поставить сотню крепких мужчин на принудительные работы. Компания «Форестьер» строила дорогу через джунгли, и ей нужны были рабочие руки – бесплатные, разумеется. По всей французской Экваториальной Африке местных жителей сгоняли на подобные проекты, как крепостных в средневековой Европе.
Миндогон Муфаса был не простым крестьянином. Торговец слоновой костью, уважаемый вождь, человек, чье слово имело вес среди десяти тысяч соплеменников. В его хижинах хранились бивни, за которые европейские торговцы платили серебром. Его жены носили ожерелья из стеклянных бусин, привезенных из далекой Венеции. По меркам Центральной Африки, он был богат и влиятелен.
Но влияние африканского вождя в колониальной системе имело четко очерченные границы. Когда французский комиссар Дезире Матран появился в Бобанги в сопровождении сенегальских стрелков, статус и богатство Миндогона значили не больше, чем перья на головном уборе шамана.
– Ваши люди нужны Франции, – заявил комиссар через переводчика. – Сто мужчин к утру следующего дня.
– Мои люди заняты полевыми работами, – ответил вождь. – Сейчас сезон посадки ямса. Если мужчины уйдут, дети будут голодать.
Для Миндогона это был вопрос выживания племени. Представьте современного мэра небольшого города, которому федеральные власти приказывают отправить половину трудоспособного населения на стройку без зарплаты и определенного срока возвращения. В сезон сбора урожая. Без гарантий, что люди вернутся живыми.
Но французские колониальные власти не терпели возражений. Система принудительного труда была краеугольным камнем колониальной экономики. Дороги строились руками африканцев. Плантации обрабатывались африканцами. Рудники разрабатывались африканцами. Все бесплатно, под дулами винтовок сенегальских стрелков.
К тому времени по всей французской Экваториальной Африке уже прокатилась волна восстаний против принудительного труда. Пророк Карну в соседнем регионе призывал к сопротивлению французскому правлению. Его послание было простым: «Мы не рабы. Мы работаем на своей земле, а не на чужих плантациях».
Вдохновленный примером Карну, Миндогон принял роковое решение. В ноябре 1927 года он освободил нескольких своих соплеменников, которых компания «Форестьер» удерживала на дорожных работах в нечеловеческих условиях. Это было актом открытого неповиновения.
13 ноября 1927 года французские жандармы арестовали вождя прямо в его хижине, на глазах у шестилетнего сына Бокассы Мгбундулу – так звучало полное африканское имя будущего императора. Миндогона заковали в кандалы и увезли в окружной центр Мбаики. На городской площади перед зданием префектуры его забили до смерти. Официально он умер «при попытке к бегству». На деле это была публичная казнь, призванная запугать других потенциальных бунтовщиков.
Мать Бокассы, Мари Йокова, не пережила горя. Через неделю после похорон мужа она покончила с собой, оставив двенадцать детей сиротами. В традиционном африканском обществе смерть главы семьи означала катастрофу, но самоубийство матери превращало эту катастрофу в полное крушение мира.
Детей разобрали родственники. Шестилетнего Мгбундулу взяли на воспитание католические миссионеры из Школы Святой Жанны д'Арк в Мбаики – того самого города, где француженцы убили его отца.
Ирония была жестокой: система, которая уничтожила его семью, теперь предлагала ему спасение.
В миссионерской школе мальчик попал в странный мир между двумя цивилизациями. Днем он изучал французскую грамматику, историю Франции, католический катехизис. Вечером в спальне шептал молитвы на родном языке санго и вспоминал отцовские рассказы о духах предков.
Поворотным моментом стало увлечение маленького Бокассы французской книгой по грамматике, автором которой был некий Жан Бедель. Учителя заметили, как сильно мальчик привязался к этому учебнику, и начали в шутку называть его "Жан-Бедель". Постепенно прозвище прижилось – сначала в классе, потом во всей школе.
Для колониальной администрации это было удобно. Европейские имена упрощали ведение документооборота и подчеркивали "цивилизующую миссию" Франции. При поступлении в следующую школу – школу Святого Людовика в Банги – мальчик уже фигурировал в документах как "Жан-Бедель Бокасса".
Постепенно Жан-Бедель научился жить в двух мирах. В школе он был образцовым учеником – прилежным, послушным, благочестивым. Учителя хвалили его за успехи во французском языке и математике. Директор школы писал в отчетах: «Мальчик показывает прекрасные задатки. Из него может получиться полезный служащий администрации».
В 1939 году, в 18 лет, Жан-Бедель Бокасса записался добровольцем в колониальную армию. К тому времени его африканское имя «Бокасса Мгбундулу» исчезло из всех документов. В военном билете значилось только: «Жан-Бедель Бокасса». Превращение было завершено – по крайней мере, внешне.
Французская колониальная армия стала для него университетом жизни. В казармах Браззавиля он познакомился с такими же, как он, молодыми африканцами, вырванными из традиционного общества и брошенными в водоворот европейской войны. В 1944 году его часть участвовала в освобождении Прованса от немецких войск. Сержант Бокасса шагал по улицам французских городов в составе колониальных войск, которые помогали метрополии вернуть свободу.
С 1950 по 1953 год он воевал в Индокитае против коммунистов Хо Ши Мина. Там он впервые увидел, как европейская армия может терпеть поражение от «туземцев». Вьетнамские партизаны, вооруженные автоматами Калашникова и национальной идеей, громили французские гарнизоны. Урок запомнился: европейцы не всесильны, если против них сражаются решительные и хорошо организованные местные жители.
Затем была Алжирская война 1954-1960 годов. Капитан Бокасса подавлял восстание против французского правления – ту самую борьбу за независимость, которую когда-то начал его отец в маленькой деревне Бобанги. Он участвовал в карательных операциях, допросах, облавах. Французские офицеры хвалили его за жестокость и эффективность.
За 23 года службы он получил Орден Почетного легиона, Военный крест с пальмами и французское гражданство – высшую награду для африканца в колониальной системе. Его грудь украшали ордена той самой Франции, которая убила его родителей. В его будущем кабинете будет висеть портрет Наполеона – корсиканца, который покорил Европу и короновал себя императором.
«Если этот маленький человек смог стать повелителем Франции, то и я, африканец, достоин империи», – говорил он приближенным.
Психология Бокассы формировалась как психология сироты, который всю жизнь доказывал свою значимость тем, кто когда-то унизил его семью. Он боготворил и ненавидел Францию одновременно. Мечтал превзойти своих колониальных хозяев в роскоши и могуществе. Хотел, чтобы те же французские генералы, которые когда-то командовали им в Индокитае и Алжире, склонили головы перед африканским императором.
Эта психологическая травма сделала его идеальным кандидатом для новой роли. К началу 1960-х годов Франция нуждалась в управляемых лидерах в бывших колониях – людях, которые были бы одновременно независимыми и послушными, гордыми и зависимыми. Отставной капитан Бокасса подходил как нельзя лучше.
Травма сиротства превратила его в идеального диктатора для эпохи неоколониализма.
## Управляемый переворот
В рождественские каникулы 1965 года в кабинетах Елисейского дворца шли напряженные совещания. На столе лежали досье на президента Центрально-Африканской Республики Давида Дако и на начальника генерального штаба армии ЦАР капитана Жан-Беделя Бокассу. Французские чиновники изучали характеристики, анализировали политические предпочтения, оценивали степень лояльности. Стоял вопрос о смене власти в одной из самых стратегически важных африканских стран.
Давид Дако, двоюродный брат Бокассы, пять лет назад казался идеальным кандидатом. Умеренный политик, выпускник французских университетов, человек без радикальных идей. После получения независимости в 1960 году он проводил проевропейскую политику, позволял французским компаниям спокойно разрабатывать урановые месторождения, не мешал вывозу алмазов. Центрально-Африканская Республика была образцовым клиентом системы «Франсафрика» – той неформальной сети контроля, которую генерал де Голль и его советник Жак Фоккар создали для управления бывшими колониями.
Но к 1965 году Дако начал доставлять проблемы. Сначала небольшие – критические замечания о ценах на уран, жалобы на неравноправие торговых соглашений. Потом более серьезные: разговоры об «африканском социализме» и необходимости «справедливого распределения ресурсов». Хуже всего было то, что президент начал заигрывать с идеями валютной независимости, ставя под сомнение систему франка CFA – основу французского контроля над экономиками бывших колоний.
Валюта франк CFA была гениальным инструментом неоколониального управления. Четырнадцать африканских стран должны были депонировать 50% своих валютных резервов в парижском казначействе. Это гарантировало Франции контроль над финансовыми потоками и неограниченное право французских компаний вывозить прибыли. Любая попытка пересмотра этой системы воспринималась в Париже как покушение на национальные интересы.
Но хуже всего был китайский фактор. В 1965 году Дако принял делегацию из Пекина, которая предложила построить в ЦАР университет в обмен на концессии на добычу алмазов. Для французской элиты это было красной тряпкой.
К концу 1965 года в Елисейском дворце пришли к выводу: пора менять лошадей. Дако стал слишком самостоятельным, а значит, опасным для французских интересов. Нужна была «управляемая альтернатива» – лидер, который был бы зависим от французской поддержки и не мог позволить себе независимую политику.
Кандидатура начальника генштаба Бокассы выглядела идеально. Ветеран французской армии, человек без политической программы, с личными амбициями и комплексами. Капитан, который 23 года служил французской короне и получил от нее все – образование, карьеру, ордена, гражданство. Такой никогда не станет вторым Насером или Патрисом Лумумбой.
31 декабря 1965 года президент Дако благополучно улетел в Париж на новогодние каникулы. В столице ЦАР Банги наступили тихие праздничные дни. В казармах дремали солдаты, в министерствах никого не было, даже французский гарнизон праздновал. Идеальный момент для переворота.
В три часа двадцать минут ночи 1 января 1966 года жители Банги проснулись от рева моторов и автоматных очередей. По темным улицам столицы двигались три бронемашины и грузовики с солдатами. Операция была спланирована с военной точностью: одновременный захват радиостанции, аэропорта, телеграфа, президентской резиденции и всех правительственных зданий.
Сопротивления не было. Армия ЦАР составляла всего 500 человек, и большая часть офицеров либо поддерживала Бокассу, либо просто не желала умирать за непопулярного президента. К рассвету столица была под контролем «революционного комитета».
В семь утра по радио зазвучал хорошо поставленный баритон:
– Граждане Центрально-Африканской Республики! Революционный комитет под моим руководством берет власть в свои руки. Коррумпированное правительство Дако свергнуто. Партии распущены. Конституция отменена. Парламент распущен. Да здравствует революция!
Речь была составлена по всем канонам военных переворотов той эпохи: обвинения в коррупции, обещания навести порядок, призывы к национальному единству. Таких переворотов в 1960-е годы происходили десятки по всей Африке и Латинской Америке. Холодная война создала универсальную формулу захвата власти.
Дако, вернувшись из Парижа, обнаружил, что у него больше нет государства. В аэропорту его встретили солдаты нового режима и под дулами автоматов заставили подписать документ о передаче власти «временному правительству».
Международная реакция была показательной. Франция признала новое правительство через несколько часов после переворота – удивительная оперативность для дипломатических служб, которые обычно неделями изучают любые изменения власти. Великобритания и США последовали примеру Парижа в течение суток. Никто не осудил военный переворот, никто не потребовал восстановления конституционного строя.
Это было время, когда демократические принципы приносились в жертву геополитическим интересам. В условиях холодной войны стабильность поставок стратегических ресурсов была важнее конституций и выборов. Лучше управляемый диктатор, чем неуправляемый демократ.
Позже выяснилось, что французские спецслужбы знали о готовящемся перевороте заранее. Прямых документальных доказательств участия Парижа в планировании путча нет – такие вещи не записывают в протоколы. Но обстоятельства говорили сами за себя: идеальное время (новогодняя ночь, когда весь мир празднует), отсутствие сопротивления, мгновенное международное признание.
Архитектор французской политики в Африке Жак Фоккар позже скажет: «Мы не организовывали перевороты. Мы просто не мешали им происходить, когда это отвечало нашим интересам». Искусство неоколониального управления заключалось в том, чтобы достигать нужных результатов чужими руками.
Переворот вошел в историю как «сен-сильвестрский путч» – по дате католического праздника. Бокасса продемонстрировал отличное чувство времени: пока весь мир встречал Новый год, он тихо прибрал к рукам целую страну.
В первые месяцы после переворота полковник Бокасса (он присвоил себе это звание сразу после прихода к власти) выглядел образцовым правителем. Обещал восстановить порядок, искоренить коррупцию, построить современное государство. Носил простую военную форму цвета хаки, ездил на скромном «Пежо-404», принимал посетителей в обычном кабинете без роскоши.
Для французских дипломатов такой поворот событий был подарком судьбы. Бокасса с первых дней ясно дал понять: Франция – старший брат, младший готов к полному сотрудничеству. Никаких разговоров об «африканском социализме» или китайских университетах. Никаких попыток пересмотра соглашений о франке CFA.
Система взаимовыгодного обмена заработала немедленно. Французские компании получили еще более выгодные условия разработки месторождений. Схема была отработана до мелочей: Франция финансировала строительство рудников и инфраструктуры в виде «помощи развитию», а затем получала уран практически бесплатно в качестве погашения долгов.
Взамен Бокасса получал политическую защиту и личные подарки. Франция гарантировала военное вмешательство в случае угрозы его власти, предоставила 80 парашютистов для охраны режима, поставляла современное оружие для президентской гвардии.
Травма сиротства превратила Бокассу в идеального партнера для неоколониальной эпохи. Он одновременно ненавидел и боготворил Францию, мечтал превзойти ее и служил ее интересам. Это противоречие делало его управляемым, но и крайне опасным. Как покажут дальнейшие события, управляемые диктаторы имеют неприятную привычку выходить из-под контроля.
## Урановые контракты и алмазные схемы
В подвалах парижского министерства финансов хранились карты африканских недр, помеченные разноцветными кружками. Красные означали урановые месторождения, синие – алмазные россыпи, желтые – золотые прииски. Каждый кружок был пронумерован и имел досье с оценкой запасов, себестоимости добычи и стратегической важности. Центрально-Африканская Республика была усыпана этими кружками, как новогодняя елка игрушками.
Система «Франсафрика», созданная генералом де Голлем и его советником Жаком Фоккаром в 1960-е годы, превратила формальную независимость африканских стран в изощренную форму экономического рабства. Она держалась на четырех столпах: валютном принуждении через франк CFA, военном доминировании, эксплуатации природных ресурсов и поддержке лояльных диктаторов.
Механизм работал элегантно, как швейцарские часы. Валюта франк CFA привязывала экономики 14 бывших колоний к французской, требуя депонировать 50% валютных резервов в парижском казначействе. Это означало, что африканские страны не могли свободно распоряжаться собственными деньгами – как если бы техасские нефтяники должны были хранить половину выручки в банках Саудовской Аравии и спрашивать разрешения на каждую крупную покупку.
За период с 1960 по 1990-е годы Франция провела более ста военных интервенций в Африке – больше, чем любая другая держава со времен колониальных империй XIX века. Французские десантники появлялись в африканских столицах с регулярностью курьерской службы, свергая неугодных лидеров и защищая лояльных.
В этой системе диктаторы были не злом, а необходимостью. Сильная рука обеспечивала стабильность поставок урана и алмазов по заниженным ценам. Демократия была роскошью, которую Франция не могла себе позволить в Африке. Свободные выборы могли привести к власти неуправляемых националистов, которые потребовали бы справедливых цен за ресурсы или, того хуже, национализировали французские активы.
Урановое месторождение Бакума было жемчужиной французских активов в Центральной Африке. По геологическим оценкам, там залегало достаточно урана для работы французских атомных электростанций в течение десятилетий. В эпоху нефтяных кризисов 1970-х годов, когда цены на энергоносители взлетели до небес, уран стал стратегическим ресурсом национальной безопасности.
Французы создали в ЦАР дочерние компании URBA (Uranium de Bakouma) и позднее URCA, формально принадлежавшие местным властям, но фактически управлявшиеся из Парижа. Схема добычи была хитро продумана. Вместо покупки урана по рыночным ценам Франция предоставляла «кредиты на развитие» для строительства шахт и дорог, а затем забирала львиную долю продукции в счет погашения долгов.
«Франция строит у нас рудники на свои деньги, а потом забирает весь уран бесплатно, – позже признавался сам Бокасса в одном из интервью. – Мы просим у французов деньги на развитие, получаем их, тратим на инфраструктуру, а потом отдаем им же наши ресурсы».
Это было похоже на ситуацию, когда богатый дядюшка дает племяннику деньги на покупку коровы, а потом каждый день приходит доить ее бесплатно, ссылаясь на непогашенный долг. А с чего платить долг, если молоко бесплатное? Вопрос открытый.
По подсчетам экономистов, за годы правления Бокассы Франция получила от ЦАР ресурсов на 4 миллиарда долларов, предоставив взамен «помощи» на 230 миллионов – соотношение 17 к 1. Даже с учетом инфляции и стоимости инфраструктуры это был грабеж в планетарных масштабах.
Урановые сделки были лишь частью экономической паутины. Еще более изощренными были схемы с алмазами. ЦАР занимала четвертое место в мире по разведанным запасам алмазов, и эта отрасль приносила 54% всех экспортных доходов страны. Но значительная часть добычи проходила мимо государственной казны через контрабандные каналы.
Система двойной торговли сложилась естественным образом. Официально местные старатели должны были сдавать найденные камни государству через Центральное управление по контролю за драгоценными камнями, после чего алмазы продавались на международных тендерах. Но высокие налоги (до 12%) и бюрократические проволочки делали теневой рынок гораздо привлекательнее.
Ключевую роль в контрабандной торговле играла ливанская диаспора. Выходцы из Ливана традиционно контролировали торговлю драгоценными камнями во многих африканских странах. В Банги и других городах ЦАР работали десятки ливанских дельцов, которые скупали алмазы у старателей за наличные франки CFA или доллары и переправляли их в Бельгию через Антверпен – мировой центр торговли алмазами.
Эти торговцы поддерживали связи с ближневосточными финансистами и даже с экстремистскими группировками. Позже выяснилось, что через центральноафриканские алмазы отмывались средства для ливанской «Хезболлы» и других террористических организаций – задолго до того, как мир узнал термин «кровавые алмазы».
К контрабандной торговле подключились израильские посредники, французские авантюристы и даже президент соседнего Заира Мобуту, который позволял переправлять часть камней через свою территорию за долю прибыли.
Бокасса, осознавая неустранимость контрабанды, решил возглавить ее вместо борьбы с ней. Он лично выдавал лицензии избранным иностранным фирмам, позволяя им действовать в ЦАР в обмен на откаты и политические услуги. Часть крупных уникальных бриллиантов император изымал себе и использовал для подкупа влиятельных персон за рубежом.
В 1973 году министр финансов Франции Валери Жискар д'Эстен получил от «дорогого африканского друга» особенно щедрый подарок. Во время официального визита в Банги Бокасса преподнес ему поднос с неограненными алмазами общей стоимостью 250 тысяч долларов – сумму, равную годовой зарплате французского министра.
Это был не единственный такой презент. По словам самого Бокассы, он дарил драгоценные камни французскому политику четыре раза за восемь лет, всегда в присутствии свидетелей. «Я называл его своим родственником, – вспоминал бывший император. – Он был как член моей семьи».
В 1974 году Жискар стал президентом Франции, и отношения между двумя лидерами стали еще теснее. В загородной резиденции Бокассы в Беренго была построена специальная «лодкообразная вилла», зарезервированная исключительно для французского президента. Жискар приезжал туда «несколько раз в год, тайно», как вспоминал один из сыновей диктатора.
Эти визиты не были просто дружескими встречами. За охотой на слонов и банкетами обсуждались вопросы военного сотрудничества, поставок оружия, разработки урановых месторождений. Франция предоставила ЦАР 80 десантников для защиты режима и гарантировала военное вмешательство в случае угрозы переворота.
Алмазные подарки были частью сложной системы личной дипломатии. Бокасса понимал, что его власть зависит от поддержки Парижа, и готов был щедро платить за эту поддержку. Жискар, в свою очередь, получал не только драгоценности, но и гарантии стабильных поставок стратегических ресурсов по бросовым ценам.
История с алмазами впоследствии превратится в крупнейший коррупционный скандал Пятой республики. В октябре 1979 года сатирическая газета «Канар аншене» опубликует сенсационные разоблачения, которые станут одной из причин поражения Жискара на президентских выборах 1981 года. Но пока что все участники сделки были довольны взаимовыгодным сотрудничеством.
К середине 1970-х аппетиты диктатора выросли настолько, что даже щедрое французское покровительство не могло их удовлетворить. Бокасса мечтал о большем, чем просто президентское кресло. Он хотел стать императором, как его кумир Наполеон. И для осуществления этой мечты нужны были деньги – очень большие деньги.
## Ливийский гамбит: ислам как оружие шантажа
К середине 1970-х годов в сейфах президентского дворца Бокассы хранились детальные планы будущей коронации. Архитекторы рисовали эскизы императорского трона, ювелиры рассчитывали стоимость короны, портные снимали мерки с горностаевых мантий. По предварительным подсчетам, церемония обойдется в 20-25 миллионов долларов – сумму, которая превышала весь годовой бюджет ЦАР на образование и здравоохранение вместе взятые.
Но в государственной казне таких денег не было. Несмотря на доходы от алмазов и урана, финансы страны находились в плачевном состоянии. Большая часть экспортной выручки оседала в карманах французских компаний и коррумпированных чиновников. Государственные служащие месяцами не получали зарплату. Инфраструктурные проекты замораживались из-за нехватки средств.
Бокасса понимал, что для осуществления своей наполеоновской мечты нужны внешние источники финансирования. Франция была щедрым спонсором, но даже французская «помощь развитию» имела пределы. Парижские чиновники могли закрыть глаза на расходы на дворцы и автомобили, но 20 миллионов долларов на одну церемонию казались чрезмерными даже по меркам Франсафрики.
Выход был найден в классической дипломатической стратегии – шантаже. Если французы не готовы увеличить финансирование добровольно, их следует заставить это сделать, продемонстрировав готовность искать альтернативных партнеров. К середине 1970-х Бокасса уже экспериментировал с диверсификацией международных связей: принимал делегации из Югославии, Румынии, Китая, СССР.
Эта стратегия была рискованной, но потенциально очень выгодной. Франция панически боялась потерять влияние в Центральной Африке – слишком велики были стратегические интересы. Урановое месторождение Бакума обеспечивало топливом французские атомные электростанции. Потеря контроля над ЦАР означала энергетическую катастрофу для Франции.
Самым многообещающим потенциальным союзником выглядел полковник Муаммар Каддафи – эксцентричный лидер Ливии, который тратил нефтедоллары на поддержку революционных движений по всему миру. Каддафи мечтал о создании панафриканского союза под своим руководством и был готов щедро платить за политических союзников.
4 сентября 1976 года Каддафи прибыл в Банги с официальным визитом. Встреча была обставлена со всей возможной помпомпой: парад войск, салюты, банкеты. Ливийский лидер произвел на Бокассу сильное впечатление своей харизмой и, главное, готовностью говорить о конкретной финансовой помощи.
То, что произошло в тот день, потрясло дипломатический корпус и французские спецслужбы. В присутствии Каддафи и международной прессы Бокасса объявил о своем обращении в ислам. Президент-католик, воспитанный французскими миссионерами, внезапно стал правоверным мусульманином.
– Я принимаю истинную веру пророка Мухаммеда, – торжественно провозгласил он. – Отныне мое имя – Салах-ад-дин Ахмед Бокасса.
Символизм был очевиден: Салах-ад-дин – это Саладин, курдский полководец, который в XII веке освободил Иерусалим от крестоносцев. Выбор этого имени означал не просто религиозное обращение, но политический манифест: борьбу против западного влияния в мусульманском мире.
Вместе с Бокассой ислам приняли несколько его министров. В тот же день президент распустил правительство и создал новый орган – Совет центральноафриканской революции, по образцу Революционного командного совета Каддафи в Ливии. В состав Совета был даже включен бывший президент Давид Дако, которого Бокасса держал в тюрьме после переворота 1966 года – жест «революционного примирения», призванный впечатлить ливийского гостя.
Каддафи был в восторге. Обращение христианского лидера в ислам на его глазах стало пропагандистским триумфом. Камеры запечатлели двух диктаторов, которые обнимались и говорили о «великой африканской революции» против империализма и сионизма.
– Мы создадим Великую Африканскую Империю, – провозглашал Каддафи. – Африканское единство под зеленым знаменем ислама!
В Париже эти сцены смотрели с нарастающей тревогой. Французские дипломаты лихорадочно обменивались телеграммами, пытаясь понять: это театральная выходка или реальная смена геополитической ориентации? Сценарий «потери Бокассы» был кошмаром для французской политики в Африке.
Реакция не заставила себя ждать. Франция, нуждавшаяся в сохранении стратегических позиций, временно смягчила отношения и пошла навстречу требованиям Бокассы. Объем французской «помощи развитию» был увеличен. Появились намеки на возможность финансирования масштабных церемониальных проектов. Дипломатическая температура понизилась.
Каддафи, со своей стороны, не остался в долгу. Ливия предоставила ЦАР беспроцентный заем в размере около 20 миллионов долларов – именно ту сумму, которая была нужна для коронации. Деньги поступили без особых условий и требований отчетности, что было редкостью в мире международного кредитования.
Для Бокассы операция оказалась блестяще успешной. Одним театральным жестом он добился и французских, и ливийских денег, сохранив свободу маневра между двумя покровителями. Политический шантаж сработал идеально.
Но мусульманские обязанности быстро наскучили прагматичному диктатору. Запреты на алкоголь мешали дипломатическим приемам. Требования ежедневной молитвы нарушали рабочий график. Исламские пищевые ограничения не сочетались с французской кухней, которую Бокасса так любил.
Главное же заключалось в том, что коронация по христианскому обряду была частью его наполеоновского плана. Невозможно было короноваться как православный император, оставаясь мусульманином. Символизм требовал возвращения к христианству.
В декабре 1976 года, всего через три месяца после обращения в ислам, Бокасса публично объявил о провозглашении Центрально-Африканской империи. В тот же день он торжественно вернулся в католичество, объявив, что «глубокое изучение ислама привело его к еще более глубокому пониманию христианской веры».
– Аллах и Христос – это один Бог, – объяснял он недоуменным журналистам. – Я просто выбираю тот путь к нему, который больше подходит для моего народа.
Каддафи был взбешен таким вероломством, но ничего не мог поделать. Деньги уже были переведены и потрачены.
Французские спецслужбы тщательно изучали этот эпизод. Бокасса продемонстрировал готовность на радикальные шаги ради денег и власти. Если он мог так легко сменить религию, то мог также легко сменить геополитическую ориентацию. Семена недоверия были посеяны.
Современные исследователи прямо называют обращение Бокассы в ислам «политическим фарсом», преследовавшим корыстные цели. Это был циничный расчет человека, который использовал религию как биржевой инструмент для получения политических и финансовых дивидендов.
Получив нужные деньги от ливийского авантюриста, Бокасса мог приступить к осуществлению главной мечты своей жизни – коронации как императора Центральной Африки. Но его готовность к предательству союзников была замечена не только в Триполи, но и в Париже.
## Коронация: театр на костях
В нормандском городке Жизор в течение 1977 года работала самая необычная мастерская в Европе. Тридцать французских ремесленников под руководством скульптора Оливье Бриса создавали двухтонный золотой трон в виде гигантского орла – точную копию трона Наполеона I, только в три раза больше. Резчики по дереву вытачивали орлиные перья из массива дуба, позолотчики покрывали каждую деталь сусальным золотом, инкрустаторы вставляли драгоценные камни в когти и клюв.
Параллельно в Париже дом «Артюс Бертран» – тот самый, который изготавливал короны для настоящих европейских монархов – создавал императорскую диадему для африканского правителя. Восемь тысяч бриллиантов различной огранки, включая центральный камень в 80 карат стоимостью 5 миллионов долларов. Корона весила три килограмма и была застрахована на сумму, равную годовому бюджету небольшой европейской страны.
Коронационные одежды шила парижская фирма «Гизелин» – потомственные портные, чьи предки одевали Людовика XIV и Наполеона. Золотой мундир, расшитый 785 000 жемчужин, горностаевая мантия длиной в 9 метров и весом 30 килограммов, шелковые чулки с золотыми стрелками, туфли из крокодиловой кожи с алмазными пряжками.
Все это великолепие обошлось в сумму, сопоставимую с ВВП нескольких африканских государств. Только изготовление короны стоило 2,5 миллиона долларов – больше, чем Центрально-Африканская Республика тратила на всю систему начального образования за год.
Но материальные символы власти были лишь частью грандиозного спектакля. Бокасса изучил каждую деталь коронации Наполеона 2 декабря 1804 года, требуя точного воспроизведения церемониала. Даже музыка была выбрана соответствующая – «Te Deum» Берлиоза и коронационная месса Моцарта в исполнении 120-местного военного оркестра, специально привезенного из Франции.
Для императорской кареты из Бельгии доставили восемь белых лошадей арденской породы – тех же, которые везли карету Наполеона через Париж. Стоимость авиаперевозки лошадей составила 40 тысяч долларов, что равнялось годовой зарплате 200 центральноафриканских учителей.
Приглашения были разосланы 2500 высокопоставленным гостям по всему миру. Император Хирохито, королева Елизавета II, президент США, все европейские монархи, главы африканских государств. К каждому приглашению прилагалась брошюра на глянцевой бумаге с программой церемонии, историей «древних» традиций Центрально-Африканской империи и биографией «Его Императорского Величества Бокассы I».
Международная реакция была холодной, как сибирская зима. Император Хирохито вежливо отклонил приглашение, сославшись на «неотложные государственные дела». Европейские монархи прислали формальные отказы. Даже африканские лидеры предпочли отправить вместо себя младших министров. В итоге из 2500 приглашенных приехали только 600 человек, включая 100 журналистов, которые рассматривали событие как экзотический курьез.
– Они завидовали мне, потому что у меня была империя, а у них – нет, – объяснял Бокасса низкую явку высоких гостей иностранным корреспондентам.
4 декабря 1977 года, в день коронации, термометр в Банги показывал 38 градусов по Цельсию. Шестьсот гостей в темных костюмах и вечерних платьях изнывали на трибунах футбольного стадиона, переименованного в честь императора. Дипломаты обмахивались программками, дамы прятались под зонтиками, корреспонденты делали заметки о «сюрреалистическом спектакле в африканской саванне».
Церемония длилась четыре часа. Под звуки труб и литавр на поле медленно выехала золотая карета, запряженная восемью белыми лошадьми. В карете сидел Бокасса в полном императорском облачении – золотом мундире с жемчужными кисточками, горностаевой мантии, с алмазным скипетром в правой руке и державой в левой.
Карета остановилась у подножия трона. Император медленно поднялся по ступенькам, каждый шаг которых был усыпан лепестками роз, импортированных из Франции. Архиепископ Банги прочитал молитву на латыни. Хор из 200 детей пел «Gloria in Excelsis Deo». Камеры щелкали, кинооператоры снимали историческое событие.
– Именем Всемогущего Бога и воли центральноафриканского народа провозглашаю себя Императором Бокассой Первым! – провозгласил он, сам водружая корону на голову в точности, как Наполеон 173 года назад.
Двести четыре килограмма лепестков роз посыпались с вертолетов. Пушки дали 101 залп. Тысячи голубей взмыли в небо. По стадиону прокатились аплодисменты – вежливые, но не слишком восторженные.
Банкет продолжался до глубокой ночи. 240 тонн деликатесов, доставленных спецрейсами из лучших парижских ресторанов: икра белуги, фуа-гра, устрицы из Бретани, трюфели из Периго. 60 000 бутылок шампанского «Дом Периньон» и бургундского «Шато д'Икем». Торт весом полтонны с фигуркой императора на вершине.
Присутствовавшие дипломаты позже записывали в мемуарах свои впечатления. Французский посол Роже Дюпюи: «Удивительное зрелище. Один из беднейших уголков планеты превратился в театр, где единственный актер играл роль французского императора». Британский представитель сэр Джеймс Мюррей: «Я видел много странных церемоний в Африке, но это превзошло все мыслимые пределы абсурда».
Американский журналист Джон Уитни писал в «Washington Post»: «Этот человек потратил на одну церемонию больше денег, чем его страна получает международной помощи за два года. Пока он короновался в золотой короне, в больницах Банги умирали дети от болезней, которые можно лечить аспирином».
Общая стоимость коронации составила 22 миллиона долларов – точно четверть годового бюджета Центрально-Африканской Республики. Для сравнения: коронация королевы Елизаветы II в 1953 году обошлась Великобритании в 1,57 миллиона фунтов (около 4,5 миллиона долларов по тому курсу), что составляло 0,02% британского ВВП. Бокасса потратил на свою коронацию 12% ВВП своей страны.
Но за театральными декорациями скрывалась куда более мрачная реальность. В тот самый день, когда император праздновал свое восшествие на трон, в детской больнице Банги от малярии умерли семь детей – не было лекарств стоимостью 200 долларов. В школах столицы учителя писали мелом по деревянным доскам – не было денег на канцтовары. В рабочих кварталах матери варили траву с солью, чтобы накормить голодных детей.
66% населения страны жили менее чем на доллар в день. Средний доход составлял 177 долларов в год. Это означало, что стоимость коронации равнялась доходам 124 тысяч граждан ЦАР – каждого четвертого жителя страны – за целый год.
Дороги, построенные французскими колониальными властями, превратились в непроходимые овраги. Больницы работали без электричества. В сельских школах дети учились под деревьями – не было денег на строительство зданий.
Коронация стала не апогеем власти Бокассы, а началом его конца. Мировая пресса впервые обратила серьезное внимание на «императора-людоеда» из Центральной Африки. Журналисты начали изучать его биографию, расследовать источники финансирования режима, документировать нарушения прав человека.
Церемония 4 декабря 1977 года превратила локального африканского диктатора в глобальную знаменитость – в самом худшем смысле этого слова. Отныне имя Бокассы стало синонимом абсурда, жестокости и мегаломании. Но самое страшное было еще впереди.
## Детская кровь на императорских руках
Январь 1979 года начался с императорского указа, который казался безобидной бюрократической формальностью. Все школьники и студенты Центрально-Африканской Республики обязывались носить униформу единого образца с портретом императора Бокассы на груди. Форму можно было приобрести только в магазинах компании, принадлежавшей императрице Екатерине Денгиаде – третьей из 17 официальных жен Бокассы, которую он похитил в 14-летнем возрасте и сделал своей наложницей.
Стоимость комплекта составляла 2000 франков CFA – около 9 долларов по курсу 1979 года. Для европейца это были карманные деньги. Для центральноафриканской семьи со средним годовым доходом 177 долларов школьная форма обходилась в месячную зарплату взрослого работника. Чтобы понять масштаб этих расходов, представьте, что российские власти обязали бы всех школьников покупать форму стоимостью 15 000 рублей за комплект в единственном государственном магазине.
Килограмм риса – основного продукта питания – стоил 100 franков CFA. Это означало, что школьная форма равнялась по стоимости 20 килограммам риса, месячному запасу еды для небольшой семьи. Родители должны были выбирать: кормить детей или одевать их в императорскую униформу.
Для многих семей этот выбор был невозможен. В стране, где 66% населения жило менее чем на доллар в день, покупка школьной формы означала голод. Дети переставали ходить в школы, не имея возможности приобрести обязательную одежду. Учителя докладывали о массовых прогулах: в некоторых классах появлялись только дети чиновников и торговцев.
17 апреля 1979 года терпение лопнуло. Ученики лицеев и колледжей Банги вышли на мирную демонстрацию. Подростки 15-18 лет несли самодельные плакаты: «Долой дорогую форму!», «Мы хотим учиться, а не обогащать императрицу!», «Образование – не роскошь!». Демонстранты просто маршировали по главным улицам столицы, скандируя лозунги и размахивая транспарантами.
Это была типичная студенческая акция протеста, какие происходили в те годы по всему миру – от Парижа до Сеула, от Мехико до Варшавы. Молодежь требовала доступного образования и выражала недовольство коррупцией властей. Никто не призывал к свержению режима или революции. Школьники хотели лишь отменить несправедливый указ.
Но Бокасса воспринял демонстрацию как личное оскорбление и покушение на императорскую власть. В его больном воображении протестующие подростки превратились в опасных заговорщиков, управляемых враждебными силами.
– Это коммунистический заговор! – кричал он на экстренном заседании Совета министров.
Вечером 17 апреля по приказу императора начались массовые аресты. Полиция врывалась в дома, хватала подростков прямо на улицах, вытаскивала их из постелей. Арестовывали не только участников демонстрации, но и их младших братьев и сестер, одноклассников, случайных прохожих. В камеры тюрьмы Нгарагба набили 180 детей в возрасте от 10 до 17 лет.
Тюрьма Нгарагба была самым мрачным местом в Банги. Построенная французскими колонизаторами для содержания «беспокойных туземцев», она славилась пытками и убийствами заключенных. Бокасса называл ее «университетом перевоспитания» для врагов режима. Камеры были рассчитаны на 20-30 человек, но туда запихнули почти двести детей.
В переполненных камерах не было нормальной вентиляции, достаточного количества воды или пищи. Дети задыхались от духоты, давили друг друга, дрались за место у единственного окна. Многие были ранены во время арестов – избиты полицейскими дубинками, покусаны служебными собаками.
18 апреля в 10 часов вечера к тюрьме подъехал черный Mercedes с императорскими номерами. Из машины вышел Бокасса в военной форме, с тростью в руке – тяжелой палкой из черного дерева с костяными вставками, которую он использовал для избиения неугодных министров.
Свидетели позже рассказывали, что император провел во дворе Нгарагбы несколько часов, лично наблюдая за «перевоспитанием» непокорных детей. Он приказал вывести всех арестованных во двор и заставить их ползать на четвереньках, прыгать «как лягушки», кричать «Да здравствует император!».
– Вы не уважали отца нации! – кричал Бокасса, размахивая тростью. – Теперь получите урок, который запомните навсегда!
Солдаты императорской гвардии по его приказу избивали детей прикладами автоматов и сапогами. Тех, кто падал, заставляли вставать и продолжать «упражнения». Крики и плач детей слышались по всему району.
27-летний Дьедонне Бага, один из немногих выживших, вспоминал позже: «Император стоял и смотрел, как нас бьют. Несколько раз он сам ударил плетью тех, кто лежал на земле. Я слышал его голос: "Уберите этих щенков, они мне больше не дети"».
Пытки продолжались два дня. В тесных камерах без вентиляции и воды дети умирали от удушья, обезвоживания, внутренних кровотечений. Некоторых забили до смерти прямо во дворе. Других затоптали в давке. Выжившие рассказывали, что спасались, притворяясь мертвыми среди трупов товарищей.
57-летний рабочий Нгуида потерял в те дни своего 12-летнего сына Белге. «Мальчик шел домой из школы, когда его поймали солдаты, – рассказывал отец. – Белге лежал на спине за баром "Амикаль", кишки выпали из разорванного живота. Я упал на колени и плакал. Моя дочь Жозефина тоже плакала».
Точное число жертв до сих пор остается предметом споров. Официальная версия, озвученная на суде 1987 года, говорила о 50 убитых школьниках. Правозащитная организация Amnesty International сообщала о примерно 100 погибших. Независимые журналистские расследования называли цифры от 100 до 150 жертв.
27 подростков выжили и позже дали показания международной комиссии расследования. Франко-африканская следственная группа под руководством сенегальского судьи Юссуфа Ндиайе пришла к выводу: «Император почти наверняка лично участвовал в убийстве детей».
Трупы тайно вывозили из тюрьмы под покровом ночи и закапывали в общих могилах за городом или просто сбрасывали в реку Убанги. Рыбаки потом находили детские тела, прибитые к берегам вниз по течению.
14 мая 1979 года Amnesty International опубликовала доклад «Массовые убийства школьников в Центрально-Африканской Республике». Фотографии изувеченных детских тел обошли все газеты планеты. Мировая общественность была в шоке. CNN, BBC, французское телевидение показывали сюжеты о «кровавом императоре-людоеде», который убивает собственных детей.
Даже для циничных времен холодной войны это было слишком. Западные страны привыкли закрывать глаза на диктаторские режимы, если те служили геополитическим интересам. Но массовое убийство школьников за протест против дорогой формы выходило за рамки приемлемого.
Для Франции это стало точкой невозврата. President Валери Жискар д'Эстен больше не мог игнорировать зверства своего «африканского друга». Тем более что французская оппозиция активно использовала «дело об алмазах» и поддержку Бокассы для критики правящего режима. Приближались президентские выборы 1981 года, и каждый день молчания стоил Жискару голосов избирателей.
В Елисейском дворце созрело решение: пора избавляться от скомпрометированного союзника. Детская кровь на руках императора сделала дальнейшее сотрудничество политически невозможным.
## Операция «Барракуда» и час расплаты
Летом 1979 года в кабинете министра обороны Франции Ивона Бурже собрались офицеры, которые планировали одну из самых дерзких военных операций в истории современной Африки. На столе лежали подробные карты Банги, фотографии правительственных зданий, досье на ключевых фигур режима Бокассы. Кодовое название операции – «Caban», что означает «хижина» на местном языке санго – было выбрано не случайно. Французы собирались снести эту «хижину» вместе с ее обитателем.
Решение о свержении Бокассы президент Валери Жискар д'Эстен принял не в одиночку. Он консультировался с двумя самыми влиятельными африканскими лидерами того времени – президентом Сенегала Леопольдом Седаром Сенгором и президентом Габона Омаром Бонго. Оба были столпами системы Франсафрика и понимали опасность, которую представлял неуправляемый Бокасса для французских интересов в регионе.
– Этот человек дискредитирует не только себя, но и всех нас, – говорил Сенгор на закрытой встрече в Елисейском дворце. – Мировая пресса уже называет всех африканских лидеров «диктаторами-людоедами» из-за его выходок.
Выбор преемника тоже обсуждался коллегиально. Рассматривались несколько кандидатур, включая оппозиционных лидеров левого толка. Но в итоге остановились на самой безопасной фигуре – бывшем президенте Давиде Дако, двоюродном брате Бокассы, которого свергли 13 лет назад. Дако был проверенным политиком без радикальных идей, человеком, которого можно было представить как «восстановление законности».
Непосредственную подготовку операции курировал глава французской внешней разведки СДЭКЕ Александр де Маранш – хладнокровный профессионал, который участвовал в десятках подобных операций по всему миру. Его стратегическое обоснование было четким: «Необходимо обеспечить, чтобы ливийцы не закрепились в центре Африки и не получили доступ к урановым месторождениям».
К операции тайно привлекли ближайших союзников. Президент Чада Феликс Малум предоставил аэродром в Нджамене для дозаправки французских самолетов. Диктатор Заира Мобуту Сесе Секо разрешил использовать свою территорию для маневра. Президент Габона Омар Бонго обеспечил логистическую поддержку. Создавалась целая коалиция для свержения одного человека.
Ядром штурмовой группы стал 2-й парашютный полк Иностранного легиона (2e REP) – элитное подразделение, которое участвовало в операциях от Алжира до Индокитая. 300-400 закаленных профессионалов, которые могли захватить целую страну за одну ночь. Командовал операцией полковник Бернар Эмье – ветеран алжирской войны, специалист по молниеносным десантным операциям.
Французские парашютисты скрытно сосредоточились на базе в Либревиле (Габон), откуда можно было долететь до Банги за полтора часа на транспортных самолетах Transall C-160. Официальным прикрытием служила «учебная операция по эвакуации гражданского персонала в условиях беспорядков».
Единственное, чего не хватало для идеального переворота, – это отсутствие самого Бокассы в стране. И тут судьба подарила французам невероятную возможность.
В сентябре 1979 года Муаммар Каддафи пригласил своего «африканского брата» на встречу в Триполи для обсуждения панафриканских проектов. Бокасса не мог отказать человеку, который финансировал его коронацию. 19 сентября император вылетел в Ливию в сопровождении небольшой свиты, оставив страну практически без защиты.
Ирония была жестокой: пока Бокасса в роскошном дворце Каддафи говорил о борьбе против французского империализма и создании «Великой Африканской Империи», его бывшие покровители готовились стереть эту империю с лица земли за одну ночь.
20 сентября в 23:30 военный транспортник Transall C-160 с затемненными иллюминаторами приземлился в аэропорту Банги. На борту находились французские коммандос и… Давид Дако, которого спецслужбы доставили из парижского изгнания прямо на «готовое» президентское кресло.
Операция развивалась с хирургической точностью. Первая группа парашютистов захватила диспетчерскую башню аэропорта и заблокировала взлетно-посадочную полосу. Вторая группа на джипах помчалась к радиостанции – главному инструменту информационной войны. Третья окружила президентский дворец.
Сопротивления не было. Армия ЦАР, состоявшая из 500 деморализованных солдат, в массе своей ненавидела Бокассу за месяцы невыплаченной зарплаты. Многие офицеры втайне мечтали о смене режима. Когда французские парашютисты появились у казарм, местные военные просто разошлись по домам.
К трем часам ночи столица была под полным контролем «освободительных сил». Французский военный трафик координировался по радио на языке Молiere, но официально операция проводилась «африканскими патриотами при технической поддержке французских советников».
В семь утра 21 сентября по радио Банги прозвучало историческое заявление:
– Граждане Центрально-Африканской Республики! Кошмар закончился. Узурпатор свергнут. Республика восстановлена. Я, Давид Дако, законно избранный президент, возвращаюсь к исполнению своих конституционных обязанностей.
Речь была составлена французскими спичрайтерами, но звучала убедительно. Дако представлялся не как ставленник иностранного переворота, а как законный лидер, вернувшийся к власти волей народа после 13 лет незаконного изгнания.
Бокасса узнал о крахе своей империи из утренних новостей в триполийском дворце. Телевидение BBC показывало кадры французских парашютистов у его президентского дворца в Банги. Корреспондент сообщал: «Режим императора Бокассы I прекратил свое существование после бескровной операции оппозиционных сил».
– Это измена! – кричал бывший император, бросая в телевизор хрустальный бокал. – Французы предали меня! Я служил им всю жизнь!
Каддафи выслушал излияния своего гостя с плохо скрываемым раздражением. Ливийский лидер был прагматиком и понимал, что связываться со свергнутым диктатором политически невыгодно. Он вежливо, но твердо дал понять: в Ливии экс-император не задержится.
– Я сожалею, брат, но не могу предоставить тебе убежище, – сказал Каддафи. – Это создаст проблемы в отношениях с новым правительством ЦАР.
Бокасса спешно покинул Триполи и несколько дней скитался по африканским столицам в поисках убежища. Президент Кот-д'Ивуара Феликс Уфуэ-Буаньи временно предоставил ему пристанище, но тоже торопился избавиться от токсичного гостя.
Неожиданно помощь пришла от бывших покровителей. Франция предоставила политическое убежище своему бывшему протеже – в знак признательности за прошлые заслуги и опасаясь, что Бокасса может начать разоблачения о французской поддержке его режима.
Первые годы изгнания экс-император провел в замке Ардрикур под Парижем. Французские власти выплачивали ему скромную военную пенсию в 1000 долларов в месяц и обеспечивали охрану от возможных покушений. Бокасса время от времени давал интервью журналистам, в которых неизменно утверждал, что «любим народом» и «скоро триумфально вернется».
– Франция использовала меня, а потом выбросила, как использованную салфетку, – жаловался он корреспондентам. – Но я знаю все их секреты. Если они не вернут мне престол, я расскажу миру правду о французской политике в Африке.
Это были пустые угрозы. Бокасса прекрасно понимал, что любые разоблачения уничтожат его самого в первую очередь. Система Франсафрика была основана на обоюдной компрометации: французы знали о преступлениях африканских диктаторов, африканские диктаторы – о преступлениях французских политиков.
24 октября 1986 года, через семь лет изгнания, произошло событие, которое поразило всех экспертов по африканской политике. 65-летний Бокасса сел на рейс Air France Париж-Банги и вернулся в ЦАР. Под чужим именем, в обычной одежде, без помпы и фанфар.
Мотивы этого решения до сих пор остаются загадкой. Одни говорили о старческом слабоумии, другие – о ностальгии по родине. Сам Бокасса утверждал, что хочет «быть судимым на родной земле и доказать свою невиновность».
