Читать онлайн Ост-фронт. Новый век русского сериала бесплатно
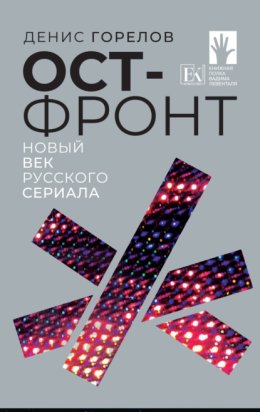
© Д. Горелов, 2024
© ООО «Евразийское книжное агентство», 2024
© П. Лосев, оформление, 2024
Нам грубиянов не надо. Мы сами грубияны.
Илья Ильф, Евгений Петров
Благодарности
Сунгоркину Владимиру Николаевичу – бессменному навигатору «Комсомольской правды», который однажды деловито спросил: «Что предложишь?» и две минуты слушал резюме, что кино полного метра омолодилось до полных слюнявчиков и вышло из зоны общественного интереса, а сериалы наоборот (как и в мире в целом). Подумав, сказал: «Первый текст через неделю, мне». Читал все сам, вмешивался не чаще раза в квартал, до августа-2022. Книжка сложена из еженедельных рецензий в «КП» с 2018 по 2023 год. Последний – уже без В.Н.
Пежемскому Максиму Гелиевичу – другу и мирознатцу, который годами убеждал, что кино больше не актуально, а весь ум в сериалах, – и дожал-таки. В книге среди прочих – рецензии на его «Женское дело» и «Проект „Анна Николаевна“».
Жигунову Сергею Викторовичу – продюсеру кино и фестивалей, который однажды предложил собирать программу сериальского феста в Южно-Сахалинске. Смотр усоп от ковида, но привычка ежегодно выделять из кинопотока 12 лучших сериалов и 4 в резерв – осталась.
Садкову Павлу Петровичу – редактору телеотдела «Комсомольской правды». Что брать, что не брать в работу, все 5 лет решаем вдвоем. Некоторые жемчужины телерынка здесь – исключительно с его подачи («Невеста комдива», скажем). Ошиблись единожды. В книге нет рецензии на «Большую секунду» Виктора Шамирова, и этого нам потомки не простят никогда.
Клушанцевой Ирине Дмитриевне – по-прежнему жене, которая годами наблюдает мужа у монитора в наушниках военного преступника с Нюрнбергского трибунала. 8 серий х 50 минут – не шутка. Не каждая такое выдержит.
В тексте упоминаются Википедия, Инстаграм, Фейсбук и геи – мы их экстремизма не одобряем. Наркотики же, упоминаемые еще чаще, – как всем известно, приносят вред. И только сериалы о них – пользу, ибо сняты с твердых позиций Госнаркоконтроля. Чрезмерное же употребление алкоголя нами категорически осуждается, хотя и случается со всеми. Но мы стараемся свести эти постыдные случаи к минимуму. Правда, жены говорят, что врем, но они пристрастны.
Автор, редактор
Часть 1. До нашей эры
Империя: от чистого истока до Александра Освободителя
За редчайшим исключением («Достоевский», «Раскол»), праисторические времена сняты в жанре комикса – иногда откровенного («Великая» с летящим сверху медведем), иногда аккуратно подозреваемого («Годунов»).
Древний имперский мир стал байкой о золоте, принцессах и разбойниках и иным, очевидно, уже не будет.
БГ, от которого сияние исходит
«Годунов», 2018. Реж. Алексей Андрианов
Годуновскую харизму сгубил Пушкин.
Вина перед народной мифологией и исторической беллетристикой – его.
Так-то одиссея безродного чернеца, умом и хитростью занявшего трон, приструнившего знать и правившего для средних веков разумно, честно и милостиво, была бы чистой конфетой для новых демократических времен и камнем в фундамент национального самоуважения.
Но одним прокурорским вопросом Сан Сергеич кроет царя Бориса, как Жеглов Груздева пистолетом «байярд»: «А кто-кто у нас мальчика Митю зарезал?» Вопрос этот бьет поддых, лишая благонамеренных летописцев опоры и гладкописи, а прогрессистам вручая аргумент-кистень об изначальной порочности любого самодержавного правления.
Для консерваторов Годунов – предтеча всеславного и во гневе умеренного дома Романовых. Для всечеловеков – символ темного русского средневековья с недвусмысленными кивками на сегодняшний день. На чьей стороне авторы сериала – видно уже по зачинному посвящению Станиславу Говорухину: имя покойного просвещенного государственника гарантирует оценку былого исключительно с позиций национального интереса, а не общегуманного императива переходного периода.
Еще более обнажает замысел канала-производителя приглашение на постановку своего давнего протеже Алексея Андрианова. «Шпионом» (2012) по мотивам Акунина[1] он показал, что, кажется, один в стране способен творить не просто величавый, а обаятельнейший государственный миф с оттенком байки: мол, не любо – не слушай, а врать не мешай (в фильме Белый Царь генералиссимус Сталин вершит государевы дела в куполе так и не построенного исполинского Дома Советов, на уровне облаков, – ясно, что у Акунина о том и словом не поминалось). Только его лукавому дарованию (разумеется, в паре со сценаристом Тилькиным) дано преодолеть вековечное проклятие русской истории – отсутствие ее массовой авантюрной, сугубо народной версии.
Нет у нас Дюма и Стивенсона.
Нет Вальтера Скотта и Эжена Сю.
И Конан Дойля с «Похождениями бригадира Жерара».
Один Пикуль, да и тот целиком в осьмнадцатом веке.
Миссию первооткрывателя извилистой, легкой, архиинтересной истории дворцовых интриг принуждено взять на себя современное сериальное производство. Не так важно гордиться своей историей (она длинная, всякое бывало) – сколько не рассматривать ее как один мрачный пыточный подвал. Был и подвал – а у кого их не было, нет, скажите, я жду! И темь от малых окошек: стекол-то еще не изобрели. Но и престольные праздники с пиром-благодатью, и церква-росписи, и шпаги-кони, и брусника моченая. Создать приемлемый образ старины глубокой, не впадая в ересь скоморошьего лубка, сегодня первостепенная задача национального художества, и исполнить соцзаказ взялась презренная, зато богатая десятая муза.
С ролью Дюма Тилькин и Андрианов справляются на пять. Каждая серия представляет собой историю разгрома Борисом очередного боярского злоумышления против трона и за этот самый трон. Переигрыванья польских и английских притязаний. Ловкого строения и расстроения нужных и ненужных государству браков. Доказательство, что хранить державный интерес можно и без инквизиции, умом и интригой, пером, а не топором. А тему убиенного царевича авторы искусно задвигают в конец первого сезона – уже окончательно влюбив нацию в премудроковарного Леля Бориса сына Годунова (как народ смотрит кинороман – видно по длине рекламных пауз).
Деланая кротость с предерзким взглядом исподлобья, моментальный обсчет ситуации мозгом шахматиста, обманчивый наивняк и усмешливое развенчание чужой гордыни сыграны Сергеем Безруковым в наилучших традициях Саши Белого (простодушие у него выходит хуже, клыки видать, – да здесь простодушия нет и в помине). Неотразимо куражится и юродствует в роли Малюты Виктор Иванович Сухоруков. Вредный старик Грозный в исполнении Маковецкого неожидан и тем хорош. Отказавшись от Михаила Ефремова, Александра Баширова и отца Иоанна Охлобыстина (типажно вполне созвучных веку), авторы явно дали понять, что лишней потехи-комедии им в сюжете не надобно. А Федор Бондарчук уже играл царевича в фильме отца в 1986-м (там Сергей Федорович в заглавной роли возлагал на сына-отрока царские бармы и мономашью шапку и как в воду глядел: все сбылось).
Что до намеков на день сегодняшний – так не одной оппозиции сей прием ведом. Царь Борис начинал в охранке у Малюты. Давил со сподвижниками мздоимство и боярскую корысть, аукнувшиеся в новейшие времена словом «семибанкирщина». Лично выходил под пики стрелецкого мятежа, вразумляя смуту твердым словом, – точь-в-точь как небезызвестный офицер берлинской резидентуры при попытках немецкой черни погромить архивы спецслужб. Есть что вспомнить и запараллелить и государственникам.
Авторы добились главного, обратив русские средние века, постоянно изображаемые царством страха и криводушия, сонмом юродивых с мольбой о копеечке, – в увлекательное, азартное, а то и общеполезное дело по установлению не только самодержавной власти, но и многоуровневой системы управления гигантским государством.
А здесь и национальному гению слово:
- Да ведают потомки православных
- Земли родной минувшую судьбу,
- Своих царей великих поминают
- За их труды, за славу, за добро.
Это, между прочим, из того же самого «Бориса Годунова».
Сцена «Келья в Чудовом монастыре», стих двенадцатый.
Так-то я мужик не злобный —
Но с вредителями строг
«Грозный», 2020. Реж. Алексей Андрианов[2]
Великим злодеям надобны соразмерные исполнители.
Внутри погубителей тысяч и миллионов пышет адово пламя – а такое абы кто не сыграет.
Оттого столь краток век любого фильма о Сталине, Гитлере, Нероне и Чингисхане, что доктрина демократических времен требует их максимально унизить, измельчить и заземлить, а всего сподручней это с помощью артистов второсортной антрепризы.
Единственный мегазлодей, кому век даровал почтение, есть мифологизированный до сказочной карлы Ричард III – и то потому, что в глазах масс он более не реальное лицо, а шекспировская выдумка. Затем и дарят его своим исполнением сэр Лоренс Оливье, сэр Иен Маккеллен и Его превосходительство Михаил Александрович Ульянов.
Грозному в этом отношении свезло: с Ричардом он разошелся правлением всего-то лет на семьдесят – отчего тоже сделался праисторической полулегендой. А значит, и его уже можно доверить большим исполнителям; и челядь его, и жертв, и верных оглоедов-опричников. Причем если Эйзенштейн в классической постановке о Грозном компенсировал недостаток дарования своих артистов (Черкасова, к примеру[3]) нижней подсветкой и сполохами близкого пламени в глазных белках – на этот раз Сергею Маковецкому (Иван), Виктору Сухорукову (Малюта), Никите Панфилову (Челяднин), Александру Яценко (царь в юности) пришлось работать самим, без режиссерских подпорок.
Мысль разделить роль Ивана меж двумя сильными артистами соответствует подходу светил исторической науки. За время правления Грозный-царь объединил страну, убил брата, нагнул татар, утопил тетку, поощрял книгопечатание, сжил со свету пастырей, учредил регулярное войско и извел под корень боярскую думу (ее б и не жаль – кабы вместе с ней не шли под нож целые вотчины и забуревший Новгород). Карамзин считал раннего, податливого влиянию просветителей Грозного безусловным прогрессистом, который после боярских козней слетел с катушек и перешел на темную сторону силы (идею царя-оборотня, карточного перевертыша как раз и воплотил Эйзенштейн). Неустойчивый, подвластный воображению характер государя отмечали все хроникеры – и Александр Яценко, известный ролями слабосильных духом, неуравновешенных самодуров, играет перманентное смятение довольно молодого монарха у истоков нашего всего: исконной вражды с Польшей, взаиморастворения с Азией, террора против самовитых регионов и неизменного для сильных правителей неустройства в семье; всех вызовов мономашьей шапки, с которой многомудрый Эйзенштейн начал свою картину.
В момент перерождения роль отходит к Маковецкому, который если и играл раньше упырей, так только у Балабанова – да кто ж у Балабанова упырей не играл?
Достоверных сведений о нем слишком мало, чтоб понять все, и слишком много, чтоб нести уж совсем беллетризованную околесицу. Боярский заговор то ли был, то ли привиделся. Неугодного думе младенца-царевича то ли утопили, то ли сам усоп от недосмотра и негодного состояния медицины. Отравление царицы Анастасии ныне установлено доподлинно – но кому она сдалась при столь малом участии в государевых делах, существовании наследников и великих рисках царева гнева, так до сих пор и неведомо.
Зато ясно, что без Алексея Андрианова, мастера самых убедительных исторических мотивировок, похожих на правду бытовых допусков и по-эйзенштейновски возведенных в исторический факт лукавых домыслов, постановка состояться не могла. Ради обострения конфликта он воспользовался самыми радикальными версиями событий. По их со сценаристом Эзугбая гипотезе, царица выпила яд, предназначенный Курбскому, когда подозрительный царь велел им сменяться кубками. Царевич был утоплен по наущению царевой тетки Ефросиньи Старицкой, известной ненавистницы Ивановой ветви. Бояре, как обычно, мерялись высокородием, злоумышляли против объединителя и к моменту схода Ивана с резьбы успели наворотить такого, что меркнут все деяния троцкистско-зиновьевской шайки наймитов и двурушников. Было отчего взъяриться. Четыре финальные серии сплошного карнавала смертоубийства затмевают предыдущие – так же, как нон-стоп-вакханалия второй части эйзенштейновской эпопеи обнуляет первую.
А дальше уже придется признать предельную киногению ритмичного и деловитого серийного террора. На том стоят все гангстерские саги, эпопея «Битва за Алжир» и помянутый «Ричард III» – а теперь вот и «Грозный», 2-я часть. Наверно, это грех, но от вида Ивановых четок, перебираемых с мыслью, кого б еще прибить, лиходейских эскадронов с царева крыльца до опального дворца, совместных трапез убийц и назначенных к закланию бояр с рассадкой через одного – оторваться невозможно.
В фильме после таких признаний крестились.
Лют православный
«Раскол», 2011. Реж. Николай Досталь
Отуреченный Константинополь следует признать самым адовым искушением русского мира и русского космоса. За омывающий его Босфор империя ввязалась в Первую мировую, стоившую нам двух миллионов душ и разрушительной революции. На Константинополь с огромными жертвами шли войска в последнюю русско-турецкую войну, принесшую суверенитет болгарам, – народу воистину подлому и выступившему против нас во всех конфликтах XX века. Наконец, идея переноса центра православия из Константинополя в Москву побудила РПЦ к унификации русского богослужения с греческим (и, кстати, украинским) – что ввергло страну в трехсотлетний раскол и, считая гари, Соловецкую осаду и массовые репрессии уровня святой инквизиции, – первую полноценную гражданскую войну. Химера православного братства с доминантой Москвы массово губила русский люд задолго до аналогичной коммунистической.
Немудрено, что раскол столетиями был в нашей литературе, а затем и кино трефной темой – до такой степени, что в вики-статьях «Раскол в культуре», «Аввакум в культуре» значится единственная строчка – этот самый фильм 2011 года. Троеперстие, где огнем, где уговором, укоренилось. Чаемое объединение православных под началом Москвы не состоялось. Зато старообрядцы обрели славу мучеников за веру и – пуще того – неофициальную канонизацию: сколь ни чести Аввакума с кафедр, а он посвятей многих признанных святых. Милостивый к проигравшим В. И. Суриков (Меншиков в изгнании, стрелецкая казнь, альпийское отступление Суворова) избрал моделью своей фрески не Никона, а опальную боярыню Морозову. Так что любая аутентичная хроника раскола не сулила РПЦ никаких выгод – а свирепство патриаршьей цензуры в профессиональных кинокругах хорошо известно. «Хуже КГБ», – ворчат на студиях, чураясь религиозных сюжетов, как черт благодатного огня: слишком велик риск резкого удорожания съемок в случае вето клира. А значит, впрягаться в столь хлопотное, чреватое и затратное предприятие могла сподвигнуть Николая Досталя только благородная просветительская миссия. Тем более что сценарист его Михаил Кураев, вопреки подозрениям, к дьякону отцу Андрею отношения не имеет, в сан и подробности таинств не посвящен и гарантировать патриаршье благословение не в силах (впрочем, отец Андрей тоже[4]).
Суть лучших, «чудиковских» фильмов Досталя «Облако-рай» и «Человек с аккордеоном» можно было бы передать нилинским словом «дурь». Никонианская реформа по размаху и последствиям сегодня кажется дурью вселенской. Вожделеемая новая Византия состояться у нас не могла: православие Русь приняла в готовом виде, опыта теологических споров не имела и центром богословия не считалась. Внутрицерковный же раздор не только рассорил страну, но и отжал твердых в понятиях лиц из общества и управления – несказанно увеличив процент корыстолюбцев на верхних этажах церковной и светской бюрократии. Не зря слово «блядство» звучит с экрана в аввакумовых речах и посланиях без всяких запикиваний, а местные воеводы, верша царский суд над ослушниками, почти беспрерывно жрут. Да и регулярное гашение государем свечей на ночь (как и сбор яблок его наследником) с какого-то момента начинает выглядеть символическим: в великой русской распре сыграл Алексей Михайлович самую малопочтенную роль.
В выборе исполнителей режиссер парадоксов чурался, выражая авторское отношение к историческим лицам шлейфом прошлых ролей артиста. Переиграл Роман Мадянов всех лихоимцев прошлого и настоящего – быть ему боярином Морозовым. Зарекомендовал себя Александр Коршунов лучшей кандидатурой на роли скромняг-правдоискателей – значит, и роль протопопа Неронова его. Случись интерес к расколу прежде, в советском далеке, – играть бы его святейшество Аввакума самому Ивану Герасимовичу Лапикову, старцу въедливому, непокорному и к святому делу самим Тарковским приставленному (был в «Рублеве» монахом Кириллом). Но и уралец Александр Коротков в минуты наивысшей пастырской язвительности с Лапиковым схож и тем возводит канон величавого ненасильственного сопротивления аж к XVII-му веку, за два столетия до рождения г-на Ганди.
В стране, где спасение души напрямую связывается с точным соблюдением обряда, корректировка его заведомо сулила волнение и смуту. За оду стихийному русскому консерватизму и изоляционизму – Досталю, Кураеву и компании «Аврора» высшая надцерковная хвала. Финальный топот солдатских ног на заре нового петровского царствования явно выражает их отношение к эре наступающего западничества.
Как Россию от Иванова спасли
«Тобол», 2020. Реж. Игорь Зайцев. По роману Алексея Иванова
Продюсера Урушева накрыла идея: экранизировать писателя Иванова.
Это была всем идеям идея, никто б до такой не додумался.
Что Иванов с полутора тысячами страниц! Какая у него идея – сиди строчи, коли дел других нет.
Иной вопрос кино. Потому на каждой из восьми серий и написано: «Идея Олега Урушева» – чтоб застолбить и никто чтоб не зарился, знаем мы их.
Иванов, как и все большие писатели, – натура сложная, а постановщики ему попадаются все больше простые. Положительных героев у него нет, а есть алчные, хваткие, пассионарные, задиристые и в экспансии одержимые – строящие хапком великую страну, как американцы фронтир. Назван роман именем реки жестокой и опасной, богатой и мощной – с намеком на саму Россию, как в свое время «Тихий Дон». По берегам этой, как и всякой другой дальней реки, живут люди сильные, угрюмые, опасные во хмелю и удивительные в нечастой доброте. Нож и огнестрел здесь держат под рукой даже нынче, а не то что триста лет назад. Если задерутся – без сломанных рук и ребер не расходятся. Из-за вечной опаски и обилия физического труда женщина тут не то чтоб до конца человек и сегодня, не говоря уж о восемнадцатом веке: бабу под комель не поставишь и в бой не пошлешь. Городскому человеку, считающему себя цивилизованным, здесь неуютно – отсюда и привкус величия: я бы так не смог.
Городской режиссер Зайцев так и не может. Как и все городские (Урсуляк, например), он начинает утеплять грубый и корявый материал. Грозный век, петровская Сибирь, служилый люд, хапуга-губернатор – но все под колокольный звон да созидательные ритмы. Больше всего «Тобол» похож на патриотический мультфильм про старину глубокую, каких много делалось в 70-е: Василиса Путятишна там, Фока на все руки дока, Алеши с поповичами. Детям же не расскажешь, что остячку Айкони изнасиловали первый раз на стойбище, пятый на торжище, восьмой в курной избе – отчего она в лес ушла и медведя съела. И что шведка Бригитта, чтоб выжить, давала под телегами кому ни попадя, не расскажешь тоже. И что в расколе своя правда, детям знать необязательно. И что архитектон Ремезов ставил свои храмы и кремли на деньги, уворованные губернатором у казны, и не кочевряжился. Детям – им бы больше молодечества, скоморошества, румяных щек да пухлых калачей. Ярмарочную драку в «Чкалове» Зайцев ставил с таким азартом, что ясно было: аналогичное побоище в «Тоболе» будет у него одной из кульминаций (как и вышло). Жанр он знает. И просторы у него упоительны, и ярмарки изобильны, и девки бокасты, и строй гренадеров блестящ, и царь Петр черт из ящика, и Россия вся такая витринная. И молодых Ванька и Машка зовут.
А все ж мало. Надо весь двухтомник свести к тому, что шведы подлые, монголы хитрые, Китай друг, раскольник враг, царь трудяга, а нашим пальца в рот не клади, потому что не только откусят, но и вынесут мозг залихватскими прибаутками о русской силе и удали. Этой мыслью нас вот уж триста лет грузят разные ухари без оглядки на формы верховного правления, зато с толстым расчетом на государственные награды. Отсюда все завиральные подвиги пафосного дурачка Ваньки Демарина, его возвышение в царевы любимцы и личные славословия государя на ассамблее. Отсюда и тонна зазвонистой декларативной банальщины, за какую тонкий стилист Иванов огрел бы поленом. «К паркетам не приучен». «Все мы солдаты, все слуги государевы». «На том стояли и стоять будем ныне и во веки веков».
Когда зашел толк о шурах-мурах, Бригитта сказала Маше:
«Так бывать, что есть муж, а любить другой мужчина. Надо быть там, где любить, иначе сердце умирать».
Так бывать.
Есть умный роман, а любить всякий звонкий глупость.
Надо быть там, где любить.
Иначе денег и наград не давать.
Помню, я еще молодушкой была,
Наша армия в поход куда-то шла
«Елизавета», 2022. Реж. Дмитрий Иосифов
Сериал о Елизавете вошел в историю задолго до начала показа.
В сетку его внесли на март, а в конце февраля президент сделал важное правительственное сообщение, и вечерний прайм забили серьезные люди – важнее Юли Хлыниной в роли Лизы Романовой. И гала-премьеру перебросили на неделю. Потом еще.
Так прошла весна двадцать второго. Россия удвоила свое черноморское побережье. Обвалила рынки. Нарастила хлеботорговлю. Вернулась на три века назад во времена царей, доблести и геройства. Европа перестала мыться, как и тогда. Америка хотела вякнуть, но вспомнила, что ее три века назад еще не было.
Пало Приазовье. Лег Херсон. Заволновался Измаил. Украина с горя свалила памятник Суворову, да поздно.
Наши с интересом посмотрели на Варшаву.
А в телепрограммах по-прежнему значилось: премьера сезона, в понедельник серия, во вторник другая.
Швеция вспомнила о былых победах. Турция заявила, что ни при чем. Английская королева раздумала помирать. Папа сказал, что умывает руки.
А канал «Россия» опять: ну, на этой уж неделе точно.
История пошла другим путем. Мир забыл про ковид, BLM, пятый пол и прочие ереси, зато задумался про судный день. Но по-прежнему оставался актуальным вопрос: что же обо всем этом думают Юлия Хлынина, Елизавета Романова, продюсер Акопов и режиссер Иосифов?
Они, как выяснилось, о том пока не думают. Сериал посвящен юным годам императрицы, когда она была еще егоза и целовалась с преображенцами. Шанс занять трон выпадал Елизавете в 16, 18 и 21 год – но та все манкировала, предаваясь соблазнам галантного века, – из-за чего нам пришлось пережить правление ее малахольной матушки, отрока-племянника и вконец онемеченной двоюродной сестрицы (соответственно Екатерины I, второго Петра и Анны Иоанновны). На 16 лет страна ушла с внешнего театра в тайны дворцовых переворотов и династические контрдансы – на радость братским монархиям. Радоваться им, как и в жизни, недолго, на носу второй сезон и Северная война.
Цесаревну Лизу, по всеобщему мнению, отличала крайняя внешняя привлекательность, слегка подпорченная рыжиной и курносостью, – так что Хлыниной эта роль была предначертана небесами. Елизавета Боярская, также подходящая под описание, ушла в рост – тогда как прижизненные портреты императрицы намекали на лишний вес. В бисквитах Юлии Олеговне явно решено было не отказывать – чему она, вероятно, была только рада.
Окружавшее престолонаследницу трио пажей совершенно напомнило вымышленных гардемаринов-мушкетеров – если б фамилии Нарышкин, Воронцов и Шувалов прямо не указывали, что это будущие баловни русской истории и генерал-фельдмаршалы русского воинства. Кто на ком из фрейлин переженится, оставим в секрете: несведущих в истории любителей мелодрам ждет грандиозный сюрприз, а зачем еще нужны исторические хроники?
Манера былого бэбистара Иосифова назначать на возрастные роли постаревших пылких юношей 90-х заслуживает особого интереса – как и тогдашний инженю Сергей Маховиков в роли князя Юсупова. Но центральным стержнем сезона (и вторым номером в титрах) служит, конечно, главный антагонист Елизаветы вице-канцлер Остерман в исполнении Алексея Аграновича. Его меланхоличное интриганство организует и направляет напор взбалмошных августейших баб – а недавняя отставка Алексея Михайловича с поста худрука «Гоголь-центра» дополнительно рифмует век опал и фаворитизма с новыми временами обострившегося госуправления (отметим, что изгнание Аграновича единственное было встречено без восторга, а лишь с печальным смирением – Рыжакову с Райхельгаузом три века назад царь-батюшка еще б и пинков на ход надавал).
К выходу второго сезона Россия, верится, прирастет Елисаветградом и Екатеринославом. Кто раньше управится – армия или музы – увидим к зиме.
Государыня всяко будет рада.
Наконец-то, скажет, за ум взялись.
Пажи с проступающими фельдмаршальскими погонами дерзко ухмыльнутся.
Как при бабушке[5]
«Екатерина. Самозванцы», 2019. Реж. Дмитрий Иосифов
Петр Третий был рожден Карлом Петером и, как все немцы, любил скрипочку, трубочку, оловянных солдатиков и Фридриха Великого.
Жена его Екатерина Вторая была Софьей Августой и, как все немки, ценила мужские штаны и рациональное управление.
Сын их Павел Первый был бы чистокровным фольксдойчем, каб не слухи, что к его рождению причастен граф Салтыков, – но воспитан был на прусский лад в почтении к Фридриху и шагистике.
Слабые мужчины романовской династии слышали голос немецкой крови, зов конституции и ересь европоцентризма, за что их исправно душили в опочивальнях гвардейские офицеры.
Сильные женщины внимали гласу истории, становились русее русских и кошмарили историческую родину рейдами влюбленных в матушку молодцов.
Даже тотемные животные у нас сделались общие: у немцев орел и медведь – и у нас орел и медведь.
Но то были медведи в одной берлоге.
Признаться, русский галантный век в массовом сознании не отложился. Период от Петра до Павла национальной литературой преступно обойден – из-за чего Екатерины совершенно перепутались у нас с Елизаветами, Ангальт-Цербские с Голштейн-Готторпскими, Румянцевы с Потемкиными, а Панины с Шуваловыми, и лишь посреди Адмиралтейским столпом высится капитанская дочка Маша Миронова с отеческим заветом беречь честь смолоду. Сопутствующие мушки-пудры-клавесины-парики казались нам исключительно французской специализацией – как и манера решать государственные дела в будуаре, волнующая сердца молодых повес и одиноких дам с кошечкой. Притом французы с их республиканизмом рассматривали времена Людовиков как давнее водевильное недоразумение – нам же на новом витке государственничества и консенсусной автократии слышны в екатерининском сказе вполне современные ноты. Крым отбит у турок, флот переброшен в Севастополь – будто с утренней ленты новость. Англия с Францией готовы снабжать хоть османов, хоть черта в ступе, лишь бы унять наше продвижение по балканскому подбрюшью – как вчера написано. Внешнее давление синхронизируется с активно подогреваемой внутренней смутой (пока Пугачевским бунтом, а не Болотными гуляньями) – и это актуально. Дания грозит перекрыть проливы – чем еще заняться Дании, кроме как мешать нам в своих территориальных водах?[6] Фактически канал «Россия», как и в случае с «Годуновым», пересоздает национальную историю для массового потребления – слегка вольничая с персоналиями. Кому, в самом деле, какое дело, соблазнил княжну Тараканову Орлов или Разумовский? Главное, девушка не уехала неотдохнувшей.
Режиссер Иосифов, во младости сыграв деревянного человечка Буратино, в зрелости сделался совершеннейшим противником власти плебса. В его трактовке Пугачев лишен не только сочувствия, но и харизмы. Таракановой повезло больше: в исполнительнице Стречиной огня и дерзости хватит на дюжину Вирджини Ледуайен. Впрочем, Иосифову не до актерских бенефисов: паузы первого сезона (в постановке Александра Баранова), давшие блеснуть исполинским талантам Юлии Ауг и Александра Яценко, сокращены до минимума: интригу надо гнать.
Интриги море. Ярчайшим высказыванием XX века о природе абсолютизма и кровного наследования справедливо считается «Крестный отец» – сценарист Ариф Алиев с его тягой к криминальным сюжетам не мог не оглядываться на эталонную гангстерскую сагу. Воцарение Екатерины – не что иное как путь наверх Майкла Корлеоне. Первые шаги. Первые риски. Пристальное внимание враждебных семей (Фридрихи-Людовики). Жестокая наука старого дона (Елизавета). Вынужденное умерщвление слабой, тщеславной и податливой к союзу с врагом родни (Петр Федорович). Пестование наследника и серийная расправа с обманувшими и обманувшимися соратниками.
Захват новых рубежей и работа с системными вызовами.
Одна из книжек детства называлась «Катруся уже большая». Под этим девизом вполне мог запускаться текущий сезон.
Сами вы неместные
«Великая», 2020. Австралия-Великобритания. Реж. Колин Бакси и другие
На театре холодной войны новый фронт: екатерининский.
Мы этого не заметили и сдуру хихикаем, что за русских в фильме негры кривляются.
А напрасно. Отвлеклись.
За десять лет в стране сменился титульный монарх. Веками Россия любила Петра, и палку его, и трубочку, и кадровую политику. Произошедшие от него ленинградцы со спесью произносили особенные петровские слова «кумпанство» и «камер-коллегия» и вообще кичились первородством.
А потом нам надоели русские, желающие быть Европой, и полюбились европейцы, желающие быть русскими. Таких здесь оказался вагон: Фонвизин, Барклай, Петипа, Понтекорво и полк «Нормандия» полным составом. Верхним царем стала Екатерина, которая родилась Софьей Августой Фредерикой, но быстро одумалась, перешла в православие, отняла Крым, трахнула гвардию, написала Вольтеру и сделала еще много полезных в государстве дел. Хотя в дальнейшем часть полезных дел уплыла к другому государству, в частности, города Одесса и Днепропетровск.
Петр хотел, чтоб мы были, как все, а она – чтоб как всегда и всем давали по шеям, – сами решайте, кто из них Великий.
Хотя и так ясно.
Соседи, меж тем, как водится, не дремали и надумали вернуть нашу гордость и славу себе, изобразив матушку послом культуры и ценностей в дикий край произвола. Мол, пыталась фрау причесать барбоса, да все зря. Мол, не русским интересам служила с превеликим успехом, а тщетно окультуривала орков, и только русские негры ей в этом содействовали как наиболее продвинутая, нерусская часть общества.
«Великая» сделана в этом плане совершенно виртуозно. Сходу заявлено, что это альтернативная история, что авторы не претендуют, что сказка ложь, а на Эллочку Феннинг в заглавной роли всякому глянуть приятно (что сущая правда). Даже коллега Зельвенский по простительной питерской близорукости на эту удочку купился: давно, пишет, не изображали нашу Катю такой прелестницей.
И впрямь давно – да кто сказал, что нашу? Принцесса ведет себя в России сущей Алисой в стране чудес: принимает дичь как есть и всячески настраивает себя по-английски не удивляться, а быть приветливым ангелом. Русские, как всегда, бухают, охотятся, долбятся, и только негры Орлов и Ростов готовы к сотрудничеству. Нареченный супруг пользует крошку по-всякому, чего в действительности не случалось ни разу, – что неважно, ибо по мотивам. А она в позиции на спине рассуждает о гражданских правах и свободе выбора, о гуманной и справедливой России – точь-в-точь, как Хелен Миррен в той же позиции в той же роли теми же словами всего-то год назад. А это уже система, и к шуткам про медведя не имеет ни малейшего касательства. Хотя сон царицы, где на нее с неба падает медведь, глубоко символичен.
Реальная гуманистка Екатерина довела закрепощение до пика – чем добилась управляемости заинтересованных элит и контроля над слишком громоздкой страной. Подмяла Крым и Кавказ, что трудно связать с борьбой за гражданские права русских негров. Ввела цензуру, открыла Смольный, надавала шведам (в другом смысле), в третий раз нагнула Польшу. Действовала по-немецки, добиваясь максимального успеха в рамках предложенных обстоятельств. А ее пытаются сделать американской миссионеркой в диких степях Забайкалья.
Пора, кажется, и нам шутить с медведем. Про то, как русские американцам вертолет и телевизор делали, а те в тот момент только на ведьм охотились и негров нерусских ели. Ну, шутка такая, без обид. Или как внук Екатерины Александр Палыч в Париж с казаками ходил сеть фастфуда «бистро» организовывать – почему об этом еще фильмов нет? Почему водевиль «Конгресс танцует» не экранизирован у нас ни разу? Каков простор нехоженых сюжетов!
А потом уже заразительно смеяться австралийским шуткам про Катю с гражданскими свободами. Действительно же забавно.
Как сказал Петр Третий в том же фильме: «Ты смешная. Много я такого не выдержу, но поначалу вполне освежает».
Танцуют все
«Екатерина Великая». Великобритания-США, 2019. Реж. Филип Мартин
Очевидный сценарный кризис и зримое исчерпание американских тем заставляют англоязычные студии обращать взор на экзотику европейских монархий, шпионских игр и техногенных катастроф – в том числе и на тайны российского престола. Увы, республиканские нации и примкнувшие к ним англичане давно уже не смыслят в абсолютизме ни аза и градусом бреда напоминают фильмы прибалтийских студий о каменных джунглях Нью-Йорка – где все сидят с ногами на столах и говорят друг другу «сынок».
Государыня Екатерина у них ведет хлопотную жизнь мухи-цокотухи. Фрейлины являются к ней покалякать без стука и вызова. Фавориты бузят и требуют брака. Наследник (будущий Павел I) не велит совать нос в свою личную жизнь. Поручики бунтуют гвардию, французы мутят революцию, Крым, Пугачев, суета и нервотрепка. А тут еще на ее роль назначают Хелен Миррен, которая уже сейчас пережила матушку-царицу на 7 лет, а играет ее молодые годы. Кому из женщин такое понравится.
Поскольку всерьез обсуждать такое нет сил – посвятим неучей в краткий курс кромешной тирании, которая у них была не гуманнее нашей, но отчего-то повыветрилась из памяти.
Цари не пишут и не читают речей о прогрессе с амвона кафедральных соборов. У них нет на то времени, полномочий, микрофонов и надобы в воодушевлении масс. Для этих нужд попы имеются.
Царевичи не повышают на них голос – иначе могут оказаться в Нерчинске под именем Кузьмы Петрова и надежной охраной. Петр Великий да Иван Грозный со своими мальчиками еще и не так поступали.
С ними не говорят как с равными, не садятся в их присутствии и не качают права – а то ведь, глядишь, топор своего дорубится. Странно, что это приходится объяснять англичанам.
Гвардейские офицеры не стыдят на площадях царский конвой за возведение на трон самозванки. Прав на престол у нее, быть может, и нет – но права вырвать нечестивцу язык, зенки, ноздри и яйца еще никто не отнимал.
Словившие удачу за хвост любовники в мужья не метят – ибо освященный церковью брак даст законные права на престол им самим, их родне и вероятным потомкам, а там и до цареубийства недалеко, прецеденты бывали.
На панских ассамблеях не пляшут русского: это развлечение плебса.
К тому же, Екатерина в XVIII веке вряд ли знала слова «прогрессист» и «либерал», а если и знала, не придавала им иных значений, кроме ругательных (ровно как сейчас). Императрица, закабалившая податной люд по маковку, никак не могла мечтать об освобождении крестьянства – ну разве только в переписке с Вольтером, так чего не ляпнешь в маляве мил-дружку. Крым был отбит у Турции силой, а не уговорами татарских мурз – прозрачные намеки на недавний референдум выглядят дешево.
Русское происхождение не делает Хелен Миррен (урожденную Елену Миронову) априорной специалисткой по царизму и социализму – но в Голливуде, увы, считают иначе. В любом трэше о Кремлевской или Берлинской стене ей найдется место.
Впрочем, мотивация ее избрания на роль, возможно, иная. Мешая альковные и государственные дела, матушка Екатерина давно уже сделалась в мире эталонной фигурой софт-порно типа Распутина или Лукреции Борджиа. Миррен же столь часто появлялась голой у барочных безобразников Рассела и Гринуэя, что имя ее уже автоматически ассоциируется с двусмысленным репертуаром. Конечно, ей 74, не до неглиже, зато в качестве исполнительного продюсера она теперь усердно раздевает партнеров. Мужских задниц в фильме больше, чем у педераста Пазолини; если есть ценительницы – им будет на что посмотреть. Когда князь и будущий броненосец Потемкин-Таврический носится по двору в одном парике с саблей – русский мир предстает на экране во всем своем приапическом величии.
Душу прекрасные порывы
«Цербер», 2023. Реж. Владимир Щегольков
В истории декабризма режиссер Щегольков и сценарист Гоноровский начисто ломают канон: пора уже.
В миг пылких полуодетых свиданий за стеной ворочаются слуги – а куда их, за калачами посылать? так лавки закрыты-с. На высочайших допросах бунтовщиков нижние чины печь топят: февраль на дворе, а паровое отопление еще не придумано. Пушкин (Лев Зулькарнаев) царю не дерзит и выглядит юно – а и что б не выглядеть юно в 27-то лет? И царю (Алексей Трофимов) 30, а что говорят снизу вверх и сверху вниз – так в одном два метра с гаком, а во втором 166 см, разница воистину комическая. Хмур царь: Пестель планировал перебить его род поименно, а от немцев всякого жди, сам из них. Всего тридцатью годами раньше так же поступили французы, пример под носом. Николай Палыч в истории цербером слыл – а только отца его убили заговорщики, сына убили заговорщики и правнука с выводком убили заговорщики. Соответственно, Павла Первого, Александра Второго и Николая Второго – для тех, кто в династиях путается.
Станешь тут, ей-богу, цербером.
Выгори у них тогда – ох бы нахлебались бы всей страной; хотя и так нахлебались. Царское «Ну, и нагородили же ваши поклонники, Александр Сергеич!» – подлинно фраза века. И все во имя Родины. Царь во имя Родины, цареубийцы во имя Родины, Бенкендорф (Дмитрий Ульянов) тоже во имя Родины – боевой был генерал, всю партизанщину поднимал и в Москву с отрядами вошел первым. Каролина Собаньска, пушкинская конфидентка (Вера Колесникова), с именитыми прохвостами путается тоже во имя Родины: своей. Ей: «Цель у нас одна: освобождение России и Польши». А она: «Освобождайте Россию. Мне достаточно Польши». И всегда им было достаточно Польши. И фамилия замечательного сценариста Гоноровского внезапно заставляет задуматься.
Дуэли – тупые, воздух – сырой, стихи – горячие и слабые, как и большинство горячих стихов. В санях Смерть, кони пугаются, Тимофей Трибунцев играет в таком гриме, что и не узнать, толстый и одышливый. Фантомный город, как водится, полон мнимостей, сюжет тоже.
Коллежского советника Бошняка (Сергей Марин, в которого влюблены все девочки) подсаживают в камеры смутьянов для дознания. Комбинация задумана им с графом Виттом (Евгений Цыганов, в которого были влюблены все девочки десятью годами ранее, да и сейчас влюблены, только выросли) – с которым они делят на двоих пани Собаньску. Тем временем особ, сотрудничавших со следствием, одного за другим находят с ножом в спине, головой в Неве и вовсе без головы: в Петропавловке утечка, и советник с графом тоже под колуном человека чести (Александр Горбатов, любимый дамами за богатырский рост). А поскольку сыск с головой в мятеже, душегубцев ищет заезжий москвич (Трибунцев) и два его комических дуболома (Кирилл Кяро и Владимир Крылов, тоже прекрасные). Словом, если пан Гоноровский продолжит в том же духе и далее, монополии Б. Акунина на книжном рынке несдобровать. Но он не продолжит, ибо занят сложностями души («Цой»), а не беллетристикой, и Акунин, как и приятные во всех отношениях провокаторы, выйдет сухим из воды[7].
Фильм явно перекликается с еще одной картиной о сложностях дворянского выбора, государевом грузе престолонаследия и роковых полячках в роли роковых француженок – «Звездой пленительного счастья», где всех блестящих офицеров тоже играли главные красавцы века Баталов, Стриженов, Янковский, Костолевский, Пороховщиков и даже тюремного пристава Олег Даль. Сомнительная правда заполошного мятежа там компенсировалась легендарным шагом декабристских жен и песенкой Окуджавы про деву юную. Нынче все строже, продюсировавший кино Институт развития интернета озабочен государственничеством и, провалив «Большой дом» (чушь ядреная), кажется, вытянул счастливую карту. Режиссер Щегольков все увереннее укореняется в топе профессии, и слава о нем не идет по интернетам только потому, что вопросы ставит прогрессивной общественности неугодные, а в инете правит она – с чем, видимо, и призван покончить ИРИ.
Продолжена и любимая традиция советского кино привлекать великих артистов на роли меланхоличных жандармских разумников. Были ими и А. А. Миронов («Особых примет нет»), и Е. П. Леонов («Первый курьер»), и Л. С. Броневой («Товарищ Арсений»), О. А. Анофриев («Ссыльный № 011») – и вот, пожалте, Тимофей Владимирович Трибунцев, топтыжка такой.
А Цербер-то кто, спросят дотошные.
Да все Церберы.
И царь, и сыскарь, и Бенкендорф, и Бошняк с Виттом.
И даже Пушкин в «Истории Пугачевского бунта» напишет, что так и надо.
Жуткая страна. Вата-с.
P.S. А стучать и впрямь нехорошо, и в Неву за это спускают абсолютно справедливо. Что не отменяет пушкинского: «Текст может иметь ровно столько свободы, сколь может вынести».
Гогольнаш
«Гоголь», 2019. Реж. Егор Баранов
Быков однажды писал, что Украину придумал Гоголь, а до него никакой Украины и не было[8]. Теперь та Украина смылась (вместе с Быковым), оборотившись из нашей Баварии, где солнце, пиво, девки и коровий мык, в нашу Трансильванию, где жаркая луна, волчий вой, ведьмы на помеле и нет покоя русскому путешественнику. Эту Украину тоже придумал Гоголь, но мы на сходство не обращали внимания, думали: брехня, – а вот теперь обратили.
Многое меняется на свете по воле рока и больших писателей.
Украина дня нам теперь стала без надобы – не зря дед Лимон записал ее в «Книгу мертвых-3» (есть у него такой поминальник). Вся эта довженкина симфония шляхов, подсолнухов, мазанок и яблонного цвета нескоро еще вдохновит русского читателя и кинозрителя – а оттого и писаниям взяться неоткуда. У всякого Тараса там свой Андрий, кузнец Вакула на коленях перед императрицей заради панской обутки выглядит плебеем, а Пацюк, которому в рот галушки скачут, в переводе с местного наречия означает крысу, что тоже звучит символично. И на деньгах у них Мазепа, и сами народец довольно сомнительный.
Гоголевская сатира тоже приувяла: неизбывная актуальность делает любые новые постановки «Ревизора» и «Мертвых душ» с толстыми намеками редкостной банальщиной. Помнится, античиновная «Забытая мелодия для флейты» начиналась как раз с закрытия студийного «Ревизора», где Марья Антоновна садилась на шпагат, Бобчинский с Добчинским извивались в низкопоклонстве, а чиновник из Петербурга прибывал на членовозе. «Чтоб я никогда больше этого не видел», говорил символ административного зла бюрократ Филимонов, и мы благодарны за это товарищу Филимонову. Кто-то же должен был остановить непотребство.
Так-то и вышло, что за душевнейшим из наших классиков осталась одна лишь ниша русского Эдгара По – что и увидел душевнейший из наших продюсеров Александр Цекало (родом, кстати, оттуда же). Украина ночи, жарких шепотов, басаврюков и свиномордий за пасхальным столом как-то вдруг пошла, указатели «Полтава» и «Миргород» заскрипели, а на луне вызрели родимые пятна, от веку тревожащие оборотней и серийных маньяков. В эту полную и дурманящую луну отлично вписался логотип канала-производителя ТВ-3, позиционирующегося как «первый мистический» и сочинившего сагу о том, как Гоголь бился с виями, мертвяками и заколдованным местом, где ничего не вытанцовывается, как ни пляши.
Оказалось, что скрипы, чащобы, сумрачных всадников и общий аромат «Сонной лощины» наш кинематограф освоил столь же исправно, как лубок, притчу и историческую фантасмагорию. Реализм, возможно, пока и не идет – зато все, что касается легенд, роман-анекдотов и леденящих душу страшилок, снимается на самом высоком уровне. Художники и операторы от души плюсуют, напуская страхолюдного комикса, актерам одно удовольствие именно поиграть-зажечь, да и кому ж не в радость увидеть в одном кадре Цапника, Стычкина, Сытого и Меньшикова. Последний исполняет сыщика по особым поручениям г-на Гуро со всем сопутствующим профессии демонизмом посвященного в то, что другим знать не положено. Олег Евгеньевич уже во множестве играл умудренного беса при неразумном инженю – и в «Утомленных солнцем», и в «Легенде 17», и в «Кавказском пленнике», – так что с превеликим кайфом составляет пару и навек пришибленному своим ясновидением классику. Лукавые глаза-бусинки на бледном казенном лице (а с возрастом в облике Меньшикова все больше официальности) выдают новую разновидность Порфирия Петровича – тем более что патлатый Гоголь-Петров с огоньком безумия и склонностью к падучей здорово смахивает на Раскольникова. Оба-два главных мистика русской словесности и хроникера инфернального Петербурга будто сливаются у режиссера Баранова и славной бригады его сценаристов.
Конечно, пригласить на роль интроверта Гоголя самого духарного лицедея современности Александра Петрова и не дать ему беситься, балаганить и бисировать, как всем остальным, было большим вызовом актерскому ремеслу. Однако ж среди всеобщего балагана должен же быть хоть один нормальный, очарованный странник в краю чертей и панночек, – так пусть это будет Петров, у него все равно глаза дикие.
Из лучезарного баснеплёта ранних лет Гоголь становится мнительным антропофобным затворником – как декан Свифт или Сэлинджер. Так ведь и в жизни так же было. У всякого карбованца, зеркала, национального характера две стороны, и познал Николай Васильевич обе, и предсказуемо приуныл.
С его подачи – знаем и мы.
Русская рулетка[9]
«Достоевский», 2011. Реж. Владимир Хотиненко
На вопрос, что именно в России лучше, чем в других странах,
Достоевский коротко отвечал: «Все лучше».
Н. С. Лесков
Любопытно, что профессиональные недруги России мотивируют свои чувства именно Достоевским: я, мол, русских знаю, я Достоевского читал.
Никто не божится Чеховым или Толстым.
У Чехова русские нелепые, у Толстого одержимые – и только у Достоевского все как один грешники, избывающие свой грех раскаянием либо упорствующие в нем, а значит, в чужих глазах только и достойные считаться русскими.
Достоевского бы это, наверно, расстроило, а после бы плюнул: пусть их. Мало что в жизни он презирал так, как наше западничество и вечную оглядку на иностранцев (оттого-то на него, видать, и заедались так главные русские западники Набоков и Бунин).
Постановка 2011 года была предвестием грядущего консервативного поворота – антилиберального, антизападного, национализирующего Христа и освященного великим именем, с на удивление киногеничной биографией. Документально удостоверенные дикие увлечения. Выезды по заграницам с деньгами и натощак. Игроцкие страсти. Падучая. Каторга. Солдатчина. Подрасстрельное стояние на Семеновском плацу. И совершенно оглашенная проповедь русского превосходства во всем. Умеющий оценить перспективность сюжета драматург Володарский ухватился сразу, достоевсковеды после чертыхались, вымарывая эффектную отсебятину, – но суть личности за поверхностной чередой экстремальных событий угадана, ей же богу, верно.
Кротость и взрыв. Гордыня и послух. Личный и творческий интерес к самым инфернальным женским типам, которые тот же Набоков считал выдумкой и которых, меж тем, мечтали играть самые неуравновешенные и интересные актрисы мира, – не меньше, чем мужчины Гамлета. Миронов Евгений Витальевич, с его мягким юродством и бешенством, с закушенной верхней губой уже играл старшего из Карамазовых-братьев в «Современнике», потом Мышкина и произведен, наконец, в полные Достоевские – по чину. В лучшие моменты похож на священника – так и Федор Михайлович в лучшие моменты на священника был похож. На картинах и памятниках всегда выходил каким-то скомканным, корявым – эту скомканность и рефлексию Миронов и играет.
Владимир Хотиненко в сериальской своей ипостаси будто переживает второе рождение – в Миронове воплотясь. Вместе они сделают Ленина в «Демоне революции», пока вместе разыгрывают Достоевского. Много написано о том, сколько у Тарковского в «Зеркале» поставлено кадров под Вермеера и Брейгеля (да и грех не заметить) – и совершенно все молчат, насколько кадр «Достоевского» цветом и композиционно построен под самых угрюмых из русских передвижников, Перова, Крамского и Ярошенко. Серый, специально Достоевским поминаемый снег. Серые арестантские робы. Серые шинели. Кибитки. Сюртуки. Булыжник. Колоннада Казанского собора. Какая-то особая серая желтизна богоугодных домов – такой цвет у Мариинской лечебницы для бедных, где Ф.М. родился и где теперь его музей-квартира. Когда в зачине каждой серии Перов пишет знаменитый Третьяковым заказанный портрет Ф.М., играет его тоже художник – мультипликатор-«оскароносец» Александр Петров[10], действительно на Василия Григорьевича дивно похожий, и это назначение – само по себе высший режиссерский пилотаж.
Достоевский понурый. Достоевский исповедальный. Достоевский горячечный. Достоевский в удаче – в прапорщики произведенный, сменивший бескозырку на фуражку, а солдатскую шинелишку на офицерскую с воротником.
Достоевский на эшафоте.
Набоков легко и виртуозно ловил его на путаности проповедуемой христианской доктрины, мазохизме героев и поэтизации страдания, фантомности всех его безусловно положительных персонажей от Зосимы до Алеши – но это была всего лишь его фирменная ловля бабочек, суетная и ненужная. Равных Достоевскому в проповеди самого фундаментального христианского закона ни в русской, ни в мировой литературе нет и, видимо, уже не будет. Хотиненко с Мироновым удалось особенное. Снять и сыграть житие подлинно святого великомученика, чьи грехи ничтожны, страсти поучительны, а отсутствие официальной канонизации кажется недосмотром погрязшего в мирских заботах клира.
За такое встарь Госпремию давали – да и сейчас не грех.
Постой, паровоз
«Анна Каренина», 2017. Реж. Карен Шахназаров
Полтора столетия, отделяющие нас от романа, радикально переиначили его прочтение и месседж.
В белом мире вслед за советской Россией увял Бог, а с ним и святость скрепляемого им брака. Люди встречаются, люди влюбляются-женятся самотеком, а клятвы небу если и дают, то впроброс, для семейного видео. Свято место занял сексуальный инстинкт, религиозным чувством не стесненный. Русская революция отменила частный капитал – сделав балы, экипажи, наряды и анфилады, глубоко безразличные автору, одной из главных завлекалочек его сочинения. Демократизированный социум России и зарубежья распался на иногда читающих женщин и не отлипающих от спортивных каналов мужчин – так роман, который многие не без основания считают главной книгой человечества (со строчной, разумеется), сделался женским чтивом: из мужчин современной России его, за вычетом статпогрешности, не читал НИКТО.
Для Толстого Анна – любимая грешница. Он плакал, написав ее смерть, но кару считал заслуженной. Первая же фраза романа – эпиграф из Писания «Мне отмщение, и аз воздам» – массам неведома, ибо в экранизации ее не вставляют, а в книжку большинство не заглядывает.
Девочкам же, открывающим роман в 19 лет, Анна Аркадьевна видится зрелой гранд-дамой, бросившей вызов условностям века и мужу-тирану преклонных лет. Церковь для них – пережиток абсолютизма, надобный для удержания в узде черни (полное совпадение со взглядами Стивы). Вронский для них – идеал мужчины, красивый, богатый и чувствительный. Левин и Бог – нудная нагрузка к истории блестящего адюльтера с балами, скачками, внебрачными детьми и двумя самоубийствами на амурной почве.
Забавно, что с виду набожный Голливуд сто лет экранизирует роман с тем же либертарианским подтекстом.
Толстой бы за такие трактовки долго порол вожжами.
А Шахназаров Карен Георгиевич взял да и узаконил это девичье прочтение, смазав авторский посыл и создав тем самым гениальную провокацию: авось кто-то да возмутится и усадит неучей за книгу.
Утомил проповедями Левин, которого следует читать через «ё», ибо это авторский протагонист? В аут Левина. Мешает страсти церковь? Побоку церковь. В фильме не крестятся ни над покойниками, ни за трапезой, в колокола не звонят, и лишь на голых телах виден гайтан, но тоже без крестика, чтоб не мешался. Люб Вронский, явленный в романе бесстыжим самцом, которого извиняет лишь неудачный выстрел в себя? А пусть повествование ведется от его лица годы спустя посреди русско-японской кампании.
Лишь в обозначении возраста режиссер не идет на уступки массам, а следует букве романа. Анне 26 лет. Это довольно юная особа, захваченная чувством, которое считают предосудительным не только свет и церковь, но и сам Толстой. Старику же Каренину, которого все экранизаторы с целью смягчить Анне интрижку делают развалиной, – 46. Он полный ровесник Лео ди Каприо и Влада Сташевского и на 11 лет моложе Джонни Деппа. Так что страдающий монстр, каким играет Алексея Александровича весьма нестарый Виталий Кищенко, – лучший Каренин из всех дотоле виденных. И глаза у него больные и мокрые. И вспоминается ипполитовское: «Наденька, уйми этого типа, иначе это все плохо кончится». Плохо и кончилось.
Что до несоответствия Елизаветы Боярской коллективным грезам об Анне – то рождены они не романом, а прежними экранизациями и воздушным имиджем унесенного сословия. Толстовская Анна – женщина-праздник, московский луч света на студеном питерском ветру, единокровная сестра весельчака Стивы и урожденная Облонская. Это как раз отмороженные Грета Гарбо, Кира Найтли и Татьяна Друбич не ложатся в роль, а не душенька Елизавета Михална. Она ж, ко всему, и актриса: сыгранная без единого слова, на полупоклонах и переглядках, сцена в театре есть высший исполнительский пилотаж.
Наивысших же оценок заслуживает работа оператора Александра Кузнецова. Встреча Анны с Алексеем на балу, когда вся округа, словно в «Вестсайдской истории», уходит в расфокус, а резкость наведена лишь на двоих. Отъезд камеры на общий план после первого объяснения Анны с мужем: она в дверь, он спиной к жене смотрит в окно, – восходящий к стилистике классических книжных иллюстраций. Чинный обед семейной пары, снятый сверху от стосвечовой люстры. Сноп света в ангар вокзала в миг прибытия Анны в Москву.
Постановка выглядит образцом советского олдскула, в котором умелая режиссура, эффектные актерские партии и операторские изыски часто микшировали огрехи основных сюжетных ходов. На финт с адаптацией Толстого постоянный шахназаровский соавтор А. Э. Бородянский не пошел – а из Алексея Бузина диалогист вышел как раз по девичьим запросам. Слова «любовь», «любимый», «полюбил» повторяются у него по 280 раз на серию – что представляется единственным системным проколом картины.
Но девочкам нравится – а на остальных рассчитано и не было.
Вы никогда не уедете из нашего города
«Шерлок в России», 2020. Реж. Нурбек Эген
Что первым делом в России Холмс вляпается в коровью лепеху, стало ясно уже на второй минуте, когда он унюхал в Сохо русскую махру.
Само вляпывание произошло на девятой.
Это совершенно перебесило патриотов России (автора заметки в том числе), но патриоты обплевались и выключили, а автор включил добросовестность, ибо знал, что соавтор сценария – художник Шабуров из группы «Синие носы», главный холмсовед страны, участник установки монумента сыщику у британского посольства и сторонник версии, что на пенсии тот поселился у нас, а Ирен Адлер оказалась хохлушкой (еще бы, с такой-то фамилией).
После вляпывания рассердившая русофилов русофобия унялась. Холмс оказался невротиком с галлюцинациями (Максим Матвеев), русский Ватсон – блестящим полемистом доктором Карцевым (Владимир Мишуков), а Ирен Адлер – одной из родственниц Старшенбаум, в которых и сам Холмс бы запутался.
Но главное – Петербург викторианского века вышел точной копией Лондона, что вполне соответствует действительности. Та же спесивая аристократия и пьющий плебс при минимальной прослойке буржуа. Та же бескрайняя клоака платного греха без французского профурсеточного шарма. Гигантская имперская армия, к которой имеет отношение половина мужчин всех сословий. За колонну Нельсона – Александрийский столп, за собор святого Павла – Исаакий, за адмиралтейство – адмиралтейство. Думал попасть в снега – попал в лондонскую мокреть почти на той же широте.
Обычные апломбированные сентенции Холмса обо всем на свете, включая Россию, влегкую высмеиваются Карцевым, причем отдельные реплики достойны «отливания в граните». «Знаете, кого вы мне напоминаете? Этот город, Петербург. Вы так же, как и он, пытаетесь разделаться с хаосом с помощью порядка – и у вас так же ничего не получается» (слышится дружеское ехидство Шабурова или его соавтора южносахалинца Маловичко; питерский бы так никогда не написал). И дальше: «Вы не победите хаос, пока окончательно не растворитесь в нем».
Правда же, классика?
По завету, каждые две серии, отпущенные на раскрытие нового дела, венчает день сурка: ритуальное прощание с доктором, сбор саквояжа, вызов извозчика – и столь же ритуальный звон дверного колокольчика: Англия подождет. «Но я не могу в одиночку искоренить всю российскую преступность!» – крикнет бедолага, сознавая смехотворность аргумента. Сожрет натощак кулебяку с требухой, хоть и считает, что «этих слов на русском нет», а просто их выдумывает Ватсон-Карцев, чтоб его позлить. Научится говорить «благодарствуйте», сидеть «на дорожку», пить «посошок» и отзываться на Шерлока Варфоломеича (о сэре Бартоломью Холмсе ничего не известно, но Шабуров не даст соврать). «Это элементарно, Холмс!» – воскликнет ему наш Лестрейд, сыскной идиот г-н Трудный, в роли которого неотразим почувствовавший вкус к клоунаде Павел Майков. Сменит трубку на стопку. Притрется к населению. «Это ничего, что нерусский», окончательно удостоверит его благонадежность квартирохозяйка мадам Мануйлова.
Авторы, профессиональные беллетристы, под присмотром продюсера Цекало весьма ловко смешивают архисложный коктейль из фарсовой темы «иностранец в России», революционной ситуации, дедуктивного дидактизма (искусство логических цепочек никто не отменял) и традиционной пересмешки над сыскным каноном. Шефа криминальной полиции зовут Петр Порфирьевич, городовых Стычкин и Лагашкин, а компаньоны попадают в криминальное чтиво бандитского Петербурга в качестве «пьянчужки-доктора и комического британца». Режиссер Эген, даже в фамилии которого слышны английские отголоски, сеченым монтажом и укрупненной фрагментацией (ноги на мостовой, скошенный глаз, замедленный мах шевелюры в драке) удостоверит комиксовую природу новой версии. «Это ничего, что нерусский», скажет после пары серий мадам Мануйлова.
Натурализовав и русифицировав графа Калиостро, физика Понтекорво, писателя Гашека и несколько тысяч болельщиков, так и не уехавших от нас после чемпионата, родная воронка всосала и легендарного сыщика. «Я не прощаюсь, Холмс, а вы не уезжаете», сказала ему одна из Старшенбаумов, и он не уехал.
Мудрено ли, что Краснохолмскую набережную в Москве краеведы с тех пор зовут Краснохолмсской?
Там, кстати, и до посольства Ее Величества рукой подать.
Часть 2. Позавчера
Смута: от разночинцев до НЭПа
Гражданская свара не кончена. В стране, где рабовладение длилось до середины XIX века, инерция господской ненависти к необразованным лицам физического труда дожила до XXI-го – причем в среде выучившихся плебеев, и краем не касавшихся до дворянства. Недочеловеку, как и в сегодняшней Европе, разрешено жить, размножаться и немножко зарабатывать. Но представить, что он распрямится, возглавит страну и ответит за голод, кровавое воскресенье и виселицы во всех губернских городах – это выше разумения. За это анафема вечная. Проклятье в веках мастеровщине от белой кости.
Дистиллированный социал-фашизм.
Между тучами и морем реет чеховская чайка
«Пансион», 2022. Реж. Святослав Подгаевский
Исстари мир закрытых школ для благородных девиц с их похотью, пошлостью, порками и подглядками был ходовым сюжетом софт-порно – и только участие в проекте хоррормейкера Святослава Подгаевского, способного переводить низовые инстинкты в ранг художества («Пищеблок»), требовало к фильму повышенного интереса.
Тип истероидной брюнетки захватил Россию на прошлом рубеже веков. В то время как набожная Америка сходила с ума по мимишечным, порочным в своей инфантильности куколкам Лилиан Гиш и Мэри Пикфорд, страна индустриального надлома выбрала в героини Веру Холодную и томный романтизм умирающих лебедей. О них писали Горький и Блок, на них женились миллионщики, черным глазам посвящали романсы и портвейны. В поэзии безраздельно царили нервические колдуньи Ахматова, Цветаева, Лохвицкая и Гиппиус, образом вдохновлялись даже передвижники («Незнакомка» Крамского, «Курсистка» Ярошенко), а тем более мирискусники Врубель, Бакст, Сомов и – частично – главный камертон отмирающей эпохи Валентин Александрович Серов («Портрет Иды Рубинштейн»). Со временем демонический магнетизм воплотится в царствующих одалисках мировой революции Рейснер, Арманд и Коллонтай. Половину в дальнейшем ожидаемо съест суицид и чахотка, другую – эмигрантская мизантропия.
Все это следовало учитывать (и Подгаевский учел), подступаясь к истории шепотов и криков уединенного пансиона для провинившихся светских отроковиц. На дворе серебряный век, школу содержит мадам Захарова, сплав бандерши и статс-дамы, Аракчеев в юбке (Виктория Толстоганова). Воспитанницы подстригают розы, читают патриархальные уложения и уделяют внимание дворнику Серафиму в исполнении вечного полубеса нового кино Дмитрия Чеботарева («Рок», «Карамора» и т. п.). Царит бабовщина, бархатный террор и противоестественные наклонности, насаждаемые доминантными брюнетками Елизаветой Шакирой (Катя), Валерией Зоидовой (Вера) и Кристиной Корбут (Настя), которым противостоит новенькая с тайной и стилетом Стася Милославская (даже имена исполнительниц будто заимствованы из прозы вековой давности про баядерок и цыганок-ворожей). Девочки то принимаются надрывно хохотать, то исчезают по одной – полностью соответствуя антуражу тусклых комнат и поросшего ряской фонтана.
Конечно, стиль такой картины (при идеальном кастинге и выверенном сценарии) наполовину определяет художник. Злата Калмина искусно выдерживает мутно-аскетичную «достоевскую» атмосферу, нарочито слабоосвещенный упаднический мирок. Тревожно взлетают птицы, девочки тайком декламируют бодлеровские «Цветы зла» (чтение, помимо духовного, не приветствуется, отвлекая от добродетели). На титрах все портит лобовая до неприличия песня «Татушек» «Я сошла с ума, мне нужна она» – возвращая события от мистики к софт-порно. Музыкальные вкусы молодого зрителя примитивны и притом устойчивы, рэп приходится терпеть в каждой, пусть и приличной, юношеской постановке как маркер молодежности. Какая-нибудь вкрадчивая ироническая баллада в стиле куртуазных маньеристов тут подошла бы больше – но исход выбора меж Мумий Троллем и Земфирой заведомо ясен: девкам душевную рану подавай.
В любом случае, Вадиму Соколовскому, Илье Бурцу, Василию Балашову и всей продюсерской группе респект. Призрак будущих бурь в картине угадывается, но нигде не обозначен вербально (что все бы моментально опошлило, но от чего бы ни за что не отказался продюсер Цекало). Ни слова о марксизме, ни слова о бомбизме и грядущем хаме, одна только развратно-декадентская интонация фильма «Про уродов и людей».
Где-то в то же самое время у Чехова чайку подстрелили – и это подсознательно чувствуется. Вот и довольно.
Кто не спрятался – я не виновата
«Анна-детективъ», 2016. Режиссеров много
Девицам на выданье нравится считать себя ведьмами и будоражить воображение женатых мужчин. Если у тебя глаза навыкате (а у актрисы Никифоровой как раз такие) – одно удовольствие гипнотически впиться в собеседника, прорицать его прошлое и будущее и раскрывать леденящие кровь тайны посредством общения с духами. Туману напустят, голосом замогильным ухнут, защекочут до икоты и на дно уволокут – недаром одного из персонажей сериала зовут Владимир Семенович. Конечно, шашни с нечистью, сеансы связи с усопшей родней и потусторонние граждане с мелованными лицами не идут на пользу молодому организму – отчего юниц, склонных к свечам, омутам и книжкам по оккультизму, не без оснований считают малахольными. «Замуж бы вам, барыня», простодушно брякают им деликатные няни и дворники, имея в виду другое, прозаическое. Но с замужем как раз бывают сложности, если девушка с воспитанием и из хорошей семьи.
Миронова Анна Викторовна – как раз из семьи хорошей, старорежимной. Дочь адвоката, нигде не учится, ходит на пруд утопленниц считать и всячески способствует следствию по убойным делам, план по которым в провинциальном Затонске рубежа веков выполнен на многие десятилетия вперед. То есть исполняет все, что надобно хорошему сериалу с твердым знаком. Твердый знак у нас в кино означает верность традициям сильной России с крутонравным купечеством, обходительным дворянством и степенным духовенством как основой национального согласия – поэтому суют его в фильмах о дореволюционной эпохе совершенно куда ни попадя. Россия тех лет, признаться, была довольно слаба и кончила плохо – но авторам синематографа девичьих грез и магниевых вспышек это неприятно, и марксистские кружки со всеобщими стачками они норовят обойти стороной. Куприн и Бунин вот тоже обходили – а какие были писатели, не нонешним чета (оба, впрочем, дообходились, но то совсем другой разговор).
Историческая проблема сериала совершенно в ином. Возлюбленные авторами хиромантия, астрология, спиритизм, оккультизм и шаманизм в отдельных районах Севера, распространившиеся в тогдашней России до чрезвычайности, свидетельствовали о массовом душевном нездоровье, сопутствующем переломной эпохе. Свою веру создавал Толстой, свою – Гиппиус с Мережковским, секты, ереси, черные мессы и производные психозы в голос сигналили о кризисе господствующей церкви, чья сцепка с правящим домом и тотальное вмешательство в дела искусств и школы делались натурально невыносимыми и должны были черт знает чем закончиться (тем и закончились). Однако предельно ясно, что духовенству аннушкины рандеву с духами и прочая бесовщинка не пришлись бы по сердцу – отчего православный клир в городе Затонске отсутствует вовсе. Батюшек на смертных случаях нет, крест над трупами кладут через три раза на пятый (да и то чаще темная прислуга), у дам в декольте любые украшения, кроме креста, а в плотной звуковой гамме зябликов, медведок, ворон и собак слыхать что угодно, кроме благовеста к заутрене, обедне и вечерне. Раз попы инфернальному сыску помеха – так пусть их как бы и вовсе не будет, один сплошной хэллоуин с твердым знаком на конце.
В остальном сериал удался совершенно. В пару к мистической дознавательнице Ане измыслен сыскной чиновник заоблачного класса Яков Штольман с демоническими чертами русского Холмса (Холмс из артиста Фрида преотличный да и красив, зараза, девичья целевая аудитория в ауте). Провальный пилот режиссера Карро со стоячей камерой, заунывными диалогами и повсеместными, для колориту разбросанными «честь имею» и «засим позвольте откланяться» – в дальнейшем искусно преодолен господами сорежиссерами Герчиковым и Семеновым до полного забытья. Убийства из корысти, чести, мести и страсти выдуманы виртуозно и обставлены так, что подозреваются все. Есть и обычные для ретро-сериалов шалости с призраками национальной культуры: кроме Владимир Семеныча, в деле участвуют Николай Васильич (куда ж без него на мистическом канале-производителе ТВ-3!), отроковица Соня Молчалина (не иначе, в прежней жизни Фамусова), а первой же убийцей оказывается вдова Ульяна Тихоновна Громова[11] – шуточки спорные, но в сериале о пограничье с бесами допустимые.
А если без обязательных для жанра красивостей – город времен индустриальной революции, в котором Бога нет, серийные убийства творятся ежеквартально, а расследуют их демоны, призраки и бесконвойные ясновидящие девы, заведомо обречен.
Все, как в жизни.
Левосудие
«Победители», 2017. Реж. Александр Баранов, Ангелина Никонова
Фильм о суперстарах русской адвокатуры 1895 года рисует складный, но взбаламученный чеховский мирок. Цунами страстей в блюдечке извозчичьего чая, горячего и с баранкой. Гордыню, месть, вожделение, тщеславие очень второстепенных людей первого года последнего царствования Российской империи. Пожары – в лабазах, убийства – в борделях, месть в погорелых театрах и дуэли с полковым хамлом в чахлых рощицах. Мещанскую хронику, которой не дают опуститься на самое дно три блестящих насмешника-адвоката с примкнувшим стажером – мушкетеры отечественной юстиции, слегка усталые от окружающей дурнины и мелкости непотребства. Мир, где, как и у Чехова, нет ни революции, ни гнета самодержавия, а наличные прогрессисты совершенно не воспаляют воображения, как и ростовые портреты Первого Лица в присутственных местах: они там уж третий век висят обоями, с меняющимся рисуночком выше воротника.
А чтоб наглядная связь с последним гением империи стала совсем очевидной, в крайнем процессе судят лично доктора Старцева – чеховского Ионыча, который исправно посещает бордель, теряет запонки и, как все Ионычи, совершеннейше ни в чем не виноват, кроме общей бескрылости, что не есть грех и предмет уголовного производства.
В России никогда не умели ставить Толстого (впрочем, и нигде не умели), но Чехов получался просто превосходно – от «Медведя» и «Свадьбы» до балаяновского «Поцелуя», считая и «Даму с собачкой» (ай-яй-яй, какая была «Дама»!), и соловьевское «Семейное счастье», и «Неоконченную пьесу для механического пианино»: малость трагедий как-то особенно созвучна была разночинному интеллигентскому мировоззрению. И драматург господин Константинов, и постановщики Баранов с Никоновой отменно длят это российское ноу-хау: отражение нации в репортажах «из зала суда». С чушью, дичью, самоотверженностью и подвывертом сугубо рядовых граждан, за что отвечает Баранов («Трое», «Участок», «Женщина дня») и фрейдистскими дамскими закидонами, в которых огромный опыт у Никоновой («Портрет в сумерках»). Антон Палыч до феминизма и семейного хищничества был крайний насмешник, и здесь дамскому хайпу достанется по первое число.
И конечно, первая тройка петербургской защиты – адвокаты Андронов (Никита Панфилов), Роскевич (Никита Ефремов) и Заварзин (Евгений Антропов). Самцы, златоусты, змеи и подлинно эстрадные звезды, обожаемые галеркой и чтимые в партере. На пять уголовных дел – четыре задержания подлинных виновников в зале суда с изобличением, признанием, приговором и освобождением облыжно обвиненных на руки родне. Случись второй сезон, эта схема способна и поднадоесть – но в первом не надоедает ничуть, а дальше г-н Константинов что-нибудь изобретет, у него с выдумкой все отлично. И непременное рассматривание звездного неба в телескоп после выигранного процесса – Холмс вот у камина грелся, сентенциями разбрасываясь, а эти в небо смотрят, метафизику щупают: Бога, может, и нет, как новый век утверждает, но что-то стабилизирующее требуется. Баланс.
Ради баланса им с обратной стороны Луны, а особенно в полнолуние, по возможности содействует контрагент – прокурор Гущин Филипп Игнатьевич (Федор Лавров), чистый Порфирий Петрович, инкуб с острыми сатанинскими ушками и в круглых черных очках учителя Беликова, которому адвокаты процессуальные враги, но истина дороже, тем и ценен. А еще тем, что он биологический отец незаконнорожденного д'Артаньяна стажера Волохова (Александр Сетейкин) и попечением своим отрока не оставляет. А скрытые семейные связи и родственные влечения еще не вредили ни одному сериалу, хоть в Мексике, хоть у нас.
Довольно тонкое и виртуозно двусмысленное название сериалу, скорее всего, повредит: в сетке НТВ такой титл обычно значит либо похождения морского спецназа, либо опергруппу быстрого реагирования, которых мы уже видели раз 28. Но на то и критик в стае, чтоб обратить внимание общественности на редкого качества и глубины продукт и на то, что в связке с продюсером Акоповым (буде она состоится) у канала просто сказочные перспективы.
Они ж там реформируются потихоньку, по новостям видно.
По хронике вот той самой, что есть лицо нации.
У шалуньи Насти сердце полно страсти[12]
«Куприн. Яма», 2014. Реж. Влад Фурман
О Куприне вечно ходили толки: большой он автор или только поднявшийся над общим уровнем наблюдательный беллетрист. Склонялись ко второму – но регулярность споров оставила вопрос открытым.
Особенно он, конечно, импонировал юношеству. Романтическим самоедством героев. Снисходительным отношением к самочке. Унылым постоянством разгула – в «Яме» и «Гамбринусе». Глубокой и всегда односторонней любовью к дикарке или замужней особе – в «Олесе», «Поединке», «Гранатовом браслете». Наконец, репортерством без границ – бесстыжим касанием самых трефных, оскорбительных и оттого манящих тем: розги, платной любви и самоубийства.
«Яма» – предмет негаснущего мальчикового интереса. В зеленых библиотечных шеститомниках пятый – самый читаный-растрепанный, всегда. Начинающие авторы первым делом несут в газету либо фельетон о школьных завтраках, либо объемное эссе о проституции. Фельетон печатают, эссе не глядя выбрасывают в корзину.
Поведением тоже побуждал к снисходительности. Вечными россказнями о родстве с татарской знатью. Откровенным любованием собою в прозе – этакий всезнающий медведь-репортер, который пьет ведрами, любим срамными девками, видит шпионов насквозь и каждому готов дать в рог. Бравым фотографированием с саблей в обрюзгшем 47-летнем возрасте. Встречами с Лениным, потом оголтелым поношением его в эмигрантской печати, потом стоянием на его Мавзолее на ноябрьском параде-1937 (а между прочим, ровесники, одногодки).
Какая-то мутная, вязкая дурь, которой и так полнится его проза.
«Есть культура ума и культура сердца, – писал о нем Георгий Адамович, – и насчет того, на какой высоте находилась у Куприна культура первого рода, позволительны сомнения. Но сердце у него было требовательное, как будто перечувствовавшее многое из того, с чем не справился ум».
Понятно теперь, отчего его взялся ставить Первый канал. С культурой ума и там большие проблемы, зато с культурой сердца полный порядок, даже и с погрешностями против вкуса – а нешто у Куприна их нет?
Состраивание всего корпуса текстов в единую фреску дооктябрьской жизни – весьма удачный продюсерский ход господ Эрнста и Евстигнеева. Пиши автор больше – вышла б у него бальзаковская панорама забубенного русского капитализма. Однако в эмиграции он возлюбил Россию, которую потерял, и пристрастные труды свои похерил. Но и сохранившиеся дают объемную картину – довольно, признаться, безрадостную.
Блуд, глум, загул. Суесловие. Попранное достоинство. Полицейщина с растопыренной лапой. Содом, который взыскует потопа. Потоп и пришел, но Куприн его почему-то не принял. Писал, что большевики обобществляют женщин. Из уст автора самой читаемой книги об общих женщинах звучало странно.
Девок играть привлекли лучших исполнительниц среднего возрастного звена: Агурееву, Екамасову и Ходченкову. Мужчин – скорее, антрепризу: светский резонер – Симонов, околоточный держиморда – Каморзин, студентик с дрожащей губой – конечно, Шагин (Лихонин в книге выглядел несколько иначе, но типаж спасителя падших душ у Шагина убедительней). В роли благородного старца явился сам Леонид Кулагин, игравший всех благородных старцев нашего кино даже в сравнительно молодом возрасте – в том же «Дворянском гнезде» пятьдесят годочков назад. Слегка насупленное детское простодушие Михаила Пореченкова отлично подошло для роли самого Куприна.
В следующих сюжетах от театрального режиссера Фурмана франшиза перешла к ценителю старины и психологизма Андрею Эшпаю («Шут», «Униженные и оскорбленные») и наилучшему знатоку гарнизонного быта и воинского куража Андрею Малюкову («В зоне особого внимания», «Диверсант»). Тот же Адамович когда-то передал купринскую литературу одной фразой: «Был вот такой случай, а бывают, знаете, и такие случаи».
К сборной солянке его историй – наилучший эпиграф.
Если б случился у франшизы успех – можно было б немаленький эпос заделать.
Случаев Александр Иванович расписал премного.
Вечный зов монет и русалок
«Угрюм-река», 2021. Реж. Юрий Мороз. По роману Вячеслава Шишкова
Шишкова Есенин назвал в числе шести крупнейших писателей, пришедших с революцией. Кроме него, помянул Зощенко, Пильняка и Бабеля: о Шолохове с Булгаковым тогда и слуха не было, а третий Толстой еще не пришел.
Десятью годами позже Шишков опубликует свой главный роман «Угрюм-река», где достоевщины нагонит, сколько Ф.М. и не снилось. Отец и сын пользуют одну и ту же сибирскую Кармен и убить друг друга готовы, но убивают ее. Сын женится на девице, чьих деда с бабкой зарезал его собственный пращур. Все венчается Ленским расстрелом, порождением сатанинской жадности героя-хозяина. Есенину, поклоннику Пугачева с Махно и любителю кидать баб в надлежащую волну, понравилось бы. Сталину, роже каторжной, тем более. Пильняка с Бабелем его люди убьют, Зощенко облают, а Шишкова не тронут: пусть. Впрочем, при тогдашнем курсе кинематографа на солидарность бедняков (названную в дальнейшем неореализмом) время славить барыг-миллионщиков придет только 35 лет спустя.
Будь у нас в те дальние 60-е годы критика и политология, они бы непременно зафиксировали натуральный правый откат. Города в ходе мощного послевоенного перетока селян стремительно окулачивались. Косыгинский НЭП открыл не только возможности крупных заработков (севера, нефтянка, гражданский флот), но и масштабных трат. Кино вспомнило про хватких сибирских бородачей-освоителей и первым – именно тамошнее. О заштатной Свердловской киностудии и помину б не было, каб не Ярополк Лапшин и его первая в нашем кино сага об оголтелом русском биг-бизнесе «Угрюм-река» (а после – «Приваловские миллионы», а еще после – «Демидовы»).
Что же толкнуло к повторной экранизации страну, уже прошедшую первичный искус капитализма и досыта навидавшуюся жадных устроителей Сибири и своего кармана? Правильный ответ: бабы. Колдуньи-ворожеи-русалки, коими так любит воображать себя отсталая часть женского племени. Ведьмачество, омуты, зелье, приворотный хохот, которого так много было у Шишкова и так мало у материалиста Лапшина.
Не след забывать, что столбовой, определяющей, марочной аудиторией Первого канала-производителя являются тетки. Телевидение, за вычетом спорта, у нас и так на 80 процентов женское – так ОРТ субботней сплетней, феминистскими ток-шоу, коньками со звездами и симуляцией судебных скандалов, кажется, отпугнуло от экрана мужчин вовсе. Отсюда выбор сценаристки Сапрыкиной для адаптации сугубо мужского романа (даже милицейские боевики на ОРТ пишут женщины) и густая смесь перебранки, сантимента и внезапного морализма в совершенно бесстыдной истории. Сибиряки в самой дикой глуши купаются в кальсонах. Влажные грезы Прошки по голым Анфиске, Таньке и Нинке изъяты для сбережения общественной нравственности. Напоказ живущая с богачом Анфиса после ночи падения заказывает баню, чтоб смыть грех (дикая сапрыкинская отсебятина). Да еще требует с хахаля за любовь новую избу, которую в романе он ей отгрохал сам. Из волнующей мужские сердца ветреной чертовки героиня превращается в потаскуху с припадками ложной стыдливости – любимый персонаж кумушек; такой ее и играет Юлия Пересильд.
32-летняя Софья Эрнст в роли гимназистки Нины возбуждает здоровый интерес: с чего так заневестилась дочь барышника, в такие-то годы ни разу не бывавшая замужем? Прохор, 18-летний в романе, исполнен Александром Горбатовым в те же 32 и выглядит сущим дурнем со своей манерой плясать по всякому поводу и дважды в серию бахвалиться завтрашней силой и капиталом. Что простительно мальчишке – довольно странно звучит из уст сивоусого дяди Саши.
Сибирь требует от неподготовленных натур удали и разгула. В дальней деревушке Иркутской губернии откуда-то берется цыганский хор. Поп в масленицу попрекает мирян блинами (!!). От смерти в тайге героев спасают не якуты, а неизвестно как проехавший обоз с бубенцами. Временами кажется, что все это сочинил американец, который без цыган, блинов, троек и разорванного в порыве страсти женского белья Россию вообразить не в состоянии.
Деревенские ругаются словом «деревня».
Городовых за глаза кличут полицаями.
Старший Громов, словно Киса Воробьянинов, швыряется по деревенской улице деньгами.
Штамм подступающего вирусного идиотизма начинает всерьез угрожать мозгу – а ведь прошло только четверть картины.
Как-то раз, услышав на одном из просмотров с экрана: «Станция Березайка», товарищ Сталин сухо молвил: «Вот на этой станции мы и сойдем». И ушел.
Первый канал по случаю женского дня успел показать четыре серии из шестнадцати. На этой станции мы и сойдем.
Шишков простит.
Его ясные светлые очи
До конца разглядели врага
«Карамора», 2022. Реж. Данила Козловский
Сценарист Фомин, прежде киноведческой науке не известный, создал новую космогонию (у них, у космогонистов, тема, что ли, такая – возводить род к Фоме неверующему? Предыдущего звали Фоменко).
Так вот, Фомин объяснил русский XX век закатом правящего в Европе вампиризма. Будто бы кровососущие завелись в царствующей династии с Петра I, падкого на греховные инновации и прозванного за то Антихристом (в Европе же сие безобразие родственных монархических домов процветало давно, и возраст правящих дам Великобритании от Виктории до Елизаветы лишь подтверждает спасительную догадку). Клан посвященных был мал и узок, и неизбежное кровосмешение привело к вырождению царской породы: последний цесаревич уже не годился совершенно ни к черту, чему есть медицинские свидетельства. Тут-то, стало быть, вампир Столыпин и предложил обратное вочеловечивание во имя сохранения власти – каковой либерализм и взбесил упырских ортодоксов во главе с князем Юсуповым. Путь назад в людское племя якобы знал душевед Распутин (за что его и грохнули) и граф Толстой, сам из них же (раз уж граф), но превозмогший дурную склонность путем самосовершенствования (объяснение долгожительства Л.Н. и поведения приставленного к нему Черткова вурдалачеством немало позабавит литературоведов). А революцию, значит, поначалу делали нормальные ребята, хоть и бешеные, но по ходу тоже заразились вампиризмом и стали пить кровь народа, чего прежде за ними не замечалось.
Вот ты какая, диалектика материализма.
Герой взят не верующим ни в царя, ни в генерального секретаря Фоминым из рассказа Горького, в которого Фомин тоже не верит – ибо Алексей Максимович утверждал, что человек звучит гордо и рожден летать, а большевики ему поддакивали, являя на практике совсем иные примеры. Карамора убивает всякую начальственную нечисть и параллельно сотрудничает с охранкой, помогая ей истреблять совсем уж зарвавшихся отморозков. Притом добрейшей души человек в исполнении положительного во всех отношениях Данилы Козловского (он же и режиссер). Борьба с вампиризмом смещает нравственные акценты и перетягивает на светлую сторону истории и Распутина (изгонял бесов из царской семьи и пал на посту), и эсера Богрова (настиг вампира Столыпина по наколке бесогонов-жандармов), и самого товарища Кобу (добывал средства на святую инквизицию, но был испорчен денежным вопросом). Теория, оправдывающая зло его борьбой с уже абсолютной чертовщиной, в такой степени затронула сообщество, что объединила на проекте сразу два продюсерских клана: склонный к эзотерике Квартет «Л» (Илоян-Шляппо-Жалинский-Троцюк Алексей) и социокритический дуэт Федорович-Никишов (столь небывалый союз сродни вступлению в антигитлеровскую коалицию Соединенного Королевства с СССР и альянсу «Пепси-колы» и «Кока-колы» против лимонада «Буратино»).
Вампирская линия, как сказал бы о тех же временах потомственный долгожитель Н. С. Михалков, многое объясняет. Аморализм и растление начала века из иррациональной бесовщины, взыскующей небесных кар, превращается в естественный ход вещей: вампиры, стало быть, воду мутили, а другие вампиры им по шапке дали, чего неясного. Подозреваемое сотрудничество многих перечисленных лиц с охранкой в условиях борьбы здоровых сил с вурдалачеством перестает быть предосудительным: надо ж нам, натуралам, что-то с этими гадами делать! Повальное истребление высших классов сначала в революцию, а после на сталинском великом переломе тоже получает мотивацию: будь бдителен, товарищ, вампиром может оказаться каждый! Из противоестественной хрени всеобщего национального взаимопомутнения русский XX век становится хренью кристально ясной и материалистически необходимой.
И только постоянные намеки авторов на современность, все эти экивоки с разгоном демонстраций дубинками, отменой призыва, «раскачивание лодки» и «Константинополь наш»: мол, не выжжены еще вампиры каленым железом, вон они в Кремле, вон! – представляются глубоко порочными. Тащить уже доигранный век двадцатый сюда в двадцать первый – это, батеньки, совершеннейшее бесовство и постмодернизьм.
От этого ипохондрия делается.
Как сказал классик: от разных глупых сомнений.
И виденье оказалось грубым мужиком
«Григорий Р.», 2014. Реж. Андрей Малюков
Восемьдесят лет о бешеном старце снимались кинокомиксы разной степени клюквенности, благо история располагала. Сиволапый мужик, Богом избранный, царем обласканный, врагами стреляный и в блуде с колдовством замешанный, был для европейского ума идеальным воплощением темной, магической, пассионарной и саблезубой Руси. У людей, для которых вся она – Сибирь да Красная площадь (а таких, признаться, в белом мире подавляющее большинство), сладко замирало сердце от зловещих теней, державного рыка, спасенных августейших малюток и дикого русского пляса а-ля «Ivan the Terrible». Распутин стал мегазвездой жанра исторической порнографии, мощным колоссом возвышаясь среди стад Неронов, Калигул, Борджиа и маркиз де Помпадур. О нем сняли 8 фильмов с крестами, зенками, злыми вихрями и канунами бездн. Открыватель ящика Пандоры Рышард Болеславский («Распутин и императрица», 1932), как и все поляки, ненавидел Россию до утробного воя и в итоге подставил студию MGM под миллионный иск осевших на чужбине осколков царской фамилии – о чем всем полякам нелишне помнить и сегодня. Во Франции мемуары князя Юсупова экранизировал Робер Оссейн, урожденный Хусейн, – но сам, несмотря на внешнее сходство, играть Распутина не стал, а уступил немецкому гиганту Герту Фребе, известному по ролям секс-маньяков, Голдфингера и доктора Мабузе. В мультике «Анастасия» Распутин злым демоном кружил над крошкой-принцессой и заснеженной Россией, где, как всем известно, никогда не бывает лета.
Русский взгляд картину разнообразил не слишком. Элем Климов, от века тяготея к жанру «джалло», наиболее полно раскрыл тему интимных похождений человека-зверя, в остальном же придерживался классической демонологии в ее левацком изводе: вихри враждебные, темные силы, свальный грех и кризис верхов. Новая Россия (постановки «Распутин» и «Заговор» с Депардье и Охлобыстиным) сохранила дичь, мощь, похоть и биополе, но принялась ими гордиться. Врачевал? Врачевал. Пил свиньей? Пил. Министров ставил? Запросто. Стрихнину съел и не поморщился? Было дело. Настоящий русский характер – причем убитый педерастами, кокаинистами и агентами иностранных разведок. Сцену убийства, целиком почерпнутую из крайне сомнительных эмигрантских мемуаров князя Юсупова, никто уж и не оспаривает, принимая как данность и не действующие на русского богатыря цианиды, и отскакиванье пуль, и вылезание из проруби с свинцом в груди и жаждой порухи светлых начал самодержавия (наиболее адекватные исследователи полагают, что Распутин явился не на блуд, а на переговоры об отречении царя в пользу наследника, лоббируемые думской (Пуришкевич) и великокняжеской (Дмитрий Павлович) оппозицией, но там рассорился, задрался и был застрелен, а уж после и родилась вся легенда о высочайших помыслах и избавлении Руси от супостата пирожными с крысомором и осиновым колом в печень[13]). Разве что национальная боль заставляет сильнее напирать на гипотетические варианты: а если б старец выжил? а если бы скоренько исцелил наследника и стал при нем регентом? А Ленин бы поскользнулся и набил шишку? А воодушевленная армия перешла в контрнаступление и на Атлантическом океане свой закончила поход. А Юсупов бы перековался и основал придворный жанр фэнтези на полвека раньше американцев. И Россия бы совершенно расцвела на страх врагам, как она, впрочем, цветет и сейчас, пол-Европы в истерике.
Разворотов темы не предвиделось. История гипнотического шарлатана, просочившегося в высшие сферы на волне оккультного умопомешательства конца XIX века и убитого посредством серебряных пуль науськанными английской миссией педерастами из царской семьи, настолько смердила бульварщиной и компрометировала русский мир, что всякому не чуждому национального чувства россиянину оставалось ее только перекрестить и списать в архив. Довольно гадких страниц в истории любого народа. См. эпопею «Гибель богов».
Как говорится, ничто не предвещало – когда фильмом «Григорий Р.» Андрей Малюков полностью переиначил миф. Боян советского диверсионного спецназа («В зоне особого внимания», «Диверсант»), он не только допустил в антигерое русского эпоса подлинные экстрасенсорные способности (допускали и до него – что вовсе не красило персонажа; скажем, Депардье), – но и искусно поменял ракурс посредством канонической схемы «Гражданина Кейна»: сторонний объективный наблюдатель, исследуя жизнь мегазлодея, проникается к нему незапланированной симпатией. Учитывая не просто редкое, а почти не виданное на нашем ТВ качество драматургии, режиссуры, кастинга и исполнения, история сыщика, получившего от Временного правительства заказ на разоблачение злого демона самодержавия, восходит напрямую к библейской притче о прозрении неверующего Фомы – тем паче, что в сцене провидения грядущей войны старец снят на фоне хоругви, дикими очами и спутанной бородой крайне походя на Лик за спиной.
Владимир Машков играет едва ли не лучшую свою роль – не форсируя, в отличие от давешнего Алексея Петренко, ни жеста, ни экстаза; один только яд всеведущего мужика. В биографическом кино известны два пути: поиск портретного сходства (отличным Никсоном был бы Уоррен Битти) или мощный артистический темперамент, заставляющий в сходство поверить (Хопкинс в роли Хичкока или Козловский-Харламов). Малюков не правды искал, а творил контрмиф – и Машков в блестящей версии альтернативной истории оказался идеален.
С мягким неправильным выговором в роли императрицы чудо-хороша Инга Дапкунайте. Валерий Дегтярь «за царя» просто мил – ну так и персонаж его был просто мил, и только. На трагическом перегоне от феодального рабовладения к индустриальному капитализму страна досталась рядовому многосемейному бюргеру (за 200 лет заемных немецких кронпринцесс в Романовых не осталось и капли русской крови) – и дюжинностью своей сгубил и себя, и семью, и государственность, так что использование в этой роли О. И. Янковского или титана шекспировского театра сэра Иена Маккеллена выглядит неоправданным реверансом. Не в обиду Дегтярю будь сказано. Заурядность тоже надо уметь играть.
Отдельного почтения заслуживает беспартийность взгляда. В коллективном образе Романовых не читается ни покаянного благоговения, ни разночинного ехидства. Керенский и Юсупов – не герои и не карикатуры, хотя для последнего оснований больше. Столыпина, вопреки славянофильской моде, не облизывают. Действительность как будто отражена равнодушно-внимательным глазом сыскного чиновника II класса Генриха Николаевича Свиттена (Андрей Смоляков), вникающего в природу ушедших и грядущих безобразий. Что ценно. Сочинить из постыднейшего кича, в который превратилась на излете русская монархия, нечто пригодное и для историков, и для национального самоуважения – задача для больших искусников, неоднократно проваленная. Новая попытка увидеть в героях русской смуты не исторические функции, а неловких, переживающих, просто испуганных людей весьма удалась и, учитывая прежние заслуги, автоматом выводит автора в самый топ современной телережиссуры (на сегодня – важнейшего из искусств). Сканируя каиновым глазом соискателей хлебных постов, Распутин обычно резюмировал: «Хороший. Замолвлю за тебя словечко».
Перерыв тонны бумаг, нарисовав десятки портретов старца (иногда весьма жутеньких), Малюков с командой постановили: «Хороший. Замолвим словечко».
Вышло крайне любопытно, крайне.
Вагон пломбира от немецкого Генштаба[14]
«Демон революции», 2017. Реж. Владимир Хотиненко
Пломбированным вагоном и немецкой казной Ленину бы посмертно всю плешь проели, каб она у него не была и так полированная. Иных умников послушать – без кайзеровских денег увял бы сокрушитель царств в швейцарской глуши, катаясь на велосипеде. Как же, как же. А если б еще и не родился. А если б его трамвай переехал. А если б на месте тряпки Романова был Столыпин. А если б не война.
А если б у бабушки был член, да.
Вопрос, откуда дровишки, исстари занимал хроникеров Октября – но совсем не в той степени, чтоб делать немецкое финансирование главной причиной бунта. Скорее, как умение аккумулировать свободные средства для сектантских нужд. Один из ловких жуков-авантюристов, каких во множестве породила русская смута – от Азефа до Свердлова, Александр Парвус убедил кабинет воюющей Германии пробашлять наиболее перспективных разрушителей враждебного царства. Царство пало и восстало под новым руководством в четыре года. Парвус озолотился и умер на обочине истории. Германия выиграла бой и ушла в небытие, а четверть века спустя перестала существовать как самостоятельная единица. А рыжий подвижный человек в кепке стал иконой левой мысли на сто лет вперед, потому что видел на четыре хода дальше и своей, и германской, и прочих империй и Парвусов, вместе взятых. В отличие от коллег, он не оказывался волею судеб в нужном месте в нужное время – он это нужное время сам себе и создавал.
Мифотворец Хотиненко, лукавинкой, картавинкой и рыжей бородой сам похожий на Ленина (только очень большого), сделал мощное кино о том, как Фауст переиграл Мефистофеля. Деньги взял, в оборот пустил и навешал бесу щелбанов, переформатировав ненавистную державу в могильщика всех немецких чаяний на век вперед. В режиссерской сборке история излагалась проигравшим Парвусом в шикарном поместье под стрекот киноаппарата – свидетеля великих возможностей и великого краха. В американском кино так вещали о золотом веке Голливуда его падшие идолы, рантье былых побед. Конечно, здесь присутствовали мотивы «Гражданина Кейна» – посмертного памятника богочеловеку.
И конечно, продать это массовому зрителю не было ни малейшей возможности. Сказка писалась для тех, кто слышал имя Парвуса и не слишком возбуждался от известия, что на самом деле он Гельфанд. Кому знаком фаустовский миф и дано оценить масштаб личности вне зависимости от плюсовых и минусовых оценок ею содеянного. Таких немного. Большинству интересней, как жиды на фрицевские деньги поломали блестящую позолоченную Россию. И продюсер Роднянский приступил к титанической работе по порче хорошего кино во имя его пущей капитализации (так все продюсеры делают).
Сначала переименовал «Меморандум Парвуса» в «Демона революции» – крайне преувеличив роль беса в октябрьских событиях. Потом отрезал кривлянье Парвуса у киноаппарата – купируя посмертный ленинский миф. Потом ввел закадровый текст, написанный редкостным дураком (или дурой: сценаристов шестеро, половина женщины) и столь же выдающимся знатоком дрянных струн массовой души.
Сообщается, что Зиновьев был охоч до баб, Красин охоч до бомб, Парвус слыл тайной пружиной темных сил, а Радек беспринципной свиньей, за что всех, кто не умер сам, потом убил Сталин. Ценнейшая информация для оценки грандиозных перемен России XX века.
Сообщается, что Ганецкий когда-то помог Ленину бежать, за что был позже отблагодарен местом главы Центробанка. Дешевые плебеи. Это сегодня Центробанк – источник благ, а при крахе финансов от него одна язва, аритмия и хронический недосып. Как и от любого поста в тогдашнем Совнаркоме.
Сообщается, что революции могло и не быть. Ну да. В стране за 12 лет случились две революции, бунтовались гарнизоны и флот, без войны три года действовала чрезвычайная военная юстиция, после чего гений-царь все же в войну влез, вооружив и обучив бою миллионы нищих, – но третьей революции могло и не быть, каб не юркий еврей с немецкой мошной.
Из притчи об извивах Божьего промысла и историческом проигрыше мелких людишек крупным получилась сатира о том, как шайка ничтожеств перехватила власть у благородных неудачников с хорошими лицами.
Вы, батенька, просто играть не умеете, сказал бы на это рыжий и подвижный человек в кепке. Ступайте к дьяволу. Он тоже не умеет.
Граф на графа
«Крылья империи», 2017. Реж. Игорь Копылов
Граф Сережа любит царя и девицу Соню, учится на офицера в училище царского имени, но случайно губит на дуэли сокурсника, сходит с ума, встречает Троцкого и становится красным маньяком. Рубит под Каховкой брата Костю, тоже графа, отчего тот идет в монастырь и горько звонит в колокол.
Девица Соня пишет стихи, любит Гумилева и папу-кондитера, но народное быдло убивает папу-кондитера, а Соня сходит с ума, пускается в блуд-разврат, встречает матроса и делается комиссаром флотского экипажа в галифе и кубанке.
Мастеровой Матвей бренчит на балалайке и любит сестру, которую растлевает кто-то из высших сановников, отчего Матвей сходит с ума, поступает в эсеровскую боевую дружину и хочет всех взорвать, оставаясь чистейшей души человеком.
Вокруг творят историю пьяные матросы, экзальтированные евреи, сифилитические коменданты и чокнутые дезертиры во главе с Лениным, который сам на себя не похож, много суетится, хочет всех расстрелять, всех расстреливает, а после заламывает руки, что Россия его проклянет, и Россия его проклинает. Светлую сторону бездны воплощают не сошедшие с ума дворяне, которые кладут крест, кушают пирожные папы-кондитера и со вкусом хамят простолюдинам, а Россию – дети и одноименный аэроплан (те самые крылья), который вот-вот бы взлетел, да то денег нет, то большевички палят по моторам, а он все равно рвется ввысь волею добрых людей и рано или поздно улетит в Финляндию.
Страсть авторов к царям, графьям, стихам и детям и попутная ненависть ко всем, кто хоть что-то в империи делает руками, достойны самого пристального внимания психиатров. Когда бомбист Матвей садит в подвале на цепь попа-расстригу, публициста-делягу, офицера, перешедшего к красным, и фабриканта, ставшего дворником, мажет их гипсом для посмертных масок и требует ответа, что они сделали с его Россией, – психовозка создателям картины требуется срочно. Впрочем, специалисты утверждают, что творчество отвлекает неуравновешенных личностей от необдуманных поступков – так что пусть творят. Все равно экранизировать их будет студия «Три икс» – что всегда считалось маркером хард-порно, так что все по-честнаку.
В космогонии этих лиц стоит разобраться отдельно, ибо в определенных кругах она популярна.
Россия их, как и было сказано, стоит на дворянстве, позолоте царских лож, ростовых портретах императора и стихах Н. С. Гумилева про то, как сыплется золото с кружев розоватых брабантских манжет. Эту лепоту хранят от потрясений шпики, жандармы и полицейские провокаторы, которые со вкусом произносят слово «быдло», раздают зуботычины, секут смертных с коней нагайками и совершенно правильно делают. Авторский посыл «Россия катится в пропасть» в устах жандармского доносителя – новое слово в хронике революционных событий.
Плебеев, которых сечь, авторы знают мало (кроме того, что они пьют и пахнут), разумную энергию масс отрицают напрочь, поэтому революцией у них заняты братья по классу в результате множественных умственных расстройств. Считая восстание масс глобальным умопомешательством, они совершенно не озабочены сколько-нибудь ясными мотивировками, логическими цепочками и хоть немного стройными эгалитарными убеждениями, – поэтому все в сериале творится с бухты-барахты по дьявольскому наущению. Граф запил и брата рубанул. Мещанка отчаялась и шасть в комиссары. Эсер Ленина встретил и айда в большевики, а мог бы дальше на балалайке играть. Очень помогает нулевое знание реальных событий и полная неспособность отличить марксистов друг от друга и понять, кто из них чего хочет, кроме погубления аэроплана «Россия». Ленин у них клоун, Троцкий клоун, Карахан клоун, Мейерхольд клоун, Керенский клоун, один Сталин ничего, ибо смотрит зло и однажды перебьет всех клоунов, за что ему скрытое авторское спасибо.
Если б Акунин однажды встретил Гиппиус, они могли бы сообща написать такую напыщенную охранительскую галиматью – но Гиппиус никогда не встречалась с Акуниным, и галиматью пришлось писать режиссеру Копылову и его соавторам Евгении Кондратьевой, Владимиру Измайлову и Виктории Александровой. «Сценарий сериала о русской истории написали четыре человека с чисто русскими фамилиями», оценила сеть горячие авторские чувства к революционным евсеям и их мировому евсейскому заговору.
Что ж, если чисто русские фамилии – это достоинство, то один плюс у сериала точно есть.
Ямбическая сила
«Есенин», 2005. Реж. Игорь Зайцев
Новейшая есенинская биография Захара Прилепина зачеркивает одноименный фильм, даже не удостоив адресной полемики. Согласно ей, Есенин происходил из приказчицкой, а не крестьянской семьи, с детства не носил креста, довольно скверно косил и очертя голову принял революцию, хоть и переживал за то, как она обходится с исконным землепашеским укладом. Дружил с евреями, не замечая их еврейства, – что и нормально для среды, обнулившей национальные, конфессиональные и сословные перегородки. Кому не нравилось – брал саквояж и ехал в Европы, чтоб оттуда жужжать, как жиды заели. Есенин съездил, обчертыхался на сладкую жизнь и счастливо вернулся на Родину с ее жидами. Все это ни грамма не меняет в образе златоуста русской поселянской вольницы – для тех, кому важны стихи. Но плющит и корежит всех, кто сделал Серегу нашего иконой борьбы с мировым кагалом и его сионистской пропагандой.
А таких немало.
Артист Виталий Безруков долгие годы служил в театре Сатиры, где главным был Плучек, кардиналом Ширвиндт, патриархом Менглет, прима-звездой Миронов и даже немецкое происхождение Татьяны Пельтцер не меняло общей удручающей картины. Говорят, ему приходилось играть в смену с Мироновым и видеть, как пол-зала выходит на первых же репликах, раз сегодня не Андрей. Может, и врут – но атмосфера никак не способствовала добрым чувствам к клановому российскому еврейству.
Результатом чувств стал роман по мотивам расследований безумного юриста Хлысталова, всю жизнь искавшего еврейский след в смерти русских поэтов-самородков, убитых грузином Сталиным. В романе жиды сделали революцию против мужика, а когда златокудрый Есенин вступился за своих, замыслили его погубить. Для этого они обсадили его женой Райх, другом Мариенгофом, покровителем Троцким и американкой Дункан, чье имя Айседора и манера танцевать голой с красным флагом наводит на самые глубокие размышления. И ну тянуть его в ласковые сети, к чему поэт стрезва оказался податлив, но трезвым его видели редко. Тогда жиды напустили на него Пастернака, который избил его в подворотне, Мандельштама, который пытался перекричать его дилетантскими стишками, Блюмкина, который грабил лесом и расстреливал несчастных по темницам, и Анну Берзинь, про которую сто раз сказано, что она Абрамовна. От такого нажима Лель не мог не запить – но окончательно доконала его волшебная телеграмма Каменева великому князю, – случайно подобранная им во время службы санитаром в Царском Селе. Телеграмма могла сгубить всю носато-пейсатую оппозицию, поэтому Каменев нашептал Троцкому, Троцкий Блюмкину, Блюмкин Эрлиху, и все вместе свершили свое черное дело в гостинице «Англетер». Это никак не помогло оппозиции, которую всю съел товарищ Сталин, о котором в сериале сказано уклончиво, потому что за евреев ему спасибо, но вслед за ними он съел и всех остальных, а это уже перебор.
В тексте «Смерть художественной фильмы» Лимонов писал, что сценарии пишутся людьми со слабыми мозгами для людей с еще более слабыми мозгами, и это сущая правда. Телеграмму с поздравлениями М. Романову выдумал Сталин – что не помешало Есенину найти ее в мусорке за 20 лет до того, ведь великий князь вечно разбрасывался телеграммами, а Есенин в молодости только и делал, что шастал по царским помойкам. Колоть его в дурке психотропами было трудно, ибо их изобрели только через тридцать лет после его смерти. Блюмкин к ней непричастен, потому что был в это время с Рерихом в Тибете. Затейливая мешанина ранней советской жизни была гораздо круче всего, что мог вообразить романист Безруков.
Но что-то ему удалось, а именно – сын Сережа, он же Сергей Витальевич, который является совершенно идеальным воплощением Сергея нашего Александровича. Он чувствует стих и взвинченно-нервическую природу есенинского дара, хорош в загуле и ранимом отчаянии. И, не городи его герой батину антисемитскую чепуху, был бы отличным портретом народного любимца (если от фильма отмахнуть серий этак семь). Режиссер Зайцев имеет вкус к сценам гламурных запоев и посвятил им львиную долю сериалов «Чкалов» про Чкалова и «Есенин» про Есенина – тут бы тоже не помешала редактура. Однако когда в первой серии золотая наша головушка строит глазки царским дочкам и кушает с ними кофий – выходила прекрасная байка про Ивана-дурака, который с царями накоротке, за словом в карман не лезет, сивку-бурку объездит и заморскую блоху подкует – и всем пацанам о том с блеском насвистит.
Так бы и снимать – нет же.
Пришли носатые и все испортили.
Большой артист. Метр девяносто пять
«Шаляпин», 2023. Реж. Егор Анашкин
Много было у Шаляпина в голове ерунды.
Благоговейный миф о нем слегка развеял друг его сердечный и первый наш импрессионист Константин Коровин – оставив мемуар, легший в основу сценария.
Федор Иваныч предстал там сущей двухметровой дитяткой, местами несносной. Вмиг со всеми дружился, со всеми на пустяках ссорился. Ел в три горла. Пел в четыре. Заедался с дирижерами. Изменял первой жене со второй. Войдя в известность и амбицию, требовал в контракте птичьего молока: тысячу за выход, абонированную на год ложу для Горького и двух солдат с саблями репортеров распугивать. Директор императорских театров Теляковский хохотал и подписывал: все равно, говорил, кроме денег, ничего не дам – а контракт он так и так потеряет. И Шаляпин тут же терял контракт.
Любил выставлять себя радетелем за народ, но крестьян робел, ибо видел впервые. Говорил, что их специально спаивают, для темноты, а в ответ слышал:
– Да ведь и ты, Федор Иваныч, выпить не дурак. Кто ж тебя неволит?
Всерьез относился только к делу: петь мог в охотку ночи напролет, оперы учил целиком вместе с женскими партиями для лучшего понимания. Был крайне благодарен трагику Дальскому за науку: любую арию сперва прочесть вслух стихами и разобраться в персонаже драматически.
Далее все сошлось.
Великан.
Трудоголик.
Мощный голос.
Умение подать характер.
Упор на русскую оперу поперек иноземного репертуара ровно в миг зарождения национализма, плода растущей грамотности масс.
Относились к нему, как к Высоцкому: с обожанием, панибратством, сплетнями и байками, «как мы с Володей бухали». С «Федей», кажется, тоже бухало раз в сто больше народу, чем он встречал в жизни.
Среди тех, кто «бухал с Федей», были и сценаристы Назарова и Эзугбая. Для того, чтоб тепло отнестись к буйным чудачествам большого ребенка и с почтением – к его мощи и труду, надобен масштаб и такт, которого у авторов байопика и на грош не водилось (режиссера Анашкина тоже касается). Они, по сути, и есть та публика, что истово рукоплещет кумиру, а после рассказывает всем, какой он в жизни хабал, бухарик и сукин сын. Более-менее верную интонацию выдерживает исполнитель коровинской роли Александр Яценко – но то заслуга артиста, а не постановки.
Теляковский там лебезит перед звездой, как усердный халдей (директор театров был к царю вхож и по весу опережал нынешнего министра культуры). Дальский вместо того, чтоб делу учить, писает с парапета в Неву. Мега-сановник Всеволожский вместо державного облика носит филерские усики. Всех их, вельмож и трагиков высшего ранга, играют артисты мощного комического темперамента Каморзин, Алмазов и Цапник – что превращает закат империи в сущий хармсовский балаган.
«Куда прешь!» – любимой фразой вахтеров кроет Шаляпин рабочих сцены (стычка была, но плебейские формулировочки – на совести авторов). «Здесь люди работают, а вы скандалите», – словами регистраторши поликлиники отвечает ему Коровин. «Il basso (бас)! – Сама дура!» – обмениваются репликами будущие супруги, Шаляпин с балериной Торнаги (Мария Смольникова). Впечатление, что едкие коровинские мемуары дали авторам карт-бланш на дворницкий слог и дворницкое поведение персонажей. А чтоб зритель не серчал, герой то и дело вспоминает, кто он, и запевает песенку басом Ильдара Абдразакова.
Как-то Козинцев, рассвирепев на гайдаевские «12 стульев», писал: «Хам прочитал сочинение двух интеллигентных писателей». Так и здесь: хамы прочитали сборник анекдотов из жизни великого артиста.
Вот он у них и кобенится. На полуслове обрывает Ключевского. Ставит на место Рахманинова. Впрягается в бричку с Дальским. Даже «В Мариинку!» у него звучит как «В Маринку!».
Зрительницы сладко обмирают.
Абдразаков, говорят, отлично звучит (и впрямь отлично).
В Горбатове, говорят, как в Шаляпине, два метра росту (так и есть).
Чего ж вам боле.
Отличная постановка.
Жизненная.
Среди прочих выделяясь
Чисто бритой головой
«Котовский», 2010. Реж. Станислав Назиров
В каждом третьем боевике «Молдова-фильма» присутствовал ростовой портрет Котовского, и всюду он был вылитый Фантомас. Дергал с каторги, бомбил казначейства, кошмарил блатных и, едва соскочив из-под «вышки», поднимал на ноги Одесский оперный на представлении «Кармен» – что вряд ли удалось бы и Ленину. Исчезал из-под любого надзора и конвоя. Впервые арестованный за уклонение от воинской службы, именно в ней нашел себя, карьеру, легенду, три Красных Знамени и именное оружие.
И совершенно, ничуть, ну ни капельки не нуждался в ребрендинге новых времен. Не было в его цветастой биографии тайных страниц, которые бы скрыли от народа злые большевики. Молдавия чтила его всенародно, как местного Разина, и только на излете социализма посвятила аж три биографических фильма – причем в то самое время, как «Молдова-фильм» стал уверенно оспаривать лидерство в авантюрно-приключенческом жанре у прежде недосягаемой Одесской киностудии. В дивном «Последнем гайдуке» Григорий Иванович щеголял в цыганских кожаных галифе, алом кушаке, расшитой жилетке и шляпе набекрень, с рабочим наганом тепло принимая обращение влюбленных дам «Мой дорогой Дубровский». Жег экономии, обирал дилижансы, облагал данью барышников и палил с пролетки по жандармским засадам. Но главное: пропорционально сочетал разбойные подвиги со стихийным марксизмом – что и вывело его с годами сначала в Советы, а после и в управленческую верхушку РККА.
Вот именно этого производящему каналу «Россия» было совершенно не надо. К началу десятых организованное разбольшевичивание русской истории естественным образом привело к отъему у красных самых безбашенных и любимых народом атаманов – путем акцентирования их православия, блатной дерзости и ссор с комиссарами нетитульного происхождения. Именно в этом ключе были сделаны фильмы о Чапаеве, Махно и Котовском – только Буденного еще забелить не хватало. Все атаки Григория Иваныча на помещичьи латифундии с сожжением долговых книг – как раз и сделавшие его неуловимым народным любимцем – из биографического сериала были вымараны, зато непропорциональное место заняли ссоры в шайке, вялые любовные линии и разногласия с эсерами по вопросам революционного душегубства. Последнее уже было совершеннейшей отсебятиной: в целиком аграрной Молдавии никаких народных партий, кроме эсеров, быть не могло, и Котовский был с ними близок добрую дюжину лет, пока и не вступил в ряды осенью 17-го, ни секунды не смущаясь террористическим мокрушничеством эсеровских боевок (большевики переманят его только в 20-м).
Однако задачей новых времен было именно деклассирование и беллетризация буревестников народного гнева: какой угодно гоп-стоп, разбой, фантомасия – только не политика. Если б в давние времена белый агитпроп всерьез озаботился развенчанием и демасштабированием красных харизматиков – лучших помощников, чем сценарист Другов, им и искать бы не пришлось. Котовский у него вышел дерзким, обаятельным и категорически рядовым человеком. Мимо на всех парах неслись история, революция и народная воля, а он, точно Груздев, никак не мог разобраться со своими бабами и пистолетами.
К тому же исполнителя заглавной роли Владислава Галкина весьма своевременно для продюсеров ангелы прибрали – избавив их от необходимости перекрашивать романтического блатаря в героя большевистских святцев и всех без исключения фронтов пылающего юга России. Так эпос с наглым названием «Котовский» оборвался на 1917 годе – это все равно как сагу о Ленине закончить «Апрельскими тезисами». Вероятно, вождям ВГТРК хотелось и историю страны застопорить на том же уровне, изъяв из нее весь некомильфотный XX век, – но это уже было выше их власти. Век состоялся, присяжный поверенный Ульянов стал полубогом, а гопник из бессарабского захолустья – легендой восставшего Причерноморья. Оба были гололобые, обоих подстрелили евреи, оба удостоились всероссийских похорон и личных мавзолеев. А 90 лет спустя – сноса памятников на кулацкой Украине и плоских бытовушных байопиков, менее интересных, чем персональные статьи в Википедии.
Святой истинный крест под салютом всех вождей
«Страсти по Чапаю», 2012. Реж. Сергей Щербин
Правда о Чапае пала на Русь без предупреждения, как журнал «Огонек»: вчера еще ни шороха, репродукции да кроссворды, а сегодня уже – правда. Про водружение креста, арбуз Троцкого и четыре аэроплана. Притом на источник правды ссылаться по старинке не принято, что и немудрено. Потому что единственный источник – беллетризованная биография комдива, писанная его правнучкой Евгенией со слов бабушки Клавдии Васильевны, которой в год смерти отца было семь, а в момент ухода на империалистическую (то есть навсегда с небольшими наездами) – два с половиной. Помимо чудесного падения с церкви без единой царапины и оплевывания героя арбузными семечками, в книге утверждается, что Чапая «заказали» Антанта и Совнарком, потому что был он ершист и всем неудобен. Буржуи за его голову назначили 25 000 золотых рублей, а комиссары – 15. Предали комдива за иудину денежку четыре авиатора, присланные в дивизию для воздушной разведки, а вместо этого выдавшие диспозицию врагу. В Отечественную войну выжившие стали знамениты, так что разглашать их имена нельзя. Руководили Чапаем сплошь бездари да наймиты вплоть до кровавой собаки Троцкого, который однажды приехал снимать его с дивизии и расстреливать за самоуправство, но увидел народную любовь и вместо кар наградил золотыми часами. А семью Чапая собрались вешать белочехи, и семилетнюю бабушку держали с петлей на шее, как публициста Фучика, пока не появился двойник В.И. с бутафорскими усами и не отвлек внимание от настоящей атаки. А вымышленная история любви Петьки с Анкой имела трагическую развязку, потому что вдова П. Исаева после премьеры повесилась, поверив в измену мужа (через 15 лет после гибели последнего).
А еще Евгения Артуровна рассказывает, что дочь ее, названная в честь прапрадеда Василисой и отданная в кадетский корпус, – экстрасенс и умеет двигать предметы на расстоянии.
То есть почему на нее не ссылаются – довольно понятно. Труднее уяснить, почему вся эта тысяча и одна ночь забивается в Википедии и пересказывается в докфильмах в качестве живого дыхания эпохи. Как сказали бы в «Я шагаю по Москве», какие-то загипнотизированные писатели, контуженые лошади и воспитанница кадетского корпуса Василиса Чапаева, экстрасенс.
И вот этот караван историй попадает на зубок сценаристу Володарскому, отлично чувствующему неоконъюнктуру на богомольство, сексуальный гангстеризм, анафему комиссарам и перетягиванье красных героев в белые. Нынешнему строю, лучше всего аттестуемому как демократический централизм, отчаянно требуется гибрид квартального и хулигана. Чтоб для народа был задирист, удал, блатоват, а для начальства набожен, вожделюбив и пускал слезу при взгляде на волжские откосы. Представляю, сколько локтей искусали авторы и все девять линейных, исполнительных и вспомогательных продюсеров, что стар нынче стал Никита С. Михалков. С каким же блеском и удовольствием сыграл бы он комдива-псаломщика, атамана-богомаза и ходока-семьянина! Когда-то таким богомольным гопником выступал Элвис Пресли: в кондовой эйзенхауэровской Америке нужно было разом казаться отвязным бунтарем (для девочек) и прилежным зайкой (для их мам) – вот и приходилось в половине фильмов сидеть в тюрьме, а там без конца молиться и петь песни, как Чапай про ворона. А уж сверху для занимательности наросли комиссары, стучащие в ЧК на своих командиров, чтобы потом прославить их в фильмах и сценариях, полковничьи дочки, за ночь перекрашивающиеся из белых в красные, и ротные командиры, маниакально преследующие Чапая по фронтам гражданской войны. Цыганщина-беллетристика про темную ночь и роковой обрыв сегодня в ходу, начисто затмевая реальную и ни от кого не таимую диспозицию.
А именно.
Восточный фронт, на котором воевал среди бюрократов самородок Чапаев, был самым успешным в истории гражданской войны и фактически решил ее исход, не дав соединиться Колчаку с Деникиным, войскам Сибири с Добрармией юга России. В ознаменование заслуг все три комфронта – Вацетис, Каменев и Фрунзе – в дальнейшем занимали пост главнокомандующего вооруженными силами республики. В состав фронта входили 6 армий и 50 дивизий, то есть воевать за всех один Василий Иванович не мог никак. Учитывая ротацию комсостава, таких комдивов у Троцкого только на его фронте было за сто человек, хоть и не все прославились Божьим благоволением, выраженным в чудесном падении с колокольни.
Сам Лев Давидович, прежде чем стать Иудушкой, являлся первым лицом и топ-менеджером Красной Армии, обеспечившим ее комсостав, ресурс и победу. Истории о потаенной вражде наркомвоенмора к Чапаю – блеф, потому что комдив-25 был для него все равно что сержант для майора; хорошо если Троцкий вообще знал о его существовании[15]. Артист Князев с шевелюрой, спадающей на ворот вислой шинели, картавым суесловием с трибуны (об ораторских талантах Л.Д. легенды ходили), с брезгливо протянутой ручкой в черной перчатке явно избран для компрометации нерусского ирода – какой-то «Троц-поц-первертоц», и больше ничего. Так все равно ж он был Наполеон, а не болтунишка Керенский. Наилучшим Троцким был бы сегодня Эдуард Лимонов – но от такого Троцкого кое-кому в Кремле бы сильно закашлялось.
Чапаев и в самом деле взял в дом вдову погибшего товарища (тут не верить родне оснований нет) и водил шашни с дочерью казачьего полковника (более проблематично) – однако, согласно фильму и книге, вдова кинулась на широкую чапайскую грудь через минуту после вести о смерти мужа, а казачка – в ту же ночь, как Чапай велел шлепнуть ее отца. Браво, Володарский. Умел мастер создать образ неотразимого мачо, хоть и без ссылки на первоисточник. Отдельных рукоплесканий заслуживает название. В богословской традиции оборот «страсти по…» означает описание христовых мук кем-либо из евангелистов: Лукой, Матфеем або Иоанном. В безбожной России под страстями понимались исключительно мордасти – с того и повелось у претенциозных неучей это лыко пихать в каждую строку. Один Тарковский соблюл смысл: «Страсти по Андрею» есть страдания Христа кисти Андрея Рублева (и косвенно Андрея Тарковского). Но за ним уже волной пошли страсти по Анжелике, Бумбарашу, Высоцкому, Горбачеву и далее по алфавиту, включая Фрейда и Родиона Щедрина. Так и Чапай в евангелисты вышел – что и закономерно в свете его открывшейся тяги к иконкам, распятиям и наложению креста по 12 раз на серию.
В сухом остатке. За евангелистом Чапаевым вели охоту Троцкий и Колчак. Они часто связывались по прямому проводу и подсылали к нему шпионов: один баб, а другой комиссаров, чтоб выведать дислокацию чапаевской дивизии (она очень хорошо пряталась). Комиссары постоянно враждовали с чапайскими бабами из соревновательности – кто первый настучит. Бойцы Чапая все как один были свиньи, мародеры и алкаши, но за командира стояли горой. Василь Иваныч их стыдился, каялся перед Богом и клялся ему на партбилете, что подтянет дисциплинку, но не успел. Троцкий вызнал его убежище, донес Колчаку и нанес удар первым. За что его через двадцать лет убил киркой большой поклонник Чапая мексиканский товарищ Меркадер. С той поры русское офицерство недолюбливает евреев, комиссаров и баб и всегда плюет через левое плечо при встрече с любым из перечисленных. А попов почему-то любит, хотя все остальные плюют тоже.
Словом, самую достоверную историю Чапая написал все же Дмитрий Андреевич Фурманов, хоть разом и комиссар, и еврей. И даже несмотря на то, что, следуя велениям эпохи масскульта, сделал его внебрачным ребенком проезжего циркача и дочери казанского губернатора.
Почему такой разлюли-малиной не воспользовались Володарский и канал ОРТ – загадка природы.
Вечера на хуторе близ Дикарьки
«Тихий Дон», 2015. Реж. Сергей Урсуляк
Шолохов был «приказаченный».
В казаки записан по материну мужу-атаманцу, а не по пришлому отцу, по чужеродству натерпелся от соседей с детства, а оттого на казацкую касту смотрел косо и объективно.
Объективка, ни в одну экранизацию не попав, была такая.
Аксинью в 16 лет изнасиловал отец, за что мать и брат его тем же днем забили насмерть, а сказали, с брички упал. Выданная замуж год спустя, она была в первый же день бита мужем до полусмерти, а после регулярно за то, что не девкой взял. К моменту связи с недорослем Гришкой схоронила годовалое дитя и считалась бывалой мужней бабой в двадцать лет. Бабку Гришки, турчанку, соседи-хуторяне запинали на сносях за ведьмовство, за что одного из них дед развалил пополам шашкой. Сословие сызмальства готовилось к бою, и к зрелым годам за каждым числилось не по одному убитому нехристю – что накладывало отпечаток, укрывая за хваленой удалью лютое зверство со спесью ко всем, кто не казак и лампасами не вышел. Гражданская распря всюду тлела по-своему, но на Дону была просто сигнальной ракетой к взаиморезне среди райских кущ и этнографических красот. Рубануть пленного, вздеть на вилы соседа, взводом пустить на хор польку-горничную было здесь плевым делом, и никого не терзал вопрос, отчего это в Мировую казаков в плен не брали.
Не терзал он и режиссера Урсуляка, потому что казаки у него (как и «афганцы» в «Ненастье», и бойцы в «Жизни и судьбе») – ряженые для праздничных представлений на патриотическую тему. То косят, то поют, то поют, то косят, а когда накосятся, тогда балагурят. Старательно выговаривая «теперя» и «опосля», полфильма пылит какой-то ухарский ансамбль народного танца средь музея казачьего быта. Все бабы с коромыслом, все кони с гривой вразлет, все облака с левитанским отливом. Даже война – у Шолохова тоскливая, вшивая, потная, с трупами отравленных газом и посеченных шрапнелью, – здесь одна сплошная стычка верховых разъездов под небом голубым в стиле комикса «Турецкий гамбит».
Творческий метод Урсуляка – адаптация гипержестокого русского эпоса для нужд вечного второклассника, который слаб умом и книг все равно не прочтет, потому что там «многабукав». Из «Жизни и судьбы» вычищены евреи, чье уничтожение делало нацизм абсолютным злом и поднимало подвиг русских людей до масштаба религиозного. Кино стало юбилейной сагой, как русский солдат водку пьет и в атаку бежит – в чем и состоит его немудрящая жизнь и судьба. У Иванова в «Ненастье» речь шла об оскотинении былых героев-пассионариев, почуявших легкий прибыток и подмявших под себя город (подразумевался Екатеринбургский союз ветеранов Афганистана). В кино же бойцы рэкетных бригад стали просто защитниками справедливости и жертвами подлых времен, а лялька-парикмахерша – ангелицей-воспитателькой детсада. Та ж песня и с «Тихим Доном»: клан душегубов и карателей явлен табором удалых плясунов, которых зачем-то пообидели злые большевики. От всякого людоедства у них сердцу боль – один только красный упырь Мишка Кошевой идет в огне запаленного куреня, как Терминатор-3[16].
Григорий же на фоне сородичей смотрится совершеннейшей белой вороной: бьется с насильниками, палит в убийцу пленного, тащит с боя раненого недруга и во всякой мути поступает по Божьему и человечьему закону – потому и первым к красным идет, и первым от них же валит. Вот только на такого исполина-противленца дельный артист Ткачук оказался калибром мелковат (вечная беда урсуляковского кастинга: домашние у него играют диких). Роль же Аксиньи досталась просто слабой актрисе Чернышевой – что выглядит явным авторским подыгрышем родной дочери в роли Натальи. Все ударные сцены григорьевой жены отыграны Дарьей Урсуляк на высшем градусе, а где жечь нужно ее сопернице (смерть второго ребенка, стычка со старым Пантелеем) – актрису даже и в кадр не берут, потому что она явно не тянет. Так сага о классовой буре в и без того недобром краю становится марафоном страданий отверженной жены, с наличниками, станичниками, сабельками и чубчиком кучерявым.
Дурам, что книгу и в руках не держали, очень даже любо. Дон, говорят, батюшка. Кони. Страсти. Закаты. Счастливые клинки.
Есаулы молоденькие.
Вот ты, оказывается, какой, великий романист Шолохов.
Вредная сионистская старушка
«Раневская», 2023. Реж. Дмитрий Петрунь
Раневская сразу родилась Тортиллой и всю оставшуюся жизнь матерно жаловалась на старость (даже и странно, что роль ушла к Рине Зеленой).
В театре ее из ныне живущих видели единицы, в кино она сыграла 12 эпизодических ролей и одну главную в фильме «Осторожно, бабушка!», признанном несусветной пошлятиной еще в год выпуска, в том числе и самой исполнительницей.
Так что главным содержанием неувядающего мифа Раневской стали передаваемые с особым придыханием в кругах российского еврейства высказывания Фаины Георгиевны про жопу. Ну, все это: «Меня надо сдать в музей. Я не великая актриса, я великая жопа». Или: «Всю свою жизнь я проплавала в унитазе стилем баттерфляй».
Некоторая однобокость юмора компенсировалась прелестью старческой бесшабашности и диссонансом заслуг и поведения. Нынче бы сказали: «бапка жжот».
Всем было ясно, что на Муле и анекдотах про жопу восемь серий не вытянуть, а больше о народной артистке СССР никто ничего не знал и знать не стремился. Идея проехаться с ветерком на славе заслуженной матерщинницы была провальной с самого начала, но результат, как говорится, превзошел.
Не секрет, что все наши звездные байопики делаются с единственной задачей позлее куснуть Советскую власть, при которой те звезды зажглись, и народ хамов и шариковых, создавший о них легенду. Авторы с умом и тактом за такую работу не берутся, потому что мороки с источниками много, а зрителю важно только, похож артист или нет. Готовый сценарий Ларисы Жолобовой при участии Алины Семеряковой и Юрия Мороза более всего смахивает на плач беглого Цудечкиса в иммиграционной службе США с целью получения хлебного статуса беженца. И «Памятью» его, и погромом его, и Холокостом с большой буквы, и лично товарищем Сусловым по хребту.
Оказывается, Мулю, который нервировал Фаню в детстве, убили красные при погроме. Все знают, что армия Троцкого, ЧК Урицкого и ВЦИК Свердлова ночей не спали, как бы сделать побольше погромов и убить побольше Муль. А единственным спасением от палачей было христолюбивое белое воинство – помним-помним. Из истории, как богатенького фаниного папу комиссары поставили на счетчик, а он сидел на рельсах с часовым и хохотал, вышла чудная страшилка про антисемитизм прикладом по морде, поджог живьем в вагоне и обещание расстрелять через повешение с особым садизмом.
От нервов оскорбленная нация портных и кинокритиков (да-да, и мы тоже) совершенно выходит из берегов. Кажется, нет в СССР часовщика и театрального деятеля, который не желал бы возврата царизма, при котором и слов таких не было, как «жид» и «погром». И ворчат, и пыхтят, и злословят, и всем своим хамским поведением оправдывают Большой Террор: ведь выходит, правы были Ежов и Берия? Еще и недоработали, не вырвали до конца гадючье жало.
Для пущего совдепского упадка муз Раневская в роли шлюхи Зинки из «Патетической сонаты» дважды восклицает: «Царских холуев не обслуживаем!» – чем приводит зрительское быдло в неописуемый восторг. Слов таких в пьесе нет, в сети она только на украинском, а языка Жолобова не знает – вот и придумывает, что поглупее может ляпнуть шалава в пьесе на революционную тематику (на самом деле у Зинки была отличная реплика, что буржуй и пролетарий снимают штаны совершенно одинаково).
Качалов зовет Раневскую в «Арагви» за два года до появления этого ресторана.
Майорская жена обзывает шлюх «шалашовками» в 1931-м, когда и слова-то такого не было, не то что в лексиконе майорских жен[17].
В королевской Румынии, где за членство в компартии убивали (отца Киры Муратовой, например), показывают фильм «Подкидыш» из СССР, да еще и на русском – не иначе, чтобы порадовать фаниного папу-эмигранта, умершего за год до выхода фильма.
Среди всего этого ужаса с потерянным видом ходит хорошая актриса Цигаль-Полищук и нервно отзывается на имя Фаина. Кастинг-директора (все трое) поработали на славу. Домогаров – вполне Качалов, Александр Титоренко – Александров, Андрей Бутин – Меркурьев один в один, а что Ромм в исполнении Александра Безрукова смахивает на перетрусившего Эйхмана – так то ему месть за «Ленина в Октябре».
Свежая мысль, что социализм – худшее место для старой одинокой еврейки с фефектами фикции, доказана с исключительным усердием.
Все-то прочие места для нее просто рай и цветущая аркадия.
Кровь-любовь
«Мятеж», 2020. Реж. Сергей Пикалов
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Володе и Елизавете.
Да, герои фильма носят самые расхожие имена русской сентиментальной прозы Владимир и Лиза. Раз уж сегодня всякий исторический бум следует иллюстрировать любовной коллизией, раз кончится все романтически скверно (а как еще может кончиться барская любовь на фоне правоэсеровского мятежа в Ярославле, снесшего полгорода, – о чем там по сей день вспоминают с содроганием), – так пусть у них и будет настоящий книжный роман. Володя юн, беден, горяч, склонен к дуэли и суициду и постигает артиллерийскую науку, от которой городу одни неприятности. Лиза чиста и резва, чем сводит с ума испорченных взрослых мужчин на беду поиздержавшегося, но благородного семейства. Черные крыла простер над их чувством князь Крушинский, игрок, бретер, повеса и тоже артиллерист. На дворе июль 14-го, канун великих событий, которые навсегда изменят Россию, Лизу, Володю, князя, Ярославль, – да впрочем, и все в мире они изменят навсегда, к чему это волжское местничество. Орудия, пли. Судьба по следу шла за ними, как сумасшедший с фитилем в руке.
Сочинить образцовый дамский роман с неравным браком, потаенным биением сердец, самодельными колечками, выстрелами в сердце и побегами в дальние гарнизоны, а после накрыть все диким реализмом красного колеса – о таком мечтали все беллетристы столетия. Мешал неизбежный финал: концу по нормам жанра полагалось быть плохим, а революция без малого век считалась концом хорошим. На том погорело «Хождение по мукам», интерес к которому падал по мере счастливой развязки всех завязанных узлов.
Новые времена, когда минор и отчаянье вновь поднялись в цене, обнаружили крайнюю пошлость эмигрантских обидок: сам жанр велел изображать восставшую чернь как оспу-чуму и нашествие орков на эльфийский мир, заставляющий сплотиться вчерашних антагонистов с хорошими лицами, как в эпохальном и гнусном гриффитовском «Рождении нации». По законам дамской прозы, вся склизкая нечисть должна была уйти к красным: рвань шинельная, пьянь окопная, халдеи, лакеи, распутины – и мучить, и мучить прекрасных господ.
Ан шиш. Сценаристы Терехов с Бородачевым и продюсер Файзиев, исстари склонный к беллетризации истории, резонно сочли: если уж правим диснеевскую сказку реализмом – так характерам положено меняться, а абсолютной правды в гражданской сваре не бывает. Ангелы и бесы рассыпались по враждебным лагерям поровну – причем одинаковыми психами показаны командир безнадежного бунта полковник Перхуров и его подавитель краском Геккель. И если назвать их уродами вольно лишь вымышленным персонажам, их и следует выдумать – как выдумали авторы озверевшего на своих штабс-капитана Крушинского и в той же мере озверевшего на своих предВЧК Сычева (да-да, того самого юнкера Володю, каков оборот). Двух артиллеристов, чья затяжная распря за барышню повергнет в прах и город, и страну.
Славные и вечно юные артисты Бардуков (Володя), Чурсин (князь), Табаков (лизин брат Миша) и сама принцесса-греза Любовь Аксенова (Лиза), обреченные, казалось, до самой смерти воплощать инфантильный наив новых времен, в кои веки играют взрослые роли растущих, трезвеющих и тихо мрачнеющих людей – на глазах разматывающего историческую цепочку чекиста Воронова в исполнении с детских лет взрослого артиста Добронравова, чье имя причудливо рифмуется с первой жертвой ярославского мятежа предисполкома Доброхотовым. Вождю заведомо обреченной бучи Перхурову авторы поверх усов приделывают непропорционально длинный нос – возводя его генеалогию аж к самому Сирано де Бержераку (тоже убивец был знатный). Образ Прекрасной Дамы, которую рвут пополам белый и красный рыцари, слишком толсто намекает на Россию вообще – но избранный романтический жанр искони слаб до избыточной символики, а Аксенова в роли Родины чудо хороша и даже слегка комплиментарна.
Гражданская смута – тема слишком болезненная, чтоб доверять ее дуракам твердых политических убеждений, хоть красных, а хотя бы и белых. Сегодня убеждения клонятся к универсализму русского гражданского мира – и авторы «Мятежа» впервые за полвека (со «Служили два товарища») высказываются на эту тему человечно, глубоко и притом же так романтически увлекательно.
Как в романах, почти все умрут. Как в жизни, кое-кто выживет.
Потомки выживших сумеют сочетать трезвость взгляда с пылкостью изложения.
Все, чего нам сто лет не хватало.
Тамбовский волк тебе товарищ
«Жила-была одна баба», 2011. Реж. Андрей Смирнов
К 100-летию антоновского мятежа
Андрей Сергеевич Смирнов сильно не любил социализм.
Он и сейчас не любит, а тогда особенно.
Другие режиссеры, кто не любит социализм сегодня, с безопасного расстояния, убеждают себя, что и тогда занимали позицию. Многие верят. Хотя вся позиция сводилась к кислой мине при получении государственных наград. Твердый антисоветский фронт держал за всех один Андрей Сергеевич.
Советская власть его настроений сначала не опознала, а потом было поздно: Смирнов снял «Белорусский вокзал», на котором плакал Брежнев, а песня десятого десантного стала маршем почетного караула. К тому же поздняя Советская власть крайне почитала отца Андрея Сергеевича – первооткрывателя Брестской крепости Сергея Смирнова, и не хотела ссориться с семьей. У нее к старости уже был примиренческий настрой.
Успех «Вокзала» обещал многое, но фильм вышел в год съезда КПСС, и кому-то из умников захотелось побаловать делегатов новинкой. Дом кино закрыли для всех, кто не делегат, и объявили со сцены, что режиссер-де посвящает фильм съезду. Следом вышел сам режиссер и честно сказал, что видал в гробу и съезд, и партию, и светлое социалистическое завтра, а заодно и всех присутствующих, выгнавших кинематографистов из их лубяного домика. Так за все время социализма не мог и не смог никто (прописью: никто).
Он тотчас попал из триумфаторов в опалу, снял до конца строя всего два фильма – зато озлился лицом и стал отличным исполнителем ролей сердитых интеллигентных отшельников. Когда Глебу Панфилову на «В круге первом» понадобился артист играть заключенного инженера Бобынина, который перед министром Абакумовым не встал, потому что в плену сидел перед Герингом, и перед Абакумовым сидит, и разницы меж ними не видит, – Смирнов был стопроцентным попаданием в роль. «Я вам нужен, а вы мне нет», – это фактически было его кредо, и заявлял он это при СССР с той же желчной гримасой, что и после.
Поэтому фильм о стихийном сопротивлении въедливых мужиков социализму был для него программным, личным.
Конечно, под бабой, которую попеременно насилуют красные, зеленые и муж-долдон, понималась Россия, мужем битая, врагами стреляная и попами дуреная. И конечно, требовалось много чувства и умения режиссера и актрисы, чтобы столь расхожий образ не выглядел плоско. Актриса нашлась – простодушная и насупленная Дарья Екамасова, и добрая, и ухватистая, и чуть соловая от лихой жизни, и всяко усталая; устанешь тут.
Антоновский мятеж, как и любая крестьянская война, запомнился зверством с обеих сторон – но Смирнов решил ограничиться взаиморасстрелами, чтобы не множить самоигральные садистские сущности, на которых выезжают режиссеры-шарлатаны. Много ли умения надо, чтоб шокировать людей кадром сожжения живого человека? Поэтому лютостью сторон не злоупотребляли: и так в той истории хорошего мало, а если вглядеться, то и вовсе нет.
Жила, значит, была баба Варвара. Бедовала при царях, огребала плетей от свекра при земствах, валяли ее гулевые по овинам в смуту, детей от кого попало несла, радовалась мало и чаще песне. Раньше схожие роли играла Нонна Викторовна Мордюкова – но тут нужен был типаж пожиже и повиктимней, у мамы Нонны, если что, и на оглоблю налететь было недолго, и даже Шукшин в «Они сражались за Родину» с фингалом ходил.
Большевики, объявив себя защитниками труда, счастья деревне не принесли, а сорок лет грабили ее труд в пользу обороны. Деревня на их реквизиции взбрыкнула: возглавил мятеж разночинец поручик Антонов, а подавлял тамбовский предгубисполком прапорщик Антонов-Овсеенко. Два Антоновых, ведущих друг на друга народ за народное счастье – это и был наилучший образ гражданской войны, дикой и беспощадной. Допотопной песней «Трансвааль-Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне» в исполнении вселенского отшельника Юрия Шевчука закончил мятеж и Смирнов, носитель самой-разнаисамой распространенной в России фамилии.
Недруги наши считают, что фамилия эта – знак русского покорства, потворства, подчинения и раболепия.
Ага. Верим-верим.
Взять хоть Андрея Сергеевича – послушней да покладистей днем с огнем не сыщешь.
Кто сказал «мяу»?
«Мурка». 2016. Реж. Антон Розенберг, Ярослав Мочалов
Чекистское кино не бывает без граммофона.
Если товарищи заходят в шалман в коже и с наганом, то там сначала бахрома с граммофонной трубой, а потом зеркала от пуль трескаются. Это правило жанра, оно сто лет не нарушалось, к чему начинать. Граммофон будет в десятой серии, все останутся довольны.
Теперь, когда разобрались с главным, можно перейти к частностям. В те дивные годы, когда уже стал НЭП и наши немного задышали, в город каштанов и куплетистов зашла группа товарищей с заданием зашухерить всю нашу малину. Товарищей было 12, как в общеизвестной поэме и еще более известной толстой книжке, они красились под махновцев, и никто, представьте, не заметил разницы. С ними была уполномоченная ОГПУ Маруся Климова, которую только теперь знают все, а лучше было б знать сразу, больше было бы свободных мест в морге.
Мурка развила деятельность, и наши закашлялись. За пять серий по заявкам трудящихся народу ухлопали столько, что Гитлеру стало временно нечего делать, и он решил отложить до полного восстановления поголовья. Первой ушла в расход шайка «Бим-Бом»; они прыгали по ночам на пружинах в клоунском гриме, их боялись, им было весело – жаль, что недолго. Потом залетные анархисты в хибарке – там у Мурки кого-то подстрелили, и мадам начала обижаться. Святые угодники, вы видели хоть раз ураган в Марселе? – так лучше б вам и дальше его не видеть. Хлопцев везли на погост подводами, пули и крайняя плоть летели наперегонки по всей Одессе. Только в шестой серии эта шандарахнутая киса нашла себе тихое счастье, и город вздохнул свободно и даже включил прибой и скрипочку, как у нас любят.
По совести сказать, одесская тема сладкая, но она не для волосатых лап. После того, как Первый канал годами топил ее пимановской ламца-дрицей, там усовестились и дали зеленый свет настоящим людям. За Антона Розенберга и Ярослава Мочалова раньше никто не слышал, но теперь будут знать все: они фартовые, не фуфло. Завпроизводством Файзиева (это у них зовется «продюсер») люди помнили еще с подростковой кудлатостью на фильме по сценарию самого Тарковского «Берегись! Змеи!» – про змей и про как их беречься. Тогда его звали Джахонгир, и он был дитя, теперь он Джаник, и это серьезно. Кто помнит «Турецкий гамбит» – не даст соврать. Здесь он решил сам сыграть грека-ювелира с запонкой и тростью Ручечника – все были счастливы. Когда дети растут, у родителей тепло на сердце.
Рост налицо. Жанр кинокомикса соблюден чистенько, ни копейкой меньше. Твердые знаки, лаковые штиблеты, авто с клаксоном уйди-уйди, и все не отдает бутафорией, потому что в Одессу можно только играть, и только задорого, что авторам хорошо известно. Половина реплик на миллион, многие уйдут в народ, и без того разбалованный за последнее время хорошим русским языком. Образец речи: «– Я извиняюсь, но вы уверены, что все знаете за вашу новую барышню? Это Мурка. – Какой кошьмар. – Ну, я вас предупредила». Зачин с пальбой на бричке снят с фильма «Шестой», начальника Берга зовут Максим Оттович, как самого товарища Штирлица, а пароход «Глорией», как в «Короне Российской империи». Мурку играет гордая и смелая Марина Луговая – причем совершенно не теряется, крошечка, среди больших дядек вроде С. Л. Гармаша или М. Е. Пореченкова в роли геноссе Колыванова (уж не папа ли Маньки Облигации?). Картинка – как с винтажной открытки «Привет Муле с Приморского бульвара», долгое время так вообще не умели делать, а сейчас научились обратно (художник Денис Куприн, это важно). Так еще Бергу под конец приспичит всех уработать с «максима» из мансарды, а ему снизу ответит с такого ж «максима» начальник местной Губчека Соня-Комиссар. Когда два еврея в центре Одессы садят друг в дружку по диагонали со станкачей на треноге – это праздник души, какой вы не встретите ни в одном «Терминаторе». Ответим на мексиканскую дуэль Голливуда нашей семитской дуэлью с битыми стеклами – они проиграют, это не вопрос.
Буквально в то же самое время еще один одессит товарищ Корнейчуков написал стихи про Мурочку со словами:
- Это бяка-закаляка кусачая,
- Я сама из головы ее выдумала.
Отличное резюме для отличной картины. Кто еще не видел – я не виноват, но торопитесь: в Новый год таких брать не будут.
Приключения яблочка в губЧК
«Подкидыш», 2018. Реж. Антон Борматов
«Ростов», 2019. Реж. Павел Дроздов
В отрасли натуральный кризис перепроизводства, а это ой.
С разницей в неделю на главканалах два фильма на один и тот же бойкий сюжет: гражданин мазурик выходит в звезды угро. Нет, затея разумная, подобное лечат подобным, похмеляются вчерашним, и нормального делового ждет на этом поприще успех. Кто спорит.
Но знание о 20-х куцее, задокументировано разве «Зеленым фургоном», и его не хватит на много серий в двух экземплярах. А ведь еще не сказал свое слово канал «Россия», а там тоже есть ретроманы, и у них тоже дети просят за наган и кожаную фуражку.
В итоге там и здесь имеем ушлых беспризорников, готовых за мильон разведать и донести, а что такое мильон в 26-м году, вам расскажет нарком Скворцов-Степанов, это же слезы. Там и здесь аидские барыги, поломавшись для виду, сдают людей буквально с потрошками. Там и здесь половые лебезят, шмары шлёндрают, и даже одичалый большевик в обоих фильмах похож на зомби с Донского кладбища. Идея хорошая, но лучше не повторяться.
Притом в одном месте Ленинград, в другом Ростов, а это ж на разных концах ойкумены, Север и Юг, вы что.
У «Подкидыша» отличный режиссер Борматов, отличный сценарист Новоселов и много отличных продюсеров, и у всех отличный вирус антикоммунизма. Во всем у них виноват Маркс, растление от народовластия, и Ленинграду лучше было Петербургом, хотя у Ф. М. Достоевского на этот счет свое мнение. Слушайте, гои, и пусть Борматов тоже слушает. Сейчас не время грызться красным и белым, этим излюбленным национальным спортом мы займемся, когда закатится Америка, ляжет под Африку Европа и вымрет маленькая, но злобная Литва, после смерти Баниониса я их тоже не люблю. В стране запрос на социальный мир, и классовая борьба в сети – полуграмотная у красных, нервно-обиженная у белых – пусть не обманет никого. К тому же человек, пришедший слушать байку, в гробу видал правду о зверствах Чеки, а у кого в сердце Соловецкий камень, не придут слушать байку. Тут надо решать, с кем ты, мастер культуры, – и регулярное наложение игривого мотивчика «Маэстро» на великий перелом дает веру в правильный выбор. Рампы свет нас, таки да, разлучает.
У «Ростова» отличный режиссер Дроздов, отличные сценаристы Ямалеев и Головенкин, и среди продюсеров замечен сам Дж. Файзиев, это марка. Жиган Козырь с лицом артиста Смольянинова[18] за заслуги в области красного колеса принимает ростовское угро и становится лютым врагом фармазонов-людоедов-маньяков-барышников, а также белого подполья, которое сдуру убило его жену, а могло бы жить и жить. Вселенское безобразие военного коммунизма позволяет ловко балансировать меж явью, жутью и охотничьими рассказами, что хорошо для жанра. Язык южный горячий, Ямалеев его знает давно, имя Головенкина прежде не встречалось, но теперь будем знать. Народные мудрости вроде «Дон глубокий, всех примет» стоит запомнить отдельно.
Простая мысль, что среди красных и белых дряни поровну, кому-то может показаться парадоксальной и даже шальной – но она первый шаг к гражданскому миру всех остальных, а чтоб не травмировать правдолюбцев, классовых антагонистов перебьют почти поголовно. Из четырех прекрасных дам в живых оставят одну, которая потолще, – хороший выбор, хотя я бы пожалел маленькую (да, вкусовщина). Только за товарища Буденного можно не беспокоиться, он вечен.
«Красиво не соврать – истории не рассказать», учил он в фильме «Неуловимые мстители», и с тем связана единственная жаль. Режиссер Дроздов ведет линию, держит и не отпускает, но мизинца не доворачивает в мистике. Если одноглазому чекисту с волшебной фамилией Юдиньш (помесь злого еврея со злым латышом) жгут пятки и вырезают второй глаз, а он в следующей серии как новенький – это уже прямой намек товарища Ямалеева, что в кадре суккуб, Терминатор, красный Голем, и инфернальным чудовищем его и надо снимать. Если от расстрела Козыря в последний момент спасает сам Буденный, то он же должен быть натуральным Ангелом Света, иначе одно неправдоподобие. А то ростовчане в сети принимают все за чистую монету и сердятся, что и говор не тот, и все было совсем не так, и Терминаторы с Буденными к ним в Ростов заезжают редко, так что где автор такое увидел.
Что в сказке-лжи совершенно не важно.
Больше ада, любят рекомендовать в сети – и ведь на этот раз ну ни чуточки не ошибаются.
Но все равно, люди сделали хорошее дело, даже два, несмотря на сходство. Скажем им наше пролетарское спасибо.
Как закалялся гриль
«Цыпленок жареный», 2022. Реж. Елена Николаева
Хроника передела спиртоводочного рынка времен НЭПа разволновала нацию сильнее Украины. Первый канал, будучи витринным, и так служит мишенью массовых проклятий – но коллективное панно чекистов, маньяков, профурсеток и аптекарей выбесило даже классовых антагонистов. Системно гневные вопросы подразделяются на три рукава.
Как с такими отборными кадрами, как Пегова, Сухоруков, Лавров и Яценко (и да, да, все та же Любовь Аксенова в кудряшках комсомольской богини!), удалось состряпать такое несъедобное ничто?
За 10 первых серий лиговский туз дядя Коля в исполнении В. И. Сухорукова пообедал 12 раз – является ли это обязательной приметой нэповского угара и сколько еще раз доведется лицезреть дядю Витю глодающим мозговую косточку?
Мы здесь на форуме одни будем маньяка искать или ЧК хоть под конец фильма почешется?
Постараюсь кратенько ответить на все три.
Взросление и становление креативного пула картины – сценариста Алейникова и продюсеров Дишдишяна и Мовсесяна – пришлись на золотой век безвластия 90-х, мало отличимый от НЭПа 20-х. Нация бедствовала и сбывала с рук семейное барахло. Молодое государство, дабы нормализовать финансы, отдало на откуп частнику торговлю, общепит, самогоноварение (паленая водка во все времена честно звалась самогоном), медиа и шоу-бизнес. Лица нетрадиционных национальностей тотчас объединились по национальному признаку в редакции, банки, оргпреступные группировки и прокатно-производственные конторы и принялись возмещать недополученную прибыль времен всеобщего равенства. Много ели, много плясали на столе, норовя почаще перенести банкет в царские покои. Цветные пальто сицилийских гангстеров, песни про цыпленка и шарабан, барская посуда и право безнаказанно пинать нестрашный коммунизм (как в 20-е – нестрашного Бога) волновали кровь радостных насекомых. «Нынче время антигероев пионерского кино, – говорила тогда Татьяна Москвина. – Тех, кто на тумбочки замок вешал и тайком от звена под одеялом жрал».
Вот памятник тем блаженным денечкам, слегка задрапированным под ранний социализм, они и воздвигли. Фильм надоел большинству с первых же кадров ввиду полного отсутствия сюжета. Аннотация гласила: «Криминальный мир Петербурга во главе с дядей Колей начинает крышевать нэпманов». И? Что дальше? Это кино про кушающего дядю Колю? Все. Ничего дальше. Это кино про кушающего дядю Колю. Линия маньяка-потрошителя для того и высосана из пальца, что кроме хавки и дули Советам в «Цыпленке» ничего нет. Подают горячее. Поют про стопку водки. Мальчики-нахальчики играют на бильярде. А чекисты-кокаинисты, ненавистные барыгам, как любая власть, мешают культурно отдыхать. В пятой серии простой народный человек засаживает серп в лоб красному человеку с плаката «Ты записался добровольцем?». Друзья и знакомые Кролика в восторге. Был там, помнится, персонаж Сашка Букашка – вот ему особенно понравилось.
Рожденные ползать сказали свое веское слово всем остальным.
«Поет и плачет, / И слезы прячет / Весь мир голодных и рабов!» – юродствовала Пегова среди канканных курв.
Дай Дишдишяну волю – он бы из «Цыпленка» «Санту-Барбару» отгрохал, серий на 280. И в каждой бы дядя Витя Сухоруков, плотски причмокивая, кушал котлету де воляй, как в своей первой главной роли в фильме «Бакенбарды» о тех же похабных 90-х. И Пегова бы пела, а чекисты нюхали, а налетчик Родя изрекал разочарованные стишки для млеющих девочек, а девочки млели. И действие не двигалось бы ни на миллиметр, потому что авторам нравится не история, а антураж: угар, кич, культ из еды и троллинг большевиков – все, о чем в детстве мечталось, да приличия не позволяли, но кончились. 90-е были праздником саранчи, и 20-е были праздником саранчи, и в обоих случаях саранчу уняла центральная власть – за что ее теперь и надо изображать скопищем таких же растленных упырей, как и авторские протагонисты дядя Коля, Родя, бандерша Дина и ротмистр Кочерский.
В песне любимого героя 20-х мелкого проходимца Остапа Сулеймановича Бендер-бея звучали великие слова Юлия Кима: «Замрите, ангелы, смотрите – я играю».
Новый мир песню переиначил: смотрите, мол, граждане, я ворую и ем. И разлагаюсь, и на власть вашу кладу с прибором. И марухи мне песенки поют.
Ну, че.
Смотрим-смотрим.
Часть 3. Вчера
Утопия: от расцвета до распада
«Вчера» стало у нас блатяцко-масскультовым («Вертинский», «Ликвидация», «Мосгаз», «Гурзуф») с некоторой примесью умирающего государства («Светлана», «Оптимисты», «С чего начинается Родина»). Даже война превратилась в территорию разбитной уголовщины и махновских методов боя и сыска. Объединяющий криминал и масскультуру «Вокально-криминальный ансамбль» мог бы стать событием, кабы идея пришла в более светлую голову.
Безусловным синтезом зоны с эстрадой стали фильмы о 90-х.
А я дедушку не бил, а я дедушку любил
«Страна Советов. Забытые вожди», документальный цикл, 2016. Реж. Павел Сергацков, идея Владимира Мединского
Как все теперь знают, Ленин был гриб, а после него страной правили поручики Ржевские. Они только и делали, что квасили, куролесили, портили девок и зырили ночь напролет кино с похабными комментариями. Все, что происходило при них в стране, – делалось против их воли, само. Всеобщая грамотность, современное образование, тяжпром, оборона, бомба, кино, бесплатная медицина, вирусная иммунология, конструктивизм и неоампир, – все образовалось само, посредством эволюции; о спорте и космосе даже поминать неловко. На спорте и космосе Ржевские заехали в рай еще при жизни, хотя всем ясно, что новая эра началась с высадки известно кого на Луну.
Справедливости ради стоит признать, что вульгаризацию центральной власти красные когда-то замутили сами, а после им прилетело бумерангом. Бесчисленные памфлеты и срамные картинки про Николашку, императрицу с Распутиным и прочую кувырк-коллегию в начале века успешно расшатали трон, а десятилетия спустя обернулись и против создателей этого грозно-грязного оружия. К середине века подлый стиль будущей передачи «Городок» переняли и наши атлантические «партнеры», диктующие нормы бонтона и моветона: в 1940 году там наделал шуму пошлейший и категорически несмешной фильм Чаплина «Великий диктатор». У нас десакрализация враждебных режимов и обращение зла в клоунаду давно были общим местом, а буржуям казалось в новинку, они с этим капустником до сих пор носятся, как с писаной торбой. Сегодня чуб Трампа, уши Обамы, нос Никсона с налипшим комаром и каблуки Терезы Мэй вверх тормашками знаменуют многажды объявленный закат атлантической цивилизации: раньше так можно было только с нами, фюрером и Арафатом (на крайняк с де Голлем), – а теперь цирк общий, неприкасаемых нет.
Тут-то нарком национальной идентичности товарищ Мединский и взялся задним числом возвращать власти некоторые заслуженные привилегии – например, право на ровный разговор без рож и высунутого языка. Оказалось, что это весьма нелегкая задача. Что говорить о Берии иначе, как о палаче народов и растлителе малолеток (где все эти тьмы изнасилованных школьниц, ау!), как бы и нельзя – а он, между нами, создал бомбу, связав труд подчиненных ему ученых с работой подчиненных ему же разведчиков. Что Молотов рулил дипломатией страны в условиях стремительно меняющихся альянсов и лавировал между стратегическими противниками, от века желавшими нам только зла, – поэтому дразнить его «чугунной задницей» вольно плебеям, но не пристало гражданам. Что роль Жданова в русской истории не ограничена хамством Ахматовой – были еще, на минутку, 900 дней безвылазного управления блокадным Ленинградом, которые Анна Андреевна провела, хвала аллаху, в Узбекистане, а Андрей Александрович – там, внутри.
По ходу открываются вещи, людям знающим давно известные, но так и не ставшие аксиомой для массы соотечественников.
Что самоубийственную для России гражданскую войну у нас начал чехословацкий корпус, без которого у свергнутых классов даже надежд на реванш возникнуть не могло.
Что Западная Украина-Белоруссия отошли к Польше не по Брестскому миру (немцам, проигравшим войну, пришлось оставить занятые территории, как и предрекал Ленин), а по результатам начатой Пилсудским и неудачной для нас советско-польской войны.
Что при всех неудачах и бессчетных потерях финская война была нами выиграна, а граница отодвинута на 150 км от Ленинграда, где находится и сейчас.
И много чего еще.
Авторы принципиально отказались от фрагментов художественного кино с участием своих героев, воспользовавшись игровой реконструкцией, – на редкость удачной. Обычно в этом жанре из фильма в фильм кочуют громовой стук чекистов в дверь, с лязгом захлопывающаяся решетка и что-то кричащие с трибуны неприятные мужчины – эти страсти режиссер Сергацков отмел сразу, его герои чаще думают или шагают с охраной по Кремлю, чем делают нечто форсированно зловещее.
Его и сценаристов усилиями лидеры ВКП(б), слывущие в массовом сознании комическими пигмеями с плохим русским языком, явлены государственниками, создавшими современную Россию. Нефть, бомба, высшая школа, транспорт, межнациональный мир, на которых держится сегодня страна, были созданы, разведаны и пущены на общее благо в самый скомпрометированный ныне период. Расставить в этом прошлом национальные приоритеты и с удивлением осознать, что в долгосрочной перспективе делалось все не так уж и плохо, а в целом-то даже и хорошо – задача текущего периода большой реставрации, так бесящей наших самых последовательных доброжелателей.
Не говоря уж о том, что нынче, когда слово «революция» стало весьма популярным в мелкобуржуазной среде, всяких там Украинах с Гонконгами (Париж уж двести лет никак не уймется), не лишним было бы напомнить, как делаются революции, с какой скоростью за них вышибают из учебных заведений (Молотова – трижды) и сколько за них добрые люди в темнице сидят (рекордсмен Дзержинский – так все одиннадцать годков).
Глядишь, и популярность революционных выступлений на спад пойдет. Все к лучшему.
Как мыши кота хоронили
«Волк», 2020. Реж. Геннадий Островский. По мотивам романа Александра Терехова «Каменный мост»
Терехов – из трех-четырех лучших авторов, пишущих сегодня по-русски. Как и остальные двое-трое (назову еще Иванова с Прилепиным) – провинциал. Как и они – скорее, имперец. Как и они, собирает из пыльных осколков камней, судеб, документов грозный пазл национального мифа. Для верхоглядов «Каменный мост» – история убийства дочки посла сыном наркома от неразделенной любви. Для прочих – нить связи новейших времен с советской реконструкцией, породившей уникальную расу господ, красных нибелунгов, неподвластных Божьему суду, верных одному богочеловеку и хранящих обет молчания о первых годах супердержавы даже на ее руинах.
Автор осторожно, как сапер, прикасается к величию. А его мегароман об имперской боли, славе и неразгаданной военной тайне берется ставить сценарист фильмов «Еврейское счастье» про эмиграцию, «Русский регтайм» про эмиграцию, «По имени Барон» про эмиграцию и «Сочинение ко дню Победы» про захват самолета с целью показать, как здесь страшно жить. Это все равно как прозу Шаламова отдать в постановку бывшему чекисту Фридриху Эрмлеру (а что, человек в материале).
По книге, отставник внешней разведки (конечно, сам автор) роется в архивах и престарелых свидетелях из Дома на набережной, вскрывая подоплеку давнего романтического убийства, переводящего мир полубогов на совсем уж дохристианский и недоступный пониманию уровень. Дети советской элиты в разгар войны создают фашистскую организацию – не для помощи Гитлеру, а чтоб стать Гитлерами самим. Эгалитарные принципы небесных отцов не устраивают их полным отрицанием наследственного права: власть не передавалась по прямой, а деньги в СССР не значили ничего. Разматывание ариадниного клубка приводит героя к странной когорте миростроителей, не оцениваемых в категориях добра и зла: греческие боги тоже творили со смертными всякое и были эстетическими эталонами для партии НСДАП.
Островский, переписав роман процентов на семьдесят, делает из него фильм про зверства ЧК. Империя у него дрянь, император ничто, чекисты троглодиты, а нечекисты сявки, и всю их историю лучше загнать барыгам на барахолке. Навек обиженный на Советскую власть за уроки мужества, разрыв с США и дефицит штанов, режиссер придумывает герою храбрую фамилию Волк – чтоб уж копал до донышка. Волк с остановившимся лицом Д. Шведова копает. Средневековая трагедия небожителей, сцепившихся со своими совсем уж ницшеанствующими детьми, вырождается в комикс, как пигмеи убивали пигмеев. Бериевские гангстеры Эйтингер и Васильевский (под которыми следует понимать главных ликвидаторов НКВД генерала Эйтингона и полковника Василевского) лично ездят по миру и режут в кинотеатрах посольскую шваль. Киллер Безрук, выдуманный для мотивации всеобщего страха, постоянно жлобски жрет. Посол в США побирушничает на оборону. Желая любой ценой унизить отцов ненавистного государства, Островский сталкивается с неизбежной мелкостью их жертв. «Я не песчинка!» – оспаривает очевидное обреченная принцесса советской дипломатии. «Я не таракан!» – вторит ей из современности хлыщ, торгующий ворованными архивами, – и слышен в его дисканте голос самого режиссера. А на экране все равно видны одни затхлые углы, сальные поверхности, остатки пищи и ноги больших и страшных людей. Да-да, жутких негодяев Петрова с Бошировым, которые до сих пор пожирают наших детей.
Разные нации по-разному рефлектируют периоды бесчестья. Немцы и японцы об иноземной оккупации молчат, как на допросе. Ни слова про голод, насилие, женщин, продающихся за консервы, и брезгливый грабеж победителей. Итальянцы рассказывают об этом в деталях всем своим послевоенным кино – как их девки задирали подол, не переставая лаяться с соседками за белье и шоколадку. Кстати, и свое слово «таракан» – папарацци – сделали международным именно они.
Нашу войну и годы вокруг периодом бесчестья не назовешь – хотя именно так их и пытаются представить советоненавистники. Сегодня в России человек определяется именно отношением к тем временам. Есть глухари, которым бы только в барабан бить. Есть люди достоинства, ценящие масштаб потерь и достижений.
А есть Островские, Аксеновы и Сванидзы, у которых от величия остаются произвол, страх и сияющая Америка с патефоном.
Не тараканы.
Волки.
Банан и лимон
«Вертинский», 2021. Реж. Авдотья Смирнова
Дуня всегда благоволила изгнанникам и всегда хотела миллион и дом на Капри.
И читать в шезлонге, и злословить с компаньонками по адресу ближних, дальних и превратностей судьбы. И вглядываться в даль моря с меланхолией.
Неприкаянные комедианты с нансеновскими паспортами, желчные пилигримы великой надтреснутой культуры, унесенные ветром приживалы-невозвращенцы – вот ее коллективный герой, утомленный своим скверным коллективным характером. Бунин, Дягилев, Лифарь, Нижинский, приват-доценты и дочери камергеров поедом ели себя и других, этой рафинированной вороньей слободкой дополнительно отравляя свое прискорбное существование. Вертинский на их фоне был сущим ангелом добра и великодушия, и пройти мимо этой судьбы было бы форменным преступлением.
Своей кочевой биографией он связал все четыре столицы белого зарубежья: Стамбул, Париж, Берлин и Шанхай. Прочие старались укорениться где-нибудь наверняка, и только он с легкостью менял адреса, менял имена, зная, что везде заработает на сладкий кусок. И везде с шиком гениального лицедея мимикрировал под нравы среды обитания. В жуликоватом Стамбуле водился с контрабандистами, таскал бумажники и влип в историю с подпольным катраном[19]. В жеманном Париже истязал себя любовью к роковой воровайке в ожерелье а-ля Луиза Брукс. В Берлине сделался форменным манекеном царства регламента и выпирающего человечьего мяса (трудно передать, с какой сладкой ненавистью к дойче-стилю сняты в берлинской серии лезущие из мясорубки змейки свиного фарша). И во всех вариациях отвратительного была своя упадническая красота, отменно гармонировавшая с мироощущением жрецов серебряного века.
На беду, избранная Авдотьей Андреевной субкультура известна самым откровенным картинным мазохизмом. Ее герои мучаются ото всего: грубости, бестактности, неразделенной любви, тоталитаризма, пошлости, а также предубеждений традиционных обществ к наркотикам и однополой любви. Маска унылого Пьеро оттого и имела столь громкий успех в диаспоре потерявшихся неудачников – история, казалось, сама подогнала камерному артисту гранд-аудиторию, которой сильнее всего нравилось страдать от грехов Отечества. Поэтому стоило зайти речи о возвращении – наметился разрыв шаблона. Смирновский герой обязан был дострадать, домучиться без родины у теплого моря, иссохнуть в вялую заморскую куклу и любить себя подальше от бездарной страны. А он – вот подлец – народил девок, вывел в артистки, дал три тысячи концертов дома и был так же счастлив, как в белой Одессе, Париже и Шанхае, ибо минорную маску носил для сцены и отлично себя чувствовал в кабаке, мансарде, шанхайской «Магнолии» и советском «Метрополе».
Такое простить было никак нельзя. Как и эмиграция, и все заинтересованные иностранцы, Смирнова увидела в России только скверные сортиры (упомянуты за последнюю серию трижды), наглых управленцев, пытки-лагеря и отсутствие женских сапог в разгар войны в Чите. Притом реальный Вертинский был в полной эйфории от репатриации: решения о звездах такого уровня мог принимать только лично Сталин, а это было гарантированной охранной грамотой и от нужды, и от каторги. Но чего не напридумаешь ради сладкой душевной боли.
Массовый курс на возврат породила в эмиграции война. Вертинский объездил с концертами всю передовую – о чем в фильме не сказано ни слова. Вместо этого весть о Победе настигает его на съемках какой-то героической шняги – приводя к объятиям артистов в советской и немецкой форме. Конечно, свойственное смирновскому кругу отождествление коммунизма с фашизмом хорошо известно – но всякому ж непотребству надо бы и меру знать[20].
Зато к безусловным плюсам постановки следует отнести исполнение главной роли. Фильм хвалят и бранят, но в одном редкостно едины: Алексей Филимонов – очень большой артист, и давно уж пора ему войти в избранный круг лицедеев, которые «всем надоели». На всех форумах и на все корки распекают сегодня Петрова и Козловского, как прежде Безрукова и Хабенского, и в тот тесный круг, право же, не каждый попадал – а Филимонову уж точно время подошло. Не первый случай, когда артист с усталой и мудрой усмешечкой оказывается много выше половины того, что ему предлагается играть.
Что до непотребства русских сцен – странно корить серебряный век за космополитизм и разврат. Смирнова, пусть и с диссонирующей витальностью, всегда позиционировала себя дамой декаданса, и решение Вертинского вернуться домой (пусть даже и к «метропольным» зеркалам) не могло ее не опечалить, не разгневать, не разочаровать.
Столько ж прекрасных мест на свете – вот Капри, например.
Лопух вы, право, Александр Николаевич.
Я за линию твою в Соловках тебя сгною
«Обитель», 2021. Реж. Александр Велединский. По роману Захара Прилепина
Французский диалог в начале толстого романа сразу обнаруживает авторскую амбицию. Была в нашей словесности еще одна Большая Книга из русской истории, начинавшаяся с обмена французскими репликами, называлась «Война и мир». Там, где Толстой живописал Россию в войне, Прилепин – Россию за решеткой. Беседовали у него начальник Соловецкого лагеря Эйхманис (никаких аллюзий с военными преступниками, реальное лицо) и заключенный Вершилин о тонкостях сбора черники в пасмурную погоду. Здесь уже аллюзии были, ибо фраза «В труде спасаемся» напрямую восходила к изречению «Труд делает свободным», венчавшему ворота немецких концлагерей. Прилепин, которому большие формы удаются не хуже малых, собрал в свой ковчег офицерство, священство, мещанство, крестьянство, искусство, воровство и революционное сектантство (символично, что и конвойную службу несут осужденные чекисты). Свободных нет, невиновных нет: герой Артем Горяинов сидит за отцеубийство, юродивый Филиппок – за матереубийство, поручик Бурцев – за разбой, Вершилин пытал людей у Колчака, и даже батюшек упекли не за сан, а за антисоветскую агитацию с амвона. Соловецкий монастырь, где встарь терзали вероотступников и смутьянов, – наилучшее место для религиозных аллегорий о грехе, стоицизме, каре и глобальных невеселостях национальной судьбы. Религиозные войны всегда отличались длиной и свирепостью – а великая и досель не законченная Гражданская война в России, конечно, была столкновением вер.
Перенос этого многообразия смыслов на экран – дело почти непосильное: любой недосол и пересол в лагерной теме карается антагонистическими сектами люто (уже нашлись бывалые политкаторжане, которым в фильме зверств недостает). Тюрьма некиногенична: ну, не любит зритель смотреть на библейского размаха мучительства, хоть и никогда не признается в этом. Зрителю нужен герой-стоик, а таких в зоне не терпят, быстро обламывают гордецов; хорошо еще, режим в 1927-м до поры не ставил задачу обратить людей в мокриц – казнить казнил, но с должным уважением.
Велединский справился. Удержался от всего паскудства, которым славится кино на лагерную тему: лозунгов про загон человечества к счастью, хроники созидательного труда под песню «Где так вольно дышит человек» и прочих обличений совдепского лицемерия. Собрал все вместе. Режим. Спектакли. Чернику. Убийства. Философские вечера. Штрафной зиндан. Блатных. Язвы. Французские диалоги. Облупившиеся росписи на стенах. Один только саундтрек, в котором соседствуют «Интернационал», «Санта Лючия», «Хризантемы» и «Яблочко», «Марш авиаторов» и «Танго магнолия», «Вокализ» Рахманинова и «12 разбойников» Некрасова, дает идеальное представление обобщенной русской души 1927 года. А кому зверств мало – можно было бы по образцу вайдиного «Канала» дать предуведомление: «Всех, кого вы видите на экране, убьют». Красных и белых, ЗК и вохру, попов и блудниц, фраеров и блатных – за вычетом пяти-шести, из которых двое – реальные люди, академик Лихачев под именем Мити Щелкачова и первый начлаг Ногтев, оттрубивший потом восьмёру. Много, много разбойники пролили крови честных христиан. Да и нечестных. И не христиан. И своей разбойничьей.
В ролях главных антагонистов Эйхманиса и Горяинова заняты два исполнителя, которые «всем надоели», – Безруков и Ткачук. Надоедают у нас из-за аккордной занятости, как правило, большие артисты. Не их вина, что Россия последние семь лет заново переосмысливает свою историю с литературой – не давая лучшим засидеться и выждать спрос. У Прилепина Эйхманис говорил, «кривя улыбку», – ну и кто, кроме Безрукова, так может? Разве вот этот же Ткачук.
На весь фильм сыщется лишь один вкусовой сбой – беспричинная страсть авторов к белому воинству. Ад уродует всех – но те, кто ада не видел, спешат выгородить социально близким отдельный благородный закуток. С этой целью в лагерном театре ставится булгаковская «Белая гвардия». Господи, кто, когда позволил бы на Соловках ставить «БГ», будь она хоть трижды любимой пьесой Сталина? Кто бы дал «бывшим» разгуливать по территории в ремнях и погонах с песней «цок-цок-цок, по улице идет драгунский полк»? Тяга наших глубоко штатских мальчиков воображать себя офицериками с хоругвью достойна внимания психиатра – как и назойливое вкрапление в текст гумилевских строчек про хамов и цветаевского «Белая гвардия, путь твой высок». Чей путь высок – Вершилина, щипцами вырывавшего из людей мясо, или Бурцева с его гоп-стопом? Ключевая прилепинская фраза из эпилога по понятным причинам в фильм не вошла: «Я очень мало люблю Советскую власть. Но ее особенно не любит тот тип людей, который мне, как правило, отвратителен. Это меня с ней примиряет».
Однако, за вычетом сказанного, продюсер Тодоровский вместе с режиссером и сыном-сценаристом сделали великое дело.
Зачтется.
Не здесь, а в местах, с которыми сверяется Прилепин.
Под советским игом
«Зулейха открывает глаза», 2019. Реж. Егор Анашкин. По роману Гузель Яхиной
Главного гаденыша в книжке звали Горелов. Супер. «Больше всего Зулейха не любила Горелова. Его никто не любил», – такое чтение будоражит и бодрит. Как и весть, что злого Горелова играет добрый А. Баширов. Уж и не чаял породниться.
Всем остальным сага о раскулаченной татарке воображение не потрясала. Единственная перспективная линия о тирании в мужнином доме (намекавшая: нам, татаркам, все едино – что ссыльное ярмо, что семейная плеть) была скоренько свернута во имя эффектных красных зверств. Дальше площе. Рождение на северах у Зулейхи мальчика Юзуфа (Иисус, не иначе – в ссылках одни Иисусы и родятся). Лепка из хлеба на потеху голодному вагону бюстика Сталина (по всему видать, не голодала Яхина ни дня). Сто двадцать восьмой в нашей литературе рассеянный еврейский профессор. Слог студента литобъединения. «Глазища в пол-лица», «распахнутый взгляд», «неугомонный птичий щебет», «рука повисла плетью», «сжимал до хруста в костях» – чем эта графомания тронула сорок сороков не жалевших елея литераторов, умом не понять. Разве вот этим: «На карте сияло гигантское алое пятно, похожее на беременного слизня, – Советский Союз». Людмиле Улицкой[21] непременно должно было понравиться.
Литературу, мир, историю у наших моторов общественного мнения еще сто лет будет определять Сталин. Репутации Хрущева и Брежнева (натянуто утепленная у одного и хамски ядовитая к старческой немощи другого) продиктованы единственно тем, что один Сталина хаял, а другой признавал вклад. Вот и следующую, по-настоящему сильную книгу Яхиной «Дети мои» опять хвалили за Сталина (которого в ней страниц десять, а остальные пятьсот – о том, что все беды поволжского немецкого хутора от революции до коллективизации начались с изгнания в леса единственного интеллигента учителя Баха, а не прогони деревня умника – и революции бы никакой не было; мысль парадоксальная, но мощная). Как и следовало ожидать, шуму о «Детях» стократ меньше, чем о «Зулейхе».
Ровные унылые ужасы вожди канала «Россия» ожидаемо превратили в русское садо-мазо. Мало им было ежедневного падежа ссыльных от истощения – они еще и красноармейцев заставили по детям стрелять. Мало утопления баржи с раскулаченными – все начальники голодных времен показаны раскормленными боровами. В желании изобразить красные власти фашистскими оккупантами канал заступил границу дозволенного массовым вкусом. Вполне приняв зверства и пролетарскую спесь синих фуражек, аудитория взорвалась в ответ на демонизацию буденовок со звездой: рейтинг первой недели 5,4 – это форменная катастрофа. Выбор постановщика, по всей видимости, диктовался успехами г-на Анашкина в переносе на экран софт-порнографического сюжета «Кровавая барыня» (о Салтычихе). Хроника национальных бедствий все же требует известного такта, а режиссер куда более преуспел в окультуривании насилия и секса. Последнего у Яхиной оказалось маловато – и краткое упоминание о похотливой Настасье расползлось в сквозную линию Ю. Пересильд в галифе и махновской папахе. Если в теплушках люди мыкаются – надо в штабном вагоне для контраста окороками сверкать. Написано же у автора: «сливочная кожа пышного бедра» – у кого в цеху бедро сливочное? Где Пересильд? Подать ее сюда.
В Госфильмофонде сохранилось кино, когда-то снятое у нас немецкой оккупационной администрацией – как падлы-большевики мучают трудовой народ. Народ мучился, терпел, брел по снегу в Сибирь, но под конец было ему счастье: пришли немецко-фашистские освободители. Единственным отличием этого шедевра от фильма про Зулейху было то, что в нем большевиками правили злые евреи.
В романе Яхиной, кстати, разночтений не нашлось. Уполномоченный ГПУ по Красноярску Кузнец носил имя Зиновий и относился к тому же этносу, что и все Зиновии, все Кузнецы и половина уполномоченных ГПУ. Но авторы, явив крайний размах в разжигании социальной розни, оказались много щепетильнее в национальном вопросе. Товарища Кузнеца играет Роман Мадянов – по всем статям уж никак не Зиновий. Толстый еврейский чекист, парящий ножки на палубе тюремного катера с зэками, – это был бы перебор. Улицкая бы не одобрила.
Геббельсовская пропаганда оказалась честнее. Это если кому-то уж так уж хочется всей правды.
Крылья Советов
«Чкалов», 2012. Реж. Игорь Зайцев
Качели в яблоневых садах.
Девичьи потягуси после ночных посиделок.
Воздушное лихачество за милую улыбку.
Задирательства, хохотушки, стежки да рожки, деланый гнев батьки-командира и комический номер учлетов с накладными крыльями и топотухой – идея стилизовать похождения Чкалова под курсантские комедии типа «Горячих денечков» и «Пятого океана», каких в середине 30-х снималось ровно половина от тогдашнего репертуара, была выдумкой на миллион. Ссора лучших друзей за девушек в беретке, не по адресу доставленная сердечная корреспонденция, букеты в урне и беготня за избранницами были идеальным событийным пунктиром для фильмов о солнечном советском пубертате. Конечно, всей этой любовной канители следовало предпослать жесткий титр, на который авторы не решились и в конце: «Треть героев картины – Чкалов, Анисимов, Леваневский – погибнет на испытаниях. Еще треть – Алкснис, Туполев, Гроховский, Поликарпов – попадет под Большой Террор. Остальных ждет Война. Но пока они строят самое счастливое и дерзкое общество на свете, и не надо мешать им дурачиться». Пусть шалят – драмы им история и так уже отвалила щедро, а припасла и того больше.
Все бы ничего, да режиссер Зайцев тяжеловат в легком жанре – видно это было еще на «Каникулах строгого режима». На мюзикл, комедию, просто водевильный переполох нет у него ни хорошего композитора, ни сценарного скетчиста, ни элементарного знания классики – синхронного закуривания и затаптывания бычков, надписи «СССР» на всех самолетах, портретов Ворошилова (обязательно Ворошилова!) и дебелых блондинок (непременно блондинок!) в мужских головных уборах. А на сплошном бенефисе годных для комедии артистов Дятлова и Мерзликина далеко не уедешь – хоть бы им и даны в усиление военлет Михалыч и зампотех Никодимыч (сам Герой Советского Союза М. М. Громов в исполнении Александра Коршунова и ветеран музкомедии Андрей Анкудинов). Зато налицо провал с предметом соперничьих воздыханий и будущей чкаловской женой: актрисе Светлане Фроловой на фильме 42 года и на искомое чудо в кудряшках она не тянет, сколько ни причесывается в первых сценах под Гурченко. Условный жанр, на который легко списать все неточности в одежде, несуразицы в диалогах и топорную бутафорию, не клеился никак, и в конце первой серии его бросили, как зайку хозяйка, а режиссер «Есенина», «Тобола» и «Диверсанта-2» Зайцев принялся за то, чем был занят всю жизнь – за кино о хулиганах. И Есенин у него был хулиган, и диверсанты хулиганы, и «Тобол» набит хулиганами от царя Петра до поручика Ваньки Демарина. И товарищу Чкалову на роду было написано в хулиганы, тем более что так его и представлял Сталину нарком Ворошилов.
Оставшиеся семь серий хулиган Чкалов только и делал, что приземлялся за столом. Пил со Сталиным, Козловским, экипажем, цыганами, другом Анисимовым и собственным отражением в зеркале. Уже за первые шестнадцать минут фильма ухитрился заработать семнадцать суток губы, а в последующих редко обходился без новых – если бы честно отсидел все, то наел бы ряху вдвое шире, чем у артиста Дятлова, у которого она и так немаленькая.
Прочее экранное время посвящено лихачеству, удали и борьбе с репрессивным государством. Как-то упускается из виду, что конструкторы тех лет гнали взагон, а летчики гробились насмерть не для рекордов, а для тестирования возможностей людей и машин перед зреющей с каждым годом войной. Реальный, а не водевильный Чкалов доказывал, что воздушный бой будет вестись на сверхмалых высотах, и пилоты обязаны готовиться к маневру в опасной близости к земле. Соратники позже говорили, что многие открытые им фигуры активно использовались в завтрашних боях. Ради этого было все – и Сталин с его свирепствами, и потери на испытаниях, и «сырые» модели, и сверхскоростные запуски в серию. В фильме же герой с побед, свершений и задорных осоавиахимовских блондинок уходит в штопор, декаданс, репрессии и развратных брюнеток, преподающих танго, – что для Есенина, может, и годится, а для Чкалова одно непотребство.
Многое объясняет тот факт, что фильм делался еще в дорубежном 2012-м, когда враг был неочевиден, армия в кино выглядела сборищем дебоширов, страна – заблудившимся переростком, а вопросы блондинок и брюнеток казались первостепенными. Уже через два года вернулся тонус 30-х, когда военлеты лихачили для дела, а не для баб, изобретатели роняли очки, но были любимы за порыв, а в конце все разлетались по дальним округам, где все было ясно с подругами, противником и нашим правым делом.
Вот тогда бы и запускать кино о Чкалове с песней «Мы парни бравые» и тройным проплевом через левое плечо.
На разводку в логово врага
«Черные бушлаты», 2018. Реж. Виталий Воробьев
Стоило отрасли воспрянуть, война снова стала житницей и автопоилкой для полчищ беспонтовых сценаристов. Финансирование приоритетное, благосклонность политорганов гарантирована, совсем уж невообразимый шлак всегда примет в отстойники канал «Звезда», им лишь бы про погоны.
Канон военного письма сложился еще в 60-х – не без помощи слывущего по недоразумению большим писателем Б. Л. Васильева. Все эти «брось меня, командир», «жив, чертяка!», «не нравится мне эта тишина» и «мы еще повоюем» были впервые произнесены и тотчас замусолены до блеска еще тогда, но и сегодня в ходу при разгоне хронометража, как кирпичики «Лего». За фразу «Это приказ» по три раза на серию авторшу какой-нибудь «Молодой гвардии» следует бить томом Большой Советской Энциклопедии по тому месту, где у других людей голова. На то и тайна слова «приказ», что право его отдавать присваивает лично министр обороны страны – подписывая все офицерские производства, начиная с лейтенантских. А когда приказами начинает сыпать самоназначенный комсомольский штаб, вспоминается крапивинское: «Приказ дуракам напоказ. Здесь не кадетский корпус».
Сверхзадачей военного фильма становится не победа, а массовое спаривание победителей. Впечатление, что сценарий про войну без скоростного сближения тел уже не принимается к запуску. Новым словом эпохи следует считать постепенное деклассирование военной и гражданской обслуги – всех этих медичек-связисток-поварих-регулировщиц. Нынче на охоту за господами гусарами выходит высший сорт – прокурорши, истребительки, снайперши и торпедистки. Для успешной случки сценарист Коротков в «Истребителях» придумывает не просто смешанные авиаполки, а даже смешанные эскадрильи. Странно, что в общих палатках не спят.
Досыта покуролесив, джентльмены с дамами идут на разведку. Голливуд еще в 60-х обнаружил, что мегасражения затратны и недухоподъемны из-за потерь, а разведчики валят немчуру батальонами – с тех пор вся американская война ведется исключительно диверсионными подразделениями: «Героями Келли», «Героями Телемарка», «Грязными дюжинами» и «Пушками Навароне». Наработки соседей пригодились и нам: со вселенского успеха и впрямь блестящего «Диверсанта» начался золотой век сил специального назначения.
В разведке не обойдешься без чукчи, который «белку в глаз бил» (встретите белку с фингалом, знайте: она встречалась с разведывательным чукчей).
Мода на уголовничков приводит к массовой инфильтрации условно-освобожденного элемента во все отрасли военного производства от флота до истребительной авиации. Освоившись, урки тут же начинают бить чечетку на бруствере.
Вот в таких кабальных условиях (без блатья, баб и разведки к делу не допускать) режиссер Воробьев приступает к съемкам «Черных бушлатов» и держится на очень высоком уровне серии полторы. Снайпершу у него исполняет Александра Тюфтей – живая реинкарнация Ниночки Ивановны Руслановой. Коронные ее амплуа светозарной простушки и хмурой диалектной буки пришлись девушке Александре совершенно впору, а конкуренции никакой, ибо основной спрос ныне на тип «красотулечка» (мерзкое словцо из тех же «Истребителей»). Артист Робак на главкома Северного флота Головко похож не слишком, зато умеет (как и Тюфтей) единолично держать кадр, а это главное. С формой, гражданской шмоткой, колером, диалогом все безукоризненно, и созданная режиссером атмосферность на долгое время заслоняет сюжет.
Но не до конца же.
Снайпершу берут в разведку приблудой – даже не сняв с нее присягу и не присвоив звание. В первом же выходе она от чувств начинает садить с винта по самолету, обнаруживая группу, – но ее не списывают, а берут снова «под мою ответственность», и она тут же хватает за горло захваченного «языка». Для колориту в группу включают охотника-помора и якута-пулеметчика. Для восполнения потерь – блатных из расформированных лично комфлотом (!!) лагпунктов. Морячки, которым надо скрытно подобраться и перерезать охрану, раздеваются в целях скрытности до тельняшек и бескозырок. И вся эта сводная банда истеричек, уркаганов, индейцев-промысловиков и декоративных матросов оказывается последней надеждой штаба флота. В разгар действий командир произносит священную фразу «Дура, я же люблю тебя», которую ленивый зритель слышал раз двенадцать, а профессиональный кинокритик все сто пятьдесят. От имени критического сообщества выношу сценаристам Смирнову и Спиридонову благодарность.
А ведь этот Смирнов когда-то писал «Тревожный месяц вересень» и «Обратной дороги нет». Вот что делает с людьми цеховая и тематическая расхлябанность. Бабы на корабле и блатьё во всех областях жизни.
Что же до режиссера Воробьева, то он давно заслуживает самых лучших сценаристов, которых мало, но на него должно хватить. Как в старом анекдоте: научишься в пустой бассейн прыгать – нальем воду.
Уже можно наливать.
Гимн зеленых человечков
«Диверсант. Крым», 2020. Реж. Дмитрий Иосифов. Третий сезон легендарной франшизы
Единственное число в названии сразу же мифологизировало предмет. Герой у повести А. Азольского был один, у фильма – трое, но имя решили оставить. Диверсант в России – символ веры, смысла и непреходящей дерзкой опасности. Титаны отливались в бронзу и высекались в камне – его металлом была ртуть, подвижная, токсичная, распадающаяся на живые капли и взрывная при скачке температур. Наглый, неуловимый, вездесущий ухарь, обманщик и хват, что любому Кощею сердце вырвет, заспиртует и к своим отнесет, а спирт по дороге выжрет и редиской заест, – таким его и играли самые любимые народные артисты Л. Быков («Разведчики»), Тихонов («Жажда»), Крючков («Звезда»), Бодров («Брат»), Серебряков («Девятая рота») и совсем-совсем безымянные арии в балаклавах из десятой серии «Бригады», дающие в эфир единственную команду «Закат», что означает вселенскую амбу и жирное зарево на горизонте.
«Где ты? Сердце ищет ответа», – выпоет ему сахарным голоском Татьяна Лазарева волшебные слова А. Макаревича[22]. «Встать! Ваше имя Рудольф Шнапс!» – будут орать козломордые особисты. «Ну что, опричники, навели порядок на Руси?» – похвалит сэнсэй Чех. Взвесь дурковатой инфернальщины придаст фильму обязательную для большого кино ауру дикой сказки – того, «чаво на свете вообще не может быть» и что роднит «Иронию судьбы» с «Белым солнцем пустыни», а «Бриллиантовую руку» с «Неуловимыми мстителями». Ровно в миг, когда Победа была осознана второй Пасхой с разговением, благовестом и крестным ходом Бессмертного полка, родился и свой пасхальный балаган с волхвами в камуфляже и ритуальным песнопением «Верю, быть разлуке недолгой, / Знаю, однажды кончится бой». «Диверсант» на десятилетия стал игровым сопровождением Победы, а Первый снова показал, кому по силам изобрести всенародную традицию.
За шестнадцать лет с первого эпизода отошли в мир иной сценарист Валуцкий, композитор Минков, артисты Галкин, Краско, Толубеев, Косых, Табаков, Корольков, Неведомский, Мгалоблишвили, поссорились вата с либердой – но в назначенный час шаркает старая пластинка и живые надевают защитное обмундирование[23]. Сказка начинается. «Снова по сигналу тревоги ты уходишь в далекий и трудный поход».
Будто в насмешку, в новом сезоне старлей-пехотинец велит включить систему распознавания «свой-чужой». На том и строилась интрига франшизы, что угадать своих и чужих в ней практически невозможно. Самые свойские парни в исполнении самых нужных артистов оказываются оборотнями, самые очевидные враги в черный час правильно отвечают на пароль. Чересчур бдительный комиссар после окружения сам подлежит проверке. Радистка слишком внимательно вслушивается в чужой треп. Добрый малый заначил перебежчицкую листовку. Геройский каперанг учился минному делу у Колчака (минера и впрямь знатного). Да и сам старлей-активист на деле является командиром диверсионной роты «Бранденбург» с отлично поставленным русским. «Верить в наши дни никому нельзя, – говорил Мюллер. – Мне можно».
В Крыму старлеям-чистоделам Бобрикову и Филатову надлежит найти и уничтожить того самого каперанга – человека честнейшего и патриота забубенного. Все как всегда. За неделю во всем разобраться, проникнуть, втереться, пресечь измену – но хотя бы в Крыму в сезон, а не в припятских болотах осенью. А под конец врубить на радость людям ниндзевские навыки – ибо рота «Бранденбург» следует морем в Туапсе в полевой форме РККА, а на борту от всей разведки Кавказского фронта – ты да я, да матрос-приблуда (Александр Обласов).
Отлаженная система в умелых руках работает даже с потерей узлов. Подозреваются все – что само по себе увлекательно. «Звезды играют в прятки с луной». Сменивший Андрея Малюкова Дмитрий Иосифов гонит темп, экстренные косяки и новые вводные, как в лучшие годы. Казалось бы, всех тузов старой школы уже заняли в предыдущих сезонах – ан старика-минера играет сам Колтаков, которому Иосифов год за годом дает по козырной роли (Панин в «Екатерине»).
Но всем и так же ясно, что от «Бранденбурга» останутся одни ворота, Крым наш, павшим слава, а лейтенанты в хорошей форме и есть у них еще дома дела.
В 70-х, под бесконечную «Ставку больше, чем жизнь», крепла уверенность: хребет фашистскому зверю поломал капитан Клосс и танкисты с собакой. Сегодня правда наконец торжествует: чистым небом и семьюдесятью пятью годами без бед мир обязан тройке капитана Колтыгина.
Ведь так же, славяне?
Как Зорге казнили за аморалку и членство в запрещенной в РФ организации
«Зорге», 2019. Реж. Сергей Гинзбург
Русский зритель перерос кино о разведке.
Разведка некиногенична. Это долгая и скрупулезная возня с цифрами, кодами и допусками, осторожный и невидимый постороннему зондаж собеседников, ежедневный риск без ощутимого результата. Чтоб увлечь публику, приходится расцвечивать сюжет ненужными ликвидациями, опереточной беготней, перетасовкой фотографий, торчащей напоказ слежкой, тоннами драматической музыки и закадровой речи. Русские единственные на планете влюбились в этот скользкий жанр, потому что проживали в мареве абсолютно мифологизированной надстройки. Десятилетиями их кормили сказками о войне, заводе, громком барабане, потерянном времени, школе и армии, милиции и революции, искренности в литературе и передовом сознании в родоплеменных социумах. Вымысел был искусно сплетен с реальностью и местами походил на нее, но нигде в России не было школ, заводов и воинских частей, хоть отдаленно похожих на экранные. Поэтому русский человек обладал повышенной терпимостью к чепухе, гону и абсурду, слова «кино» и «цирк» считал синонимами и сердился только в случаях особо вызывающего бесстыдства.
А теперь вопрос: кто сегодня в здравом уме поверит, что высшему офицеру рейха, пойманному с отпечатками на чужом передатчике, дадут отбрехаться рассказами про помощь беженцам? Или что в полицейском государстве клуша с грудничками сможет уйти от облавы? Или что шеф спецслужбы, зная, что перед ним русский агент, станет вести с ним беседы о ренессансе нацистской идеи?
Когда сегодня сетевые обвинители ставят кому-то в пример «Семнадцать мгновений весны» – они помнят лицо Тихонова и совершенно не помнят картину. Они бы ее сегодня съели с горчицей и хреном, за Родину и за Сталина. Уже появление серии абсурдистских анекдотов о Штирлице сигналило, что народ 70-х доумнел до опасной черты полного неприятия искусственных систем.
И вот нынче десятижды стреляным воробьям решили показать фильм о Зорге. И там резидент лично едет выручать спалившегося радиста. А полиция его отпускает на разыскиваемом мотоцикле с кровью на рукаве. А слежка скопом бежит за похитителем дамской сумочки, оставив связного без присмотра. А Сталин ежесерийно собирает Политбюро, чтоб осудить моральный облик товарища Рамзая.
Фильм объяснимо грозит стать провалом года. Рейтинги, как сказал бы Сурков, колеблются «околоноля». Сеть едина в гневе, кто-то из пользовательниц интересуется, одной ли ей кажется, что Зорге «сливают», рисуя откровенным мерзавцем.
Не одной.
Сценарист Новоселов параллельно с «Зорге» писал только что показанного «Подкидыша». Это был по-настоящему уровневый продукт, новый «Золотой теленок», с единственным изъяном – лютым, пещерным, клокочущим антикоммунизмом авторов. Все преступления в нэповском Ленинграде у них совершались либо красными матросами, либо ответработниками Смольного, начальник милиции прилюдно кукарекал под Медным всадником, а его отдел разнобойным пением запарывал даже такую беспроигрышную песню, как «Белая армия, черный барон». Разведчик, умерший со словами «Красная Армия, партия, Коминтерн!» должен был вызывать у драматурга очень недобрые чувства, и их видно.
Блестящий выпивоха, мотогонщик и альфа-самец, каким был Зорге в реальности, предстает на экране спитым волокитой, которого зря любят красивые девочки, ежесерийно прощая ему измены друг с другом (не иначе, за соловые глаза артиста Домогарова). Всемирно известные клоуны Сталин и Берия велят радисту отравить шефа за распутство, а чтоб не артачился, сажают его жену в лагерь. Радист все равно артачится, жену все равно отпускают, и она принимается работать на Советскую власть после полугода отсидки. Зная комплекцию артистки Ауг, в отсидку верится с трудом. Сразу двое членов группы валятся в обморок при виде жандармов – приходится врать, что оба беременные, хотя один из них мужчина. Но японцы лохи, всему верят. Японская полиция городит чушь, причем с пятиконечными звездами на фуражках (схожие атрибуты формы позволяют авторам ненавидеть всех действующих лиц без исключения). Режиссер Гинзбург, много больше похожий на Зорге, чем артист Домогаров, ходит по экрану в эсэсовской форме и произносит сокровенное: «Может, меня переведут куда-то из этой японской дыры? Надоели косоглазые!»
Это они ему, значит, в седьмой серии надоели, а всего их двенадцать, и четыре еще впереди.
Слава агента Рамзая когда-то началась в России с показа фильма «Кто вы, доктор Зорге?» лично Хрущеву. «Вот как надо снимать! – кипел генсек. – Знаешь, что все вранье, а ждешь, что ж дальше будет!» (тут-то ему глаза и открыли).
С новым фильмом получилось хуже. И что вранье, знаешь, и что дальше, совершенно неинтересно.
Опять «двойка»
«Начальник разведки», 2022. Реж. Кирилл Астахов
С первой же серии ясно, что фильм про советскую разведку снимали иностранные шпионы. Они всеми силами пытаются прикинуться своими и имитировать знание русской жизни 30-х, но палятся буквально на каждом шагу.
Портрет Сталина висит в кабинете за дверью. Младший лейтенант панибратски представляется наркому Павлом Фитиным и не менее дружески зовет его «товарищ Ежов». Это Сталину он «товарищ Ежов», а тебе – «товарищ генеральный комиссар», и никак иначе. Чекисты, назначаемые в должность, гаркают «Служу Советскому Союзу», будто им орден дают.
Малые дети ведут себя, как нынешние оборзевшие принцы крови. Хамят старшим. Сбегают по ночам дуться на весь мир. За спаленный сарай жопу им не изукрашивают до синюшных рубцов – как было бы в любой, даже номенклатурной семье.
Фашистки из наружного наблюдения ходят на слежку с автоматом в пеленках. Татарин в исполнении осетина притворяется китайцем, прищурившись и надев ермолку, – и японцы не распознают обмана. Руководство разведкой осуществляется криками «Результат где??» и «Идите и работайте».
Когда дипломатический резидент, скрываясь от своих, забегает в консульство за деньгами, безумие становится совсем концентрированным. Дипмиссии за рубежом являются территорией аккредитованной страны – его б там в секунду скрутили. Да, в жизни перебежчик Орлов прихватил с собой круглую сумму – но уж конечно, не в момент, когда у него на хвосте висела вся посольская резидентура.
Где нет косяков – там сплошная «Калинка-малинка» и «Очи черные». Если на улице что-то играют – то «Марш авиаторов». Если в столовой Лубянки – то «Танец маленьких лебедей». Другой музыки шпионы не знают. Если в рейхе на тумбе афиша – то непременно «Голубой свет» Лени Рифеншталь (на экране, меж тем, 1939-й, а фильм 1932-го). Американцы общаются в стилистике макулатуры Василия Ардаматского: «– Что нового в Китае, Билл? – Ничего, Гарри!»
Приличный артист в сериале враз опознается по скептической ухмылке. Игорю Петренко, Егору Бероеву, Дмитрию Куличкову настолько неловко заниматься чепухой, которую предлагает им сценарист и продюсер Чащихин-Тоидзе (типичная шпионская фамилия!), что они все время посмеиваются. Режиссеру Белевичу тоже неудобно, и он скрывается за псевдонимом Астахов.
Есть от чего. Кажется, авторы работают на какую-то третью страну, потому что о фашистской Германии тоже не знают ни бельмеса. Облаву на подпольщиков в рейхе устраивает армия. Немцы только тем и заняты, что говорят «шайсе» и пьют шнапс. Когда советский агент лейтенант Шульце-Бойзен начинает в 39 году (!!) заступаться за еврея, слышен запах очень плохого Голливуда. Он забыл еще «Интернационал» спеть.
Кепки – как из костюмерной «Мосфильма». Гуляющие в парке – вылитая «наружка»: уж больно скверно изображают непринужденность. У газеты «Правда» развернутые заголовки в стиле New York Times. Призывники идут на сборный пункт по Красной площади (куда ж без нее?).
В общем, стоит признать, что в нелегальной работе Первый канал смыслит ровно столько же, сколько во внутренней безопасности, – ни аза. Демарши всякой сволочи в прямом эфире, побеги ведущих новостей, каскадные речи первых лиц канала гг. Урганта, Галкина, Макаревича, Агалаковой, редакторши Овсянниковой, критика Долина[24], вокалиста Меладзе и прочих пригретых особ сделали Первый главным антироссийским змеюшником. Родные человечки, за денежку занимавшиеся мелкобуржуазной профанацией смыслов, вдруг задали себе вопрос, с кем они, мастера культуры, – ответ стал неожиданностью только для руководства ОРТ. Причем не из-за злого умысла, а, как говаривали в фитинскую старину, ввиду преступной утраты бдительности и мягкотелости к чуждому элементу. Фильм о разведке и национальном интересе на Первом после такого заходит хуже.
Какое-то неудобство возникает, как у вечно ухмыляющихся неглупых артистов.
Нет, кому все перечисленное пустяки, дело житейское, – тех с нетерпением ждут у голубых экранов.
Всем остальным пора сказать гнезду подлых перерожденцев и двурушников твердое пролетарское «нет».
Вы мне, гады, еще за Ленинград ответите
«Седьмая симфония», 2021. Реж. Александр Котт
В аннотациях пишут: Седьмая симфония давала надежду.
Что еще может сказать о музыке неуч, сроду не слышавший Шостаковича?
Никакой надежды Седьмая не давала, а будила лютую, клокочущую, вселенскую ненависть. Многоступенчатая тема нашествия, от первого, едва слышного, на кошачьих лапах подкрадывания до мощного лязга непобедимой армады, пришедшей убить страну и людей, рождала единственное чувство, близкое истерике блатной шалавы в «Мой друг Иван Лапшин»: «Рвать, рвать, рвать мразей!!» Всеми калибрами, всеми батареями, тоннами наличного боеприпаса – рвать в лоскуты, в ноль, в требуху, чтоб целого места не осталось. За пайку, за метроном, за Пулково и Синявино, за пять тысяч мертвых в сутки, истаявших до фитиля и угробленных бомбежкой, – под лед, под асфальт, под каток!
Организм, не получающий подпитки извне, жрущий внутренние запасы калорий, жиров, живой материи, – теряет земные чувства. Единственный шанс – возжечь внутри него адов огонь, неугасимую капельку злого пламени. Спасибо, Дим Димыч, спасибо, Карл Ильич, вам спасибо, ангелы с дудками, – вашей мелодией, вашей игрой дотянули сотни тысяч внутри и зажглись миллионы снаружи. Навстречу лязгающему демону европейского совершенства встал черный призрак убитого города – сам и в сердцах остальной страны. Лесорубы, когда идет вниз лесина, кричат: «Бойся!»
Бойтесь, твари, – вот о чем симфония Д. Д. Шостаковича номер семь.
И когда на вступительных титрах умелые руки вскрывают футляры, сощелкивают воедино кларнеты, канифолят смычки, когда служители сворачивают с кресельных рядов чехлы, как маскировку с орудий, когда синхронно идут вверх стволы духовых, ожидая заветного сигнала, – видно, что режиссер Котт знает, о чем делает кино. Седьмая – это не про гармонию, это музыка боя, зовущая легионы и нацию на большое смертоубийство.
В одну телегу впрягает история главного дирижера Ленрадио К. И. Элиасберга (Алексей Гуськов) и лейтенанта городского УНКВД Серегина (Алексей Кравченко), которым поручено собрать и сбить к сроку дееспособный оркестр. Вечный антагонизм интеллигенции и органов сглаживается масштабом задачи: отозвать с фронта, добыть из квартир, выковырять из могил всех, кто отличает ноту до от ноты фа. То, что творят на экране Кравченко и Гуськов, Тимофей Трибунцев и Наталья Рогожкина, ленинградцы Боярская и Смолкин, достойно наградного листа Ставки ВГК. Чушь, которая творится вокруг них на протяжении восьми серий, заслуживает пристального внимания того самого наркомата, который сегодня так модно пинать. С течением серий блокадное население начинает смахивать на один большой балованный детсад, сродни сегодняшней демократизированной России. Направление в оркестр обсуждается, как на базаре: хочу – не хочу, могу – не могу, будет доппаек или нет. Девочка-санитарка бежит с фронта от приставаний комбата, мальчик-оркестрант рисует ей фальшивые карточки, вторая скрипка от половодья чувств доносит на жену дирижера в НКВД – и все это подается как простительная слабость и не карается никак. На экране орудуют опухшие от безнаказанности современные дети, пересаженные на восемьдесят лет назад в умирающий город. Чекиста в оркестре разве что ногами не топчут, хамя всем коллективом в лицо, – так хочется авторам погавкать в адрес органов с безопасного расстояния. Мытый шампунем мальчик-сирота трижды сбегает с детдомовского довольствия в дедову квартиру без крохи еды – такое придумывается только от очень большой сытости. Чем дальше крутится вхолостую перезатянутый сюжет, тем явственней проступают неуместный пацифизм сценариста Алексея Караулова, фирменный оживляж Зои Кудри и сатанинская бездарность Натальи Назаровой, испоганившей когда-то великую прозу ленинградки Веры Пановой настолько, что сериал «Спутники» пять лет лежал без эфира, пока не нашелся терпимый к околовоенному мусору канал «Победа». Такое чувство, что маршалы кинодела Роднянский[25], Мелькумов и Златопольский, разместив свои фамилии на видных местах, напрочь запороли службу тыла и обеспечения, и войскам на передовой – артистам и режиссеру – приходится воевать чем придется.
«Хорошо звучите», говорит Элиасберг новому трубачу.
Вы, Алексей Евгеньевич, вы, Тимофей Владимирович, вы, Елизавета Михайловна, Борис Григорьевич, Алексей Геннадьевич, звучите просто классно – достойно города и его великой обороны.
И дирижер товарищ Котт свою линию ведет на высшем уровне.
Партитура вам досталась дрянная.
И Шостакович здесь совершенно ни при чем.
Его первые семь серий и не слышно почти.
Лемминг рад
«Ленинград», 2007. Реж. Александр Буравский
Режиссер Буравский прожил долгую и калорийную жизнь в искусстве и продолжает ее не без полезности для организма. На заре карьеры написал сценарий «По главной улице с оркестром» – про забытого на лавочке ветерана с трубой. Но мир менялся на глазах, ветераны стали без надобности, и Буравский ответил на новый спрос сценариями «Катала» про шулера и «Мордашка» про жиголо. Тут ему поперла карта, в считаные годы удалось натурализоваться в Голливуде и уже там словить жар-птицу – постановку фильма «Священный груз» про спасение морпехом брата-священника, похищенного русской мафией и КГБ с целью выкупа. Правда, КГБ вышел из моды вслед за ветеранами, пришлось вернуться и вот снять фильм про Блокаду.
В ранних 80-х много таких образовалось умельцев на все руки, готовых снимать хоть что: Афган, Чечню, зону, великую литературу, а хочешь – промо-ролики МММ. Бортко, старший Бодров, Килибаев, Фридберг – крепкие, так сказать, мастера. Универсалы.
Но вот за Ленинград никому из них браться не стоило (да большинство и так сообразило).
Рана открытая, чужих ловких рук не терпит.
А руки чужие видать с первого кадра, с логотипа «Ленинград продакшн».
«Ленинград продакшн», а?
И сюжет чужой – потому что копродукция, а наши подвиги без своих звезд тамошний зритель не хавает. И для пристройки господ Сорвино и Бирна придумывается нелепая линия заморских репортеров, прилетевших внутрь блокады пощелкать народную беду и забытых там из-за русского руководящего свинства, про которое они у себя всегда знали, но так любят послушать заново.
И взгляд чужой, потому что не знает автор ничего ни про комендантский час, ни про большой линкор «Марат», ни про реакцию организма на хроническое недоедание. А знает он только, что в Смольном жрут грильяж, пригревают немецких шпионок и не могут сыскать карту замера ладожских глубин, потому что давно извели всех специалистов за вредительство в пользу Мальты. И даже гендерный баланс соблюден для тех, кого он волнует: на дюжину мужиков одна шпионка, одна артистка, одна корреспондентка и сразу три милиционерши с наганом, феминистское гестапо будет довольно.
И посыл чужой – ровно тот, что яростно и наперебой втирают нам сегодня газета «Зюддойче цайтунг», литературный власовец Быков, режиссер-нонконформист Красовский[26] и радио «Эхо Москвы»[27]. Что враг у нас дома и сидит на самом верху. Что гражданская война не довоевана и самое время начинать снова. Что мерзее управленца, жрущего хлеб с икоркою, нет никого, даже фашиста. Что английская потеряйка, повисшая лишним ртом на полудохлой семье, – своя, потому что из бывших белых, а высший чин госбезопасности, занятый контршпионажем, – не свой, потому что в Кремле, в реглане и из нынешних красных («бей жида-политрука», как доходчиво объясняла немецкая пропаганда, со времен которой не изменилось ничего).
Уж лучше Украина, честно признающая, что мы для них с Кремлем одним миром мазаны и что лучше нас всех перебить на радость свободному миру. А кто-то не признается, а тихо лелеет заветное в душе. Раскочегаривает новую гражданскую под шумок великих битв.
Верхи наши им в этом деле весьма способствуют, кто ж спорит. Потому все у комбинаторов и выгорело в нашем 17-м и нашем 91-м, что уж больно берегов не знали дорогие богоизбранники – наивно чувствуя свою неразрывную связь с массами, которой давно уж не было в помине. А в 41-м не получилось и сейчас не получится, хотя многие в управленческом классе откровенно зарываются. Прошел по стране рубежом четырнадцатый год, разделив ее на «мы» и «они» совсем не в том месте, в каком хотелось доброжелателям. Всем, кто так любит слова «ГУЛАГ», «Шариковы» и «русская мафия».
Не было в Ленинграде-41 ни иностранных корреспонденток, ни шпионок с наманикюренными когтями. И Смольный с Литейным хоть и не голодали, но и не жировали в три горла, как того хотелось бы жрецам гражданской войны. (Жданов не показатель, да и насчет его лукуллова чревоугодия высказывались большие сомнения: не сказка ли?) И совершенно неясно, почему следует часами вникать в обстоятельства жизни британскоподданной в фильме с наглым названием «Ленинград».
Фильм хоть и гадкий, но подлежит сохранению как документ переходной эпохи. Только там вместо отметок «18+» и «Содержит сцены курения» (они в момент съемок еще не практиковались) нужен гриф «Снято до 2014 года».
И все будет ясно.
Хотя и так ясно.
Ведро шнапса за Калининград
«Диверсант. Идеальный штурм», 2022. Реж. Тимур Алпатов
Ящик шнапса за спасение разведчицы из газенвагена пообещали на четвертой минуте фильма.
Это вселило тревогу.
Шнапс, «яволь» и «хайльгитлер» – все, что обычно знают сценаристы о фашистской Германии, и нельзя же вот так сразу заходить с козырей.
«Хайльгитлер» будет звучать от начала до конца, как в часах с кукушкой.
Годы стабильности сделали Первый канал фабрикой по выбраковке любимых нацией сюжетов.
Сначала погорели «Улицы разбитых фонарей». С переходом на первую кнопку сериал, полюбившийся партизанскими методами насаждения закона в безвластной стране, стал сагой о том, какая у нас надежная и озорная милиция. «Менты», воплощавшие стихийное гражданское сопротивление бандитизму и олигархату, выродились в пиар-отдел национального МВД.
Следом шла «Ирония судьбы». Сказка о чудесном сближении московско-питерских интеллигентов давно злила новых торбохватов, недовольных тем, какая шикса досталась никчемному оборванцу. Финал «Иронии-2» ясно сигнализировал, что с Ипполитом (теперь его звали Ираклий) Наденьке будет лучше, сытнее и перспективнее.
Позже были цинично раскрашены «В бой идут одни „старики“» и «17 мгновений весны».
Сегодня очередь обуржуазивания, омещанивания и оболванивания дошла до базового продукта ОРТ – серии «Диверсант». Явным признаком слива проекта стало назначение на новый сезон режиссера Алпатова. Вот уже десять лет он снимает кино про: любовь внедренного в мафию чекиста и дочки главаря («Под прикрытием»), возрождение потухшего ученого через встречу с давней любовью («Синяя роза») и размен наложницами меж русским князем и монгольским ханом («Золотая Орда»). Словом, беллетристическую чепуху, которая, тем не менее, теребит сердца взволнованных тетушек, составляющих основную аудиторию Первого канала (то, что продюсером раньше был не Эрнст, а семейство Дишдишян, роли не играет).
