Читать онлайн Новый Арбат бесплатно
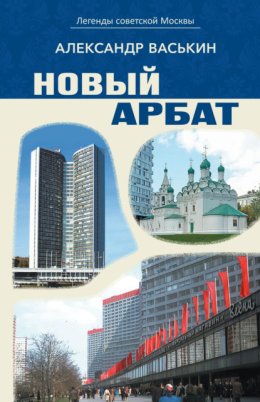
© Васькин А.А., 2023
От автора
Перед Вами – вторая книга из серии «Легенды советской Москвы», посвященной тем улицам и проспектам, что возникли в ту пору, когда наш город был столицей Советского Союза, самого большого государства на планете. Первый выпуск этой серии рассказывал о Кутузовском проспекте – полностью и заново отстроенной магистрали. Кутузовский проспект можно считать витриной сталинской Москвы, исходя из облика тех зданий, что составляют его застройку. Да и наполнение этих домов также ярко отражает свою эпоху, ибо строились они, прежде всего, для элиты советского общества – высшей партийной и государственной номенклатуры, деятелей науки и культуры. Тот факт, что среди них затесались и «представители трудящихся», является скорее исключением, а не правилом.
Совсем другое дело – Новый Арбат, призванный продемонстрировать достижения уже следующего этапа советской истории, связанной с именем Никиты Хрущева. Те десять лет принято называть «оттепелью», подразумевая значительные изменения, направленные на демократизацию советского общества и потепление отношений с Западом. Собственно говоря, Новый Арбат – это и есть результат влияния общемировых тенденций в архитектуре второй половины XX века. Не было в Советском Союзе ранее ничего подобного: абсолютно новый проспект, никоим образом не связанный с прежней застройкой. Такой проспект мог бы появиться в любом советском городе, украсив его. А Москву Новый Арбат изуродовал, став огромным шрамом на теле Первопрестольной. Даже если проводить аналогию с Тверской улицей, которую в 1930-е годы выпрямили в улицу Горького, то и там со старой застройкой обошлись куда более бережно, передвинув многие ценные памятники архитектуры. Чего уже удивляться, что когда планы по сооружению Нового Арбата были обнародованы, они вызвали такое сопротивление в обществе.
Прошло более шестидесяти лет с начала строительства Нового Арбата. И как бы там ни было, проспект стал частью нашей повседневной жизни. Как менялся Новый Арбат за эти годы, какую роль сыграл он в истории нашей страны и судьбах простых (и не очень) людей? Что памятно людям до сих пор? А что и не хочется вспоминать? Об этом и многом другом рассказывает вторая книга из серии «Легенды советской Москвы».
Глава 1. Кто потерял «вставную челюсть»?
«Метелица», «Мелодия», «Малахитовая шкатулка», «Ангара», «Печора», «Бирюса», «Сирень», «Хлеб», «Юпитер», «Синтетика» – что это за названия такие и что их объединяет? Нынешняя молодежь и не скажет, и не вспомнит… А те москвичи и «гости столицы», что родились в СССР, наверняка сразу ответят: да это же Новый Арбат, тот самый, что назвался раньше проспектом Калинина! «И я, и я там был, и пиво-кофе пил!». Для простого народа главной достопримечательностью Нового Арбата стали даже не его огромные «дома-книжки», а прежде всего многочисленные магазины, кафе и рестораны, манящие своими неоновыми вывесками, стеклянными витринами и вкусными названиями.
Кто в обеденный перерыв не заскакивал в гастроном «Новоарбатский»? А с детишками в выходной поесть мороженого в кафе «Метелица»? Или купить пластинку в магазине «Мелодия», как магнит притягивавшем меломанов? А маме на Восьмое марта духи «Красная Москва» в парфюмерном магазине «Сирень»? А саечку свеженькую в магазине «Хлеб», куда не менее двух раз в день завозили булки и батоны (тогда еще без целлофана)? «Булочных»-то в Москве было навалом, а вот «Хлебов» только четыре – в том числе на улице Горького, на Большой Полянке и здесь, на Калининском, самый большой, двухэтажный. После «пробежки» по Новому Арбату (выражение такое ходило – «пробежаться по магазинам») ни одна авоська не оставалась пустой.
А в магазине кинофототоваров «Юпитер» можно было купить пленку для фотоаппарата, да и сам фотоаппарат – «Смена 8М», наиболее доступный по цене советским фотолюбителям. Такой был, наверное, в каждой московской семье, стоил всего 15 рублей (ценный подарок на день рождения подросшему наследнику!). Проблемы были с отечественной пленкой, качество которой было трудно предугадать. Зачастую о том, что все фотографии с юбилея, отпразднованного в кафе «Валдай», засвечены, узнавали только после проявки ее в ванной комнате, переоборудованной под самодеятельную фотомастерскую. Но химреактивами для проявки также торговали в «Юпитере».
Не смогли купить фотоаппарат, не дождавшись конца длинной очереди? Тогда идите в «Подарки» – таких магазинов в столице насчитывалось не более десяти, самый известный – на Калининском. Вазу хрустальную в кассе пробейте или керамику прибалтийскую, или еще там чего… А в «Москвичке» торговали женской одеждой – ну как не забежать? Вдруг чего «выбросят»: батники или клубные пиджаки (те, что для дома культуры тоже сойдут). А затем перекусить в кафе «Ивушка», силы восстановить… Ну а если деньги остались – рысью в ювелирную «Малахитовую шкатулку» за колечком с изумрудом (шучу-шучу)… А в субботу утречком в кинотеатр «Октябрь» – на мультики… Вот и еще одно дитя эпохи – ресторан «Арбат» на углу Калининского проспекта и Садового кольца. Он славился своими размерами – на его двух этажах одновременно могли находиться порядка двух тысяч посетителей. Прямо слюнки текут…
Проспект Калинина – так могли его называть исключительно гости столицы, ориентируясь на карту города. Москвичи же упорно говорили: Новый Арбат. Его прорубили через заповедные переулки Арбата, превратившегося в Старый (так и будем дальше его называть). Если Сталин оставил после себя семь высоток, то Хрущев – «дома-книжки» на Калининском, по праздникам превращавшиеся в громадные экраны, вмещавшие в себя четыре огромные буквы «СССР». В очередях москвичи судачили, что, мол, поехал Никита на Кубу и усмотрел там оставшиеся от бежавших в Америку эксплуататоров небоскребы, и сказал – а почему у нас таких нет? Без небоскребов Соединенные Штаты точно было не перегнать, а очень хотелось. В те годы лозунг «Догоним и перегоним Америку» где только не висел. Народ к этой затее начальства отнесся с юмором, все чаще на задних бортах грузовиков стала появляться надпись: «Не уверен – не обгоняй!».
Проспект получился похожим на западные улицы в старом кино – выстроенные в одном стиле многоэтажные высотные дома на всем его протяжении, широкие пешеходные зоны для прогулок. Те москвичи, что не бывали на нью-йоркских авеню, в штыки восприняли первую целиком и заново отстроенную московскую улицу, обозвав ее «вставной челюстью» и «посохинскими сберкнижками». Последнее определение связано с именем главного архитектора Москвы Михаила Посохина, будто бы заработавшего приличную сумму денег на проектировании проспекта. Да, любителей считать денежки в чужом кармане у нас хватает…
Снос Арбата до сих пор словно нож в сердце для коренных москвичей. Простить и понять такое невозможно. Речь идет об утрате подлинного облика столицы. Это ведь не просто причудливое переплетение переулочков, напоминающих кровеносную систему, – в данном случае не человека, а города, возникшего много-много лет назад. Представьте себе, что вместо сердца в живой организм вдруг внедрили совершенно неживую субстанцию, оборвав все привычные связи и нити, по которым сообщались между собой сосуды и капилляры. А сосуды эти и есть людские судьбы, ставшие историей семьи или рода.
Арбат – это ведь не обычная улица, офонаревшая и замощенная плиткой. Это огромный район, где каждый переулок – отдельная ветвь мощного и кряжистого дерева-дуба, уходящего своими корнями в толщу столетий. Например, еще в XIX веке существовало такое понятие, как «староконюшенная» жизнь – «средоточие московской интеллигентской обывательщины», по выражению профессора и москвича Николая Давыдова. Понятно, что произошло оно от названия Староконюшенного переулка. А вот и Приарбатье, среди жителей которого – герои Ивана Шмелева, Бориса Зайцева, а также их старших коллег – Льва Толстого, Тургенева, Салтыкова-Щедрина. «Мои ранние годы,– пишет Зайцев,– проходили в мирной, благодатной России, в любящей семье, были связаны с Москвой, жизнью в достатке – средне-высшего круга интеллигенции русской». Свой круг, свои люди, не меняющиеся десятилетиями семейные устои и традиции сытой и тихой жизни, передававшиеся из поколения в поколение, только не в усадьбах Среднерусской полосы, а в самом что ни на есть центре города. И все это с определенным апломбом. Недаром у Петра Боборыкина в романе «Китай-город» (1882 год) находим фразу: «Вы вобрали в себя всю добродетель нашего фобура». Фобуром в те годы называли арбатские переулки в подражание Faubourg Saint-Germain – Сен-Жерменскому аристократическому предместью Парижа. А в московском сен-жерменском предместье обитала преимущественно интеллигенция, в штыки воспринявшая 1917-й год.
«Арбат – улица интеллигенции. В переулках между Арбатом, Пречистенкой и Остоженкой располагалась Старая Конюшенная – дворянское гнездо Москвы, а вокруг Поварской улицы (Хлебный, Серебряный, Скатертный, Столовый, Кречетниковский переулки, Собачья площадка) обитала когда-то царская кремлевская обслуга. Там же, в районе Никитской, жили профессора, преподаватели и студенты Московского университета… Мой отец – крупный инженер, семья естественно вписалась в интеллигентную арбатскую среду», – описывал начало своей арбатской жизни в первой половине 1920-х годов писатель Анатолий Рыбаков. В 1933-м его репрессировали, а в 1941-м он ушел на фронт.
Строительство проспекта Калинина и разрушение Арбата – это не банальный случай пренебрежения к своему прошлому. Здесь все гораздо глубже. Пережившая лихолетье двадцатых годов, сталинские репрессии и войну, арбатская интеллигенция «держала оборону», не прекращая утверждать свой, особый стиль повседневной жизни. Их «уплотняли», превращая нормальное жилье в коммуналки, а они – знай себе живут.
Вот какую интересную цитату отыскал я в старом путеводителе по столице 1957 года, за несколько лет до начала строительства проспекта. Читаем про Арбат: «Теперь этот район Москвы по составу населения отличается разве только некоторым преобладанием интеллигенции». То есть еще осталась эта самая интеллигенция, уцелела. Вот и получается, что уничтожение значительной части Арбата – это еще и удар по определенной социальной группе – людям с высшим образованием, со сложившимся критическим взглядом на происходившие с 1917 года события и с соответствующим внутренним отношением к ним. Это про них Ленин сказал в 1918 году: «Опираться на интеллигенцию мы не будем никогда, а будем опираться только на авангард пролетариата, ведущего за собой всех пролетариев и всю деревенскую бедноту. Другой опоры у партии коммунистов быть не может». Вождю вторил Владимир Маяковский в стихотворении «Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий» в 1925 году. Мальчик Петя, буржуйский сынок, живет именно на Арбате: «Петя стал белей, чем гусь: – Петр Буржуйчиков зовусь. – Где живешь, мальчишка гадкий? – На Собачьевой площадке». А потому переселение пускай не всего арбатского населения, а хотя бы половины – это важный шаг в продолжающейся даже в 1950-е годы классовой борьбе. Пускай едут в бывшие подмосковные деревни с их хрущевками, да и еще спасибо скажут! Но ведь как символично все выглядит: при царе опальных вольнодумцев тоже в деревни отправляли.
Крайне мало осталось фотографий, запечатлевших патриархальное Приарбатье, не говоря уже про кадры киносъемки. И потому бесценны ощущения и эмоции, что еще теплятся в немногочисленных воспоминаниях: «Если у долгожителя Арбата, растревоженного ностальгическими мыслями, возникнет идея прогуляться сегодня по некогда знакомым арбатским переулкам, то она обречена на провал. Причем вовсе не только из-за проспекта, нанесшего сокрушительный урон ритму и ткани арбатских переулков. Гибельность затеи связана с тем, что безвозвратно ушла значительная часть быта и культуры пятидесятых – шестидесятых годов прошлого века… Современный пешеход, рискнувший как турист окунуться в лабиринт арбатских переулков, увидит все по-своему, возможно, чему-то обрадуется, но скорее пожмет плечами, пожалев о потраченном зря времени», – тоскует литератор и коренной житель Арбата Владимир Потресов, обитавший в доме № 20 на Большой Молчановке.
Еще один абориген – будущий хирург и писатель Юлий Крелин – вспоминает конец 1940-х годов: «Еще была Большая Молчановка на стыке с улицей Воровского, была аптека с высокой лестницей; ее спешно восстанавливали, поскольку в этот дом попала бомба. Воздвиженку уже переименовали в улицу Коминтерна и следом же в улицу Калинина. Будущий Новый Арбат, возможно, рождался еще в каких-либо гениальных мозгах авторов генерального плана реконструкции Москвы».
Нам, конечно, интересно, а что было на месте Нового Арбата? «Взять Молчановку. Если, предположим, кто-то сегодня на карте Москвы станет искать эту улицу, что он найдет? А ничего: червячок на задворках чего-то, что называется „Октябрь“. А прежде она упиралась одним концом в Трубниковский переулок, а другим – в Поварскую (историческое для моего поколения название – улица Воровского) рядом с Арбатской площадью… Помпезный главный фасад возрожденной „Праги“ глядел на узенькую улицу Воровского, а боковые – на Арбат и Молчановку. Оказавшись сегодня на оживленном перекрестке Нового Арбата и спрятанного в трубу Бульварного кольца, даже зажмурившись и сильно напрягши воображение, никак не могу вспомнить, как все было. Иногда, правда, вдруг ни с того ни с сего всплывет образ: осенний вечер, еще теплый; не поздно, а почему-то уже темно, тускло светят желтые фонари, подвешенные посреди улицы на уровне второго этажа. Под ними – Молчановка, полгода назад еще булыжная улица, утопающая, как говорится, в пожухлой листве темных тополей, что нависают над штакетником заборов или сохранившимися коваными оградами. Древние, траченные временем и заброшенностью полутора-двухэтажные особняки смотрят пыльными окнами коммуналок. Живость и неповторимость арбатских уголков связывались не только с тем, что здесь невозможно было найти два одинаковых особняка, но также со свободой течения улиц и переулков. Кстати, при всем российском разгильдяйстве границы владений в Москве оставались нетронутыми вплоть до губительных массовых застроек.
Только позже, когда проложили прямой, как полагается, проспект, стало ясно, насколько неровно струилась Молчановка. От „Праги“, почти блокирующей сегодня тротуар у Арбатской площади, домa, прежде бывшие нечетной стороной нашей улицы, постепенно отступают от „красной линии“. После Годеиновского переулка, что напротив „церковки“, восстановленного в шестидесятые храма Симеона Столпника, от Молчановки не остается даже воспоминаний: на месте дровяного склада – торговый центр „Валдай“ и гастроном „Новоарбатский“. Улица наша, подобно эскадре в противолодочном маневре, делала зигзаг, благодаря чему сегодня она выныривает из небытия за высоткой, где было кафе „Ивушка“, а нынче модный спортивный бар. Дальше Молчановка, словно утомившись от резвых движений, чуть изгибаясь, течет в старом русле, по-хамски перегороженная другой высоткой с аптекой и углами тылов кинотеатра „Октябрь“. От оскверненной улицы все-таки осталась память: три-четыре дома в модернизированном виде и чудом уцелевшая церковь.
А, например, Кречетниковский переулок, по призраку которого катят сегодня машины, чтобы, минуя Новинский бульвар, бывший СЭВ, Новоарбатский мост, устремиться прочь из душной Москвы, исчез полностью. Чуть ближе к центру от нагромождений „Октября“ под бетоном проспекта похоронены останки символа Москвы и арбатских переулков – легендарной Собачьей площадки. Это московское пространство с названием таким же знаковым, как одесская Пересыпь или петербургские Пять углов, представляло в общем-то ничем не примечательную треугольную в плане площадь, посередине которой был маленький живописный сквер за невысокой чугунной оградкой и с недействующим фонтаном, шестигранную колонну которого украшали звериные морды. „Памятник барской собаке“, – объясняли пролетарские старожилы», – вспоминает Владимир Потресов. Про «пролетарских старожилов» – это точно подмечено…
Своя – гастрономическая – тоска по уютной Собачьей площадке у актера Александра Ширвиндта: «Была такая удивительная площадка в прошлой Москве, с памятником собаке, старинным особнячком, где размещался Институт Гнесиных, деревянными пивными ларьками, где пиво закусывали бутербродами с красной рыбкой и не менее красной икрой, где зимой в ледяное пиво доливали его же из большого чайника, подогретого почти до кипения, чтобы жаждущие аборигены не простудили горлышко, а на фасаде заведения было большое воззвание: „Требуйте долива пива после отстоя пены!“». Отстоя было вдоволь и в те времена…
Когда и у кого впервые возникла мысль о новом проспекте в здешних местах? Еще в середине 1930-х годов, когда был принят т. н. Сталинский план реконструкции Москвы, по которому Новый Арбат должен был стать началом большой дороги в западном направлении, ведущей в Дорогомилово и далее на Можайское шоссе, превращенное в одну из самых оживленных магистралей Москвы, шириной чуть ли не до 100 метров. «Правая сторона этой магистрали, – диктовал Сталинский план, – освобождается от ветхих зданий. Богатые зеленые массивы связывают магистраль с набережной Москвы-реки. В целях разгрузки Арбата прокладывается новая прямая магистраль, так называемая Новоарбатская. Магистраль проходит от Москвы-реки через кварталы Дорогомиловской улицы и Дорогомиловской площади. Набережная Москвы-реки превращается в сквозную магистраль. Набережные озеленяются, берега одеваются в гранит. Москва-река у Дорогомиловской луки спрямляется». Назвать новый проспект предполагалось именем Конституции, другая гигантская магистраль новой Москвы – Аллея Ильича – должна была вобрать в себя Охотный ряд, Моховую, Волхонку и привезти к Дворцу Советов. Этот же план и привел к возникновению Кутузовского проспекта, о чем я написал в первой книге серии «Легенды советской Москвы».
Война лишь отодвинула претворение плана в жизнь, но не перечеркнула их. 20 апреля 1944 года художник Евгений Лансере отметил: «Вчера вечером наконец Чечулин. Упоен своею властью – „главный арх[итектор] г. Москвы“. Развернул в 1/2 часовой беседе широчайшие планы строительства: Новый Арбат, Киев – Крещатик». Так Лансере описывает встречу с главным архитектором Москвы Дмитрием Чечулиным, занимавшем эту должность по 1949 год. Как видим, перспективы действительно были грандиозные: война еще не кончилась, а строительство Нового Арбата виделось главному архитектору столицы делом ближайшего будущего.
Но планам этим не суждено было сбыться ни в 1940-е, ни в 1950-е годы. Во-первых, масштабное разрушение советских городов во время Великой Отечественной войны потребовало привлечения огромных средств на их восстановление. На скорейшее выполнение этой сверхактуальной задачи и были направлены основные силы советских архитекторов и строителей. Кроме того, с конца 1940-х годов в Москве началось осуществление невиданного ранее архитектурного проекта – возведение семи высотных зданий (восьмая высотка в Зарядье так и не была построена). И если первые высотки возвели относительно быстро, в том числе и с применением труда заключенных (здание Московского государственного университета, жилой дом на Котельнической набережной), то последняя – гостиница «Украина» – сдавалась с большими недоделками уже к Всемирному фестивалю молодежи и студентов 1957 года. Иными словами, рук просто не хватало (об этом подробно – в книге «Сталинские небоскребы. От Дворца Советов до высотных зданий»). И проект Нового Арбата был отложен до лучших времен.
Тем не менее можно себе представить, как выглядел бы Новый Арбат, начнись его строительство при Сталине. Это была бы парадная улица в том же духе, что и Кутузовский проспект. Т. е. огромные «сталинские» дома, густо украшенные всякого рода «излишествами» и внешним декором, за который позднее этот стиль будет подвергнут суровой критике лично Никитой Хрущевым. Новый лидер советского государства напрямую связал дороговизну высотного проекта с недостатком жилья для простых советских людей. Следовательно, образ Нового Арбата времен «оттепели» должен был коренным образом отличаться от десятилетиями насаждавшегося «сталинского ампира», который иногда также именуют «советской неоклассикой».
Так мог бы выглядеть Новый Арбат в 1940-е годы (архитекторы СЕ. Чернышев, А.М. Заславский, С.Н. Кожин, А.Д. Сурис)
Итак, до войны идею создания новой улицы осуществить не успели и вернулись к полноценному ее осуществлению лишь в начале 1960-х годов, когда появился и проспект Калинина, названный так в честь «всесоюзного старосты», а еще «дедушки». Так прозвали формального главу советского государства (в 1919–1946 годах) Михаила Ивановича Калинина. Когда в 1946 году «дедушка» отошел в мир иной, то в честь него переименовали улицу (ныне это вновь Воздвиженка). А в 1963 году улицу Калинина возвели в проспект, включив в него и строящийся Новый Арбат. Так возник прецедент – большая часть магистрали еще была только на бумаге, а название ей уже дали – проспект Калинина. В просторечии Калининский проспект.
Само собой разумеется, что новый грандиозный проект должен был затмить своими масштабами и непреодолимыми последствиями предвоенную «реконструкцию» столицы, что в конце концов и удалось. Ибо если снесенные в 1930-х годах некоторые храмы и соборы уже в 1990-е годы заново отстроили (Храм Христа Спасителя, Казанский собор, Иверская часовня), то воссоздать прежний Арбат не представляется возможным.
Не Дмитрию Чечулину было суждено проектировать Новый Арбат, а Михаилу Посохину, когда-то работавшему под его началом. Посохин – уроженец Томска, учился в Московском архитектурном институте (1935–38), затем работал в мастерской А.В. Щусева, который оценил способности молодого зодчего – тот хорошо рисовал – и пригласил работать к себе. Так что Посохина вполне можно назвать учеником Щусева…
Михаил Посохин – это не просто архитектор, но и влиятельный чиновник, определявший градостроительную политику не только в Москве, но и на всей территории СССР. В 1963–67 – министр, председатель комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР, затем заместитель председателя Госстроя СССР. Руководил разработкой генерального плана развития Москвы, утвержденного в 1971 году. Будучи на протяжении двух десятилетий главным архитектором Москвы (1960–82), изменил многие районы столицы до неузнаваемости. Среди его главных работ (с соавторами) – высотный дом на Кудринской площади (Сталинская премия, 1949), жилые дома на Хорошевском шоссе (1950), Новинском бульваре (1952), планировка и застройка жилых районов Хорошево-Мневники (1960) и Северное Чертаново (1972–82), Кремлевский Дворец съездов (1959–61; Ленинская премия, 1962), прокладка и застройка Нового Арбата с высотными домами, ресторанами, магазинами, кинотеатром «Октябрь» и прочим (1962–69), реконструкция Старого Арбата и превращение его в пешеходную зону (1980-е), спорткомплекс «Олимпийский» (1975–80), Центр международной торговли на Красной Пресне (1974–80). Сын Посохина пошел по стопам отца.
Посохину принадлежит рекорд по пребыванию в должности главного архитектора Москвы, потому именно его проектная деятельность так сильно отразилась на облике столицы. Проспект Калинина справедливо назвать главным его «достижением». Возглавив в 1960 году Главное архитектурно-планировочное управление Москвы, он привлек к работе над проектом новой магистрали и тех своих коллег, с которыми работал прежде. Это, в частности, Ашот Мндоянц, соавтор проекта сталинской высотки на Кудринской площади. Участвовали в проектировании и Глеб Макаревич, Борис Тхор, Игорь Покровский, Юрий Попов, Александр Зайцев и многие другие незаурядные зодчие.
Первый разработанный архитекторами проект претерпел очень серьезную эволюцию. Дело не в том, что каждый из зодчих старался привнести что-то свое. Скорее наоборот – архитекторы пытались воплотить на практике представления советских руководителей о том, какой же должна быть современная архитектура в стране социализма. Вряд ли нужно доказывать прописную истину, что вмешательство непрофессионалов в любой рабочий процесс ведет к самым негативным последствиям. И в случае с Новым Арбатом эти последствия не замедлили проявиться. Если Сталин лично указывал, как проектировать, и «рекомендовал» все свои высотки завершать однообразными шпилями, то Хрущев решил остаться в истории небоскребами, но из стекла и железобетона.
А ведь что только не предлагали архитекторы-новаторы. Например, расположить проезжую часть ниже уровня земли, дабы соединить обе части проспекта пешеходными мостами: и никаких подземных переходов не надо! Идут себе люди, гуляют, поглядывая сверху вниз на снующие взад-вперед автомобили. Это было необычно. А для избежания заторов, вызванных разгрузкой грузовых автомобилей, везущих в местные магазины товары, был придуман интересный ход – проложить специальный километровый тоннель, куда можно было въезжать со стороны арбатских переулков. Эта прогрессивная идея была взята на вооружение.
Варианты застройки Нового Арбата, начало 1960-х годов (по материалам журнала «Архитектура и строительство Москвы»)
Под стать эпохе, запомнившейся своими хрущевками, новоарбатские небоскребы должны были наполниться малогабаритными квартирами для молодых семейных москвичей. Предлагалось также застроить Новый Арбат домами меньшей этажности – не более семи этажей, что, несомненно, было бы куда менее вычурно, нежели сейчас, когда огромные «книжки» торчат у всех на виду, как три тополя на Плющихе (в данном случае – четыре). Интересным было предложение и о размещении в новоарбатских высотках гостиниц, которых всегда не хватало в столице.
По окончательному проекту, утвержденному летом 1962 года, нечетную сторону Нового Арбата от Арбатского переулка до Садового кольца должны были занять четыре «дома-книжки» высотой в 26 этажей, объединенные одним массивным стилобатом длиной 800 метров, два надземных этажа которого (а есть еще и подземные) отдали под общественные нужды. Здесь и нашли место для вспомянутых нами «Новоарбатского» гастронома, парикмахерской «Чародейка», салона модной женской одежды «Москвичка», магазинов «Синтетика», «Юпитер» и цветочного «Незабудка», кафе «Ангара», «Жигули», «Бирюса», «Валдай», «Печора», ресторана «Арбат», предприятий бытового обслуживания, транспортного агентства и даже Института красоты.
Широкая пешеходная полоса с газонами и скамейками позволяла организовать в теплое время года и новое общественное пространство, в т. ч. летние кафе с отдельно стоящими столиками и зонтиками. Таким образом формировалась и новая зона отдыха.
На другой стороне проспекта проект предусматривал сооружение пяти отдельно стоящих 24-этажных каркасно-панельных жилых башен, рассчитанных более чем на 170 квартир каждая. Первые этажи зданий также отвели под торговлю и кафе. Здесь же – два больших магазина («Хлеб» и «Дом книги»), а также кинотеатр «Октябрь» – самый крупный в СССР. Два его кинозала – Большой и Малый – в совокупности готовы были принять почти три тысячи зрителей. Сегодня интерес представляет мозаичное панно на фасаде кинотеатра на революционную тему, авторы – художники А. Васнецов, Н. Андронов, В. Эльконин.
За новой застройкой спрятались каким-то чудом уцелевшие доходные дома начала века и старинные особнячки, в т. ч. дом-музей Михаила Лермонтова. Здесь до сих пор очень сильно ощущается контраст между Москвой заповедной и чужеродной застройкой 1960-х годов.
Однако, перед тем как строить Арбат Новый, следовало избавиться от почти половины Арбата Старого. Владимир Потресов рассказывает о начале разрушения родных пенатов: «В сентябре 1962 года дом наш буквально содрогнулся от грохота. О том, что переулки между Арбатом и Поварской обречены, говорили давно, частично даже выселены были жильцы, но все как-то не верилось. Отец быстро зарядил пленкой фотоаппарат и выскочил на улицу. Я последовал за ним. Через проходной двор до Собачьей площадки рукой было подать. Все пространство заволокло пылью. Скрипя и вздрагивая, желтый кран оторвал от земли чугунный шар, медленно отвел в сторону и, пустив клуб сизого дыма, с размаху ударил в стену деревянного особняка, как раз напротив Дома композиторов… Вот после меткого удара шар-бабой рухнула стена, просела крыша, и, словно тяжкий выдох, из-под останков дома вывалился белесый вал векового праха. Жители окрестных домов, собравшиеся у заграждения, невольно отпрянули. Наступила тишина, лишь кран, опустив заляпанный шар, урчал на холостых оборотах. Отец, забравшись на крыльцо Дома композиторов, снимал панораму. А я разглядывал лица людей. Кто-то не скрывал радости, предвкушая квартирку в черемушкинской пятиэтажке, но кто-то осознал вдруг, что никогда уже не будет того Старого Арбата, сердцем которого была Собачья площадка. Хоть прошли десятки лет, я словно сейчас вижу этот образец гармоничного городского пространства между Арбатом, „дипломатической“ Поварской и загруженным Садовым кольцом, потому что пересекал площадку на пути в школу, а по вечерам гулял с редкой белой овчаркой Тайной…
Деревянные домики легко рассыпались под ударами чугунного шара, дольше держался Дом композиторов – двухэтажный кирпичный особняк с чудесными залами и каминами. В соседнем с ним доме некогда жила мать Ленина, и хоть идеологические устои были крепки, пожертвовали и этим символом ради светлой мечты о новом. В считанные месяцы с лица Москвы исчезли Кречетниковский, Кривоникольский и Дурновский переулки, порушены оказались Николопесковские, Серебряный, Годеиновский, Трубниковский и Борисоглебский. Но главное – власти как бы включили зеленый свет дальнейшим сносам в заповедном районе, которые не останавливаются до сих пор». Если уж ленинское мемориальное место не пожалели, чего уж говорить о зданиях, где жили менее политизированные граждане…
Электропровода на старой фотографии напоминают нам о том, что когда-то по Новому Арбату ездил троллейбус
Свидетели масштабно организованного варварства, удивляясь скорости, с коей разрушалось привычное за полтора века «жизненное пространство», шептались, что, видать, технику-то согнали со всей Москвы. И правда: ломать – не строить.
Иные теряли семейные гнезда, а режиссер (и в то время актер Вахтанговского театра) Юрий Любимов пострадал в буквальном смысле – во время строительных работ. Шел он себе по улице из родного Щукинского училища, где ставил со студентами спектакль по Бертольду Брехту «Добрый человек из Сезуана», и вдруг… «Строили новый Арбат. Меня толкнул самосвал, и я скатился в рытвину и порвал себе связки на ноге. И поэтому ходил на костылях, чтоб дорепетировать. И каждый раз думал: „Да пошли они… плюну, и не буду больше в это Училище поганое ходить!“».
Но желание закончить постановку оказалось сильнее физической боли – Юрий Петрович позднее скажет, что «этот спектакль вколачивался мной костылем, потому что у меня были порваны связки. И потом, были бандиты у меня на курсе, в буквальном смысле, которые на меня доносы писали – уж если говорить правду – что я их обучаю не по системе Станиславского. Потому что я ритм вколачивал костылем – я порвал связки и ходил с ним». Из спектакля родился театр Любимова – знаменитая Таганка. Неисповедимы пути Господни.
Об информационной «поддержке» будущего проспекта и массовой агитации среди населения, которая осуществлялась со страниц газет и экранов телевизоров, вспоминает фотохудожник Екатерина Рождественская: «Строительство Калининского проспекта вызывало слишком много споров… Выходили передачи по телевидению, в которых важные дяди рассказывали, что новый проспект с небоскребами – уникальный и таких в мире нет, строители и инженеры гордились особо прочными стальными каркасами, которые применялись при возведении этих высотных зданий, архитекторы – удобной и продуманной планировкой жилых квартир, художники – передовым оформлением магазинных площадей, озеленители – новым способом рулонной укладки газона, в общем, кто чем. Но все вместе – Калининским проспектом. Все усилия были направлены на то, чтобы притушить недовольство общественности и всколыхнуть гордость за Советскую страну, за ударников коммунистического труда, которые всегда в первых рядах, за единственно правильный путь – путь к светлому будущему, то есть к коммунизму». Я бы даже немного усилил – не «притушить», а придушить недовольство общественности. Вероятно, Новый Арбат также должен был привести к коммунизму – пока еще не для всех, а только для советской номенклатуры…
Сроком окончания строительства обозначили 1967-й год, когда исполнялось 50 лет Советской власти. Золотой юбилей. Дата солидная, громкая. Тут стесняться не следует. И, в общем, построили все довольно быстро – к 1963 году уложили дорожное полотно, а к 1968-му закончилось возведение большей части запланированных объектов. В 1970 году на Новом Арбате уже работали магазины и кафе. В итоге все пришло к тому, что мы видим сегодня: вполне себе безликие многоэтажные дома, выставленные в ряд, как костяшки домино, вдоль всего проспекта и не претендующие на оригинальность. И уж тем более не связанные ни с самой нашей древней столицей, ни со старинным районом Москвы – Арбатом. Подобное уместно было бы при строительстве на пустовавшем ранее месте, но никак не в заповедной части города. Напрашивается аналогия с московским Сити, построенным уже в наше время. Но он-то вырос не под боком у Кремля!
Однако есть и иная точка зрения, согласно которой проспект – это никакая не «вставная челюсть», а «новый крупный фрагмент городской среды, где единому замыслу подчинено все – от общего направления пространственной структуры до деталей благоустройства и рекламы». Кто бы сомневался.
Никита Хрущев лично утвердил проект строительства, с которым затем ознакомили и всех остальных советских граждан
Официально отстроенный проспект Калинина – «новый культурный, административный и деловой центр» – подавался как свидетельство больших успехов советских архитекторов, идущих в ногу со временем и воплощающих лучшие мировые тенденции в градостроительстве. Если отбросить в сторону эстетику (хотя, как это сделать – непонятно), то с технической точки зрения «строительство Калининского проспекта стало первым в СССР опытом применения унифицированного каркаса и сборных панелей при строительстве общественных зданий, возводимых по индивидуальным проектам». Кроме того, «проспект продолжил трансформацию центра Москвы в многолучевое функциональное пространство» в духе конструктивизма, функционализма, модернизма и идей самого Ле Корбюзье. В качестве доказательства международного значения достигнутых успехов предъявляли награду, присужденную в конце 1966 года парижским Центром архитектурных исследований.
Бытовало и такое мнение, что Новый Арбат есть не что иное, как проявление новаторства, навеянного с Запада через открытую на некоторое время идеологическую форточку. Ведь доселе так «у нас» не строили, а значит, новый проспект следствие оттепели (и не только в архитектуре). И потому строительство Нового Арбата стоит в ряду с такими важнейшими в культурной сфере событиями, как Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 года, Международный конкурс имени П.И. Чайковского 1958 года, Американская выставка в Сокольниках 1959 года. Все это способствовало ослаблению холодной войны, приоткрытию железного занавеса, в общем, укреплению дружбы народов. А ради такого дела можно и «какую-то» там Собачью площадку закатать под асфальт. И даже дом, где бывал… страшно сказать… сам вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин. Чего уж там, главное, чтобы не было войны. Так полагала определенная часть населения, в основном советской молодежи, для которой Новый Арбат превратился в «два километра Бродвея».
Вот, например, что пишут Петр Вайль и Александр Генис в книге «60-е. Мир советского человека», расценивая возникновение Нового Арбата как прогрессивное явление: «Тогда Куба стала совсем советской. В пивных расшифровывали ее имя: Коммунизм У Берегов Америки. Фиделя звали Федей. А главное – 60-е взяли Кубу на вооружение для борьбы с внутренними врагами. Стране мешали бюрократы и чиновники – им противодействовали демократичные коммунисты Западного полушария. Сталинисты зажимали новое искусство – Фидель нес абстракционизм в массы. Наши лидеры бубнили по бумажке – их молодые майоры выдавали речи экспромтом. Ортодоксы любовались фонтаном „Дружба народов“ – из Гаваны пришла идея Нового Арбата». При чем здесь Куба? «Куба – любовь моя», – распевали тогда по советскому радио. И почему бы не взять на вооружение некоторые черты кубинской столицы – Гаваны? Это даже с идеологической точки зрения было верно. Гораздо лучше, чем, например, воспользоваться опытом Стокгольма и других европейских капиталистических столиц, где в это время также наблюдается интерес к модернизму в архитектуре.
Возникновение проспекта Калинина неожиданно явило собою еще и культурный феномен, вдохновивший представителей творческих профессий на создание новых произведений. Художники поспешили со своими мольбертами запечатлеть открывшуюся перспективу. Не остались в долгу и поэты. Например, Владимир Высоцкий сочинил «Песню-сказку о старом доме на Новом Арбате», начинавшуюся следующим образом:
- Стоял тот дом, всем жителям знакомый —
- Ведь он уже два века простоял,
- Но вот его назначили для слома,
- Жильцы давно уехали из дома,
- Но дом пока стоял…
- Холодно, холодно, холодно в доме.
- Парадное давно не открывалось,
- Мальчишки окна выбили уже,
- И штукатурка всюду осыпалась,
- Но что-то в этом доме оставалось
- На третьем этаже…
В конце концов дом сломали «с маху гирею по крыше».
А Владимир Соколов написал в 1967 году целую романтическую балладу – Новоарбатскую:
- Ташкентской пылью
- Вполне реальной
- Арбат накрыло
- Мемориальный.
- Здесь жили-были,
- Вершили подвиги,
- Швырнули бомбу
- Царизму под ноги.
- Смыт перекресток
- С домами этими
- Взрывной волною
- Чрез полстолетия.
- Находят кольца.
- А было – здание.
- Твои оконца
- И опоздания.
- Но вот! У зданий
- Арбата нового,
- Вблизи блистаний
- Кольца Садового,
- Пройдя сквозь сырость
- Древесной оголи,
- Остановилась
- Карета Гоголя.
- Он спрыгнул, пряча
- Себя в крылатку,
- На ту – Собачью —
- Прошел площадку.
«Прогрызание» Нового Арбата
Поэт сумел отразить в этом стихотворении два громких события тех лет – землетрясение в Ташкенте и разрушение «мемориального» Арбата. Противопоставив первое (природное) – второму (рукотворному). И смело проведя тем самым параллель, убеждающую читателя в непредсказуемости последствий теперь уже нравственного «землетрясения».
А какова была реакция москвичей (и не только) на происходящее? Возмущались все – и те, кому предстояло покинуть обжитые с детства арбатские переулочки, и те, кого принято называть представителями культурной общественности. Приведем лишь несколько мнений – наиболее характерных.
Астроном и житель Трубниковского переулка Александр Гурштейн тоскует, прежде всего, по Собачьей площадке: «Главной достопримечательностью арбатских переулков на этом направлении была Собачья площадка – ностальгический реликт послепожарной патриархальной Москвы с треугольной площадью и неработающим фонтанчиком, бессердечно закатанными под асфальт при строительстве Нового Арбата». С чем нельзя не согласиться, ибо на Собачьей площадке сходилось слишком много путей, коими шли самые разные люди – писатели, ученые, художники, артисты. «На Собачьей площадке было покойно, и Хомяковский дом хмурился степенно и солидно», – читаем мы в романе «Сивцев Вражек» Михаила Осоргина, упоминающего про дом известного славянофила Алексея Хомякова, к которому захаживали Аксаковы, Киреевские, Чаадаев и многие другие. В доме Хомякова после 1917 года устроили музей сороковых годов XIX века, а позднее разместили музыкальную школу имени Гнесиных.
На Собачьей площадке у Сергея Соболевского гостил Александр Пушкин, читая здесь поэму «Борис Годунов». Соболевский – бывший однокашник младшего брата поэта Льва Пушкина по Благородному пансиону. Именно Соболевскому суждено будет стать «путеводителем» и главным доверенным лицом Александра Сергеевича в Москве. Приехав в родной город 19 декабря 1826 года, Пушкин поселится именно у Соболевского на Собачьей площадке. Зимою и весной 1827 года Пушкин жил здесь, не всегда оставаясь довольным: «Наша съезжая в исправности – частный пристав Соболевский бранится и дерется по-прежнему, шпионы, драгуны… и пьяницы толкутся у нас с утра до вечера», – из письма Петру Каверину от 18 февраля 1827 года (нашей съезжей поэт называет квартиру Соболевского на Собачьей площадке). Узнав, что Сергей Александрович собирается за границу, Пушкин решит подарить ему свой портрет. Однако до 1827 года Александра Сергеевича рисовали всего несколько раз, и тогда, как писал Соболевский Погодину, «портрет Александр Сергеевич заказал Тропинину для меня и подарил мне его на память в золоченой великолепной рамке». Знаменитый портрет, в отличие от Собачьей площадки, сохранился.
Прошли годы после смерти Пушкина, и Соболевский вновь приехал на свою бывшую квартиру и описал, как узнал «дом Ринкевича (ныне Левенталя), в котором жил я, а у меня Пушкин; сравнялись с прорубленною мною дверью на переулок. Видим на ней вывеску: продажа вина и прочее… Вылезли из возка и пошли туда. Дом совершенно не изменился в расположении: вот моя спальня, мой кабинет, та общая гостиная, в которую мы сходились из своих половин и где заседал Александр Сергеевич… Вот где стояла кровать его, на которой подле него родила моя датская сука, с детьми которой он так нежно возился и нянчился впоследствии; вот то место, где он выронил (к счастию – что не в кабинете императора) свои стихотворения о повешенных, что с час времени так его беспокоило, пока они не нашлись!!! Вот где собирались Веневитинов, Киреевский, Шевырев, вы, я и другие знаменитые мужи, вот где болталось, смеялось, вралось и говорилось умно!!! Кабатчик, принявший нас с почтением (должным таким посетителям, которые вылезли из экипажа), очень был удивлен нашему хождению по комнатам заведения. На вопрос мой: „слыхал ли он о Пушкине?“ он сказал утвердительно, но что-то заикаясь. Мы ему растолковали, кто был Пушкин; мне кажется, что он не понял.
На Собачьей площадке квартировал Александр Пушкин, (худ. П. Соколов, 1836)
Сергей Соболевский, приютивший великого русского поэта в 1826 году (худ. К. Брюллов, 1832)
Советую газетчику обратить внимание публики на этот кабак. В другой стране, у бусурманов, и на дверях сделали бы надпись: здесь жил Пушкин! – и в углу бы написали: здесь спал Пушкин! – и так далее».
Строки эти обращены были к Михаилу Погодину, отвечавшему: «Помню, помню живо этот знаменитый уголок, где жил Пушкин в 1826 и 1827 годах, помню его письменный стол между двумя окнами, над которым висел портрет Жуковского с надписью: „ученику-победителю от побежденного учителя“. Помню диван в другой комнате, где за вкусным завтраком (хозяин был мастер этого дела) начал он читать мою „Русую косу“, первую повесть, написанную в 24-м году и помещенную в „Северных цветах“, и, дойдя до места, в начале, где один молодой человек сказал другому любителю словесности, чтоб вызвать его из задумчивости: „Жуковский перевел Байронову Мазепу,– вскрикнул с восторгом: „Как! Жуковский перевел Мазепу!““ Там переписал я ему его Мазепу, поэму, которая после получила имя „Полтавы“. Там, при мне, получил он письмо от генерала Бенкендорфа с разрешением напечатать некоторые стихотворения и отложить другие. В этом письме говорилось о песнях о Стеньке Разине. Пушкин отдал его мне, и оно у меня цело. Туда привез я ему с почты „Бориса Годунова“. Однажды пришли мы к нему рано с Шевыревым за стихотворениями для „Московского вестника“, чтобы застать его дома, а он еще не возвращался с прогульной ночи, – и приехал при нас. Помню, как нам было неловко… Все это и многое другое надо бы мне было записать, но где же взять времени? Меня ждет еще Гоголь…».
Надежда Соболевского, что на доме когда-то «сделают» надпись, мол, там жил великий русский поэт, не оправдалась. Надписи были, но другого толка и смысла – кабак, керосиновая лавка, «Хозтовары», впрочем, весьма популярные у арбатцев, передававших из поколения в поколение историю о том, что «здесь бывал Пушкин».
Видели на Собачьей площадке и Гоголя. «В Москве жил я у старого приятеля моего, Д.С. Протопопова, на Собачьей площадке. Раз вдруг подъезжает к дому красивая карета, и из нее выходит Гоголь. Я рассказал ему, что мой хозяин может доставить ему много материалов для изучения России, потому что долго жил в разных губерниях и по службе имел частые сношения с народом. Гоголь изъявил желание познакомиться с Протопоповым, но в тот раз это было невозможно, так как приятель мой был в это самое время хотя и дома, но занят по должности», – вспоминал Яков Грот.
И это все были живые люди, а сколько захаживало сюда исключительно литературных персонажей! Это и герои тургеневского романа «Дым», а также повести Владимира Соллогуба «Тарантас» и романа Вениамина Каверина «Два капитана».
Александр Гурштейн, называя свой Новый Арбат «большой архитектурной нелепостью», вспоминает, как лицезрел здесь самого товарища Хрущева, прибывшего полюбоваться стройкой и подбодрить участников сноса: «Об охране культурно-исторического наследия города никто из властьимущих в то время не размышлял. Хрущев – в долгополом габардиновом пальто до пят – лично приезжал сюда подстегивать строителей. Я однажды видел его там. Он стоял среди пыли и строительного мусора, видимо, мечтая о коммунистической улице будущего. Получилось не очень, – также как и со строительством самого коммунизма». Это уж точно.
Искусствовед и художник Владимир Десятников 6 марта 1967 года отметил в дневнике: «Общество охраны памятников хоть и создано, но покушений на русскую старину никак не стало меньше. При этом всякий раз норовят ударить под дых. При Никите Хрущеве была затея разобрать одно прясло Кремлевской стены от Троицкой башни в направлении Боровицкой, чтобы народ-де торжественно мог войти по беломраморной лестнице в посохинский Дворец Съездов. Услужливые компаньоны Михаила Посохина проект быстренько состряпали, но восставшая общественность не допустила кощунства над святыней. Теперь все тот же Посохин, но уже в ранге свежеиспеченного члена ЦК КПСС, депутата Верховного Совета СССР, лауреата Ленинской премии, застраивает проспект Калинина и прилегающие переулки таким образом, чтобы под многоэтажными мастодонтами похоронить самую поэтическую часть центра Москвы. И опять общественность восстала. Снова мы ходим, собирая под нашей петицией подписи именитых русских людей – Л.М. Леонова, А.А. Пластова, П.Д. Барановского, Б.А. Рыбакова, П.Д. Корина – в защиту памятников Отечества. Собственно, а у кого, как ни у своих, мы можем найти понимание?».
Собачья площадка с фонтаном в центре и извозчиками…
Тот самый фонтан, 1910-е годы
Какой любопытный факт про снос кремлевской стены! Оказывается, кому-то из советских зодчих не давала покоя слава Василия Баженова, по совету которого в 1771 году Екатерина II велела разобрать часть кремлевской стены вдоль Москвы-реки опять же для сооружения парадной лестницы. Потом все пришлось восстанавливать. А сняли уже самого Баженова.
А коллективные письма при Хрущеве вошли в моду. Казалось, что если под тем или иным воззванием поместится как можно больше известных фамилий – академиков, писателей, артистов, то к гласу общественности прислушаются. Письма были двух видов: инспирированные «сверху» (там же и составленные) и инициированные «снизу». Последние представляют наибольший интерес, ибо выражают, как правило, мнение несогласных с официальной точкой зрения.
Одним из тех, кто противился разрушению Приарбатья, был академик, известный физик и либерал по своим взглядам (коих он не скрывал) Петр Капица, к нему и отправился Владимир Десятников. Петр Леонидович работал тогда директором Института физических проблем АН СССР: «Я протянул напечатанную на двух страницах нашу петицию. Капица прочитал и, не говоря ни слова, поставил свою подпись». При этом гость сказал: «Главное, не промолчать, чтобы они знали, что мы отслеживаем их преступные дела». И далее Десятников поведал, что «Петр Дмитриевич Барановский еще с конца двадцатых годов ведет поминальник, куда записывает имена наиболее ретивых ниспровергателей русского национального наследия», которых следует со временем «пригвоздить к позорному столбу». Вот, оказывается, как оно…
Несмотря на огромный моральный авторитет Капицы, письмо не помогло, а лишь привело к ожесточению в борьбе за сохранение старой Москвы. 16 апреля 1968 года литератор Юлия Сидур записала в дневнике ходящие по городу слухи, что «будто бы на Посохина какие-то архитекторы написали жалобу в ЦК, и их за это исключили из партии». А тех, кого из партии исключить было невозможно (поскольку в эту самую партию их следовало сначала принять), уже ничего не останавливало – они готовы были на все…
Искусствовед, историк архитектуры, в будущем старший научный сотрудник Института искусствознания, кандидат искусствоведения Сергей Попадюк задумал такое, от чего по коже мурашки бегут: «Какая уж там веселая ненависть! Лютая, тоскливая злоба владеет мной – злоба, переходящая на личности. В последнее время то и дело ловлю себя на нескончаемых внутренних монологах. Прислушиваюсь: а это варианты моего последнего слова на суде, где меня судят за убийство Посохина. И я всерьез обдумываю план этого убийства… Я вижу, что другого выхода нет, хотя и понимаю, что это убийство ничего не изменит, да уж и поздно: Москвы моего детства, Москвы – единственного в мире города – больше не существует.
Большое злодейство можно совершить исподволь, начав с каких-то мелких нарушений, где легче сломить сопротивление, – противник уступает, обманутый незначительностью зла, – потом продвинуться дальше, и опять уступка, потому что зло продолжает казаться незначительным. И так шаг за шагом, незаметно перейти границу, за которой зло приобретает недопустимые масштабы… А можно сразу ударить в сердце, вырвать его, и тогда все последующие утраты покажутся несущественными.
С тех пор как на месте арбатских переулков проломили Москву нелепейшим, провинциально-претенциозным Калининским проспектом, – чтобы, не снижая скорости, мчатся на „чайках“ со своих дач прямо в кремлевские кабинеты, – в городе идет настоящая оргия погромов. Ломают Замоскворечье, ломают Таганку, ломают Домниковку и в районе Мясницких ворот… С безразличием орангутангов повсюду взращивают безликие многоэтажные коробки. „Дикость, подлость и невежество, – говорит Пушкин, – не уважают прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим“. Орангутангам нет дела до истории – ни до прошлого, ни до будущего, – они сами себе история. Теперь только кое-где выглядывающий ампирный фронтон или церквушка, раскрашенная, как дешевый сувенир, отличают Москву от какого-нибудь Ташкента.
Как говорится, найдите десять отличий. Дом-книжка FOCSA в Гаване (1956 год) и дом-книжка в Москве…
Я готов убить человека, руководящего этой дикарской работой, хотя знаю, что убийство мое ничему не поможет, знаю даже, что субъективно он не виноват: не он, так другой (обязательно! еще бы! угодников у власти довольно, что же, карьеру губить из-за какой-то там Собачьей площадки?), но, как говорил М.И. Муравьев-Апостол, „дело идет не о пользе, которую это принесло бы, а о порыве к иному порядку вещей, который был бы сим обнаружен“. Я готов убить этого человека, чтобы утолить свою бессильную и неотвязную, как жажда, ненависть», – читаем мы в дневнике за 1972-й год. Борьба за сохранение культурного и исторического наследия развернулась нешуточная, едва ли не кровавая. Но почему же тогда все это обернулось битвой с ветряными мельницами?
Сергей Попадюк справедливо указывает на одно специфическое обстоятельство – проспект Калинина был правительственной трассой, по которой члены Политбюро то и дело сновали в своих «членовозах» (просторечное название персональных служебных автомобилей больших начальников). Почти все советские вожди постхрущевской эпохи жили на Кутузовском проспекте – Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Константин Черненко, в доме № 26. Они были соседями. Из Кремля на Кутузовский можно было доехать на приличной скорости и при перекрытых дорогах минут за 15. И до дачи на Рублевском шоссе тоже недалеко. А раньше приходилось делать крюк через Арбатскую площадь, по которой машина Сталина и его охраны поворачивала на Арбат. Не зря же москвичи придумали остроумное название этой правительственной трассе – «Военно-грузинская дорога».
А на трассе этой все должно было быть ровно и гладко, чтобы номенклатурные тела не растрясти. В этой связи Юлий Крелин (в ту пору студент-медик) вспоминал случай, как «проехал как-то под утро через эту [Арбатскую] площадь Сталин, не замечая, что на трамвайных рельсах машину чуть-чуть потряхивает, а когда заметил, около четырех утра, то осерчал. А когда в восемь я пришел, чтобы сесть в трамвай семнадцатый номер и ехать на Пироговку в мединститут, рельсов уже не было и в помине, площадь заасфальтировали, появился новый автобусный маршрут под номером пятьдесят пять». Все для блага человека…
Теперь – только по прямой! Так что у вельможных пассажиров полированных «ЗИЛов» была личная заинтересованность и в сносе Приарбатья, и в прокладке проспекта Калинина. Трасса была широкой, под стать габаритам «членовозов». Товарищ Новосельцев из «Служебного романа», сев за руль «Волги» своего приятеля-карьериста Самохвалова, только и нашелся, что сказать: «Это, ты знаешь, это малогабаритная квартира!». Что бы он произнес, очутись в таком вот «членовозе»? Хотя ему туда путь был заказан. Машины были настолько огромны, что большие чиновники залезали туда головой вперед, в буквальном смысле. Внутри ночевать было можно.
Но «шишки» не только неслись по Калининскому, но и ходили пешком. Бывало и такое. «Бреду, глядя под ноги, как-то вечером по Новому Арбату, и вдруг такой мощный тычок в плечо, меня аж развернуло. Оглядываюсь, а это шкафообразный охранник, который следует шаг в шаг по тротуару вровень с Алексеем Николаевичем Косыгиным, что идет себе мирно вдоль витрин Московского Дома книги. Алексей Николаевич притормозит, что-то в витрине разглядывая, – и охранник притормозит, он двинется – и охранник двинется. А в параллель, впритык к тротуарной бровке, ползет членовоз, тоже, когда надо, притормаживая… И да, совсем забыл сказать, что Новый Арбат ради прогулки Алексея Николаевича никому тогда и в голову не пришло перекрывать», – вспоминает критик Сергей Чупринин.
Один советский дипломат, впервые попав в Стокгольм, также вот увидал, как тогдашний премьер-министр Швеции Улоф Пальме стоит у светофора и готовится перейти улицу. Вечером, после работы. У дипломата глаза на лоб полезли. Оказалось, что это нормально для Швеции. Правда, для Улофа Пальме это закончилось плохо – иначе не появилась бы в Москве улица в память о нем.
Арбатские аборигены уже по скорости движения могли сделать вывод – кто едет в черном «ЗИЛе». Многолетний секретарь ЦК КПСС по идеологии Михаил Андреевич Суслов, которого помощники за глаза называли «МихалАндрев», не любил быстрой езды. Но это, конечно, не говорит о том, что он был нерусским. Осторожный человек, да и все тут. Просто соблюдал правила, если их и не было, предпочитая ехать 40–50 км в час. Такой вот скромный. Носил галоши и старый габардиновый плащ. Про него коллеги по Политбюро судачили, что скромнее его был только Ильич, первый, конечно, а не второй.
А про «дома-книжки» на Новом Арбате ходил такой анекдот. Леонид Брежнев спрашивает главу московской партийной организации Виктора Гришина: «Слушай, Виктор, почему когда я еду по Новому Арбату на работу, то вижу здания, а когда еду обратно, вижу какие-то книги» – «Леонид Ильич, а вы ездите только в одну сторону!».
Кстати, по поводу статуса правительственной трассы. Владимир Десятников поведал любопытнейший случай о том, как ему не удалось с первого раза прописаться в том самом доме Гольдингер в Большом Ржевском переулке. Дом знаменит тем, что находился в личной собственности (!) художницы Екатерины Васильевны Гольдингер, которая не только проживала там, но и сдавала в наем. Случай для соцдействительности почти уникальный.
25 апреля 1967 года Десятников рассказывает: «Радость оказалась преждевременной. Пришел участковый милиционер и запретил мне проживание в доме Е.В. Гольдингер, так как дом находится вблизи правительственной трассы: Кремль – проспект Калинина – и нужно иметь ценз благонадежности – постоянную прописку. Требовалось, чтобы кто-то походатайствовал за меня, уверил, что я человек тихий и баловать с Советской властью не собираюсь. Общество охраны памятников и Советский комитет защиты мира не замедлили и тут же послали свои письма в паспортный отдел Московской милиции, но ответ в обоих случаях был один: „В прописке отказать“». Такие были времена… В общем, крепкий порядок!
Пришлось Десятникову задействовать свои связи аж в Международном отделе ЦК КПСС. Лишь звонок со Старой площади в паспортный стол позволил ему получить законную прописку. 22 декабря 1978 года Владимир Десятников записал: «Тотальный снос старых домов и усадеб в районе Собачьей площадки, Молчановки и Ржевских переулков начался в связи с осуществлением проекта главного архитектора Москвы М.В. Посохина. Недрогнувшей рукой этот строитель, чуждый красоты и патриотизма, сделал пролом в древней и наиболее ценной застройке Москвы. Вот тогда и началась последняя агония старинных особняков, уцелевших еще со времен наполеоновского нашествия. Чего только ни приходилось видеть в те годы на руинах старой Москвы!». И не то еще увидим…
Актер Театра на Таганке и просто хороший человек Валерий Золотухин расстраивался: «Попал на Новый Арбат и подумал, глядя на эту архитектуру модерновую, – ну кого мы удивить хотим? И чем! Коробкой спичечной на попа или ребро? А рядом, между этими коробушками, стиснутая ими со всех сторон, притаилась церквушка и нет особого в ней „изюма“, но хорошо и на сердце мило. И еще подумал: как давно я не ходил по Москве просто так, не по делу, – гуляя и дивясь на нее, ведь хоть постарались некоторые деятели на атеистической ниве, истребили татары своего засола очень много красот русской в Белокаменной столице, но все ж кое-что осталось и удивляет. И решил – как освобожусь немного, пойду пешком по московским церквам и храмам и отдохну сердцем», – из дневника от 18 апреля 1968 года. Церквушку мы, конечно, узнали – храм Симеона Столпника.
Писатель Владимир Чивилихин 21 июня 1969 года удивлялся: «Был в Москве. Обедал с М. Алексеевым, М. Годенко, Г. Регистаном. Ходили в новое здание СЭВа. Начальник строительства Лев Гураэлевич и гл. инженер Феликс Израэлевич давали объяснения всей модерняге удобной, напиханной в это несамостоятельное строение, пытались воспитывать: „сталинские дома отсюда не читаются“, а „Новый Арбат хорошо смотрится“. Короче, к Новому Арбату, этой вставной челюсти Москвы, приделан еще один искусственный зуб». К слову, «гнилым зубом» столицы называли и совсем другое здание – гостиницу «Интурист» на улице Горького, ныне ее уже нет, давно разобрали, к счастью.
Опять надо объяснять – что это за СЭВ такой. Совет экономической взаимопомощи – объединение социалистических стран, получавших серьезную финансовую поддержку от Советского Союза почти 40 лет, с 1949 года. Главная контора СЭВ была построена в Москве и состоит из трех зданий, соединенных стилобатом. Самое высокое (31 этаж!) напоминает раскрытую книгу, только поуже, чем ее сестры-книжки на другой стороне Нового Арбата, и более стильную и стройную. Есть также конференц-зал и гостиница «Мир». Строительство велось в те же годы, с 1963 по 1970-й. К 1992 году СЭВ развалился, и в здании заседала московская мэрия. В кровавом октябре 1993 года сюда ворвались участники акций протеста, взяв здание штурмом. Затем восставшие направились к Верховному Совету РСФСР (ныне т. н. «Белый дом») и телецентру Останкино. Здание вошло в историю российского парламентаризма – после разгрома Верховного Совета и выборов в новый парламент в 1994 году здесь начала свою работу Государственная дума первого созыва. Ныне этот дом числится под № 36 по Новому Арбату.
Между прочим, бывший СЭВ построен на месте храма – Церкви Троицы Живоначальной при приюте цесаревны Марии. Этот приют был открыт еще в 1872 году для детей осужденных родителей (Московская женская тюрьма стояла неподалеку). Патронировала приют цесаревна Мария – будущая императрица Мария Федоровна, супруга императора Александра III. Чтобы дети не стали беспризорными, их приучали к труду в устроенных здесь же ремесленных мастерских. В 1880 году в здании приюта освятили храм… Громада СЭВа начисто стерла какие-либо остатки и давно закрытого приюта, и бывшего храма…
Находясь в эмиграции, живя в Париже, писатель Виктор Некрасов пытался осмыслить новое лицо Арбата и не находил никакого его сходства с Елисейскими полями (каковое приходило на ум тем советским гражданам, кто видел их исключительно по телевизору в программе «Время»). Сидя за чашечкой кофе на Монмартре и описывая свои прогулки по Москве, Виктор Платонович рассуждает: «По ту сторону Садовой – Новый Арбат. Он нам противопоказан. На том месте, где сейчас ресторан, был дом, где жила наша приятельница. Его теперь нет, и мы не желаем туда ходить. Вообще, нам обидно за весь тот район. Мы с мамой любили старую Москву и оплакиваем Собачью площадку. Там был когда-то любимый нами „дом сороковых годов“, а сейчас на его месте какое-то министерство, задавившее собой все окрест, и поленовский „Московский дворик“ в том числе. Наличие рядом пивного бара „Жигули“ не спасает положения». Да уж…
Здание СЭВ так и осталось инородным искусственным зубом…
Когда-то на этом месте стоял храм Троицы Живоначальной при приюте цесаревны Марии (фото 1884 года)
И пусть Некрасов киевлянин, но и столица ему не менее дорога: «Эти башни заполнили сейчас всю Москву, посягнули на ее сердце, на то, что каждому москвичу дорого, – на московскую улицу. У нее свое лицо, у этой улицы, своя душа. И улица эта не Горького – упаси Бог! – а Пречистенка, Ордынка, Поварская, старый Арбат, который уже тоже начинают ломать. Этим улицам не миновать общей судьбы, но они еще чудом сохранили свой дух, свое неповторимое московское обаяние уютных двориков, замысловатых проходных дворов, детских площадок, глухих брандмауэров, вросших в землю флигельков с геранью на окнах. Пусть она, эта улица, не так строга, как ленинградская, не так живописна, как киевская, но она своя, московская, ее ни с чем не спутаешь. Надо ее любить, беречь».
Смешанные чувства вызвал у писателя и Новый Арбат: «Сейчас в Москве родилась еще одна „главная“ улица – проспект Калинина. Не скажу, чтоб появление его было встречено восторженными криками – один мой знакомый с горечью сказал, что Новый Арбат не стоит заупокойной по Собачьей площадке, – но так или иначе, а рациональное и, скажем прямо, довольно крупное зерно в его пробивке сквозь запутанную сетку милых нашему сердцу арбатских переулков есть. Разгрузка центра Москвы широкими радиальными магистралями остро необходима. Да и вид у проспекта шикарный, „современный“, под стать джинсам и мини запрудившей его молодежи. Даже собственная для контраста и переклички эпох церквушка у него есть. Одним словом, проспект громко, во всеуслышание объявил о своем существовании и стал неотъемлемой частью Москвы. Что касается меня, особой симпатии я к нему не питаю, как ко всему бесцеремонному, но, что поделаешь, уже привык и принимаю как данность. А по вечерам даже любуюсь им, сидя на балконе моих друзей, – как одно за другим зажигаются окна его башен, а небо еще не погасло, и медленно разгораются светильники газосветных фонарей, и несутся машины с красными огоньками – туда, с сияющими фарами – сюда, подмигивая правым глазом на поворотах. Красиво», – так вполне миролюбиво писал Некрасов в «Записках зеваки», опубликованных в 1975 году в эмигрантском журнале «Континент».
А до середины 1980-х годов в советских журналах и газетах творцам Нового Арбата пели в основном осанну. Лишь с наступлением перестройки наконец-то все стали называть своими именами. И хотя Михаил Посохин к тому времени уже не был главным архитектором Москвы, влияние он сохранил большое: «В Кремле. Съезд архитекторов РСФСР. Избрали в президиум. Сел на первый ряд с Посохиным. Целая „история“ в архитектуре Москвы – много напахал, наломал и настроил и будет долго в „памяти“ народа носить звание архитектора-разрушителя центра Москвы», – отметил в дневнике заместитель председателя Советского фонда культуры Георг Мясников 10 марта 1987 года.
Писатель Юрий Нагибин тогда же посчитал нужным перейти к куда более глубоким обобщениям: «Меня всегда мучила мысль, что у москвичей нет того интимного ощущения своего города, которым отличаются ленинградцы. Москва необъятна, неохватна и слишком быстро меняется. Не успеваешь привыкнуть к одному облику города, а он уже стал другим. Сколько лет прошло, а я все ищу Собачью площадку, поглощенную Калининским проспектом. Когда вспоминаешь, сколько московской старины съел этот неоправданно широкий, архитектурно невыразительный проспект, так и не слившийся с арбатской Москвой, то начинаешь сомневаться в его необходимости». Юрий Маркович мог бы выразиться еще более категорично…
Но ведь найдутся и такие читатели, которым Новый Арбат по сердцу. Не в том смысле, что ножом по сердцу, а просто – нравится. И это их право. Здесь хорошо гулять – особенно жителям близлежащих кварталов – и нет такой толчеи, что вечно царит на Старом Арбате. Кроме того, Новый Арбат – это своеобразный справочник по архитектуре двадцатого столетия (и не только!). Вот, например, первое по счету здание – «Прага» (№ 1/2), оставшаяся от эпохи московского модерна. А напротив «Праги» на противоположной стороне проспекта до 2021 года стоял невзрачный Дом связи, типичный продукт лаконичной архитектуры 1960-х. Ныне в эпоху интернета его предназначение требует отдельного пояснения. В 1970-е годы далеко не во всех московских квартирах имелись телефонные аппараты, а должность начальника телефонного узла была настолько важной, что с ним хотели дружить и артисты, и дантисты. Из дома связи можно было позвонить в другой город и даже за рубеж. Это называлось «заказать разговор».
В Доме связи были редкие для того времени три видеотелефонные студии – это примерно то, что сегодня называется «видеозвонок». А на крыше – площадка для отдыха (как в Париже прямо!). На седьмом этаже располагался справочно-информационный центр 09. Набрав эти две цифры на телефонном диске (кнопочные аппараты были дефицитом и в основном импортные), можно было узнать телефон почти всех городских организаций – кинотеатра, поликлиники, школы. В справочной службе работали женщины. Очень было удобно пользоваться услугами службы 09. Сегодня на месте давно не нужного Дома связи опять чегой-то строят. Видать, связь оказалась некрепкой.
Дом связи стоял под № 2, а за ним следом – храм Симеона Столпника, редкий памятник церковной архитектуры XVII века, едва выживший в процессе «новоарбатской» эпопеи. Его и не собирались сохранять, если бы не вмешательство общественности. Спасибо смелым людям…
Числятся по Новому Арбату и непритязательные на вид дома, построенные почти сто лет назад, – № 23 и № 25. Есть и примеры т. н. сталинской архитектуры – это жилой дом Наркомата обороны (№ 31), обозначающий пересечение Нового Арбата и Смоленской набережной. Этот массивный жилой дом выстроен в 1937–1939 годах по проекту Алексея Щусева в соавторстве с Андреем Ростковским. Это часть неосуществленной застройки московских набережных. В ту пору Нового Арбата еще не было, здание лишь наметило будущую магистраль. Угол здания скошен и отмечен небольшой башенкой, увеличивающей высоту 12-ти этажного здания еще на два этажа. Похожее здание стоит на Ленинском проспекте – можно даже сказать, что Щусев создал свой тип номенклатурных жилых домов для парадной застройки столицы…
А на четной стороне – еще один тяжеловесный дом-чемодан (№ 30) той же эпохи, на углу с Садовым кольцом, построен в середине 1950-х годов по проекту В.И. Курочкина и Н.А. Хохрякова. Черты «сталинского ампира» проникли даже в расположенную на первом этаже детскую библиотеку, интерьеры которой щедро украшены потолочной росписью, орнаментами и т. д.
А вот конструктивизма для полноты картины на Новом Арбате не достает. Ранее под № 32 на проспекте стоял Центральный научно-исследовательский институт курортологии и физиотерапии, выстроенный на рубеже 1920–1930-х годов на месте снесенного храма Введения Пресвятой Богородицы. Проект настоящего курорта в центре пролетарской столицы разрабатывали архитекторы Анатолий Самойлов и Сергей Харитонов, щедро наделив его свойственными конструктивизму обширными застекленными пространствами и прямолинейными чертами. Интересные вещи могли бы рассказать поправлявшие в этом оазисе бесплатной медицины свое здоровье люди. Здесь поливали грязью – но только в лечебных целях. А еще окунали во всякие полезные ванны. Солнечные ванны тоже принимали – на балконах здания. Мало того, институт курортологии обладал собственным целебным источником, из которого била минеральная вода. В общем, отдыхай – не хочу, как говорится… В 2006 году институт снесли, но не для восстановления храма. Теперь здесь офисы, отель и новое научное учреждение (если верить вывеске).
Малоизвестный факт: в середине 80-х годов был готов проект дальнейшей «реконструкции» проспекта Калинина, его начала, т. е. бывшей улицы Воздвиженки. Что же могло произойти? Музей архитектуры имени Щусева должны были задвинуть впритык к «Ленинке», т. е. Государственной библиотеке имени Ленина. На эту же линию предполагалось задвинуть «Прагу» и роддом имени Грауэрмана. Все остальное – снести, как малозначимое… И лишь для того, чтобы широкая магистраль проспекта Калинина начиналась сразу от Кремля. К счастью, у архитекторов до этого руки не дошли.
Поспешим же на прогулку по Новому Арбату, пока здесь еще чего-нибудь не снесли…
Неосуществленный проект административного здания на заключительном отрезке Нового Арбата, 1970-е годы
Глава 2. «Прага», ресторан на две улицы
Ресторан «Прага» – один из символов Старого Арбата, но с него начинается и Новый Арбат. А для многих москвичей это еще и приятные воспоминания. Кто-то бывал здесь на свадьбе или юбилее, проводах на пенсию (в советское время выход на пенсию отмечался торжественно – на эти деньги можно было жить) или отмечал защиту диссертации. Все это было частью повседневной жизни, в которой смешивались противоречивые чувства: и радость от купленного в кулинарии «Праги» вкуснейшего торта «Птичье молоко», и досада от потерянного в длинной очереди времени. Москвич советской эпохи не имел возможности ходить в рестораны каждый день (не по средствам!), но посетить «Прагу» в выходной было вполне по силам, особенно тем, кто жил неподалеку. Иными словами, поход в ресторан в 1950–1980-е годы сам по себе был сродни празднику.
Трудно в такое поверить, но весной 1960 года любимую москвичами «Прагу» едва не приговорили к сносу – старейший московский ресторан служил непреодолимой преградой на пути Нового Арбата, который нуждался в большой транспортной развязке с Бульварным кольцом. Вопрос рассматривался на самом высоком уровне с участием первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и других партийных бонз. Все происходило на Всесоюзной строительной выставке, что с начала 1930-х годов раскинулась в районе современной Фрунзенской набережной. В одном из павильонов выставки разместили огромный макет центра столицы, сюда и съехалось всесоюзное и московское начальство. О кардинальных планах переустройства Арбатской площади и прилегающих к ней кварталов докладывал Михаил Посохин – главный архитектор Москвы.
То, что Новый Арбат пройдет через старинную застройку, безжалостно уничтожая немало ценных памятников зодчества и стерев с лица земли Собачью площадку, уже было принято за основу. Вопрос стоял о том, можно ли сохранить «Прагу». Сын Никиты Хрущева, Сергей Никитич, вспоминал, что его отец ознакомился с планами реконструкции заранее, дома: «Аргументы дорожников звучали весомо: или „Прага“, или нормальное, без заторов, движение транспорта в центре города. Я тогда не вдавался в детали, но, как все москвичи, о проекте реконструкции был наслышан. В силу своей молодости, вместе с большинством людей моего поколения я придерживался радикально-прогрессивной позиции: все отжившее свой век – на слом… Так что о „Праге“ я не сожалел, тем более что в рестораны почти не ходил и очарования „Праги“ на себе не испытал. В тот вечер отец дома рассматривал разложенные на обеденном столе чертежи, я, естественно, сунул в них свой нос. Отец не любил, чтобы ему мешали, и я молча вглядывался в квадратики, обозначающие будущие дома, параллели будущих улиц, пытался представить, как это получится на самом деле. Наконец отец оторвался от листа, неопределенно хмыкнув, начал сворачивать ватманы в трубку.
– Ну и что? – начал я разговор.
– Что – что? – пробурчал отец. – „Прагу“ придется сносить, хотя и жаль. Иначе не выходит, ты сам видел.
Голос отца звучал неуверенно. Не могу сказать, чтобы я разобрался в увиденном на чертеже, но на всякий случай согласно кивнул головой. „Прагу“ отец жалел. Арбат долгие годы был „правительственной“ трассой, и при Сталине бдительным охранникам, а возможно, и самому „хозяину“ вдруг вздумалось, что с веранды на крыше ресторана злоумышленник может бросить в машину вождя гранату или открыть стрельбу. Ресторан закрыли, а в его помещении разместили какую-то контору… Отец колебался, а тем временем за „Прагу“ вступился Микоян, ресторан, как и вся торговля, относился к его „епархии“. Отец в душе с ним соглашался, но логика дорожников требовала иного».
И вот теперь требовалось принять окончательное решение, последнее слово было за Никитой Сергеевичем, без которого, кажется, ни один серьезный вопрос в стране не решался, будь то посадка кукурузы в северных областях или размер ванны в панельных пятиэтажках. Все смотрели на первого секретаря, а он уставился на макет столицы. Выслушав доклад главного архитектора Москвы, поразмыслив, что-то прикинув в уме, Хрущев, наконец, изрек: «Товарищ Посохин, давайте уступим Микояну, а дорожники пусть поищут компромиссное решение». Так благополучно и была решена судьба не только «Праги», но и известного нам всем родильного дома им. Грауэрмана, в котором родились многие жители Арбата. А теперь представим другой исход разговора: «Знаете, товарищи, а давайте вообще ничего сносить не будем!». – «Конечно, не будем, дорогой Никита Сергеевич! Сохраним Арбат – гордость русской культуры!»… Мы еще вернемся в оттепельные 1960-е, а пока…
В 1886 году в «Петербургской газете» увидел свет рассказ Антона Павловича Чехова «Юбилей», подписанный, как водится, «А. Чехонте». Причем это был именно рассказ (более известная пьеса-шутка с аналогичным названием появилась пятью годами позже). Речь в нем идет о скромном торжестве – актерская братия дает обед трагику Тигрову в честь его двадцатипятилетнего служения на артистическом поприще. Праздник начинается в гостинице «Карс», откуда наевшиеся и напившиеся артисты отправляются в ресторан «Грузия» играть на биллиарде и пить пиво. «Нам бы еще в „Пррагу“ съездить… Рано еще спать! Где бы пять целковых достать?» – объявляет свое желание виновник торжества Тигров. Учитывая, что главный герой рассказа с трудом выговаривает название популярной уже в те годы среди актеров «Праги», можно себе представить, сколько пива он уже выпил.
Самому Чехову «Прага» была близка – недаром здесь отмечалась московская премьера его пьесы «Чайка» в декабре 1898 года. Тогда еще и всем известного МХАТа не существовало, а был лишь Художественно-общедоступный театр – «крохотный театрик», по свидетельствам записных театралов. И хотя первым спектаклем театра в октябре 1898 года стала трагедия Алексея Константиновича Толстого «Царь Федор Иоаннович», но мы не погрешим против истины, если скажем, что история МХАТа началась с «Чайки». Силуэт этой красивой птицы превратился в символ театра, украшающий его занавес (как нынче выражаются, бренд). Банкет по случаю премьеры «Чайки» – 17 декабря 1898 года – собрал, пожалуй, всю еще малочисленную труппу. И постановщиков – Константина Станиславского (он же играл Тригорина) и Владимира Немировича-Данченко. А также исполнителей ролей – Ольгу Книппер-Чехову, игравшую Аркадину, Всеволода Мейерхольда (роль Треплева), Василия Лужского (играл Сорина), Марию Лилину (роль Маши) и других актеров. Больше всего тостов на этом торжестве поднимали за автора «Чайки».
Сам Антон Павлович в эти дни находился в Ялте. Ночью пришла телеграмма: «Из Москвы 18.12.98, в 0.50. Ялта, Чехову. Только что сыграли Чайку, успех колоссальный. С первого акта пьеса так захватила, что потом последовал ряд триумфов. Вызовы бесконечные. На мое заявление после третьего акта, что автора в театре нет, публика потребовала послать тебе от нее телеграмму. Мы сумасшедшие от счастья. Все тебя крепко целуем. Напишу подробно. Немирович-Данченко, Алексеев, Мейерхольд, Вишневский, Калужский, Артем, Тихомиров, Фессинг, Книппер, Роксанова, Алексеева, Раевская, Николаева и Екатерина Немирович-Данченко». В ответ обрадованный драматург сообщал: «Москва. Немировичу-Данченко. Передайте всем: бесконечной всей душой благодарен. Сижу в Ялте, как Дрейфус на острове Диавола. Тоскую, что не с вами. Ваша телеграмма сделала меня здоровым и счастливым. Чехов». Мысленно труппа и драматург были вместе, а шампанского за здоровье Чехова было выпито в «Праге» немало – оно ему было ох как необходимо. Кстати, во многих книгах об Арбате утверждается, что Чехов праздновал премьеру в «Праге», – как мы теперь понимаем, это миф…
Антон Павлович Чехов не праздновал в «Праге» премьеру свой пьесы «Чайка» на сцене Художественного театра в 1898 году – это всего лишь красивая легенда
Писатель и коллега Антона Чехова Игнатий Потапенко вспоминал о нем: «Он всегда говорил, что в Петербурге у него голова как-то яснее, чем в Москве. Это понятно. Когда люди спрашивают друг у друга: где мы встретимся вечером?– в Петербурге это значит: я к вам приеду или вы ко мне? Когда такой же вопрос задают в Москве, это значит: в „Эрмитаже“, в „Метрополе“, в „Праге“ или у „Яра“?». В арбатском ресторане Чехов бывал неоднократно, застав начало его расцвета. Ибо «Прага» впитала в себя все самое хорошее от популярных московских ресторанов, в чем нас уверяет Владимир Гиляровский: «Ресторан „Прага“, где Тарарыкин сумел соединить все лучшее от „Эрмитажа“ и Тестова и даже перещеголял последнего расстегаями „пополам“ – из стерляди с осетриной. В „Праге“ были лучшие бильярды, где велась приличная игра». А стерлядь-то подавалась на дорогой посуде с золотой росписью: «Привет от Тарарыкина»! Так что ресторан был «с приветом».
Упомянутый Гиляровским Иван Тестов – хозяин трактира в Охотном ряду и законодатель застольной моды в старой Москве, о нем я много написал в прежней книге «Охотный ряд и Моховая. Прогулки под стенами Кремля». Короче говоря, произносим Тестов – подразумеваем Охотный ряд. А купец Семен Петрович Тарарыкин прочно и по праву ассоциируется с «Прагой». Он-то и создал ей реноме лучшего ресторана Первопрестольной, как Чехов – репертуар МХАТа.
Давно уже бытует легенда о сказочном превращении «Праги» – из трактира в ресторан, что очень напоминает историю про Золушку, ставшую принцессой. Стоял когда-то в начале Арбата доходный дом Веры Фирсановой, первый этаж которого занимал трактир «Прага». Мода была такая в последней трети XIX века – давать гостиницам да трактирам столичные названия: «Дрезден», «Париж», «Берлин», «Вена». Пройдись мы в те времена по Москве, и словно вся карта Европы перед нами на уличных вывесках предстает: куда глаз ни кинь, всюду иноземные города. Так почему бы не появиться «Праге» на Арбате? Как правило, ничего общего с европейскими вкусами кроме «столичных» названий в таких заведениях не было.
А вот московские извозчики таким наименованием были вполне довольны: оно рифмовалось с милым их сердцу словом брага. Нынче брагой зовут нечто непотребное, путая с банальной бормотухой. А для далеких предков наших это был любимейший алкогольный напиток. Посему откроем словарь Владимира Даля, уверяющего нас, что это «домашнее, крестьянское, корчажное пиво; хлебный напиток, иногда более похожий на квас. Брага простая, ячневая, на одних дрожжах, без хмелю; брага пьяная, хмельная, пивцо, полпивцо с хмелем, весьма разных качеств; иногда она густа, сусляна (сладка) и пьяна. Овсяная брага варится из распаренного, высушенного и смолотого овса, из овсяного солода; пшенная, буза, из разварного и заквашенного пшена, иногда с медом и хмелем». Разве невкусно? Неудивительно, что трактир «Прага» приобрел у извозчиков и второе название – «Брага». А я думаю, что навеяно это было не только похожестью слов (хотя кучера да возницы ни в каких Прагах отродясь не были), но и качеством алкогольных напитков, подаваемых в сем питейном заведении.
История про Брагу-Прагу придумана не сегодня и даже не вчера. В 1916 году Иван Бунин написал рассказ «Казимир Станиславович», в котором обыгрывается сия рифма. Главного героя везет извозчик – «старик, согнутый в дугу, печальный, сумрачный, глубоко погруженный в себя, в свою старость». Он поначалу не понимает, куда надо ехать, в какой именно ресторан: «А я не разобрал, думал, тебе в „Брагу“». Оказывается, что извозчик этот возит по Москве пассажиров уже 52 года. Возил он и тогда, когда ресторан на Арбате был трактиром.
Кормили здесь недурно, а иначе Петр Бобрыкин – знаток московского хлебосольства – не отправил бы в «Прагу» героев своего романа «Китай-город»: «Было около пяти часов утра… Стоял он на площади у въезда на Арбат, в десяти шагах от решетки Пречистенского бульвара. Фонари погасли. Он посмотрел на правый угловой дом Арбата и вспомнил, что это трактир „Прага“. Раз как-то, еще вольным слушателем, он шел с двумя приятелями по Арбату, часу в двенадцатом. И всем захотелось есть. Они поднялись в этот самый трактир, сели в угловую комнату. Кто-то из них спросил сыру „бри“. Его не оказалось, но половой вызвался достать. Принесли целый круг. Запивая пивом, они весь его съели и много смеялись. Как тогда весело было! Тогда он мечтал о кандидатском экзамене и о какой-нибудь „либеральной“ профессии, адвокатстве, писательстве… Он огляделся. Некрасива матушка-Москва: куда ни взглянешь – все серо, грязно, запущено, тускло. Пора очищать ее, пора добираться и до ее сундуков». Боборыкин был явно неравнодушен к Первопрестольной…
Вам куда? В «Брагу» или «Прагу»?
А хозяйка «пражского» дома Вера Ивановна Фирсанова – человек для Москвы и России знаковый, миллионерша и меценатка, из тех, что деньги свои не только с умом вкладывали, но и тратили на благие дела. Платформу «Фирсановка», что ныне в черте Химок, многие дачники знают – это в честь Веры Ивановны названо. В 1869 году, когда Верочке исполнилось 7 лет, отец ее, купец 1-й гильдии Иван Григорьевич Фирсанов, вырубил здешний лес, продал его, выстроив дачи. И земля эта, и многое другое отошло в наследство любимой дочери. Только вот в личной жизни ей не повезло – сначала скупердяй достался, каких еще поискать на Руси, банковский служащий. Затем генеральский сынок, кутила и большой ходок. Вот ведь судьба русской женщины: первый муж был жмот, а второй мот. И с обоими она развелась, заплатив им в качестве отступных по миллиону (если это и не правда, то красивая!). И пришлось отважной женщине самой взять в руки управление «активами».
Кстати, пример Веры Фирсановой далеко не единственный. Деловые женщины той эпохи как-то очень легко овладевали ситуацией, оттесняя мужчин на второй план. Взять хотя бы Варвару Морозову. А вот какой случай рассказывал потомственный почетный гражданин и промышленник Николай Александрович Варенцов про одного из купцов – Николая Ивановича Казакова, которого выставила из его собственного дома любимая супруга, урожденная Байдакова: «Произошло это так: его отец Иван Иванович купил на Арбате, в Конюшенном переулке землю, на которой построил отличный двухэтажный дом и подарил его сыну. Николай Иванович, пылая страстью к своей довольно миловидной жене, пожелал перевести дом на ее имя, о чем, как-то разговаривая со мной, сообщил мне. У меня невольно вырвалось изумление на таковое его желание, я не удержался и сказал: „Зачем вы это хотите делать? Мало ли что может случиться в жизни! Смотрите, чтобы потом не раскаяться!“ Он обиженным голосом мне ответил: „У меня с женой ничего не может случиться! У нас все общее и нераздельное!“… Выдворила она его из дома, как передавали мне, через полицию. После чего он переехал в дом своего брата, у которого жил до конца своей жизни, сильно пристрастившись к вину, лишившись дома и дела». Вот Вам и Васса Железнова с Арбата! А вы говорите – миллион за развод…
На средства Веры Ивановны Фирсановой в Москве построены Дом для вдов и сирот в Электрическом переулке, Сандуновские бани, Петровский пассаж (его тоже прозвали Фирсановским). А Середниково, откуда до Фирсановки рукой подать (известное «лермонтовское» место Подмосковья, также купленное ее отцом в 1869 году), превратилось при радушной хозяйке в место встречи культурной общественности России. Здесь пел Федор Шаляпин, музицировал Сергей Рахманинов, творили Валентин Серов и Константин Юон. После 1917 года Вера Ивановна так бы и доживала свой век в коммуналке своего бывшего дома, если бы благодаря Шаляпину ей не удалось покинуть Советскую Россию. Умерла она не в Праге, а в Париже в 1934 году, в 82 года.
Хозяйкой «Праги» Вера Фирсанова-Гонецкая была по 1894 год, как следует из ежегодного справочника «Вся Москва» за этот период. Справочник издавался под разными названиями с 1872 года и очень удобен для поиска местонахождения самых разных московских организаций и даже отдельных граждан. А уже в справочнике за 1895 год ресторан числится за купцом Семеном Тарарыкиным: «Ресторан Тарарыкина в доме Гонецкой», т. е. купец арендовал это здание. А самому Тарарыкину принадлежал дом № 5 на противоположной стороне Арбата. В конце концов дом полностью перейдет к Тарарыкину.
Старомосковская легенда гласит, что купец выиграл «Прагу» в бильярд. Если это так, то именно второй муж Веры Фирсановой – игрок и офицер Алексей Гонецкий – и продул ресторан Тарарыкину, и не в карты, а в бильярд. Мало того, Семен Петрович играл левой рукой, что не так-то легко. Следовательно, трактир достался ему заслуженно и неслучайно. И не в лотерею. Хотя в бильярд на что только не играли в прошлые века: знатные мужья ставили на кон своих молодых жен, а писатели – новые повести и романы. Чего только не случается… А пристрастие Тарарыкина к бильярду подтверждается тем фактом, что в своем ресторане он оборудовал прекрасную бильярдную, в которую съезжались игроки со всей Москвы.
На этом фото вывески «Прага» еще нет, а на следующем уже появилась. Но городовой стоит на своем посту по-прежнему, следя за порядком
Как обедали в «Праге» в начале XX века? Осталось уникальное свидетельство писательницы и драматурга Рашели Хин. Сегодня ее творчество прочно забыто, а в те времена литературный салон Хин был весьма популярен в Москве. Она училась в Сорбонне, водила знакомство с Львом Толстым и Иваном Тургеневым, Густавом Флобером и Эмилем Золя. 9 февраля 1902 года Рашель Хин записала в дневнике: «…Устроили в ресторане „Прага“ обед в честь приехавших из Петербурга Михайловского, Вейнберга и Боборыкина (литераторы – А.В.)… Собралось человек пятьдесят. Большинство друг друга не знало или знало по виду, и поэтому все избегали смотреть друг другу в лицо, косились, сталкиваясь, отворачивались, делая равнодушную мину. Знакомые разбились „по уголкам“. Приехали, наконец, „дорогие гости“. Сначала Михайловский, а за ним и Петр Дмитриевич с Вейнбергом. Их встретили, как водится, аплодисментами. Они раскланивались „улыбчиво“. Пошли закусывать – и тут уж не было „официальщины“: тыкались вилками в одно место, переливали через край рюмки; балык, семга исчезли в мгновенье ока, у кого-то из жадных рук вывалилась коробка с сардинками и хлопнулась на пол. Покончив с закуской, стали рассаживаться. Места заранее не были размечены… Обеденная зала в „Праге“ похожа на гроб. Потолок низенький – совсем крышка гроба. И вот, когда все принялись за суп, водворилось такое безнадежное молчанье, что стало даже неловко, жутко… После супа ждали, что кто-нибудь встанет и скажет „словечко“. Но никто не произнес ни одного звука, все еще глубже уткнулись в тарелки и ели с таким жаром, точно они до этого три месяца голодали. Подали разварную рыбу в каком-то пресном соусе. Съели… Подают, наконец, скверное мороженое – и в обыкновенные рюмки наливают тепловатое шампанское… (Хороша „Прага“!)… Мороженое съедено. Шампанское в рюмках выпито до последней капли».
Короче говоря, Боборыкину обед не понравился, он назвал его «скверным» и уехал, ни с кем не прощаясь. Оставшиеся стали судить да рядить по поводу неудавшегося банкета. Все пришли к выводу, что подписка на обед была организована крайне неудачно: если бы «назначили бы по 10 рублей с персоны, было бы и вино, и шампанское настоящее, и настроение… А то за три целковых с человека вздумали принимать таких „генералов“… Словом, все были недовольны». А один из участников пиршества заметил: «Сколь печально, что русская интеллигенция не умеет отводить душу в обществе своих „властителей дум“». И чего она только не умеет – русская интеллигенция…
Семен Тарарыкин не раз перестраивал на новый лад доставшийся ему ресторан, где обеденная зала была «похожа на гроб». В 1902 году здание преобразилось по проекту талантливого зодчего Льва Кекушева – вход в ресторан теперь устроили с Арбата. Серьезным образом изменились и его интерьеры. А в 1914–1915 годах над образом «Праги» «поработал» не менее выдающийся архитектор Адольф Эрихсон, придумав зданию необычную надстройку (по которой мы и узнаем ресторан поныне) и опять же изменив его внутреннее убранство. «Прага» славилась своими удивительными зеркалами, в которых смотрелись чуть ли не все русские литераторы первых десятилетий XX века. Осип Мандельштам, к примеру, в 1922 году вспоминал те времена, «когда половой, отраженный двойными зеркалами ресторана „Прага“, воспринимался как мистическое явление».
Что, помимо зеркал, отличало новый ресторан от конкурентов? Не только кухня, а еще и планировка залов. Ибо по московским трактирным традициям большая часть столов находились, как правило, в одном зале. И обедающие могли свободно видеть друг друга. Вот почему хозяин Большого Московского трактира в Охотном ряду, купец Карзинкин, любил обедать вместе со всеми в зале – дескать, он ест из того же котла, что и все его гости, у которых не должно остаться ни малейшего сомнения в качестве кухни. Тарарыкин завел в «Праге» новый порядок: обедать и ужинать посетители могли в отдельных просторных кабинетах (число их доходило до десятка), каждый из которых имел свое, как сейчас говорят, эксклюзивное оформление. А для гурманов – пожалуйте в зимний сад!
А посему столько разных банкетов и прочих мероприятий (по составу их участников) прошло под сводами «Праги», что по ним можно изучать историю России соответствующего периода. Здесь, например, собирались преподаватели и профессора медицинского факультета Московского университета, исповедующие левые взгляды. Их собрания нарекли «пражским факультетом». Петербургская газета «Новое время» билась в праведном гневе: что это происходит в Московском университете? Не иначе как засилье «левых профессоров-медиков», собирающихся в «Праге» и регулярно обсуждающих в залах ресторана свои «вредные» воззрения. Послали даже запрос ректору университета Михаилу Мензбиру, тот остроумно ответил, «что ресторан „Прага“ не принадлежит к числу учебно-вспомогательных учреждений университета и что ректор не имеет никаких сведений о том, что делается в помещении этого ресторана», – так описал эти события историк-медиевист Александр Савин в своем дневнике от 27 сентября 1913 года.
А в другом зале ресторана собирались московские юристы. Товарищ (т. е. заместитель) прокурора Московского окружного суда Николай Чебышев вспоминал в эмиграции: «Рестораны Москвы отличались от петербургских психологической особенностью. Мы чувствовали себя в московских ресторанах, как дома. „Прага“ была нашей, прокурорского надзора, штаб-квартирой. Нас там знали, как в семье. Наши вкусы были известны». По поводу прокуроров у Константина Коровина в воспоминаниях приводится интересный анекдот: «Много неприятностей через снег выходит: люди пропадают. Генерал среди бела дня пропал. Прокурор из Окружного суда пробивался в ресторан „Прага“ пообедать – пропал, куда делся, неизвестно. Потом только открылось – волки его съели. Днем туда-сюда, а вечером волки стадами бегают, народ заедают до смерти. Я, конечно, это проглядел, но мне все это за границей прогрессисты рассказали. Я что-то таких снегов не помню». Художник (и замечательный рассказчик) Константин Коровин иронизирует по поводу ходивших в те годы разговоров о невообразимо снежных московских зимах, во время которых по городу, словно по лесу, слоняются волки.
Хорошо знакомы официантам «Праги» были и вкусы офицеров штаба Московского военного округа, также избравших ресторан местом своих встреч. Однажды с офицерами за одним столом оказался Иван Бунин: «Рядом два офицера, – недавние штатские, – один со страшными бровными дугами. Под хаки корсет. Широкие, колоколом штаны, тончайшие в коленках. Золотой портсигар с кнопкой, что-то вроде жидкого рубина. Монокль. Маленькие, глубокие глазки. Лба нет – сразу назад от раздутых бровных дуг», – запись в дневнике от 9 мая 1915 года. И тут же Иван Алексеевич отмечает интересную особенность: «У метрдотелей от быстрой походки голова всегда назад».
В «Праге» отмечали избрание Бунина в академики: «Бунин увенчан не впервые. Трижды он получал в России Пушкинскую премию. 1 ноября 1909 года был избран академиком по разряду изящной словесности (в заседании Академии, посвященном Кольцову). Ясно помню тот день, вечер в московском ресторане „Прага“, где мы в малом кругу праздновали избрание Ивана Алексеевича академиком, „бессмертным“… Вряд ли и он забыл ноябрьскую Москву, Арбат. Могли ли мы думать тогда, что через четверть века будем на чужой земле справлять торжество беспредельно-большее – не гражданами великой России, а безродными изгнанниками?» – вспоминал Борис Зайцев в эмиграции в 1933 году, когда Бунина удостоили Нобелевской премии. В Париже у русских эмигрантов тоже была своя «Прага»: «Представь, такой здесь ресторанчик. Но до нашей далеко», – из письма Зайцева Бунину от 17 января от 1940 года.
В начале XX века «Прага» приосанилась и обзавелась изящным куполом, отдаленно напоминающим обсерваторию
У Бунина «Прага» – место действия его рассказов. Это и «Чистый понедельник», куда герой возит чуть ли не каждый вечер обедать свою даму, и «Муза», и «Речной трактир»: «В „Праге“ сверкали люстры, играл среди обеденного шума и говора струнный португальский оркестр, не было ни одного свободного места. Я постоял, оглядываясь, и уже хотел уходить, как увидел знакомого военного доктора, который тотчас пригласил меня к своему столику возле окна, открытого на весеннюю теплую ночь, на гремящий трамваями Арбат. Пообедали вместе, порядочно выпив водки и кахетинского, разговаривая о недавно созванной Государственной думе, спросили кофе…». А в «Окаянных днях» читаем: «Весна семнадцатого года. Ресторан „Прага“, музыка, людно, носятся половые. Вино запрещено, но почти все пьяны. Музыка сладко режет внутри…».
Заходил в ресторан Иван Бунин неоднократно: «Завтрак с Ильей Толстым в „Праге“, запись от 29 января 1915 года. Илья Толстой – сын автора „Анны Карениной“. Часто пишут, что сам Лев Николаевич Толстой читал на публику в „Праге“ роман „Воскресенье“, но я сему факту подтверждения не нашел. Роман был опубликован в 1899 году, однако в жизнеописании писателя за эти годы название ресторана не встречается. А супруга Толстого Софья Андреевна в „Праге“ бывала: „Обедали мы в ресторане „Прага“, пришел к нам Илюша (сын – А.В.) на короткое время…“, – сообщала она мужу 9 января 1904 года.
А вот чье появление в „Праге“ запомнилось очевидцам, так это Леонида Андреева. Борис Зайцев вспоминал: „Слава же его тут-то и развернулась. Художественный театр, альманахи „Шиповника“, лекции, диспуты. Поклонники, поклонницы. Раз входили мы с ним в ресторан „Прага“ – румынский оркестр в честь его заиграл вальс из „Жизни человека“. Вся зала поднялась, аплодируя. Как будто в те годы (1907–1910) затмил он даже бывшего своего покровителя и наставника Горького“. Имеется в виду популярная пьеса Андреева „Жизнь человека“ 1907 года. Триумф оказался коротким: как метко выразился Зайцев, вскоре слава от Леонида Андреева „спряталась“, его перестали называть новым Достоевским и Шекспиром. И румынский оркестр уже не играл в „Праге“ вальс при появлении писателя.
Встреча Нового года состоятельными москвичами также проходила в „Праге“. Особенно ярко и пышно проходили эти праздники перед Русско-японской войной. Николай Варенцов свидетельствует: „Встреча Нового, 1904 года была особенно весела. Кого бы я ни спросил из своих знакомых, как встречали Новый год, от всех получал ответ: „Весело!“ Многие устраивали у себя балы, костюмированные вечера, но большинство заранее записывались на столики в ресторанах, спеша занять в них лучшие места. Рестораны „Метрополь“, „Прага“, „Эрмитаж“, „Яр“, „Стрельна“ – все были переполнены публикой до отказа с 11 часов вечера разряженными дамами, усыпанными бриллиантами, мехами, цветами; мужчинами во фраках. В 12 часов вся публика, стоя, подняв бокалы с шампанским, чокалась, и кругом только было слышно: „С Новым годом, с новым счастьем!“ Шампанское лилось, с выпитием неисчислимого количества бутылок, на радость французских виноделов. Были все довольны встречей Нового года и проведенным временем. Вернувшись домой, ложась в кровать, думали: этот год, наверное, принесет нам более счастья. Но, как говорят, „человек предполагает, а Бог располагает“! Так и случилось в этом 1904 году: вместо еще большего счастия получилось большое неожиданное горе“.
